На руинах Константинополя. Хищники и безумцы бесплатное чтение
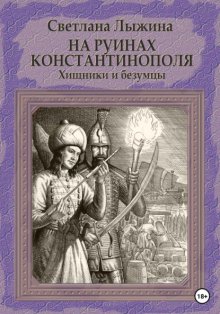
Об авторе
Современная российская писательница Светлана Лыжина в своём творчестве специализируется на средневековой истории Юго-Восточной Европы, а особое внимание уделяет Румынии и Молдавии, причём неслучайно. В XV веке обе эти страны причислялись не к «западной цивилизации», а к периферии славянского мира, наряду с Русью получив у «просвещённых европейцев» наименование «восточных» государств. По мнению Светланы Лыжиной, средневековая история Румынии и Молдавии удивительно похожа на аналогичный период в русской истории, что даёт простор для проведения скрытых параллелей и переосмысления вопроса о взаимоотношениях Востока и Запада.
Своё исследование вопроса писательница начала в институтской библиотеке МГИМО, будучи студенткой журналистского факультета и таким образом получив доступ не только к современным изданиям, но и к редким книгам XIX века. Поиск информации она продолжила в московской Исторической библиотеке, а позднее совершила несколько путешествий по историческим местам, находящимся на территории современных Румынии и Венгрии. Одновременно было изучено множество исторических документов на старославянском, латыни и раннеитальянском языках.
Накопленный материал настоятельно требовал воплощения в тексте, а первым удачным литературным опытом Светланы Лыжиной стал роман «Время дракона», законченный в 2013 году и рассказывающий об одном из самых известных исторических и фольклорных персонажей Восточной Европы. Этот персонаж – румынский (валашский) государь Влад III Дракул, больше известный как «воевода Дракула», или Влад Цепеш.
В 2018–2019 годах был опубликован авторский цикл из четырёх романов об историческом Дракуле, освещающий разные периоды жизни этого человека. «Время дракона» рассказывает о ранних годах Дракулы и его взаимоотношениях с отцом, а также видными историческими деятелями той эпохи. Роман «Драконий пир» – это повествование о борьбе за отцовский трон, в результате которой Дракула и заслужил свою особенную славу. «Валашский дракон» посвящён героическому противостоянию с турками, а «Принцесса Иляна» – попытка реконструировать последние годы жизни Дракулы и понять причину его гибели.
Ещё одной темой, привлекшей внимание Светланы Лыжиной, стало падение Константинополя в 1453 году, хотя изначально у автора не было намерения посвящать ему отдельную книгу. Захват византийской столицы турками – знаковое событие не только в истории Юго-Восточной Европы, но и всего христианского мира, серьёзно повлиявшее на мировоззрение современников, в том числе Влада Цепеша, поэтому изначально события 1453 года рассматривались автором лишь в контексте «дракуловской» истории.
Со временем ситуация изменилась. После кропотливого изучения источников и поездки в бывшую столицу Турции, на место событий, появилась историческая дилогия, где нет ни слова о Дракуле, а фокус авторского внимания сместился на представителей византийской аристократии и турецкой правящей элиты XV века. Как и в случае с книгами о Дракуле, новый роман Светланы Лыжиной предлагает немного непривычную трактовку известных фактов, а исторические фигуры, задействованные в сюжете, также раскрываются с новой стороны.
Избранная библиография Светланы Лыжиной:
Время дракона, 2018 (авторское название: «Влад Дракулович»)
Драконий пир, 2019 (авторское название: «Дракулов пир»)
Валашский дракон 2015, 2019 (авторское название: «Дракула и два ворона»)
Принцесса Иляна, 2019
Последние дни Константинополя. Ромеи и турки, 2021
На руинах Константинополя. Хищники и безумцы, 2021
От автора:
Почти все персонажи в этой книге – подлинные исторические фигуры. И даже те немногие, кто был придуман автором, вполне могли существовать на самом деле.
Часть I. Два Искендера
Апрель 1453 года, начало осады
Стояли ясные, тёплые дни, и пусть под копытами коня чавкала весенняя грязь, погода казалась вполне благоприятной для того, чтобы много дней подряд провести в лагере под открытым небом.
Когда юный султан Мехмед подъехал к городу, который предстояло завоевать, лагерь уже разворачивался, и даже место, где разместится ставка повелителя, уже подготовили – окружили рвом, а на внутренней стороне рва насыпали вал. С этого места хорошо просматривались оборонительные стены города, которые предстали перед султаном неожиданно. Едешь-едешь по равнине – впереди ничего нет, кроме твоих же войск, и вдруг из-за горизонта разом поднимается мощная линия укреплений: две зубчатые стены. Передняя стена – пониже, задняя – повыше, с идеально правильными четырёхугольными башнями, стоящими на одинаковом, точно выверенном расстоянии друг от друга. Взглянешь вправо, а затем влево, но не увидишь, где укрепления образуют угол – они тянутся и тянутся вдаль, и лишь карта уверяет, что эта удивительная постройка вовсе не так огромна.
Наверное, такие же чувства испытал Искендер Двурогий1 при виде стен Вавилона, но Вавилон сам открыл ворота великому завоевателю, а этот город, «матерь вселенной», не желал сдаваться без боя, ведь Мехмед ещё не проявил себя подобно Искендеру. «Ничего, – думал юный султан, – скоро этот город увидит, кто я».
Ещё раз окинув взглядом линию укреплений и место лагеря под чистым весенним небом, Мехмед вдруг услышал в голове вопрос, произнесённый таким знакомым голосом на языке румов: «Ах, мой мальчик, зачем же ты всё это затеял?»
Юный султан улыбнулся и мысленно ответил на том же языке: «Учитель, ты всё ещё надеешься отговорить меня? Но я уже спрашивал тебя и повторяю: чего же ты ждал после того, как столько рассказывал мне об этом городе? Ты столько раз говорил, что он прекрасен. Несмотря на признаки упадка, этот город всё ещё полон чудес. Нет ничего удивительного в том, что я желаю сделать Константинополь своим. Но не беспокойся: с его жителями я обойдусь милостиво. И под моей властью этот город снова станет великим. Он сделается столицей великой страны, как и полагается такому городу, но теперь это будет не страна ромеев, а страна османов».
Вот уже два года, как учителя не было рядом, но Мехмед помнил его – светловолосого, очень красивого рума, который учил своего воспитанника языку румов и «философии», которую считал искусством познавать жизнь. Учитель появился, когда Мехмед после первого неудачного правления был отправлен отцом прочь из столицы, в дальний дворец – продолжать обучение наукам – и словно остался один на один с тысячей врагов.
Рядом не было ни Заганоса-паши, ни Шехабеддина-паши, чтобы позвать их на помощь. Был лишь строгий мулла, который бил Мехмеда палкой по спине за каждую провинность. А ещё было множество учителей, которые не верили, что их ученик способен научиться хоть чему-нибудь, – они считали его дураком и упрямым ослом.
И вдруг на смену одному из тех учителей, не верящих в своего ученика, явился красивый улыбчивый рум, который в первый же день сказал, что считает Мехмеда способным. Приветливая улыбка рума действовала почти как колдовство, освещая всё вокруг. А может, источником чудесного света был сам этот человек благодаря светлым волосам и светлой одежде? Носить тёмную он нарочно избегал, не любил её.
Мехмед и сам не вполне понимал, как так получилось, но очень скоро этот рум стал для него единственным истинным другом. Помнится, Шехабеддин-паша когда-то сказал: «Если хочешь, чтобы друг появился, то он появится. Надо лишь держать своё сердце открытым и, если достойный человек предложит дружбу, не отказываться».
Мехмед так и сделал. Принял учителя-рума с открытым сердцем и не говорил «нет», когда учитель дал понять, что между учителем и учеником могут возникнуть совершенно особые отношения, которые не сравнить ни с чем. «Это больше, чем дружба, и крепче родственных связей» – так говорил рум, и его хотелось слушать, ведь он был не только красив, но и мудр.
Красота и мудрость редко сочетаются в одном человеке. Обычно этим свойством обладают лишь пророки2, поэтому Мехмед внимал своему учителю, как внимал бы пророку, верил каждому слову.
К примеру, учитель убеждал, что среди румов много достойных людей. Говорил, что не только Искендер заслуживает внимания и уважения, но и многие другие. И таких румов следует искать не только в далёком прошлом, но и в настоящем.
Даже сейчас, когда румы переживали не лучшие времена, всё больше подпадая под власть турок, не следовало использовать это для того, чтобы погубить румов окончательно. Учитель – прежде всего собственным примером – доказал, что даже сейчас у румов есть чему поучиться, они могут многое предложить.
Это чем-то напоминало слова старого отцовского визира Халила-паши, который твердил, что с румами воевать не надо. Но Халил приводил другие доводы – уверял, что война окажется неудачной. Учитель же говорил, что ученик одержит победу, но в результате войны окажется утеряно много важного: «Чтобы насладиться ароматом розы, её не обязательно срывать. А если сорвёшь, аромат не сохранится надолго, его быстро испортит запах смерти».
Мехмед думал именно так, пока учитель оставался рядом с ним. Но, когда положение изменилось, изменились и мысли ученика. Пришла уверенность, что великий город румов уже умирает, поэтому в его судьбу надо быстрее вмешаться, пока «матерь вселенной» не стала тенью себя самой.
«Со временем румы поймут, что я их спас», – мысленно повторял юный султан, но такой довод не годился для воодушевления армии. Своим воинам Мехмед объявил, что они отправятся на войну с неверными, добудут несметные богатства и заслужат себе место в раю.
Это воодушевило всех, тем более что седобородый шейх Акшамсаддин3, уважаемый при дворе и в народе, уже не первый год настаивал, что пришло время исполниться словам пророка Мохаммеда. Посланник Аллаха сказал, что столица румов обязательно будет завоёвана правоверными.
Вспомнив об этом, Мехмед невольно оглянулся на свою многочисленную конную свиту, которая всё это время оставалась позади своего повелителя, не мешая ему обозревать стены города. «Кто из этих сановников и придворных действительно охвачен религиозным пылом, а у кого – свои соображения, как у меня?» – думал султан. В свите присутствовали Халил-паша, Заганос-паша… а также Шехабеддин-паша, которого могло бы здесь и не быть.
Пусть Шехабеддин в своё время участвовал в целом ряде войн, юный султан этого не застал. Мехмед привык видеть Шехабеддина главой белых евнухов, то есть комнатным слугой, а такие слуги обычно тяготятся походами – вот почему прошлой весной султан испытал сильное удивление, когда евнух попросился сопровождать своего повелителя «в поход на Караман», в итоге отменённый ради строительства крепости на берегу пролива. А когда началась подготовка к осаде столицы румов, Шехабеддин снова попросился на войну, хотя правильнее было бы остаться в Эдирне, чтобы присматривать за дворцом и охранять гарем.
Мехмед и на этот раз согласился взять евнуха с собой, но до сих пор не переставал удивляться, насколько тот умело держится в седле, несмотря на привычку передвигаться в носилках.
– Мои верные слуги, запомните эти стены, потому что скоро они будут выглядеть совсем иначе благодаря работе наших пушек, – с улыбкой произнёс юный султан, а затем обратился к евнуху: – Шехабеддин-паша, ты доволен, что можешь своими глазами видеть эти стены и их разрушение?
– Я очень рад быть здесь, повелитель, – ответил евнух, который только что подобно своему господину жадным взглядом пытался охватить необъятные по протяжённости городские укрепления.
* * *
Захват города, поначалу казавшийся вполне лёгким делом, начал оборачиваться долгой осадой. Вот почему поздним вечером Мехмед мерил шагами ковры в своём шатре и напряжённо думал.
Та часть шатра, в которой он находился, была самой просторной, предназначенной для заседаний. Сейчас в ней не осталось никого, но Мехмеду при взгляде на тюфяки для сидения, разбросанные вдоль красных полотняных стен, почему-то казалось, что там устроились сановники и пристально смотрят на своего повелителя – оценивают. Это странное чувство мешало сосредоточиться. В голове повторялась только одна мысль: «Мои приказы должны исполняться. Мои приказы должны исполняться. А если они не исполняются, то кто я тогда?»
Мехмед направился к походному трону, стоявшему на возвышении в дальней части шатра, сел и ещё раз оглядел пустое пространство, которое сейчас населяли видения из прошлого. Когда девять лет назад Мехмед получил от отца власть, то стал мальчишкой на троне. Мальчишкой, чьи приказы не исполняются.
Казалось, что теперь другие времена. Всё стало иначе в прошлом году, когда была построена крепость на берегу пролива. Даже Халил понял, что положение дел меняется. Вызванный среди ночи во дворец, он явился незамедлительно и даже поначалу беспокоился за свою голову, раз принёс золотое блюдо. А что теперь? Он скажет: «Я не ошибался, когда говорил, что война с румами принесёт нам лишь позор». Остальные сановники ничего не скажут, но подумают. И станут смотреть, как будто их султан – по-прежнему мальчишка и не может совершить ничего достойного. Он снова окажется во власти всякого, кто пожелает повелевать, потому что все будут знать, что умных мыслей в голове у султана нет и исполнять его приказы не нужно. В лучшем случае слуги станут лишь создавать видимость, что что-то делается.
Виной тягостных мыслей были неудачи османского флота: одно поражение, которое пришлось лично наблюдать минувшим днём, и ещё одно – два дня назад4, которого Мехмед не видел, но получил подробный устный доклад. Оба поражения стали крайне досадными, ведь от флота зависело очень многое!
Мехмед тщательно изучил историю прошлых осад столицы румов и сделал вывод, что захватить её возможно, только если перекрыть к ней доступ с моря. Для этого на берегу пролива и была построена Румелийская крепость, о которой вскоре стали говорить «перерезающая горло». Она была призвана перекрыть пролив, задерживать корабли франков и румов, следующие к городу, но некоторые суда всё же могли проскочить мимо. А это означало, что тем, кто желает покорить город, никак не обойтись без собственного флота, причём большого.
Мехмед заметно расширил свой флот, теперь составивший полторы сотни судов, крупных и малых. Восемь дней назад, когда этот флот показался в виду города, румов объял страх! Мехмед, выехав на берег моря и остановившись так, что оборонительные стены возвышались слева на расстоянии двух полётов стрелы, сам видел, как румы собрались на стенах, и слышал беспокойные крики.
Флот, спустив паруса и действуя вёслами, неуклонно приближался, скользил по синим, сверкающим на солнце волнам. Скоро стало казаться, что половина горизонта закрыта лесом мачт. А тем временем в городе не только воины, но и обычные жители вышли на стены, чтобы посмотреть на турецкий флот и подсчитать суда, из которых он состоит.
Мехмед не собирался мешать румам в этом занятии, а совсем наоборот. Султан нарочно приказал, чтобы флот, прибыв со стороны анатолийского берега, вошёл в пролив, проследовал мимо города на север и встал на якорь в небольшой бухте – примерно на полпути между городом и новой крепостью, «перерезающей горло». «Пусть наши враги всё как следует рассмотрят и пересчитают», – решил Мехмед, а два дня назад решил испытать свой флот в деле. Тогда-то и случилась первая неудача.
Рядом со столицей румов, с северной стороны, располагался большой залив, имевший форму рога. Вход перегораживала цепь. Если бы удалось убрать цепь и овладеть заливом, то кольцо осады сжалось бы вокруг города ещё сильнее. Румы не смогли бы ловить в заливе рыбу и наверняка страдали бы от голода, то есть хуже защищали бы свои стены. К тому же укрепления, тянувшиеся вдоль берега залива, были куда слабее, чем западные стены, которые тянулись по суше и вдоль которых теперь располагался турецкий лагерь.
Вот почему два дня назад Мехмед отдал приказ своему флоту напасть на корабли румов и франков, явившихся на помощь румам. Суда неверных, выстроившиеся с внешней стороны цепи, судя по всему, собирались защищать её до последнего, но казалось, что их сопротивление окажется легко сломить.
Мехмед снабдил свои корабли всем, что необходимо. Даже поставил на них маленькие пушки. И что? А ничего! Ядра оказались слишком мелкими. Они отскакивали от бортов вражеских кораблей, как камешки, которые мальчишка кидает в стену! А копья и стрелы казались почти совсем бесполезными. Румы и франки, защищённые металлическими доспехами, почти не прятались!
Балта-оглы, мудрый и опытный начальник флота, теперь казался Мехмеду глупцом! Ведь именно Балта-оглы уверял, что турецкие корабли имеют преимущество перед кораблями будущих врагов. «Их корабли больше, но могут двигаться лишь за счёт ветра, – говорил он. – А наши, хоть и меньшего размера, могут использовать и ветер, и вёсла. Наш флот не зависит от ветров, которые переменчивы. Он может в любое время двигаться туда, куда укажет повелитель».
Мехмед, слыша это, всё же сомневался, поэтому заметил: «Но большой корабль всё равно сильнее, чем два-три небольших». На это Балта-оглы ответил: «Собаки мельче, чем олень, но разве свора не способна загнать оленя и растерзать его?»
Но вот оказалось, что придётся иметь дело не с военными судами, а с торговыми. А торговые – не как олени, а как слоны! Военный флот франков так и не прибыл на помощь городу, но в гаванях залива оказалось некоторое количество торговых кораблей франков и румов. Защитники города вооружили их, как могли, и выставили у цепи. А когда турецкий флот напал, события развивались так, будто псы окружили слонов, но не могут даже укусить, зато слоны топчут псов.
Борта торговых кораблей оказались для нападающих почти такими же высокими, как городские стены! На них нельзя было взобраться, потому что защитники быстро рубили верёвки, привязанные к абордажным крюкам. В турецких воинов летели стрелы и копья, которые приносили гораздо больше урона, потому что нападающие не имели металлических доспехов.
А ещё защитники уверенно пользовались деревянными машинами, обычно служившими для того, чтобы поднимать груз на борт. Зацепляли носы турецких судов и заставляли накрениться так, что судно тонуло!
Часть турецкого флота уже отправилась ко дну, когда Балта-оглы отдал распоряжение отступать, чтобы поражение не выглядело слишком очевидным, а когда явился на берег, то на коленях клялся Мехмеду, что ничего подобного больше не повторится и что неверные победили по чистой случайности.
Мехмед поверил своему начальнику флота, но сегодня днём последовало новое поражение! Султан наблюдал всё лично, находясь на дальнем от города берегу залива, имевшего форму рога. На том берегу стоял небольшой укреплённый франкский город, называвшийся Галата5, с которым Мехмед заключил договор о невмешательстве, поэтому вместе со своими конными людьми мог остановиться под стенами франков и наблюдать за очередным морским боем, начинавшимся в водах рядом со столицей румов.
Теперь, уединившись в шатре и вспоминая события минувшего дня, Мехмед нисколько не сомневался, что франки, тоже наблюдавшие за боем со своих стен, смеялись. Смеяться так, чтобы слышали турки, никто бы не посмел. Иначе Мехмед приказал бы разрушить город весельчаков с помощью пушек и истребить всех жителей. Но тайные насмешки, конечно, были.
Поначалу, когда бой только начинался, Мехмед радовался, потому что нисколько не сомневался в победе. Он решил, что это удача, когда ему доложили, что четыре корабля, чудом миновав крепость, «перерезающую горло», приближаются к городу румов. Отдавая Балта-оглы приказ захватить корабли, султан был уверен, что приказ окажется выполнен. И всё же повторилась история с псами и слонами, когда псы своими укусами ничего не могут добиться! «Слоны» неуклонно приближались к цепи, а «псы» никак не могли перегородить им дорогу – их просто сметали с пути.
Даже Мехмед, не будучи знатоком морского дела, уже понял, как надо действовать. Беспокойно разъезжая вдоль берега и наблюдая за битвой, он повторял: «Сожгите им паруса. Сожгите им паруса». Он не кричал это лишь потому, что знал – Балта-оглы всё равно не услышит.
И вдруг, когда «слоны» уже почти достигли цели, слова о парусах как будто услышал Аллах. Ветер исчез! Огромные корабли остановились, а затем их начало сносить течением к тому берегу, на котором находился Мехмед и его всадники. В такие минуты султан, который обычно даже не считал нужным соблюдать правило ежедневной пятикратной молитвы, становился пламенно верующим.
Четыре вражеских корабля, за время боя успевшие объединиться в одну плавучую крепость, продолжали сопротивляться, но их участь казалась предрешённой. Мехмед уже был готов признать правоту своего начальника флота в том, что суда с вёслами всегда имеют преимущество перед судами, у которых есть лишь парус… Однако Аллах явно не хотел, чтобы Мехмед сказал это во всеуслышание.
Когда вражеские корабли уже настолько приблизились к берегу, что Мехмед, сам того не замечая, въехал в воду, будто встречал их, безветрие закончилось. «Слоны» снова пришли в движение и, легко раздвигая заслон из турецких судов, снова направились туда, куда и собирались – к цепи.
Только теперь Мехмед заметил, что солнце закатилось за горизонт, на залив стремительно опускались синие сумерки, поэтому вражеские корабли, уходящие прочь, становились видны всё хуже и хуже.
Султан досадливо скрипнул зубами и поехал прочь. Он даже не дождался своего начальника флота, чтобы обругать, потому что думал не о нерадивом слуге, а о себе: «Мои приказы не исполняются. Мои приказы не исполняются. И что теперь? Из этого положения нет выхода? Мои люди говорят меж собой, что незачем подчиняться, пока повелитель не докажет, что способен взять город. Но как я возьму город, если мне не подчиняется моя же армия?»
Когда султан подъехал к своему шатру, располагавшемуся посреди лагеря близ западных стен столицы румов, то явственно слышал, как за стенами, находящимися где-то там, в темноте, звонят колокола. Четыре вражеских корабля, с которыми ничего не смог сделать весь османский флот, конечно, уже оказались за цепью, вошли в одну из гаваней города, и теперь началось торжественное чествование «победителей».
Мехмед поспешил скрыться в шатре, чтобы больше не слышать звона. Но этот проклятый звук почему-то продолжал звучать в ушах, заставляя испытывать жгучее чувство стыда: «Мои приказы должны исполняться. А если они не исполняются, то кто я? Правитель или мальчишка? Всеобщее посмешище?»
Именно об этом думал султан, сидя на походном троне, когда услышал слева, со стороны входа в свою спальню, шорох отодвигаемого полога. В лампах, висевших на опорных столбах шатра, уже заканчивалось масло, но даже в этом тусклом свете было видно безбородое лицо и кудрявые волосы, спадающие на плечи из-под белого тюрбана.
Фигура в белом тюрбане поклонилась, и вошедший доложил сам о себе:
– Прошу прощения, повелитель, но твой верный слуга Шехабеддин-паша, начальник белых евнухов, принёс тебе очень важное письмо.
– От кого письмо? – раздражённо спросил Мехмед.
– От уважаемого шейха Акшамсаддина, да будет доволен им Аллах, – невозмутимо ответил евнух.
– И что он пишет?
– Я не вскрывал письмо.
– Тогда откуда ты знаешь, что оно важное? – всё так же раздражённо спросил султан, но евнух остался невозмутимым:
– Я говорил с уважаемым шейхом в то время, когда он составлял послание, и могу судить об общей сути, но что именно написано, я не знаю.
Шехабеддин-паша, снова поклонившись, подал письмо, свёрнутое в трубку и запечатанное; Мехмед сломал печать, развернул лист и прищурился:
– Здесь темновато. Не видно.
Евнух чуть отодвинул полог, из-за которого только что вышел, протянул руку в образовавшуюся щель, и вот уже у него в руке оказался зажжённый фонарь, судя по всему, поданный кем-то из слуг. Шехабеддин приблизился и посветил Мехмеду, стало возможно читать, но в письме на первый взгляд не было ничего важного:
«Случившееся сегодня… заставило нас пасть духом… неверные возрадовались… возникло мнение, что правитель неспособен сделать так, чтобы его приказы исполнялись… Нужны суровые наказания… и прямо сейчас… иначе войско может выйти из повиновения».
– И что же в этом письме такого важного, Шехабеддин-паша? – спросил султан. – Я прочёл и не узнал ничего нового.
– Значит, повелитель согласен с тем, что начальник флота, виновный в сегодняшнем поражении, должен быть сурово наказан? – в свою очередь спросил евнух.
– И что же мне сделать? Отрубить виновному голову? – печально улыбнулся Мехмед. – Я бы это сделал, но толку не будет. Для человека, который рисковал жизнью, смерть не страшна. Или мне обезглавить всех, кто сражался с румами сегодня? Никто не испугается. Но все скажут, что я напрасно убиваю своих людей.
Юный султан был рад, что может поговорить с кем-то живым. Призраки прошлого не могли посоветовать ничего дельного, а лишь нагоняли тоску.
– Как мне заставить мою армию воевать лучше? – спрашивал Мехмед у Шехабеддина, застывшего с фонарём в руках. – Мне нужно, чтобы воины боялись поражения. Но как заставить их бояться этого? Они знают, что я буду разгневан поражением, но им это не страшно. Они готовы увидеть мой гнев. И наказания они не боятся, потому что готовы принять его. Как же мне ими управлять?
– Даже у таких воинов можно вызвать страх, который заставит их лучше стараться, – уверенно произнёс евнух.
– И чего же они испугаются? – допытывался султан.
– Унижения, – последовал ответ. – Этот страх заставит твоих воинов по-настоящему подчиниться тебе и совершить то, на что они иначе не решились бы.
– Ты уверен, что это подействует? – спросил султан, видя, как у евнуха вдруг загорелся взгляд – наполнился злым весельем.
– Да, повелитель, – продолжал Шехабеддин. – Подействует, если ты покажешь воинам, что готов унижать их прилюдно. Прилюдное действует гораздо лучше, чем тайное. Вот почему начальник флота должен оказаться унижен у всех на глазах. Тогда он многое поймёт и изменится. А люди, увидевшие это, испугаются. И задумаются так, как не задумались бы, если бы этому человеку просто отрубили голову.
– Откуда ты знаешь?
– Евнухи много знают об унижении, повелитель, – всё с таким же горящим взглядом говорил Шехабеддин. – Евнух унижен с того самого мгновения, как становится евнухом. А затем он оказывается униженным снова и снова. И слышит, как над ним смеются. И в итоге евнух понимает, что согласен на всё, лишь бы больше не слышать подобного смеха. Это понимание делает евнухов самыми исполнительными слугами. Они готовы совершать даже то, на что не считали себя способными. А тебе, повелитель, нужны именно такие слуги. Евнух стремится заслужить похвалу и избежать унижения, которое обязательно последует, если господин разгневается. Твои воины пока не усвоили этот урок.
Мехмед не удержался от шутки:
– Даже если евнухи так хороши, я не могу превратить своих воинов в евнухов. И даже начальника флота не могу, хоть он и потерял право называться мужчиной после такого глупейшего поражения.
Евнух даже не улыбнулся и серьёзно продолжал:
– Превращать в евнухов никого не нужно, повелитель, но если Балта-оглы недостоин называться мужчиной, то покажи ему, что он не человек, а пёс, которого можно бить, пока хозяину не надоест…
– И всё же откуда ты знаешь, что это подействует?
– Евнухов воспитывают именно так, а евнухи – лучшие слуги, – повторил Шехабеддин, явно избегая вдаваться в подробности, но Мехмед стал думать, что совет и впрямь дельный, хоть и рискованный.
– Шейх Акшамсаддин пишет, что есть опасность бунта, – заметил султан, – и это правда. Что если я последую твоему совету, но моё войско возмутится, а не испугается?
– После наказания нужно сразу направить людей выполнять очередной приказ, – последовал ответ. – Тогда всё возмущение обратится против неверных, а не против тебя.
– Мне отправить всех в бой? А если бой закончится неудачей? Тогда возмущение обратится против меня.
Шехабеддин задумался, а затем его взгляд снова загорелся:
– Нужно дать воинам такое приказание, которое будет трудным, но окажется выполнено наверняка. Досадно, что рядом с городом нельзя построить ещё одну крепость, «перерезающую горло». Подобная задача хорошо бы подошла к случаю.
* * *
Шехабеддина после оскопления продали в Турцию далеко не сразу. Он сменил нескольких хозяев прежде, чем это случилось, и пережил много неприятного, но, когда рабская жизнь только началась, двенадцатилетний евнух полагал, что самое худшее позади и что теперь всё станет лучше – он скоро обретёт доброго господина, который его в итоге освободит и наградит.
Когда Шехабеддин, в то время звавшийся просто Шихабом, рассказал матери, что собирается выслужиться, а затем выкупить её и всех своих сестёр из рабства, она со слезами ответила:
– Пусть смилуется над нами Аллах и поможет. – Вот почему маленький евнух начал молиться, чтобы его продали хозяину побогаче, и никак не мог дождаться, когда работорговец Фалих привезёт рабов в свой дом в большом городе, называвшемся Багдад6.
Наконец они добрались до места, и рабы весьма изумились, ведь город был так велик, что, казалось, его не обойдёшь и за неделю. Город, где они жили до того, как потеряли свободу, получалось обойти за день, и раз уж Багдад выглядел огромным, уже не казалось удивительным, что жилище Фалиха походило на дворец. Два просторных этажа и не менее просторный двор с садом и фонтаном, обнесённый очень высокой каменной оградой! «Она почти такая же высокая, как стены моего города», – думал Шихаб.
Все рабы сделались в этом доме слугами, чтобы научиться делать то, что от них потребуется, когда они окажутся проданы богатым хозяевам. И вот в один из дней к Фалиху пришёл покупатель. Он был в белых (и потому очень марких) одеждах, а его кожаная обувь с загнутыми мысами имела изысканный тиснёный рисунок.
Шихаб разглядывал перстни на пальцах этого человека и, пытаясь оценить степень богатства, даже не смотрел на лицо. Лишь видел, что чёрная борода не так широка и густа, как у Фалиха.
Все малолетние евнухи выстроились во дворе в ряд, но покупатель равнодушно оглядел их и остановил внимание только на Шихабе, который был самым старшим. Покупатель спросил, учили ли этого раба-перса читать по-арабски. Сам разговор тоже шёл на арабском языке, но Шихаб, хоть и был персом, многое понимал, потому что учил этот язык в школе при мечети7, которую посещал несколько лет. Знания, которые прежде казались не слишком нужными, за прошедшие недели начали стремительно вспоминаться, поэтому Шихаб мог бы сам ответить, но не решился. Это сделал работорговец.
Тогда покупатель велел Шихабу процитировать что-нибудь из Корана. Услышав цитату, хоть и короткую, но произнесённую без ошибок, остался доволен и спросил, умеет ли Шихаб считать. Услышав «да, господин» уже от самого раба, велел ему сложить в уме трёхзначное и двузначное числа, которые только что назвал. Шихаб сложил правильно, и покупатель снова остался доволен, но для уверенности назвал ещё два числа. На этот раз надо было вычесть одно из другого. Шихаб справился, поэтому покупатель сказал работорговцу:
– Этот мне подходит. Сколько ты за него хочешь?
Они ушли в дом обсуждать цену, и в тот же день Шихаб, держа в руках узелок с вещами, отправился вслед за новым хозяином, который, судя по всему, был действительно богат, раз уж его по пути сопровождали двое слуг, не считая нового раба.
Новый хозяин, которого звали Алим, прекрасно знал персидский язык, потому что у образованных арабов персидская литература пользовалась почётом. С семьёй господина и другими слугами Шихабу приходилось объясняться по-арабски, но, на его счастье, говорить почти не требовалось – только слушать и правильно понимать.
Алим сделал Шихаба своим личным слугой. Обязанности были просты: «подай то», «принеси это», «сбегай в лавку и забери заказ для меня», «отнеси письмо моему другу». И также, поскольку Шихаб был евнухом, господину было очень удобно посылать его на женскую половину жилища к своей матери или к одной из жён, чтобы спросить что-нибудь и принести короткий ответ.
Шихабу объяснили, что если он хорошо себя покажет, то со временем станет управителем всего дома, поэтому двенадцатилетний евнух очень старался. Делал всё быстро и аккуратно.
Единственным препятствием к получению будущей должности казалась обязанность играть с господином в шахматы. Шихаб неожиданно для себя обнаружил способности к игре и мог бы выигрывать часто, но этого делать не следовало, как и поддаваться.
Хозяева не любят слишком умных слуг, но и глупцов не любят. Господин Алим сразу видел, если сделан глупый ход, потому что не любил лёгкие победы… Но он любил выигрывать, так что Шихабу, пусть и с трудом, пришлось научиться проигрывать так, чтобы господин не замечал. Сначала следовало создать на доске весьма опасное положение, а затем сделать маленький просчёт, и тогда господин хвалил:
– Молодец! Боролся до конца.
…Так прошло три года. Шихаб преданно служил своему господину, завоевал его доверие и довольно часто получал награду, если делал что-то особенно ловко. Например, однажды, будучи посланным на базар за чернилами, купил хорошие, но так дёшево, что господин поначалу не поверил в удачность сделки.
Когда Шихаб, как всегда, положил в ладонь своего господина Алима все оставшиеся деньги вплоть до последней монетки, хозяин нахмурился:
– Здесь слишком много. Ты, наверное, купил какую-нибудь дрянь. Я же говорил: купи хорошие.
– Они хорошие, – уверенно ответил евнух. – Я сам проверял.
Проверка подтвердила правоту евнуха, и тогда Алим великодушно улыбнулся:
– Оставшиеся деньги возьми себе. Ты заслужил.
Надо ли говорить, что Шихаб ничего из них не потратил, как и другие подобные награды. Он по-прежнему мечтал выкупить из рабства свою мать и сестёр, хотя ничего не знал об их судьбе, кроме того, что они проданы.
Однако время шло и ему всё труднее становилось жить мечтами о далёком будущем, когда он вернёт семью и станет свободным. Хотелось уже сейчас пожить той чудесной жизнью, когда не только получишь свободу, но и сможешь жить не как евнух, а «как человек»8.
Раньше Шихаб часто слышал от отца: «Вот человеком станешь, тогда и будешь спорить». Это означало, что нужно подождать, пока подрастёшь, перестанешь называться мальчиком, возмужаешь. Но теперь ожидание стало бессмысленным. Шихаб уже не мог «стать человеком», сколько бы ни прошло лет. Для евнухов возмужание невозможно, но с каждым годом всё больше хотелось притвориться, что возможно. И, наверное, поэтому евнух совершил глупость, которую мог бы и не совершить.
Это началось в тот день, когда Шихаб был в очередной раз отправлен на женскую половину дома с поручением к старшей жене своего господина и стал свидетелем, как юная служанка, прибиравшая комнату, случайно уронила с полки вазочку.
Вазочка упала на пол, не прикрытый ковром, поэтому разлетелась на мелкие кусочки, а служанка замерла в ужасе, закрыв рот ладонью и выдохнув еле слышное «ах». Не будь рядом Шихаба, эта девушка, наверное, просто собрала бы осколки и притворилась, что ничего не случилось. Пропажу вазочки вряд ли заметили бы сразу, но евнух видел всё, поэтому юная служанка оказалась в его власти. Он был волен донести хозяевам или не донести.
Служанка выглядела совсем юной, лет на четырнадцать, и очень миловидной. Даже евнух мог это оценить, и потому Шихаб, посмотрев в её широко раскрытые испуганные глаза, вдруг подумал, что, проявив великодушие, мог бы заслужить искреннюю благодарность этой девушки. Он хитро улыбнулся и прошептал:
– Соберём осколки, пока никто не видел.
В следующую минуту они собрали всё, и евнух спрятал крупные черепки себе в рукав халата.
– Я придумаю, как сделать так, чтобы вазочка стояла целой на прежнем месте, – всё так же шёпотом произнёс Шихаб и ушёл, а вечером, выбрав укромное место, разложил черепки перед собой, чтобы понять, что за рисунок был на разбитом предмете.
О том, чтобы склеить, нечего было и думать. Как ни склеивай, это сразу заметно. Значит, следовало купить новую вазочку, и евнух, которого много раз посылали на базар за покупками, почти сразу вспомнил, где можно достать похожую.
Разбитая вазочка была дорогой. Её делал искусный мастер, но у искусных мастеров всегда есть подражатели, которые делают почти то же, но менее аккуратно, а берут за это значительно дешевле.
Шихаб взял деньги из тех, которые откладывал на выкуп матери и сестёр. Впервые за всё время он решился потратить хоть что-то, поэтому сам себе удивился, но тут же представил, как довольна окажется та юная служанка, и все сомнения отпали.
Она и вправду оказалась очень довольна, когда Шихаб, жестом волшебника вытащив из-за пазухи новую вазочку, торжественно поставил на полку.
– Совсем такая же, – счастливо прошептала девушка. – Никто и не заметит.
Промах, который мог открыться, тяготил её, а теперь она почувствовала себя легко и свободно. Так легко, что её как будто порывом ветра толкнуло к благодетелю, а её губы коснулись его щеки едва ощутимым поцелуем.
– Благодарю тебя, Шихаб, – тихо сказала юная служанка, а евнух впервые за всё время, что носил новое имя, подумал, что оно не так уж плохо звучит.
Конечно, евнух понимал, что это не может иметь продолжения и что благодарность – единственное, на что он вправе рассчитывать, но с тех пор если служанка встречала его в женских покоях, то опускала глаза и как-то по-особенному бросала взгляд из-под ресниц.
Шихаб, глядя на это, неожиданно понял, что очень счастлив, потому что чувствует себя почти человеком. Почти, ведь не будь он евнухом, не мог бы ходить на женскую половину дома. И истории с вазочкой тогда бы не случилось. И всё же ему нравилось, что он может, оставаясь наедине с собой, снова и снова вспоминать миловидное лицо девушки и её взгляд из-под ресниц. Ведь человек поступал бы так же? В стихах, которые почитывал господин Алим и забавы ради давал читать своему слуге-евнуху, подобное часто упоминалось. Там говорилось, что ресницы-стрелы бьют в самое сердце.
Всё происходящее с Шихабом напоминало игру, и ему захотелось её поддержать, поэтому он снова взял некоторую часть денег, отложенных на выкуп матери и сестёр. Взял, чтобы купить юной служанке серьги.
Подарок она приняла и с тех пор, сталкиваясь с евнухом в женских покоях, не только смотрела по-особенному, но так же по-особенному улыбалась. Шихаб стал ещё счастливее, но вскоре всё кончилось – неожиданно и разом.
Однажды его отправили на женскую половину в довольно поздний час. Весь дом уже погружался в сон, но хозяину потребовалось кое-что передать своей младшей жене, причём так, чтобы об этом не узнали остальные жёны, поэтому евнух вошёл на женскую половину дома неслышной поступью.
Крадучись мимо комнаты служанок, он вдруг услышал тихий разговор, который они вели. Сквозь плотно задёрнутые дверные шторы пробивался слабый свет лампы. С той стороны слышались приглушённые смешки, и вдруг Шихаб понял, что говорят о нём.
Юная служанка, чьё расположение он, казалось бы, заслужил, хвасталась подаренными серьгами, но смеялась над дарителем. До Шихаба долетали обрывки разговора, и стало ясно, что другие служанки тоже смеются:
– Евнух влюбился? Не может быть.
– Он дурачок, – насмешливо шептал такой знакомый девичий голос. Тот самый голос, который ещё три недели назад так искренне шептал «благодарю». – Знаете, что он мне сказал недавно? Он думает, что если будет хорошо служить нашему господину, то получит свободу и много денег. И сможет выкупить из рабства свою мать и сестёр. А ещё он спросил, хочу ли я, чтобы он выкупил меня тоже.
Шихаб действительно спрашивал об этом и потому теперь почувствовал жгучий стыд, а служанки меж тем прыснули со смеху.
– Я же говорю: он дурачок, – продолжал всё тот же девичий голос. – Он хоть знает, сколько стоит рабыня? Или думает, что получит столько денег за то, что аккуратно складывает вещи нашего господина и бегает по поручениям?
Служанки начали обсуждать, много ли у «дурачка» осталось денег после покупки серёг, и настоятельно советовали своей подруге выпросить ещё подарок.
– Обязательно выпрошу, – послышалось в ответ, а Шихаб, услышав об этом, теперь чувствовал гнев и злость. Захотелось немедленно пойти и расколотить злосчастную вазочку вдребезги. Пусть гадают, кто разбил. На евнуха точно не подумают!
Шихаб уже сделал шаг в сторону той комнаты, но в голове вдруг родился новый план. Захотелось поступить коварно и жестоко – стащить у одной из жён господина ценное украшение и подложить насмешливой служанке. Пусть насмешницу обвинят в воровстве!
«Так и сделаю», – решил Шихаб, но ещё через мгновение понял, что даже такая месть не заставит его сердце успокоиться. Он подумал, что не хочет больше ни дня оставаться в этом доме, ведь та служанка была в чём-то права: откладывая крохи, которые давал господин Алим, невозможно было накопить на что-то серьёзное. А сколько лет могло пройти прежде, чем у Шихаба получилось бы стать управителем? Лет двадцать? Он не мог ждать так долго. Свобода и деньги на выкуп родных нужны были сейчас! И тогда евнух решил взять это сам.
Нынешняя ночь являлась весьма подходящей, ведь господин Алим собирался провести её не в своих покоях, а у младшей жены. Именно с этим известием евнух был отправлен на женскую половину и в итоге исполнил поручение, хотя притворяться спокойным оказалось очень трудно.
За минувшие три года Шихаб не накопил денег, зато завоевал абсолютное доверие своего господина. Евнух знал, в котором из стенных шкафчиков господином спрятан увесистый кошель с деньгами. И знал, где лежит ключ от шкафчика, поэтому после ухода хозяина быстро добрался до денег.
Дождавшись рассвета, Шихаб покинул дом. Выскользнул на улицу, сказав привратнику, что отправлен с поручением. «Теперь я свободен и богат», – подумал евнух, оказавшись на улице, пустынной в столь раннее время. Он не сомневался, что сумеет затеряться в огромном городе Багдаде, и гораздо больше волновался о том, как выяснить судьбу матери и сестёр.
Три года назад, когда Шихаб ходил в дом работорговца навестить их, чернокожий слуга не пустил. Сказал:
– Их здесь уже нет. И не приходи сюда больше.
Двенадцатилетний Шихаб не смог добиться более подробного ответа, но из сказанного сделал вывод, что мать и сёстры проданы. Возможно, в другой город.
Шихаб даже теперь, внешне превратившись из мальчика в юношу, не мог идти к Фалиху без боязни оказаться узнанным, поэтому отправился в чайхану для небогатых посетителей и, сев в углу, долго приглядывался к местной публике, пока не выбрал человека, которого можно за определённую мзду сделать посредником.
Посредник должен был назваться «дядей», который, вернувшись из долгого путешествия, узнал, что его брат убит, а семья брата продана в рабство. Разумеется, «дяде» следовало отправиться на поиски проданных, чтобы выкупить, кого возможно, и поиски привели бы его к Фалиху.
По расчётам Шихаба, работорговец должен был поверить этой истории. Особенно если бы получил деньги за сведения. Однако сразу снабжать посредника нужной суммой евнух не стал. А то ещё обманет и сбежит! Для начала посредник должен был просто поговорить с Фалихом и сообщить об итогах беседы, а евнух остался ждать в чайхане, где снял комнатку.
Шихаб никак не ожидал, что через три часа после ухода посредника на пороге комнатки появится сам Фалих! Евнух сразу его узнал, а вот работорговец как будто не узнал своего бывшего раба, в настороженной позе сидевшего на старом вытертом ковре.
Фалих вопросительно обернулся к посреднику, стоявшему у него за спиной:
– Это он?
– Да.
«Я выбрал в посредники не того человека», – с досадой подумал евнух, но всё ещё надеялся исправить положение.
Меж тем Фалих нарочито вежливо представился Шихабу и сказал:
– Назовись и ты.
Конечно, называть рабское имя было нельзя, поэтому Шихаб назвал своё прежнее имя – то, которое дал отец.
– Почему же ты не пришёл ко мне сам? – непринуждённо спросил Фалих. – Зачем отправил этого человека?
– Я решил, что его возраст вызовет у тебя больше доверия, чем мой, – сказал Шихаб.
– Но если уж правда открылась, – всё так же непринуждённо продолжал Фалих, – скажи мне: располагаешь ли ты нужной суммой для покупки рабов?
– Да.
– А откуда у тебя такие деньги? – Работорговец посмотрел пристальнее. – И если у тебя их так много, то почему ты путешествуешь один, а не в сопровождении слуг?
Шихаб не знал, что сказать. Кажется, он просчитался не тогда, когда выбирал посредника, а тогда, когда решил, что в этом деле нужен посредник. Пожалуй, следовало действительно нанять себе слуг, купить дорогую одежду и самому явиться к работорговцу. Теперь стало очевидно, что Фалих не помнит своего бывшего раба. Но откуда же Шихаб мог это знать заранее?
– А хочешь, я тебе скажу, почему ты один? – Работорговец сделал резкий шаг вперёд, тем самым заставив своего собеседника вскочить. – Ты один, потому что ты – беглый раб. А деньги ты украл.
В ответ на такое обвинение следовало возмутиться, но торговец, который был крупнее Шихаба и сильнее, схватил его правой рукой за плечо, а левой… Прежде, чем Шихаб успел это предотвратить, Фалих проверил свою догадку:
– Ты – евнух! Я так и думал.
Возражать не имело смысла, а работорговец продолжал спрашивать:
– Кому я тебя продал?
– С чего ты взял, что я – раб и что ты продавал меня? – резко ответил Шихаб, пытаясь стряхнуть со своего плеча руку Фалиха. Раз уж Фалих не помнил того, что случилось три года назад, евнуху следовало отстаивать то, что возможно.
– Если ты – свободный и деньги не крал, тогда откуда у тебя такая большая сумма? – не отставал работорговец.
Шихаб ответил первое, что пришло в голову:
– Я был рабом, но мой господин освободил меня за верную службу и наградил. Так случилось, что я спас его от смерти – поймал в его комнате змею. Я с самого начала предполагал, что ты мне не поверишь, поэтому и отправил посредника, и научил, что говорить.
Фалих засмеялся:
– А твой бывший господин – правитель? Кто ещё может позволить себе так одаривать бывших рабов?
– Нет, он не правитель, но он – очень богатый человек, – ответил евнух, которого так и не отпустили.
– Тогда пойдём к нему, и пусть он сам скажет мне, что освободил тебя и дал тебе денег.
Как ни старался Шихаб притвориться возмущённым, но теперь на его лице промелькнула растерянность, и работорговец сразу это заметил.
– Так что же? Пойдём? – повторил он.
– Пусти меня! – Евнух в очередной раз попытался освободить плечо от цепких пальцев собеседника.
– Нет, я тебя не отпущу, – очень серьёзно сказал Фалих. – Выбирай: либо ты называешь мне имя своего господина и говоришь, где его дом, либо я отдам тебя городским властям, и они заставят тебя сказать правду.
Шихаб понял, что попался, а работорговец ослабил хватку, и его голос сделался мягче:
– Я бы на твоём месте выбрал первое. Если ты отведёшь меня к своему господину, от которого сбежал, и вернёшь ему деньги, которые украл, то у тебя есть надежда на прощение. А если за дело возьмутся власти, может так случиться, что ты скоро покинешь этот мир или остаток своих дней проживёшь в мучениях. Так что же? А? Назовёшь мне имя своего хозяина?
Евнух назвал. И показал, где спрятаны деньги.
После этого в комнату вошли люди Фалиха, а предатель-посредник удалился. Однако вопреки ожиданиям Шихаб был отправлен не в дом господина Алима, а в дом Фалиха. Деньги работорговец забрал себе.
Оказавшись запертым в одной из комнат дома, Шихаб был уверен, что Фалих оставит себе всю сумму, а от беглого раба решит избавиться как от лишнего свидетеля, однако события повернулись не так.
Вечером того же дня господин Алим появился на пороге комнаты.
– Неблагодарный скот! – закричал он, видя, как его беглый слуга в страхе пятится в дальний угол. – Я хорошо обращался с тобой, кормил, одевал, ни разу не ударил. И вот как ты мне за это отплатил! Тебе повезло, что ты не потратил почти ничего из того, что украл. А иначе я убил бы тебя вот этими руками!
– Уважаемый господин Алим, следует ли так огорчаться? – вмешался Фалих, стоявший рядом. – Деньги нашлись, раб нашёлся. Аллах не допустил, чтобы такой добрый и благочестивый человек потерпел убытки.
– Я не возьму этого вора обратно в свой дом, – заявил Алим. – Если собака повадилась воровать с хозяйского стола, её уже не отучишь.
– Моё предложение по-прежнему в силе, – сказал работорговец. – Я готов забрать этого раба и взамен дать другого, раз этот оказался негодным.
– А с этим что сделаешь? – спросил Алим. – Его ведь не получится продать в другой богатый дом. Этот паршивый пёс и там начнёт воровать. И тогда твоя репутация точно пострадает, Фалих.
– Я думаю, – работорговец сощурился и как-то странно улыбнулся, – что, раз этот глупец не понимает, как хорошо быть слугой богатого господина, пусть станет виночерпием.
Шихаб, который всё это время прислушивался к беседе очень внимательно, не понял, что подразумевается под словом «виночерпий», а вот господин Алим, судя по всему, отлично понял и засмеялся от удовольствия:
– А вот это хорошо! Лучшего наказания ему и придумать нельзя. Знаешь, Фалих, ведь этот евнух любит притворяться мужчиной. Он подарил серьги одной из служанок в моём доме, ухаживал за ней.
Работорговец насторожился:
– Уж не хочет ли уважаемый господин Алим сказать, что мой врач плохо исполнил свою работу?
– Нет, – продолжал смеяться Алим. – Твой врач всё исполнил хорошо. Но если сделать Шихаба виночерпием, это точно станет для него наказанием. Хотел притворяться мужчиной, а придётся быть женщиной.
Он снова засмеялся, а Фалих задумался:
– Благодарю за этот рассказ, господин Алим. Я предупрежу нового покупателя, что этот раб может проявить строптивость.
Теперь Шихаб начал догадываться о своей судьбе. Он встречал упоминание о виночерпиях в поэзии, которую читал господин Алим. Разливание вина для этих виночерпиев было не единственным и даже не главным занятием, но это сейчас казалось не столь важно. Последние слова работорговца навели евнуха на мысль, что с Фалихом всё-таки можно попробовать совершить сделку, хоть и не ту, на которую был расчёт изначально.
Начать беседу об этом Шихаб решился тогда, когда работорговец, посадив его верхом на мула и убедившись, что руки раба надёжно связаны, повёз товар в соседний город.
Поначалу справа и слева от дороги виднелись зелёные поля, ведь разливы здешних рек позволяли собирать неплохой урожай. Но чем дальше от Багдада, тем меньше становилось полей, их сменяла выжженная солнцем земля, а когда дорога сделалась совсем пустынной и никто, кроме охраны Фалиха, не мог стать случайным свидетелем беседы, Шихаб окликнул работорговца:
– Господин, послушай! Хочешь, я сделаю так, что тебе будет легко меня продать?
– Ты опять вздумал со мной торговаться, дурак? – насмешливо ответил работорговец, ехавший впереди, но не на муле, а на хорошей лошади, которая шагала бодро, так что мул едва за ней поспевал.
– Я хочу продать тебе то, что ты по-другому не получишь, господин, – ответил Шихаб.
– И что же? – бросил через плечо Фалих.
– Своё послушание, – сказал евнух. – Я не стану проявлять строптивость, о которой говорил господин Алим. Я покорно соглашусь быть виночерпием, если ты скажешь мне то, что я хочу знать.
– И что ты хочешь узнать? – Фалих заставил свою лошадь повернуться и шагать справа от мула, на котором сидел раб.
– Кому ты продал мою мать и моих сестёр?
Работорговец громко расхохотался. Он смеялся так громко, что его смех, казалось, эхом раскатился по пустыне до самого горизонта.
– А ты действительно дурак, – сказал Фалих, отсмеявшись.
– Но почему? – осторожно спросил Шихаб, чувствуя, как замерло сердце.
– Потому что я не помню и не могу помнить, кому их продал, – последовал ответ. – Это было слишком давно.
– Но в таком случае у тебя должны были сохраниться записи, – сказал евнух.
– Зачем мне это записывать? – недоумённо спросил Фалих. – Вполне достаточно записать имя раба и его стоимость на день покупки и день продажи. Зачем мне имена покупателей? Своих постоянных клиентов я помню и так. Остальных мне помнить ни к чему. А если они приходят с жалобой, что я продал им негодный товар, то моих записей вполне достаточно, чтобы понять, мой это товар или не мой. К тому же всегда лучше, чтобы следы происхождения раба быстрее затерялись. У раба не должно быть прошлого.
– Но ведь ты сам мне когда-то сказал, – в отчаянии произнёс Шихаб, – ты сам сказал, что если я честной службой добуду себе свободу и богатство, то смогу выкупить свою семью. Ты же знал, что моя служба у господина продлится не год и не два. Но как я смог бы выкупить семью, если ты всё забываешь?
– Никак. – Работорговец снова засмеялся.
– Но ты сказал, что я смог бы!
– Дурак, я оказал тебе услугу. Я сказал так, чтобы ты думал о хорошем будущем и не думал о смерти. Ты был ребенком, и я рассказал тебе сказку. Я рассказываю её всем своим новым рабам-евнухам. Я надеялся, что когда ты вырастешь, то найдёшь другую причину продолжать жить. А ты всё ещё веришь в сказку? По виду вон какой взрослый, а в голове детские сказки! Как так можно?
– Но неужели такого не бывает, – продолжал отчаянно допытываться Шихаб, – чтобы кто-то разыскивал своих родных, увезённых из дома и проданных в рабство? Неужели никто не разыскивает их, чтобы выкупить?
– Бывает, что разыскивают. Но по свежему следу, – ответил работорговец. – Если бы меня кто-то стал спрашивать о твоей матери и сёстрах спустя несколько месяцев или полгода, я бы вспомнил, кому продан этот товар. Вспомнил бы, если бы счёл, что покупателям товара это принесёт выгоду, а не судебное разбирательство. Но прошло много времени. Три года. А если б ты продолжал служить хозяину и не воровал, то заслужил бы свободу и солидное вознаграждение лет через десять, не раньше. Ты думаешь, что я стал бы делать подробные записи и хранить их десять лет, ожидая тебя? Раба могут перепродать несколько раз за это время! И все те, кто покупал и продавал твою мать и сестёр, тоже обязаны делать записи и хранить, ожидая, пока ты явишься?
Пустыня снова огласилась смехом. Кажется, даже охрана Фалиха посмеивалась, а Шихаб в отчаянии подумал, что опять совершил ошибку. Не следовало торговаться с опытным торговцем, ведь тот опять выиграл. Выторговал покорность раба-евнуха совсем задёшево. Фалих ничего толком не рассказал, но теперь мог быть уверен, что раб не станет проявлять строптивости. А всё потому, что рабу стало всё равно, кем быть. Совершенно всё равно. Он устал бороться, устал стремиться к мечте – выдать сестёр замуж и усыновить одного из своих племянников. Если эта мечта так глупа и несбыточна, то зачем мечтать? Нет, лучше не мечтать, чтобы никто вокруг не смеялся. Но если не мечтать, то незачем жить.
И всё же мысль о смерти не поселилась в голове Шихаба, ведь для того, чтобы умереть, требовалось самому придумать некий надёжный способ и приложить усилия для достижения цели.
Это в двенадцать лет казалось, что всё легко – достаточно лишь найти что-то острое или приказать сердцу «перестань стучать». А теперь евнух знал, что сердце не подчиняется приказам и что тело вовсе не так хрупко, а вокруг множество людей, готовых помешать, потому что раб, лишая себя жизни, тем самым отнимает имущество у своего господина.
У Шихаба не осталось сил на серьёзное размышление о способе прекратить жизнь, а на осуществление – тем более. Осталась лишь тупая рабская покорность, что было совсем не плохо для евнуха, но ужасно для того, кто хочет быть человеком.
* * *
Мехмед был несколько удивлён, слушая советы Шехабеддина о том, как заставить армию слушаться лучше. Он никогда прежде не думал, что можно укрепить власть, унижая кого-то. Султану всегда казалось, что власть, полученная таким образом, непрочна, ведь униженный постоянно думает о бунте и мести.
Мехмед судил так по своему опыту, ведь в отрочестве часто подвергался унижениям. Всякий раз, когда строгий мулла, изучавший с Мехмедом Коран, бил своего ученика по спине палкой, это считалось унижение. Но оно вовсе не означало, что власть муллы крепла. Нет, она слабела, потому что с каждым разом от таких наказаний было всё меньше толку.
А затем появился мудрый и красивый учитель-рум, которого Мехмед, тогда ещё мальчик, полюбил всем сердцем. И тогда будущему правителю пришла мысль: «Любовь – вот что даёт прочную власть. Ведь когда тебя любят, то готовы тебя слушаться, исполнять всё, что ты велишь. А если ты ничего не велишь, то любящий угадывает твои желания, чтобы угодить».
Именно так вёл себя Мехмед по отношению к новому учителю. Учитель-рум хотел, чтобы его ученик преуспел в науках, и Мехмед стал самым старательным и внимательным учеником на свете. Упрямый осёл проявил удивительную любовь к знаниям, так что все прочие наставники, не верившие в своего ученика, несказанно удивились и поспешили вложить в его голову как можно больше знаний, пока чудо не окончилось.
А самое чудесное заключалось в том, что Мехмед нисколько не заставлял себя. Он действительно полюбил знания. Полюбил удивительное ощущение, когда нечто сложное вдруг становится простым и ты, сознавая это, как будто воспаряешь к облакам от радости. А особенно приятно было слышать от учителей «хорошо», «молодец», то есть Мехмеда называли умным, и это не была лесть.
С появлением учителя-рума вся жизнь Мехмеда переменилась, но вскоре после этого будущий правитель понял ещё кое-что о власти – власть может быть построена на страхе. Если пригрозишь кому-то отобрать самое ценное и дорогое, получаешь над ним прочную власть.
Этому научил мулла, не только имевший особое право бить своего ученика палкой, но и наделённый полномочиями приказывать всем другим учителям – даже учителю-руму. И как только мулла понял, что новый учитель дорог Мехмеду, то у муллы появилась огромная власть, которой прежде не было. Мулла грозился сочинить на рума лживый донос и прогнать с должности, а Мехмед проявлял угодливость и покорность, чтобы плохого не случилось.
Даже сам учитель-рум, мудрый подобно пророку, не мог найти выхода из этого положения. И лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств власть муллы оказалась свергнута.
А теперь Мехмед получил ещё один урок о природе власти: если просто унизить человека, это не помогает укрепить власть, но если унизить его на глазах у всех, а не тайно, за закрытыми дверями, тогда можно получить выгоду. Унижая прилюдно, ты получаешь власть и над ним, и над другими. Осталось лишь проверить, насколько это действенно.
* * *
Шехабеддин-паша был рад, что Мехмед послушался совета. Увы, от своего отца новый султан не унаследовал особую способность одним взглядом приводить в трепет. Мехмед был приветлив и открыт, а теперь это обернулось против него. Балта-оглы, начальник флота, совсем не боялся своего повелителя, даже стоя на коленях и прося прощения. Так не могло продолжаться долго. Мехмед должен был научить этого человека не только повиновению, но и страху. И вот юный султан решился.
Шехабеддин-паша с удовольствием наблюдал, как наутро после вечернего разговора Мехмед собрал десять тысяч всадников и отправился с ними к северу от города румов – на берег бухты, в которой стоял турецкий флот. Балта-оглы со своими ближайшими подчинёнными тотчас вышел встречать повелителя, и тогда стало видно, что один глаз у начальника флота скрыт под белой многослойной повязкой.
– Почему ты так и не явился ко мне для доклада после вчерашней битвы? – строго спросил Мехмед, спешившись.
– Да простит меня мой повелитель, но рана помешала мне сделать это вчера, – сказал Балта-оглы и поклонился. – Я хотел явиться сегодня. Если повелитель позволит, я могу доложить прямо сейчас.
– Вчера я сам всё прекрасно видел, – всё так же строго произнёс Мехмед. – Я видел, что моё повеление захватить корабли румов не исполнено.
– Да простит меня мой повелитель, – сказал Балта-оглы, опустился на колени и покаянно склонил голову, но было совершенно очевидно, что он не испытывает никакого страха перед гневом повелителя.
Мехмед несколько мгновений смотрел на коленопреклонённого начальника флота, а также на приближённых Балта-оглы, которые тоже опустились на колени. Шехабеддин-паша, стоя чуть поодаль, внимательно смотрел на господина. Не передумает ли тот? Оказался ли вчерашний разговор достаточно действенным?
Юный султан явно помнил вчерашнюю беседу, потому что его взгляд загорелся гневом, ноздри шевельнулись, как у рассерженного быка, а затем правая рука поднялась и наотмашь ударила коленопреклонённого Балта-оглы с такой силой, что тот упал на землю. Из-под края белой повязки, прикрывавшей глаз, показалась свежая кровь.
– Ах ты, пёс! – закричал Мехмед, кинулся к начальнику флота и начал пинать ногами; свита Балта-оглы в страхе повскакивала с колен и отшатнулась. – Наглый пёс! – продолжал кричать Мехмед. – Сколько раз я должен прощать тебя, а? В прошлый раз когда ты просил у меня прощения, то клялся, что поражений больше не будет! И что я вижу, а? Наглый лживый пёс! Какое у тебя оправдание в этот раз?
Балта-оглы ничего не отвечал. Лишь стремился сжаться в комок и прикрывал ладонями повязку на глазу, чтобы острый, чуть загнутый мысок султанского сапога при очередном ударе не попал по самому больному месту.
– Дайте мне палку! – крикнул Мехмед, на мгновение остановившись и оглядев присутствующих мутным от гнева взором.
Один из младших приближённых Балта-оглы подал султану палку, которую носил заткнутой за пояс. Очевидно, привык гонять ею матросов, когда те были недостаточно расторопны.
– Вот так наказывают псов! – Мехмед принялся бить начальника флота палкой по спине, по голове и по чему придётся. – Вот так их наказывают! Будь ты достойным слугой, я бы отрубил тебе голову, но ты не заслуживаешь такой почётной казни. Вот чего ты заслуживаешь! И с этого мгновения ты больше не начальник флота. Я лишаю тебя этой должности. – Град ударов наконец остановился. – А что с тобой делать, решу позже.
Султан с палкой в руке снова воззрился на недавних подчинённых Балта-оглы. Под взглядом Мехмеда они тут же рухнули на колени и на этот раз трепетали от страха. В воздухе повисло тягостное напряжение. Даже всадники самого Мехмеда, которые ни в чём не были виноваты, чувствовали себя неуютно, но Шехабеддин-паша, наблюдавший эту сцену, внутренне ликовал: «Прекрасно. Прекрасно».
Мехмед легонько ткнул палкой в плечо одного из старших начальников султанского флота:
– Главным начальником вместо Балта-оглы будешь ты. – Он повысил голос. – А теперь все запомните слова своего повелителя: если мой флот не может войти в залив к румам по воде, то войдёт по суше!
Это были очень странные слова, и все удивились, но Шехабеддин-паша начал смутно догадываться о замыслах Мехмеда, вспомнив свои вчерашние рассуждения о том, что хорошо было бы поставить перед людьми грандиозную задачу, сопоставимую со строительством крепости, «перерезающей горло»: «Мой повелитель не будет строить новую крепость, но затеял что-то не менее великое».
Эта догадка превратилась в уверенность, когда Мехмед велел Шехабеддину разыскать в турецком лагере и привести в султанский шатёр одного мастера из числа франков, который ещё до начала войны довольно часто удостаивался приёма в числе «приятных посетителей».
– Скажи ему, чтобы взял с собой все бумаги, – велел султан, однако узнать суть разговора с этим посетителем Шехабеддину не удалось. Евнух, находясь за полотняной стеной и подслушивая, услышал лишь неразборчивый шёпот и довольный смех султана в конце беседы.
В тот же день в шатре Мехмеда состоялся военный совет, на котором великий визир Халил-паша снова говорил о том, что взять город невозможно и что следует начать с румами переговоры о мире.
Это было настолько предсказуемо, что Шехабеддин-паша перед началом совета улучил минуту, чтобы поймать своего друга Заганоса-пашу за рукав и тихо спросить на ухо:
– Ты понимаешь, что будет говорить Халил и что должен делать ты?
– Спорить с Халилом, – улыбнулся Заганос.
Именно этим он и занимался. После пространной речи великого визира взял слово и увлечённо говорил о том, что война только началась и что ещё слишком рано пожинать плоды осады: войско стоит под стенами всего три недели, болезней в лагере пока не началось, провизии хватает, боевой дух силён.
– Повелитель, – обратился Заганос к султану, – я и мои люди полны решимости продолжать осаду до тех пор, пока город не будет взят.
– Хорошо, – ответил Мехмед, который во время речи Халила оставался спокоен и даже безмятежен, а во время речи Заганоса улыбался.
Чья бы точка зрения ни победила на совете, султан не собирался завершать осаду так скоро. У Мехмеда уже созрел замысел, и в благодарность за смелость в споре с великим визиром второй визир Заганос-паша удостоился чести поучаствовать в осуществлении замысла.
К тому же войска Заганоса располагались как раз в нужном месте. Не в основном лагере, растянувшемся вдоль западных стен столицы румов, а севернее, на противоположном берегу залива, именуемого румами Золотым Рогом. Именно на том берегу находилась Галата – городок франков, с которым Мехмед договорился о невмешательстве в дела войны.
Мехмед дал распоряжение Заганосу притащить большие пушки прямо к берегу. Там, где залив (и впрямь имевший форму рога) начинал сужаться, следовало «расчистить место», то есть распугать стоявшие на якоре корабли франков и румов.
Впрочем, франки и румы, подняв паруса, сами убрались оттуда очень быстро, как только увидели, что люди Заганоса ставят пушки не только на холме над берегом, но даже у самой воды, в топкой низине, очень мало пригодной для этого. В хлюпающую грязь валились мешки с песком. Под деревянные опоры, на которых покоились стволы орудий, были подложены брёвна и камни.
Утром следующего дня всё оказалось готово, Заганос распорядился дать пробный залп. Большие каменные ядра шлёпнулись в волны, подняв фонтаны брызг, и чуть-чуть не достали до вражеских судов, сгрудившихся в отдалении. Конечно, было досадно, что не удалось задеть ни один корабль, но главное – приказ султана оказался выполнен. Ближе, чем теперь, эти корабли не посмели бы подойти. Пусть они не боялись маленьких пушек, применяемых на турецких судах, но больших орудий, установленных на суше, очень даже боялись.
– Хорошо, Заганос-паша. Очень хорошо, – похвалил Мехмед, наблюдая за всем этим прямо из седла, а затем умчался прочь – к бухте, где стоял османский флоте и где тоже велись работы.
Берег заполонили рабочие, которые стучали топорами, обтёсывая брёвна. Почти каждое бревно после этого несли в другое место, но некоторые стволы оставались там же, им придавали форму непонятных деталей, а руководил всем делом тот самый мастер, с которым Мехмед шептался вчера.
Шехабеддин, сопровождая своего повелителя, видел, что на берегу бухты сооружалось нечто, очень похожее на остов огромной длинной повозки, а дорогу, ведшую из бухты в сторону Галаты, будто решили замостить, но необычно. Поперёк тракта на небольшом расстоянии друг от друга укладывались те самые брёвна, которые ранее были отёсаны, а поскольку дорога шла вверх, то есть брёвна могли скатиться, их концы удерживались на месте с помощью деревянных кольев, вбитых в землю по обочинам.
Наверное, в городке франков уже начали опасаться, что странная дорога пройдёт прямо к их воротам. Возможно, франки даже собрались выслать посольство, чтобы спросить Мехмеда о происходящем, но как раз в это время на развилке, где один путь вёл к франкскому поселению, а другой – в объезд, турецкие рабочие выбрали объездной и начали укладывать брёвна там.
Так продолжалось, пока даже слепцам не стало ясно, что необычная дорога будет третьей стороной треугольника, а две другие стороны образованы проливом и ответвляющимся от него на запад заливом, имеющим форму рога. Дорога тянулась по холмам от бухты, где стоял турецкий флот, к берегу залива, где Заганос установил пушки и распугал вражеские корабли. Оба конца дороги уходили прямо в воду.
Наконец работа в бухте завершилась. Сооружение, напоминающее остов повозки, с которой сняли заднюю стенку, было поставлено на брёвна, уложенные поперёк дороги и заранее смазанные жиром. Придерживаемое толстыми верёвками, сооружение медленно съехало в волны. Затем в эту «повозку» осторожно вплыл один из малых турецких кораблей. Заднюю стенку «повозки» установили. Судно укрепили распорками, чтобы не качалось внутри конструкции, и вот её вместе с грузом выволокли на сушу с помощью тех же верёвок, а затем потащили по дороге, вверх по склону холма.
Это было трудно. Когда «повозку» ставили на брёвна и заводили в воду, для этого хватило сорока человек. Теперь же за верёвки взялись сотни людей – в первую очередь гребцы и матросы. Двигаясь в такт барабану, одновременно делая шаг и натягивая верёвки, люди издавали единое звучное «хэй». Груз в «повозке» становился на один шаг ближе к цели. Мачта с убранными парусами вздрагивала. Флаг на верхушке то развевался, то опадал.
Мехмед был рядом и наблюдал за движением судна по суше. А меж тем вторая «повозка», установленная на смазанные брёвна, повезла ещё одно такое же судно вслед за первым. И ещё. И вот уже целый караван.
Султан был весел и доволен, а Шехабеддин мысленно просил Аллаха, чтобы ни одна из «повозок», с таким трудом движущихся вверх, не скатилась вниз, ведь, если бы это произошло, она бы столкнулась с теми, которые следовали за ней… возможно, даже опрокинула бы некоторые, повредила груз. Сказать Мехмеду о том, что расстояние между повозками надо увеличить, евнух не осмелился. Султан хотел действовать быстро, а это значило, что караван не должен растягиваться.
К концу первого дня переправили достаточно судов, чтобы можно было сказать, что турецкий флот вошёл в залив. И именно об этом объявил Мехмед, когда собрал на берегу залива большинство тех, кто видел недавнее наказание Балта-оглы.
– Я говорил вам: если мой флот не может войти в залив к румам по воде, то войдёт по суше. И вот посмотрите!
Возле берега покачивались небольшие турецкие корабли, с каждой минутой всё больше превращавшиеся в тёмные силуэты на фоне золотистых волн. Они стояли далеко друг от друга, чтобы не закрывать обзор пушкарям Заганоса, готовым в любую минуту снова отогнать подальше все суда франков и румов, если вздумают напасть.
Сами по себе малые турецкие корабли не стали для врагов серьёзной опасностью, а переправить в залив крупные суда Мехмед не мог – слишком тяжёлые, – и всё же он одержал большую победу – доказал, что теперь его приказы выполняются. Матросы турецких кораблей, стоя на палубах, славили султана, и теперь эти славословия были искренними.
– Завтра мы переправим новые корабли, – сказал Мехмед, когда крики утихли. – Наша сила победит хитрых румов. Никакие цепи поперёк входа в залив не помогут им. Никакие стены. Мы возьмём этот город!
Затем султан уехал, а Шехабеддин остался, видя, что Заганос продолжает стоять на берегу и беспокойно вглядываться в даль – туда, где сгрудились вражеские суда.
– Чем ты встревожен, мой друг? – спросил евнух, становясь рядом.
Заганос жестом велел своей свите отойти подальше, чтобы она не подслушивала, и заговорил нарочито тихо:
– На месте врага я бы напал на наши корабли немедленно. Пожертвовал бы одним судном, но поджёг все наши. Ветер дует в нашу сторону. Сейчас такое нападение удобно совершить.
Шехабеддин посчитал, что опасения не лишены оснований, но решил успокоить друга:
– Заганос, ты говоришь так потому, что у тебя отважное сердце. А румы не такие. Они все трусливы и осторожны.
– А как же великий правитель румов Искендер? – спросил Заганос. – Он был очень отважен.
– Отважен, как и ты, мой друг, – улыбнулся евнух. – Но румы давно выродились. Они недостойны своего великого предка. А их союзники франки хоть и более смелы, но не станут отдавать свои жизни лишь затем, чтобы помочь румам. Франки не глупы. Вот почему я думаю, что никто не нападёт на наши корабли.
– И всё же я выставлю дозоры на нашем берегу вплоть до выхода из залива.
– Это разумно.
Оба ненадолго замолчали, глядя, как волны залива блестят в сумерках, а затем Заганос сказал:
– Хорошо, что ты здесь. Хорошо, что наш повелитель позволил тебе сопровождать его, а не оставил в Эдирне.
– Я тоже очень рад этому, – ответил Шехабеддин и добавил совсем тихо: – Иногда мне кажется, что на его решение повлияла лишь одна моя беседа с ним. Я сказал, что у нашего повелителя сердце Искендера и что он рождён повелевать румами. Я сказал, что столица румов покорится Искендеру и что я хотел бы своими глазами увидеть, как новый Искендер явит себя.
Заганос нахмурился:
– Что? Ты ведь всегда говорил, что новый Искендер – это я.
В его голосе слышалось что-то похожее на ревность, поэтому евнух примирительно улыбнулся:
– Ты тоже Искендер.
– Но разве может быть два Искендера? – продолжал хмуриться друг.
– А почему нет? – Чтобы Заганос перестал обижаться и дослушал, Шехабеддин встал напротив него и заглянул в лицо, ещё достаточно различимое, несмотря на сгущающийся мрак. – Разве не может в одной и той же стране быть два героя одновременно? И это не значит, что один из них менее достойный.
– В самом деле?
– Конечно. Нет смысла рассуждать о том, кто истинный Искендер, потому что истинный Искендер давно умер. И раз на нём была милость Аллаха, то душа этого героя конечно же в раю. Искендер уже не вернётся в этот мир. Но в этом мире могут родиться люди, похожие на Искендера, и их ждёт похожая судьба, потому что герой всегда себя проявит. Я всё так же верю в тебя, мой друг.
– А я уж подумал, что ты нашёл себе нового Искендера, – хмыкнул Заганос.
Как видно, он ещё сомневался, поэтому Шехабеддин положил руки ему на плечи, чуть потянулся вперёд и прошептал другу в самое ухо:
– Заганос, ты знаешь, что я люблю тебя больше всех. Даже больше, чем нашего повелителя, хоть это и неправильно, потому что любовь к повелителю должна быть выше всех других привязанностей. Я назвал нашего повелителя Искендером, потому что хотел быть здесь с тобой. Я хотел своими глазами увидеть, как ты одержишь победу и получишь заслуженную награду. К сожалению, ты не сын правителя и потому трон румов тебе придётся отдать другому, но в тебе есть сердце Искендера. И ты проявишь себя, я знаю.
Заганос улыбнулся и так же тихо спросил:
– Мне кажется или меня пришла проведать луноликая Ширин?
Шехабеддин отпрянул, запоздало сообразив, как это нашёптывание выглядит со стороны и что он, кажется, забылся. Евнух – не мужчина, но может хотя бы притвориться им, вести себя по-мужски, а теперь сам не заметил, как стал играть в женщину.
С Шехабеддином это иногда случалось и уже породило множество шуток при дворе – не только о Шехабеддине, но и о его друге тоже. Даже Мехмед, наслушавшись пересудов, любил повторять с улыбкой: «Заганос мне как второй отец, а Шехабеддин – вторая матушка». Хорошо, что Заганоса шутки забавляли, а не досаждали ему и что продвижению по службе все эти пересуды нисколько не вредили.
– Наш повелитель очень хорошо придумал переправить корабли по суше, – произнёс Заганос нарочито громко, чтобы слышала свита. – Наверное, я тоже должен что-нибудь придумать, чтобы не отстать от него. – Следующую фразу он опять произнёс тихо: – Может, попытаться сделать под стены румов подкоп? Как думаешь?
– Мой Искендер, – восхищённо прошептал евнух.
* * *
Оказавшись в Турции, Шехабеддин временами опасался, что его походка, движения рук, манера улыбаться и смотреть по сторонам покажутся кому-то слишком женственными. И даже спустя двадцать пять лет службы при турецком дворе евнух продолжал беспокоиться об этом. А виной всему было обучение, которое пришлось пройти – обучение на виночерпия.
Виночерпий должен уметь не только разливать вино, но и развлекать. Он нараспев рассказывает стихи, играет на музыкальном инструменте, танцует. То есть делает всё то же, что делала бы наложница, чтобы развлечь господина. Но женщина развлекает лишь одного, правила ислама запрещают ей явиться в собрание мужчин, а виночерпию это не воспрещается. Именно для этого он и нужен – развлекать собравшихся на пирушку и прилагать все усилия, чтобы те, кто его видит и слушает, перестали задумываться о том, что перед ними вовсе не женщина.
Если с виночерпием заговаривают, он поддерживает беседу и отвечает шуткой на шутку. Даже может позволить себе кокетливые улыбки, если хозяин не ревнив. А если собеседник затеет смелую игру и начнёт признаваться в любви, виночерпий обязан эту игру поддержать, изображая жестокую неприступную кокетку.
Вот почему виночерпием мог стать не каждый, а лишь тот, в ком не слишком явственно проявляются мужские черты. Лицо виночерпия всегда миловидно, голос – нежен, а все движения – изящны.
Шехабеддин, которого в то время называли Шихабом, вполне годился для подобных игр. Но не будь Шехабеддин евнухом, его вряд ли купили бы, чтобы обучить на виночерпия и впоследствии перепродать. Покупатель сказал бы: «Когда он обучится, ему уже исполнится шестнадцать, голос огрубеет, борода попрёт. Что тогда делать?» Однако из-за операции, проведённой в двенадцать лет, у кандидата не появилось даже усов, а голос и не думал ломаться.
Сделку оформили быстро, работорговец Фалих получил деньги и отбыл восвояси, а Шихаб стал собственностью нового господина, у которого была целая школа виночерпиев.
В ней обучалась дюжина учеников, которые поначалу посмеивались над новичком, выглядевшим не мальчиком, а юношей.
– Шихаб, ну ты и высоченный! – говорили они. – Как ты сможешь изображать женщину? Разве только жену дэва9.
– Сколько тебе лет? – спрашивали другие. – Когда ты закончишь учиться, то будешь совсем старый. Станешь развлекать собрание стариков?
Шихаб не обижался на эти шутки и не думал о будущем. Зачем думать о том, что от тебя не зависит? Его куда больше занимало настоящее, а тупая покорность уступила место покорности осмысленной. Почему бы не покориться, если в обучении есть приятные и интересные стороны.
Когда евнух рассказывал сам себе содержание сочинений известных поэтов, которые придётся пересказывать для наставника, то временами увлекался и представлял свою мать, которая рассказывает сыну сказку. В такие минуты получалось забыть, что мать потеряна навсегда.
По этой же причине, когда Шихаба учили играть женщину, ему нравилась такая игра. Он представлял, что это не он, а его мать перебирает струны саза, поёт, улыбается. И чем точнее удавалось её изобразить, тем сильнее он ощущал, что она сейчас находится рядом. Шихаб не видел её, но видел выражения лиц тех, кто на него смотрит и оценивает. Наставники видели перед собой женщину! И если они её видели, значит, она приходила. Почти по-настоящему. А ведь господин Алим был уверен, что его бывшему рабу такое не понравится.
Незаметно летело время, Шихабу уже исполнилось шестнадцать, и именно тогда его впервые предъявили покупателю. Раньше, если в «школу» приходил покупатель, евнух оставался в дальних комнатах, потому что был ещё плохо обученным учеником. Теперь же его посчитали достойным и вместе с прочими вывели во двор.
Пришёл молодой богатый господин в белых марких одеждах и дорогой обуви. Все ученики выстроились во дворе в ряд, и евнуху, который когда-то проходил через нечто похожее, стало ясно, что случится дальше.
На этот раз покупателя не заботило, может ли раб цитировать Коран и складывать в уме числа. Покупатель вглядывался в лица и спрашивал у того или иного раба: «Как тебя зовут?» – но не затем, чтобы узнать имя, а чтобы вслушаться в звук голоса и решить, приятен он или нет.
В прошлый раз Шихаб хотел оказаться купленным, чтобы поскорее начать служить богатому господину, заработать себе свободу и богатство, а затем выкупить из рабства мать и сестёр. Теперь евнух перестал верить в эту сказку и потому не хотел быть купленным, не хотел, чтобы жизнь менялась, но покупатель почему-то выбрал виночерпия, выглядевшего весьма взрослым, а не более юных.
«Ничего, – успокаивал себя Шихаб. – В доме у этого господина я буду делать почти то же, что и в школе». Однако раб ошибся.
…Нового хозяина звали Захир. Этот молодой и изящный человек был арабом, как и господин Алим. Господин Захир также получил хорошее образование и так же хорошо знал персидский язык. Но в отличие от господина Алима, равно уважавшего и арабских, и персидских авторов, новый господин был без ума от всего персидского.
Возможно, для Захира выбор при покупке раба-виночерпия определило то обстоятельство, что Шихаб был персом. И евнухом. Ведь именно от своего нового господина Шихаб впервые услышал историю о том, что у великого правителя румов Искендера был евнух по имени Багой, родом из персидских земель, которого Искендер очень ценил.
Беседа проходила наедине в покоях господина, причём господин сам же завёл об этом разговор, а затем спросил:
– Ты знал об этом?
Разумеется, Шихаб, обучаясь на виночерпия, читал поэму об Искендере, которую сочинил Низами10, но там ничего не говорилось о Багое. А ведь Низами упоминал, обращаясь к читателям, что изучал жизнь Искендера очень основательно.
– Низами читал не те книги, – с улыбкой ответил Захир, полулёжа на застеленной кровати и покуривая кальян. – О Багое рассказывают румы и франки11. А персидские и арабские авторы излишне пристойны. Они думают, что если будут обходить имя Багоя молчанием, то оно забудется.
Шихабу было неинтересно про это слушать и не хотелось знать, что такого непристойного находили учёные мужи в том обстоятельстве, что Искендер держал при себе евнуха. Вот почему евнух Шихаб ничего не спросил, но господин сам стремился рассказать больше.
– Пишут, что Багой был юн и красив, – сказал Захир, хитро улыбаясь. – И сначала он принадлежал персидскому правителю Дарию. А когда Искендер пошёл войной на Дария и победил, то заполучил и эту живую драгоценность. Один из персидских вельмож припрятал у себя Багоя, пока не уляжется смута, которая всегда бывает после войны, а затем отдал Искендеру.
«Даже если я – Багой, то ты – уж точно не Искендер», – мысленно произнёс Шихаб, обращаясь к господину. Изящный (или даже хилый) Захир со своей острой козлиной бородкой нисколько не напоминал могучего воина с прекрасной тёмной бородой, которого Низами изобразил в своей поэме12. К тому же Низами, который изучил множество книг об Искендере, утверждал, что этот правитель был удивительным человеком – необычайно добрым. Искендер не стал бы держать при себе раба – тут же отпустил бы на свободу, а вот от Захира ничего подобного ждать не приходилось.
– Когда Багой впервые предстал перед Искендером, то уже не был мальчиком, – меж тем рассказывал Захир. – Багой был примерно твоего возраста. А Искендер был ещё молод. Как я… Налей мне вина, Багой, послужи своему Искендеру, – впоследствии хозяин часто повторял эту фразу, а затем протягивал своему виночерпию пустую пиалу, которую Шихаб наполнял – будто играя с кувшином, как учили.
Захир любил вино и шумные застолья, часто приглашал друзей, и пирушка обычно длилась почти до рассвета, а Шихаб развлекал гостей, как учили, но не испытывал от этого никакого удовольствия.
Гости, которые просили сыграть и спеть, сами же прерывали на середине, пытаясь ущипнуть виночерпия. Они находили это забавным, смеялись, тут же шутливо извинялись, просили продолжать песню, снова щипались, а Шихаб втайне злился, потому что уже не мог изображать им свою мать, как делал это для учителей.
Судя по всему, гости даже не замечали, что виночерпий ничего не изображает. Они не были ценителями притворства. Им достаточно было видеть, что лицо Шихаба миловидно, а также лишено усов и бороды. То один гость, то другой «смеха ради» пытались притянуть к себе виночерпия, чтобы поцеловать, и только строгий окрик Захира останавливал весельчаков:
– Эй! Он мой, не забывай!
Друзья Захира не были богачами. Опасаясь, что хозяин дома больше не пригласит их на пирушку, они начинали вести себя сдержаннее, отпускали виночерпия и просили налить ещё вина, но на следующей пирушке всё повторялось снова.
Захир прощал гостей и раз за разом приглашал потому, что знал их ещё до того, как разбогател. А разбогател он после того, как выгодно женился.
С помощью хитрости Захир сумел познакомиться с дочерью одного из самых богатых людей города, тайком встречался с ней в саду почти два месяца и сумел понравиться. В итоге дочь упросила отца отдать её замуж за Захира, а отец, хоть и разгневанный поначалу, согласился. Он хотел для своей дочери счастья и не хотел, чтобы история с тайными свиданиями получила огласку. К тому же новоявленный жених был хоть и не богат, но мог похвастаться знатным происхождением.
Кто же знал, что Захир окажется вовсе не таким влюблённым, как прикидывался поначалу. Конечно, он уделял жене время, но гораздо большее удовольствие получал, растрачивая её приданое.
Из-за частых пирушек, устраиваемых в доме, жена негодовала:
– Ты проводишь с этими пьяницами больше времени, чем со мной! А теперь ещё и с евнухом… Зачем ты его купил?
Шихаб знал, что хозяйка недовольна. Он и сам был недоволен, особенно после того, как стало ясно, что имел в виду один из наставников в школе виночерпиев, когда сказал, что с хозяином евнух должен изображать благосклонную кокетку, а не жестокую и неприступную. Захир этого требовал и уверял, что Багой тоже изображал для Искендера женщину.
Хозяин рассказал о случае, когда Искендер во время одного из походов устроил для своих воинов большое представление. Во время представления евнухи, одетые женщинами, состязались в пении, и Багой так хорошо пел, что Искендер поцеловал его, как женщину, прямо у всех на виду, а зрители кричали: «Целуй ещё!»
Именно тогда Шихаб в полной мере осознал, что значит – не быть человеком. Это означает, что никакие человеческие запреты на тебя не распространяются. Ты можешь делать что угодно, но и с тобой могут делать что угодно. Раньше Шихаб почти не задумывался об этом. Его гораздо больше заботило, что человеческое можно сохранить в себе, несмотря ни на что. А вот теперь он ужаснулся, осознав, насколько велика пропасть между понятиями «человек» и «евнух».
Когда Шихаб украл деньги у хозяина, то не был наказан так, как положено наказывать воров – ему не отрубили руку. Но когда господин Алим грозился убить вора, то вполне мог привести угрозу в исполнение, и это не считалось бы ни грехом, ни преступлением. Евнух – не человек, так что убивать евнухов Аллах не запрещает. И вот новое доказательство, что человеком Шихаб не считался! Будь иначе, тогда многое из того, чего требовал Захир, называлось бы грехом, причём очень страшным. Пророк Мохаммед велел убивать обоих участников такого греха. Однако Шихаб был евнухом, поэтому всё, что делал Захир, считалось не более греховным, чем лежать на ложе, обнимая пуховую подушку.
«Хотел притворяться мужчиной, а придётся быть женщиной», – со смехом предрекал бывший хозяин Алим. И полагал, что евнуху будет очень горько, когда остатки его мужественности окажутся попраны. Это ведь оскорбление. Но как может чувствовать себя оскорблённым тот, кто не является мужчиной? Как может быть оскорблён тот, для кого роль мужчины или женщины – всего лишь игра? Конечно, обидно, когда не получается играть так, как хочется, и тебе навязывают чужие правила. От этого рождается злость. Но в ней нет особенной горечи. По-настоящему оскорблённым Шихаб чувствовал себя, казалось бы, из-за пустяков. Например, когда Захир, по-особенному улыбаясь, называл евнуха «друг мой». Вот тогда Шихаб готов был закричать: «Я тебе не друг! Я – твоя игрушка. Как ты можешь называть меня другом! Ты оскорбляешь само понятие дружбы, называя меня так!»
Евнух сдерживался, потому что не должен был возражать. Но всё же он вёл мысленный спор со своим новым хозяином: «Нет, Искендер не поступил бы так с Багоем. Искендер был великодушен и не терпел несправедливости. Наверняка он даже не сразу согласился оставить у себя евнуха, но пришлось. Искендер после победы над Дарием хотел стать в глазах персов преемником Дария, а не захватчиком персидского трона. Поэтому когда персы отдали Искендеру вещь Дария, бывшую игрушку Дария, Искендер не мог отказаться, хоть и предпочёл бы получить что-то другое как знак преемственности».
Поэт Низами, изучив множество книг, утверждал, что Дарий в отличие от Искендера был жесток и несправедлив. Часто оскорблял своих слуг несдержанным словом и жаждал утвердить свою власть над всеми без исключения. «Для Дария евнух Багой, конечно, был игрушкой, – думал Шихаб. – Дарий не спрашивал, чего хочет Багой, а просто утверждал над ним свою власть».
Конечно, Багой, не зная Искендера, полагал, что новый господин во многом похож на прежнего. Но Искендер выждал немного, чтобы персидские вельможи не обиделись, а затем объявил евнуха свободным, дал денег и сказал: «Ты волен уйти». Да, всё должно было происходить именно так, а не как рассказывал Захир!
«Но почему же Багой остался? – думал Шихаб. – Уж точно не потому, что Искендер удерживал его». Наверное, евнух, проведя годы в рабстве и не имея родных, просто не знал, что делать со своей свободой. Поэтому попросил позволения остаться и служить, как умеет. И Искендер согласился, чтобы на примере других слуг Багой учился вести себя как человек, а не как евнух.
Со временем для Шихаба это стало любимым развлечением: оставаясь в одиночестве, он представлял себе разговор Искендера с Багоем – тот разговор, после которого евнух стал свободным. Где и как они говорили? Наверное, при разговоре присутствовал слуга-переводчик, ведь Искендер был правителем румов13, а румы обычно не знают персидского. Возможно, присутствовало много людей, весь румийский двор. А возможно, что никого, кроме переводчика, не было. Как вёл себя Багой? Заулыбался от радости? Или заплакал? Возможно, встал на колени, а затем задумался, должен ли так делать, если теперь свободен.
Шихаб представлял эту сцену каждый раз по-новому, но всякий раз Багой был невыразимо счастлив остаться при Искендере – уже не как игрушка, а как верный слуга, который полон решимости отблагодарить господина за доброту. Если не сразу, то позднее.
* * *
Арис, наверное, был единственным, кто чувствовал себя в осаждённом городе не как в ловушке. Турки, собравшиеся с внешней стороны стен, не были Арису врагами, а ромеи и прочие защитники этого места казались слишком глупыми, чтобы поймать шпиона или хотя бы догадаться о его существовании. В прошлом году, когда Арис также по заданию господина приезжал сюда, страх оказаться пойманным был довольно силён. А теперь почти исчез.
Приходилось напоминать себе, что излишняя беспечность – это и есть главная опасность для того, кто добывает сведения во вражеском лагере. Попасться из-за беспечности было бы досадно и непростительно. Господин очень надеялся, что теми сведениями, которые сможет добыть «верная тень», он поможет своему другу – второму министру. Это был случай, который выпадает раз за всю жизнь, и господин очень огорчился бы, если бы тень оплошала. Он бы никогда этого не забыл, и тень вечно чувствовала бы себя виноватой, то есть обязанной искупить вину, а тень не любила чувствовать себя обязанной.
Получив задание от господина снова отправиться в Константинополь, Арис приехал в ромейскую столицу задолго до начала осады, чтобы не вызвать подозрений. Ведь это странно, когда в городе, из которого все стремятся уехать, появляется человек с намерением остаться надолго. Значит, следовало приехать, когда бегство жителей ещё не началось.
Правда, когда оно началось, уехало вовсе не так много людей, как ожидалось. Оставшимся просто некуда было деться, и потому они надеялись, что в город явится помощь от папы римского и католических стран. Арису это рассказал хозяин гостиницы, где новоприбывший снял комнатку.
Через некоторое время Арис перебрался из гостиницы в домик к одной старухе, где жильё было дешевле, а хозяйка – болтливее. «Мне и делать ничего не надо. Она сама делает за меня всю работу», – думал юноша каждый вечер, когда старуха согласно договорённости приглашала его за свой стол и ставила перед ним миску с супом. Пока Арис ел, она рассказывала все новости, что слышала утром на рынке.
Старуха не была одинока. За день она, конечно, успевала поговорить о том же и с соседками, и с дочерью, жившей неподалёку, но, видя, что жилец слушает с уважением и вниманием, повторяла всё ему. Ворчала о повышении цен на хлеб, рыбу и зелень. А ещё беспокоилась, что в храме, куда она ходит, вдруг станут служить «по-новому», то есть в соответствии с Унией. Также жаловалась, что в город понаехали генуэзцы и венецианцы, которые приобрели большое влияние на василевса, и это, конечно, из-за них он решил поддержать Унию. А позднее сетовала, что генуэзцев и венецианцев приехало слишком мало и что их не хватит для защиты города:
– Новых ждать не приходится. Но, может, всё же пошлёт нам Бог помощь.
Арис, слушая про «Божью помощь», едва мог сдержать улыбку, поэтому поспешно совал в рот очередную ложку с похлёбкой. Эх, знала бы старуха, кому всё рассказывает и как усердно помогает своим страхам по поводу турецкой опасности сбыться!
Юноше, который дни напролёт бродил по улицам и слушал разговоры, не удавалось узнать больше, чем знала эта собирательница сплетен. Иногда даже появлялась мысль: «А если никуда не ходить? Остаться дома, а вечером послушать отчёт? Я ведь буду знать то же самое». Правда, тогда пришлось бы объяснять старухе, откуда берутся деньги на постой. Она была уверена, что жилец перебивается случайными заработками и надеется найти себе постоянное место.
Так продолжалось до начала весны, когда распространился слух о приближении турецкой армии и Арис решил съехать. К тому времени в городе появилось много покинутых домов во Влахернском квартале, поэтому юноша собирался обосноваться там.
Старухе сказал, что уезжает, и она сразу заворчала:
– Лучше б в ополчение вступил. Если не к мечникам, так к лучникам. Не хочешь? Я так и знала.
«Ну вот опять, – думал Арис. – Опять я что-то должен. Я платил за стол и кров, но ей мало, и я должен отдать ей свою жизнь. До последнего вздоха защищать город, который мне даже не родной. Ничего я тебе не должен, бабка».
Правда, на мгновение Арис задумался, а не последовать ли совету. Если записаться в ополчение, то легко получилось бы узнать, как устроена оборона города… Однако вместе с выгодами появились бы и неудобства. Арис, записавшись на службу, не смог бы располагать собой. Если ты воин, за тобой всё время кто-то следит: хорошо ли ты несёшь службу и не оставил ли свой пост. Нет, лучше было побродить рядом со стенами и издалека оценить количество защитников, их вооружение и то, какие приспособления на стенах установлены. Долго, но зато без риска. Это лучше подходило для «верной тени» турецкого господина, больше соответствовало её привычкам и склонностям.
Позднее, когда начались бои, Арис всё же оказался в числе воинов на стенах, но не совсем настоящим. Во время одного из боёв на северо-западном углу укреплений близ Малого Влахернского дворца тень, наблюдая из переулка, заметила, что один из защитников в латных доспехах упал со стены, поражённый турецкой стрелой, попавшей куда-то в область лица.
После такого человек не выживет, особенно если ещё и упал с высоты. Латы, меч в окованных ножнах и металлический шлем звонко стукнули по камням мостовой, когда тело бухнулось вниз, вздрогнуло и замерло.
Арис тут же подбежал, ухватил труп под мышки и потащил по улице, но не к тому дому, в котором устроил себе ночлег, а к другому. Если бы кто-то спросил, что такое происходит, тень ответила бы, что тащит тело своего старшего брата.
По вечерам, когда бои прекращались, к стенам постоянно приходили люди, чтобы забрать убитых, поэтому никто особенно не удивился бы, что нашёлся смельчак, который решил забрать тело родственника днём. Вряд ли кто-то спросил бы, почему у человека в латах, обычных для итальянца, брат говорит на языке ромеев, а даже если бы и спросил, Арис сказал бы, что его брат не выбирал доспехи, а надел то, что выдали после того, как записался в ополчение.
Затащив добычу в заброшенный дом, тень сняла с убитого меч и латы, а тело решила закрыть в одной из комнат, чтобы не добрались бродячие псы. Конечно, это нельзя было назвать достойным погребением, но Арис не боялся, что мертвец придёт к нему во сне жаловаться. Ты можешь не бояться видений, если сам – тень, ведь тени с видениями в очень близком родстве.
И всё же что-то заставило передумать. Уже сложив доспехи и меч в мешок, найденный неподалёку, Арис стоял над мертвецом, раздумывая, нужно ли накрыть тело чем-нибудь или оставить, но вдруг мертвец, который даже не имел лица, потому что оно было залито кровью, начал казаться Арису недовольным. Мертвец как будто говорил, что вещи, снятые с него, принесут новому владельцу удачу, только если погребение будет совершено как положено.
Вспомнился другой мертвец – старик, зашитый в старую верблюжью шкуру. Тот был в итоге похоронен достойно. А чем этот хуже? Ведь требуется не так уж много усилий, но зато будет уверенность, что доспехи и меч не подведут.
Арис вздохнул, раздобыл в комнатах простыню, завернул в неё тело, как в саван, взвалил на плечи и понёс. Доспехи пришлось оставить, но клинок оставлять было жалко. «Если я по возвращении не найду мешок, то хоть что-то останется при мне», – решила тень, препоясалась мечом и побрела с ношей на плечах по улице в сторону ближайшей церкви.
«Судя по доспеху, ты католик, – мысленно обращался Арис к мертвецу, – но я не могу устроить тебе католическое погребение. Я не похож на католика. Как я объясню, почему мне нужно тебя похоронить? Если приду с твоим трупом к воротам католического храма, это сочтут странным. А вдруг кто-нибудь решит, что это я тебя убил? Зато православным я знаю, что сказать. Так что придётся тебе упокоиться как ромею».
Ближайшая православная церковь оказалась монастырской. Ворота ограды были открыты, поэтому Арис решился войти. Попавшемуся навстречу монаху он рассказал историю, которую придумал с самого начала: дескать, помогите похоронить старшего брата. А теперь Арис приправил её новыми подробностями, сказав, что они вдвоём с братом нарочно приехали в город, чтобы помочь защитить столицу истинной веры от нечестивцев, но заниматься похоронами совсем некогда:
– Брат погиб, и теперь я должен занять его место на стенах.
Эту же историю пришлось повторить для настоятеля, который охотно поверил. Правда, деньги за погребение всё же взял. Арис надеялся, что будет иначе, но зато вышел за ворота монастыря с чистой совестью. Лишним подтверждением, что мертвец доволен, стало то, что мешок с доспехами, оставленный в доме, никуда не делся.
Теперь Арис почти не сомневался, что сможет носить доспехи «брата» так спокойно, как будто придуманная история – чистая правда. По ночам, надевая доспехи, он часто отваживался подниматься на стену, но всё же старался не показываться на глаза дозорным. Возле Малого Влахернского дворца стену обороняли венецианцы, а Арис не знал их языка. Если бы фальшивого дозорного окликнули, он не смог бы ответить ничего вразумительного.
Тень поначалу почти не отходила от лестниц, позволявших спуститься со стены на мостовую улицы, тянущейся вдоль укреплений. Даже если обнаружат, ночью можно было легко скрыться в лабиринте переулков, но с каждым разом тень всё реже вспоминала об этом, становилась смелее и смелее.
Арис условился с турецким господином, что после начала осады будет каждую четвёртую ночь или чаще давать знать о себе через записки. Привяжет записку к стреле, проберётся на западную стену возле Харисийских ворот, или, как их ещё называли, Адрианопольских, а затем выстрелит так, чтобы стрела упала на дорогу, ведущую в турецкую столицу.
Так Арис передал сведения о том, что защитников очень мало – всего несколько тысяч – и что их с трудом хватает, чтобы приглядывать за стенами, длина которых очень велика. Если заставить защитников скопиться в одном месте, то остальную часть стен оборонять стало бы некому.
Таким же образом он рассказывал о настроениях в городе, об открытых распрях между католическим и православным духовенством, а также о скрытой вражде между ромеями и итальянцами, то есть венецианцами и генуэзцами.
Особенно внимательно тень следила за предводителем генуэзцев, который пользовался особым доверием василевса и потому вместе со своими несколькими сотнями воинов защищал самый важный участок западных стен – между Шестым и Седьмым холмами. Там под стену ныряла речка Ликос, из-за чего укрепления считались уязвимее.
Разумеется, тень сообщила об этом обстоятельстве запиской на стреле, и записка, судя по всему, возымела действие, ведь турецкие пушки вскоре начали обстреливать этот отрезок стены сильнее, чем прежде.
Предводитель генуэзцев в свою очередь забеспокоился. Он относился к своим обязанностям так внимательно, что даже ночью, когда все бреши, появившиеся за минувший день, были уже заделаны и наибольшая часть воинов отправлялась спать, этот человек ходил по стене и проверял, всё ли в порядке. Когда он доходил до границы своего участка стены с северной стороны, то часто переговаривался с венецианцами, которые защищали северо-западный угол возле Влахернского квартала.
Из этих бесед тень почти ничего не понимала. Оставалось только надеяться, что предводитель генуэзцев будет прогуливаться по стене вместе с кем-нибудь из ромеев. Из уважения к собеседнику генуэзец часто переходил на греческий, причём говорил с ромеями весьма охотно, даже рассказывал о своих беседах с василевсом.
Подслушивать было удобно, и даже надевать латы не требовалось, ведь именно в этой части города рядом со стеной проходила улица. Можно было тихо идти вдоль укреплений и следить за ходом беседы, потому что в ночной тишине хорошо различалось большинство слов. И вот однажды апрельской ночью тень, в темноте следуя за собеседниками, услышала, как к предводителю генуэзцев, занятому разговором с ромеем, кто-то подошёл и тихо передал некую весть.
По тому, как внезапно генуэзец прекратил беседу и быстро направился по стене на север вместе с вестником, тень сразу поняла, что произошло нечто важное. Надо было проследить!
Прячась во мраке и ступая совсем неслышно, тень обнаружила, что генуэзца отвели в квартал, где жили венецианцы. Посреди квартала стоял католический храм, чьи главные двери выходили на небольшую площадь. Судя по тому, что во многих окнах храма был виден свет, там собралось много людей, и именно туда ввели предводителя генуэзцев.
Получалось, венецианцы пригласили его на некое важное собрание, но узнать подробности тень не могла. Возле главных дверей стояла стража, и с других сторон церкви было никак не подступиться, потому что там на улице тоже стояли люди и охраняли.
Тень кусала губы от досады и не хотела себя оправдать даже тем, что итальянского языка всё равно не понимает. Даже если бы удалось подслушать, вряд ли бы что-то прояснилось.
«Нет, – мысленно твердил Арис, – всё равно можно было бы догадаться. По жестам или упомянутым именам…» Он уже совсем отчаялся, но всё же не решался уйти, а меж тем заседание подошло к концу. Главные двери открылись… и вдруг из них вышел тот, кого юноша-тень совсем не ожидал увидеть. Это был сам василевс! А рядом – предводитель генуэзцев.
Венецианцы, вышедшие из дверей вслед за ними, раскланялись и распрощались с этими двумя, а затем василевс и генуэзец двинулись по улице пешком. Судя по всему, даже василевс был вынужден прибыть на эту тайную встречу безлошадным, потому что стук копыт по мостовой в ночном городе перебудил бы половину квартала.
Тень неслышно двинулась следом, всё так же прячась во мраке. Её не смущала ни охрана василевса, ни человек, сопровождавший предводителя генуэзцев. Звук их шагов был не так громок, чтобы полностью заглушить беседу, которой следовало ожидать.
Некоторое время василевс и генуэзец шли молча, но постепенно разговорились. Генуэзец из уважения к собеседнику, конечно, говорил по-гречески, поэтому тень воспрянула духом и старалась ловить каждый звук.
О том, что обсуждалось на тайной встрече, громко не говорят, но в ночной тишине тень всё же расслышала три важных слова, прозвучавшие довольно громко из-за того, что звук отражался от мостовой и каменных стен. Было сказано: «турки», «корабли», «огонь». И вот почему ещё до наступления утра тень пробралась на западную стену, чтобы отправить послание своему турецкому господину: «Франки, которые находятся в городе, хотят неожиданно напасть на наш флот в заливе и сжечь. Будьте настороже».
Дозорные, уставшие за ночь, почти спали, поэтому не заметили, как некий латник пробрался на стену рядом с Адрианопольскими воротами и выстрелил в ту сторону, куда уходила едва видная в потёмках дорога.
* * *
Сказки, рассказываемые самому себе, могут быть опасными. Шестнадцатилетний Шихаб, часто представляя себе беседу Искендера и Багоя, так увлёкся этой придуманной жизнью, что настоящая становилась всё более и более противна. Вернулись мысли о смерти, которые, казалось, оставили его. Зачем продолжать существование, которое мерзко и бессмысленно?
Тоска по родным тоже давила, стала сильнее, чем прежде, потому что Шихаб больше не мог видеться с матерью даже тем странным способом, изобретённым во время обучения на виночерпия, – не мог притворяться ею и видеть её присутствие в глазах окружающих людей.
Так же обстояло дело и с сёстрами, а когда Захир требовал изобразить женщину, Шихаб, конечно, показывал хозяину не их. Евнух изображал ту неблагодарную служанку господина Алима, на которую злился до сих пор. «Она заслужила такого испорченного господина, как Захир», – думал евнух и потому притворялся весьма старательно. У него даже появилась женская одежда для таких случаев, накладные косы, а также чёрная краска для глаз и румяна. Чем больше сходство, тем лучше!
Евнух улыбался фальшивыми улыбками и клянчил подарки – делал так, как делала бы та, кому он подражал. Но если выклянчить удавалось, чувствовал себя ещё более мерзко, чем тогда, когда не удавалось. Именно поэтому Шихаб стремился к тому, чтобы проиграть в своей игре. Клянчил всё больше и хотел, чтобы подарки становились всё дороже. Евнух полагал, что чем невыполнимее просьба, тем вероятнее отказ, однако это правило почему-то действовало далеко не всегда.
Ах, если бы евнухи были действительно бесстрастны, как легка была бы их жизнь! Если бы Шихаб не злился на ту неблагодарную служанку, которая, конечно, давно забыла о нём, он не совершил бы огромную ошибку.
Однажды, явившись к господину изображать женщину, Шихаб увидел на крышке сундука небольшую коробочку, почему-то оставшуюся неубранной, и раз уж женщина по природе отличается любопытством, в коробочку следовало заглянуть. Там оказались очень дорогие серьги.
– Это мне? – лукаво спросил евнух у господина, но услышал твёрдое «нет».
Вне всякого сомнения, эти серьги Захир купил для жены, которая в очередной раз выказала недовольство своим непутёвым мужем и грозилась пожаловаться отцу. Такой красивый и дорогой подарок в сочетании со словами любви обязательно должен был заставить недовольную смягчиться. И примирение было просто необходимо. Евнуху не следовало даже думать о том, чтобы выклянчить этот подарок для себя. Захир ни за что бы не согласился, пока в нём сохранялась хоть капля разума. А если бы евнух принялся настаивать, то получил бы строгий окрик. И именно поэтому Шихаб принялся настаивать.
Евнух «выступил в поход на сердце своего господина». Осторожно вёл наступление, используя оружие женских чар, и отступал, когда натыкался на стену раздражения. Выждав, снова наступал.
Шихаб был бы только рад в итоге поссориться с господином, заплакать, но когда уже пролились первые капли – он играл очень увлечённо! – недоступный подарок вдруг оказался у него в руках:
– Ну хорошо-хорошо. Возьми. А для жены куплю другие.
Шихаб даже растерялся поначалу: «Как же так? Неужели господин совсем лишился разума?» Пожалуй, от такого беспутного человека, как Захир, по нескольку раз на неделе устраивавшего пьяные застолья в своём доме, следовало ожидать чего-то подобного. Но вот чего евнух уж точно не ожидал, так это того, что буря разразится так скоро и накроет всех.
Следующим вечером евнух, находясь в своей комнате, готовился к тому, чтобы развлекать гостей на очередной пирушке, и настраивал саз, когда дверь резко распахнулась. На пороге появился очень строгий пожилой мужчина, одетый очень богато. Шихаб поспешно поднялся и поклонился.
– Вот он! – послышался жалобный возглас Захира. – Из-за него все мои несчастья! – Однако через мгновение стало ясно, что обращался Захир не к своему виночерпию, а к незнакомому пожилому человеку. То есть причиной своих несчастий назвал не незнакомца, а «любимого друга», Шихаба.
Евнух уже начал догадываться, что происходит, когда незнакомец гневно произнёс:
– Собирайся, виночерпий. Больше ты сюда не вернёшься.
Ну конечно же, строгий пожилой мужчина был не кто иной, как тесть Захира! Жена, вовремя не получив подарка, который мог бы предотвратить неприятности, пожаловалась на мужа своему отцу, и отец явился в дом непутёвого зятя, чтобы разом покончить с главной причиной жалоб, то есть с Шихабом.
«Вот и всё. Настал конец моей никчёмной жизни», – подумал Шихаб, вспомнив, что на евнухов не распространяются многие запреты, касающиеся людей. Убить евнуха – не грех, ведь это не убийство человека.
Чем меньше у тебя имущества, тем легче попасть в рай после смерти – так говорил Посланник Аллаха. Вот почему первым делом Шихаб, отложив саз, подошёл к шкатулочке, где хранились подарки от Захира. Евнух разом схватил все драгоценности, а затем осторожно приблизился к разгневанному незнакомцу и отдал их ему. Тот принял, ссыпал себе в кошелёк, и это только укрепило Шихаба в мысли, что надо ждать скорой смерти. После этого евнух быстро связал в узел ту одежду, которую не мог надеть прямо сейчас, взял узел в левую руку, в другую – саз и кивком дал понять незнакомцу, что готов идти.
Очень скоро Шихаб вслед за тестем Захира вышел на улицу. Уже стемнело, в окнах зажглись огни, но богатому человеку можно было не опасаться ночных грабителей, потому что его сопровождала большая и хорошо вооружённая охрана.
«Вот кто меня убьёт, – подумал евнух, глядя на эту охрану. – Зарубят мечами и кинут в глухом переулке. А затем изломают саз и кинут рядом». Однако тесть Захира, направившись куда-то вместе со своими людьми и с евнухом, вовсе не спешил свернуть в глухой переулок, двигался по широкой улице.
Наконец все остановились возле ворот в высокой каменной ограде, окружавшей некий большой дом. Охрана осталась снаружи, а тесть Захира и Шихаб вошли во двор и дальше – в просторную, хорошо освещённую комнату для приёма гостей.
Евнух никогда не бывал здесь, но что-то в обстановке и в поведении слуг, смотревших на виночерпия с сочувствием, показалось смутно знакомым. Неужели это был дом местного работорговца? Сомнения отпали, когда хозяин дома, упитанный седобородый араб, оглядел Шихаба с головы до ног так, как будто оценивал товар. Работорговец и его богатый гость кратко поприветствовали друг друга.
Оба расположились на софах возле маленького круглого столика, на котором через минуту оказался широкий поднос с чаем и сладостями, а когда слуга, принёсший всё это, удалился, гость заговорил о деле:
– Почтенный, ты давно знаешь меня, поэтому не станешь думать, что я хочу тебя обмануть. Я готов продать тебе этого раба, – он указал на Шихаба, продолжавшего стоять посреди комнаты, – почти не торгуясь, если ты обещаешь мне, что в скором времени перепродашь его подальше отсюда. Лучше всего, если отвезёшь его в соседние земли.
– Чем же этот раб так провинился, что его хотят продать, но не хотят наказать по всей строгости? – осведомился покупатель.
– Прости, почтенный, но я не скажу тебе этого, – ответил тесть Захира. – Скажу лишь, что я, если бы мог, приказал бы всыпать палок не этому рабу, а кое-кому другому. А раз это невозможно, незачем понапрасну портить дорогой товар. Если ты согласен, назови свою цену.
Сделка была заключена необычайно быстро – менее чем за полчаса. Так Шихаба снова продали, но ещё до того, как продавец и покупатель пришли к окончательному согласию, евнух придумал, как самому извлечь выгоду из происходящего, то есть изменить свою жизнь к лучшему.
Поняв, что никто не собирается его убивать, Шихаб спокойно стоял посреди комнаты и слушал, как работорговец жалуется:
– Товар хороший, но не слишком свежий. Ему уже семнадцать лет. Много. Я едва ли смогу продать его с выгодой для себя, если цена останется прежней.
Вот почему, как только тесть Захира покинул дом, евнух поспешил обратиться к работорговцу:
– Господин, ты заключил более выгодную сделку, чем думаешь. Человек, который меня тебе продал, не всё обо мне знает.
– И что же он не знает? – заинтересованно спросил работорговец.
– До того, как стать виночерпием, я три года был домашним слугой. Слугой в покоях господина. И делал всё очень хорошо. Если ты продашь меня не как виночерпия, а как слугу, то выручишь за меня гораздо больше.
– А почему же ты перестал быть слугой? – с некоторым подозрением спросил работорговец, но Шихаб, конечно, не собирался рассказывать, что украл деньги и сбежал.
– Когда я был слугой в личных покоях, мой господин разгневался на меня, потому что я хорошо служил не только ему, но и его молодой жене, – многозначительно произнёс евнух и скорбно вздохнул.
Проверить истинность рассказа у работорговца не вышло бы. И даже если бы он решил навести справки в школе виночерпиев, где знали о прошлом Шихаба, ничего бы это не изменило. «Меня обвинили в краже денег, потому что рассказ о настоящем моём проступке стал бы большим позором для моего хозяина», – спокойно и уверенно мог бы ответить Шихаб.
– Так уж вышло, – с глубоким сожалением в голосе рассказывал Шихаб своему нынешнему владельцу, – что тот мой господин, взяв себе молодую жену, не рассчитал сил. Она была недовольна мужем. Когда он приходил, то всё заканчивалось очень быстро. Прежде, чем она успевала в полной мере понять, что происходит.
Работорговец захохотал, поэтому Шихаб вздрогнул. Ему представился хохочущий Фалих, которого никогда не удавалось обмануть. Однако нынешний работорговец смеялся не насмешливо, он верил рассказчику:
– Но как же ты служил госпоже, евнух? Или тебе отрезали не всё?
– Руки мне никто не отрезал, – с нарочитым смущением произнёс Шихаб и обнял свой саз, который всё так же был при нём. – Сначала она требовала, чтобы я сам надевал на неё те подарки, которые приносил ей от господина. Позднее стала требовать, чтобы я обнимал и целовал её от имени своего господина. А ещё через некоторое время… Скромность велит мне умолкнуть. Скажу лишь, что однажды господин застал нас за этим занятием. Сначала собирался меня убить, но затем решил, что незачем терять деньги, и решил наказать меня иначе, сказал: «Ты хотел притворяться мужчиной, а придётся быть женщиной». Вот так я и стал виночерпием.
Работорговец продолжал смеяться, но теперь от удовольствия. Он явно был согласен, что нового раба надо перепродать именно как слугу, а не как виночерпия. Шихаб, сохраняя виноватое выражение лица, в сердце тоже веселился. Он покончит с унизительным ремеслом и сможет снова занять достойную должность личного слуги!
Позднее, когда евнух оказался в Турции и стал слугой в личных покоях Мурата, отца нынешнего султана Мехмеда, то однажды поймал на себе подозрительный взгляд.
– Ты красиво наливаешь вино, Шехабеддин, – сказал Мурат, глядя, как евнух сидит на пятках и наполняет из кувшина пиалу, стоявшую на низком круглом столике. Бывший виночерпий обращался с кувшином легко и непринуждённо, будто играл. – Никогда не видел такого умения у слуг. Даже у тех, что прислуживают за трапезой, – заметил Мурат, который, конечно, знал, что есть виночерпии, развлекающие собрание.
Однако Шехабеддин, нарочито смутившись, сделал вид, что не понял намёка:
– Благодарю, повелитель. В доме работорговца, где я обучался быть слугой, всех учили так разливать вино, и в этом умении я стал одним из лучших.
Помнится, в конце того же дня, когда Мурат произнёс похвалу, Шехабеддин, лёжа на своём тюфяке в общей спальне для султанских слуг, представил очередной разговор Искендера с Багоем.
Ничто не мешало рисовать картины в мечтах, ведь масляные лампы уже не горели, комната погрузилась во тьму, и лишь слышно было, как кто-то укладывается поудобнее, укутывается покрывалом, а в воображении Шехабеддин видел обширную залу для пиршеств, освещённую множеством огней. Праздник уже заканчивался. Многие гости спали прямо на пиршественных ложах возле столов, но Искендер не спал. Сидя во главе собрания, он подставлял чашу Багою, который умело наполнял её вином из кувшина.
– Господину понравилось, как я танцевал сегодня? – вкрадчиво спрашивал Багой на языке румов, хоть и коверкая слова. – Я видел, что твои гости были довольны, но господин никак не показал своего одобрения.
– Твой танец был красив, – спокойно отвечал Искендер, – но я предпочёл бы, чтобы ты вместо танцев научился чему-то другому.
Багой огорчённо потупился. Своим танцем он хотел порадовать Искендера, отблагодарить за полученную свободу, а теперь оказалось, что эта благодарность неугодна. Багой не понимал, что от него хотят, но тут почувствовал, как рука Искендера взяла его за подбородок и заставила снова поднять голову.
Искендер ободряюще улыбнулся Багою, так что сердце недавнего раба затрепетало от радости, и сказал:
– Я думаю, мне нужно дать тебе должность. Но не во дворце, а в войске.
– В войске? – Багой растерялся. – Но я ничего не знаю о войне. Надо мной будут смеяться.
– Не посмеют, – ответил Искендер. – Я лично послежу за этим.
– А если я не справлюсь с обязанностями, господин? – прошептал евнух, но ободряющий взгляд Искендера развеивал сомнения лучше, чем тысяча слов:
– Да, тебе будет трудно, но в то же время легко. В войске ты поймёшь, что значит быть человеком, а во дворце можешь так никогда и не научиться этому.
– Поэтому господин не хочет давать мне дворцовую должность?
– Да. А ещё потому, что я собираюсь в поход в земли Хинду14 и хочу взять тебя с собой.
Шехабеддин представлял, как воодушевило Багоя это известие. Наверняка наедине с собой тот радовался куда больше, чем в присутствии Искендера. В присутствии господина бывший раб просто не посмел бы проявить всю свою радость. Но больше всего Шехабеддину нравилось думать о том, что беседы Багоя с Искендером, которые рождались в воображении, не пустые сказки. Искендер действительно дал Багою должность в войске. Об этом Шехабеддин узнал от дворцового библиотекаря, с которым в свободные минуты вёл пространные разговоры о книгах, а библиотекарь любил поговорить. Библиотекарь показал Шехабеддину сочинение одного автора, написанное на языке румов15, и там среди прочего рассказывалось, как Искендер, находясь в землях Хинду, приказал, чтобы его люди снарядили за свой счёт корабли для речного флота – сотни судов. А одно такое судно построил и командовал им в плавании «перс Багой, сын Фарнуха».
* * *
Чем больше Мехмед смотрел на Шехабеддина-пашу, тем больше убеждался, что перед ним не комнатный слуга. В военном лагере евнух чувствовал себя так же привычно, как в дворцовых покоях.
Казалось, что боевая музыка, а также грохот пушек, отрывистые команды начальников, ржание коней, скрип походных телег и рёв волов нравятся ему даже больше, чем песни и игра придворных музыкантов. Да и в шатре Шехабеддину как будто веселее жилось, чем в городском доме. А когда надо было куда-то отправиться, тот вскакивал в седло и разъезжал по пыльным или слякотным дорогам с не меньшим достоинством, чем прежде, когда ходил по полу, начищенному до блеска, или по выровненной садовой дорожке.
Судя по всему, именно Заганос научил Шехабеддина быть воином. Кто же ещё? Мехмед был почти уверен в этом. Без своего друга евнух вряд ли научился бы любить походную жизнь, хотя при отце Мехмеда часто исполнял обязанности военачальника в мелких войнах с франками, на севере. «Командовать войсками можно, даже сидя в носилках, – думал султан. – А вот самому стать воином – только если сердце к этому стремится или если твой друг – воин, а ты хочешь быть рядом с ним».
Глядя на Шехабеддина и Заганоса, Мехмед временами завидовал им. Этих двоих связывала истинная дружба. Им посчастливилось не только повстречаться в этом огромном мире, но и сохранить дружбу на много лет.
Особенно важным казалось Мехмеду, что между Шехабеддином и Заганосом не было соперничества. Ни один не стремился выбиться вперёд, оттеснив второго себе за спину, как это нередко бывает между друзьями. Каждый знал свои слабые стороны и не стыдился получить от товарища совет и помощь в делах, в которых товарищ более силён и сведущ. Принятие помощи не означало, что кто-то теперь первый, а кто-то отодвинут на менее почётное место.
Мехмед помнил, как евнух, старающийся сохранять внешнюю невозмутимость, но на самом деле очень довольный, принёс в шатёр своего повелителя стрелу с запиской и доложил:
– Я получил из города весть от своего человека, находящегося там. Франки, союзники румов, хотят неожиданно напасть на наш флот в заливе и сжечь.
Юный султан сначала забеспокоился и не понял, почему Шехабеддин так доволен:
– Что? Надо немедленно отправить Заганосу-паше распоряжение, чтобы держал наготове пушки, которые поставлены на берегу.
– Повелитель, Заганос-паша с минуты на минуту узнает о намерениях наших врагов. – Евнух сделался ещё более довольным. – Я отправил ему гонца, а сам поспешил к тебе. Всё будет хорошо. Нас не смогут застать врасплох. Наши враги будут посрамлены.
– Если так и случится, я тебя награжу, – сказал Мехмед, но Шехабеддин с поклоном ответил:
– Нет большой заслуги в том, чтобы узнать намерения врага, которые предсказуемы. Заганос-паша с самого начала, как только наш флот оказался в заливе, ожидал, что будет нападение. И расставил дозоры. В письме Заганосу-паше, которое дано гонцу, я сказал: «Догадка верна». Пусть лучше Заганос-паша получит мою часть награды, а я доволен уже тем, что смог послужить для исполнения замыслов моего повелителя.
Мехмед нисколько не сомневался, что на самом деле евнух рад помочь Заганосу, а уж затем – своему повелителю. Но разве можно было винить одного из старых друзей за то, что он стремится помочь второму.
Нападение на флот случилось через четыре дня16, и в итоге франки действительно оказались посрамлены. Они думали, что под покровом ночи смогут подобраться к турецким кораблям незаметно, но дозорные Заганоса не смыкали глаз и увидели движение тёмных силуэтов по воде.
Заганосу пришлось стрелять почти вслепую, и всё же ядра попали в цель. Аллах пожелал, чтобы правоверные отомстили неверным за два предыдущих унизительных поражения. В предрассветной мгле было видно, что одно из франкских судов начало быстро погружаться под воду, а остальные с позором отступили.
Два больших франкских корабля замешкались, поэтому турецкий флот попытался захватить их, и пусть из этого ничего не вышло, ведь корабли франков по-прежнему были подобны слонам, но «слоны» убегали в страхе.
В честь такого события Мехмед устроил пир и при всех похвалил Заганоса за успехи, однако Заганос стал говорить, что без сведений, полученных от Шехабеддина, успехов могло и не быть:
– Гораздо легче искать товар на рынке, когда точно знаешь, что товар уже завезён.
Мехмед одобрительно улыбнулся, но сам вдруг расхотел радоваться и веселиться. Опять почувствовал зависть. Ведь он, несмотря на все советы Шехабеддина, так и не смог найти себе такого друга, с которым не было бы соперничества и споров. «Ты должен держать своё сердце открытым, и друг появится», – говорил евнух. И что же? Заганос и Шехабеддин вкушали плоды крепкой дружбы, а их повелителю только и оставалось, что завидовать.
Мехмед думал, что истинным другом всегда будет учитель – тот рум, который преподавал ему язык румов, прививал любовь к румам и непоколебимо верил в великое будущее своего ученика. Тот рум, который сочетал в себе красоту и мудрость и которого хотелось слушать, как пророка.
Почти пять лет между учителем и учеником царило полное согласие – пока ученик не вырос и не настало время изменить отношения, которые бывают между старшим и младшим. Ученик начал действовать в соответствии со своими убеждениями, иногда даже не спрашивая совета.
Мехмед готов был слушать учителя, доказывать, что прав, но даже если не мог доказать, то не отступался от задуманного, а руму следовало просто смириться. Но рум не захотел смириться, а вместо этого сказал:
– Я больше не нужен тебе, мой мальчик. Ты повзрослел и больше не нуждаешься в наставнике. Отпусти меня.
Мехмед не мог поверить ушам, когда впервые услышал такое. Как же отпустить? Почему? Почти пять лет он считал учителя другом, который будет рядом всегда. Истинным другом, чья любовь подобна роднику, который не иссякнет, и вот обнаружилось, что с родником что-то не так.
Вокруг Мехмеда было очень мало тех, чья любовь безусловно искренняя, и потому он дорожил каждым источником такой любви. А чувство учителя казалось самым сильным, потому что между учителем и учеником возникает особая связь, которая крепче обычной дружбы. К тому же рум говорил Мехмеду: «Ты мой лучший ученик. Более способного воспитанника, чем ты, у меня не было. И наверное, не будет». Для преподавателя это очень серьёзно. Самый способный ученик всегда самый любимый. Такую находку не бросают на дороге, чтобы дальше идти налегке!
И вот всё изменилось. Учитель начал тяготиться своим учеником, и это было очень неприятное чувство, от которого Мехмед старался отмахнуться, но не получалось, потому что наставник снова и снова заводил речь о расставании:
– Я больше не нужен тебе. Позволь мне уехать.
– Нет! Ты мне нужен. Я лучше знаю свои чувства, – возражал Мехмед, но к установлению согласия это не приводило.
А затем наставник прямо объявил, что намерен уехать следующим утром. Он, конечно, рассчитывал, что ученик не посмеет препятствовать. Этот рум надеялся, что всё ещё наделён правами старшего. Старшему не препятствуют из уважения, а вот равного можно остановить. И султан решил остановить. А иначе для чего нужна власть?
Мехмед не мог просто запереть учителя во дворце, ведь тогда учитель перестал бы любить своего ученика. На смену привязанности неминуемо пришла бы ненависть, поэтому султан призвал Шехабеддина-пашу и сказал, что наставник должен умереть.
Решение пришло как-то очень легко. Так же легко, как для раненого льва, который впадает в ярость и убивает своих обидчиков. Боль заставляет его быть жестоким, а Мехмеду было больно оттого, что учитель решил его оставить. Хотелось наказать обидчика, но Мехмед продолжал его любить и потому не хотел казнить. Он объяснил Шехабеддину, что смерть нужна чистая, то есть бескровная. В таких случаях обычно применялось удушение.
– Всё должно совершиться не позднее следующего утра, – сказал тогда султан. – Мой друг должен умереть прежде, чем покинет меня. Покинув меня, он тем самым совершит предательство, а я не хочу такое допускать. Пусть он будет достоин почётного погребения.
Мёртвые не меняют своих чувств и остаются с живыми до тех пор, пока живые сами не пожелают отпустить своих мертвецов, позволить уйти в туман забвения. И Мехмед вот уже два года никуда не отпускал своего наставника, вёл с ним мысленные беседы, спорил. Пусть такие беседы не могли заменить живого человека, но это было гораздо легче, чем жить с обидой на то, что тебя бросили, и думать, что наставник где-то далеко нашёл себе другого ученика и, возможно, теперь считает лучшим того, нового.
И всё же Мехмед иногда спрашивал себя, правильно ли поступил. Мудрый Шехабеддин знал, что так будет, и потому, услышав приказ, пытался отговорить:
– Повелитель, тобой владеет гнев. Не случится ли так, что гнев пройдёт и ты передумаешь? Если к тому времени приказ уже исполнят, это огорчит тебя, а я стремлюсь не огорчать своего повелителя.
Мехмед тогда ответил, что не передумает. Вот почему впоследствии он никогда не рассказывал евнуху о своих сомнениях. Лишь однажды, находясь с ним наедине в султанских покоях, позволил себе вопрос:
– Шехабеддин-паша, скажи честно: ты не начал бояться меня?
– Почему я должен испытывать страх? – с нарочитым вниманием спросил евнух. – Разве я чем-то прогневал своего повелителя?
– Ты задушил моего друга по моему приказу. Ты не боишься, что я против своей воли возненавижу тебя за то, что ты сделал?
– Нет, повелитель. Я этого не боюсь, – почтительно ответил Шехабеддин.
– Почему?
– Потому что я знаю, что ты не похож на своего отца, да простит его Аллах. Случалось, что твой отец в гневе отдавал приказы, которые позднее отменял. И наказывал своих слуг за излишнюю расторопность, если они, следуя приказу, делали что-то непоправимое. Но ты, мой повелитель, не станешь наказывать слугу за то, что твои приказы исполняются. Ты можешь наказать за то, что приказ не исполнен, но за исполнение – никогда. Ты справедлив, как Искендер Двурогий, и за это я люблю тебя так, как только способен слуга и подданный. Невозможно бояться того, кого искренне любишь, повелитель. Поэтому у меня в сердце нет страха перед тобой, а есть лишь почтение.
* * *
Когда Шехабеддин был юн и прислуживал в личных покоях султана Мурата, отца Мехмеда, то считался полезным слугой за своё умение красиво наливать вино. Мурат любил вино и почти всегда держал Шехабеддина рядом в дневное и вечернее время, то есть тогда, когда был относительно бодр и мог оценить красоту движений наливающего.
Мурат, если это происходило не на заседании дивана, даже государственные дела обсуждал за чашей вина. Вот почему евнух находился с ним и в тот весенний день, когда на доклад явился тогдашний великий визир Низамюддин-паша – рассказать о положении в албанских землях, наконец-то завоёванных после нескольких неудачных попыток.
Доклад длился долго, и Низамюддин-паша устал говорить. Вот почему султан как гостеприимный хозяин предложил ему переместиться в комнату отдыха, расположиться на мягких сиденьях, выпить, а затем сыграть партию в шахматы:
– Дела подождут.
Обычно Мурат играл в шашки, но неделей раньше ему прислали в подарок прекрасно вырезанные шахматы. Он решил их опробовать, к тому же зная, что великий визир любит именно эту игру.
Низамюддин-паша действительно любил шахматы, поэтому играл хорошо. К тому же он выпил всего ничего и ум его был абсолютно ясен. Великий визир понимал, что, играя с правителем, лучше проиграть, и старался поддаваться, но выигрывал почти против воли. Султан досадовал, а Шехабеддин, неподвижно сидя на пятках возле дверей и ожидая знака наполнить пиалу, вдруг испытал непонятную тревогу, словно сейчас должно произойти нечто очень важное – такое, что изменит всю его жизнь.
Кто-то будто шепнул на ухо: «Сейчас султан сделает знак налить вина. Ты подойдёшь с кувшином, а когда пиала наполнится, тихо скажешь султану, что знаешь, как выиграть». Неужели это шепнул ангел по велению Аллаха? Совет, данный неизвестно кем, казался странным, ведь хозяева не любят слишком умных слуг, но сейчас, судя по всему, слишком умным казался великий визир, и именно его султан был бы не прочь проучить.
Шехабеддин не успел об этом основательно задуматься, увидев, что господин протянул в его сторону пустую пиалу и встряхнул ею, что означало: «Подойди и налей».
Евнух подошёл, наполнил пиалу Мурату и тихо сказал:
– Повелитель, я знаю, как выиграть, – хотя со своего места у дверей плохо видел доску, стоявшую на столике между двумя мягкими сиденьями, тянувшимися вдоль стен и сходившимися в углу. Шехабеддин судил о течении игры больше по поведению игроков, чем по положению фигур, и, лишь наливая вино, получил возможность взглянуть на доску поближе.
Мурат меж тем, приняв поданную пиалу, недоверчиво посмотрел на Шехабеддина. Он ожидал обещанной подсказки, а евнух, снова глянув на доску, понял, что положение фигур султана и впрямь небезнадёжно. Шехабеддин предложил, как сделать следующий ход, а султан с таким же недоверием сделал знак: «Моя шахматная армия в твоём распоряжении». Тогда евнух, сев на ковёр возле доски, стал играть вместо султана, и по мере того как выправлялось положение султанской шахматной армии, лицо повелителя всё больше светлело.
Играть было нелегко, потому что Низамюддин-паша перестал поддаваться. Одно дело – проиграть султану, и совсем другое – слуге султана, но Шехабеддин выиграл.
– В самом деле знал, как победить! Значит, не обманул меня, – засмеялся Мурат и добавил, повернувшись к великому визиру: – Послушай-ка, Низамюддин-паша, я знаю, кого мы назначим начальником над албанскими землями.
Великий визир, услышав это, замер от удивления. Придя в себя, он с сомнением посмотрел на недавнего противника, только что радовавшегося победе, а теперь растерянного.
– Это его мы назначим?
– Да, – всё так же веселился Мурат. – Он, как оказалось, не только вино наливать умеет. Если он обыграл тебя, значит, может верно оценить противника и обдумывать ходы заранее. Этот евнух вполне годится для такой должности.
Должность предусматривала командование войсками. А султан решил назначить на неё того, кто умеет командовать лишь шахматной армией. Шехабеддин даже оружием в то время не умел пользоваться. Зачем это умение комнатному слуге? Выбор был весьма странным, хотя загадочным образом перекликался с мечтами евнуха, но мечты оставались тайной для всех.
Неудивительно, что Низамюддин-паша подозревал в словах султана шутку. Шехабеддин тоже подозревал, однако оказалось, что всё очень серьёзно. Султан велел позвать секретаря, чтобы составить письменный приказ. Евнуха, который до этого являлся рабом, освободили и назначили на должность, за исполнение которой полагалось жалованье. Часть жалованья полагалось выдать немедленно, чтобы новый чиновник приобрёл себе подобающую одежду, коня и всё, что может понадобиться в дороге, а также нанял слуг.
Когда Шехабеддин услышал сумму жалованья, то не поверил ушам. Ему как будто слышался смех работорговца Фалиха, уверенного, что евнух заслужит всё это только к старости. А впрочем… прошло десять лет. Именно о таком сроке говорил работорговец, а Шехабеддину исполнилось всего двадцать два года. «Может быть, мне ещё не поздно найти мать и сестёр? – подумал он. – Что, если Фалих всё же вспомнит? Ведь теперь ему это выгодно. И не важно, что он говорил прежде».
На этот раз Шехабеддин отправился искать посредника не в чайхане, а на рынок – в ту его часть, где продавали рабов. Там не составило труда навести справки, кто из работорговцев имеет связи с Багдадом. И вот вечером того же дня евнух, немного растерянный, но в то же время уверенный в своём праве, оказался гостем в доме работорговца – такого же, как Фалих, но не араба, а турка.
Шехабеддин рассказал этому человеку свою историю, чем немало удивил, но тут же пресёк все подозрения словами:
– Если господин сомневается, то может справиться обо мне в дворцовой канцелярии. Там скажут, кем я был и кем стал по воле моего мудрого и великодушного повелителя, да воздаст ему Аллах благом.
Шехабеддин сказал, что желает выкупить из рабства мать и сестёр или хотя бы выяснить их судьбу. Заверил, что готов возместить все расходы, так как сам, увы, не может заняться поиском. Он по долгу службы очень скоро отправится в Албанию, в город под названием Гирокастра, и будет ждать вестей там.
Выйдя на улицу после разговора, Шехабеддин чувствовал всё ту же растерянность и непонятную внутреннюю дрожь. Он как будто не верил, что всё наяву. Не верил, что его не обозвали лжецом, не обвинили в воровстве, не схватили и не потащили во дворец. Работорговец взял деньги «за розыск», выдал евнуху расписку в получении и обещал не позднее чем через четыре месяца письменно сообщить о результатах.
«Работорговец обошёлся со мной, как с человеком», – сказал себе Шехабеддин, и это было очень странно, непривычно. Однако теперь евнуху следовало беспокоиться не о том, как с ним обращаются работорговцы, а направить все усилия на то, чтобы не потерять приобретённую должность и жалованье, которое к ней прилагалось.
…Шехабеддина радовало то, что он стал свободным и богатым, но совсем не радовала новая жизнь. Евнух слишком хорошо понимал, что назначен на должность по прихоти султана, который не простит ошибок и в единый миг может отнять всё, что дал. А ведь так просто совершить ошибку, когда отправляешься в незнакомый дикий край вроде Албании.
Мурат не был подобен Искендеру, которого Шехабеддин постоянно себе представлял. Искендер не был строг с Багоем и не рассердился бы, если бы Багой по незнанию допустил промахи. С таким господином, как Искендер, евнух, желающий научиться быть человеком, чувствовал бы себя спокойно и уверенно, но, увы, Шехабеддин пока не нашёл своего Искендера. И даже не был уверен, имеет ли смысл искать.
Как бы там ни было, Шехабеддин старался привыкнуть к новому положению и, когда добрался до Албании, уже научился вести себя если не как военачальник, то как вельможа. Это действительно было похоже на перемещение шахматных фигур по доске – следовало отдавать отдельным людям отдельные повеления, но всё время видеть перед собой конечную цель.
Начальнику недавно завоёванных земель следовало добиться там соблюдения турецких законов, но в то же время не вызвать слишком сильного возмущения местных жителей, которое означало бы бунт. И именно об этом думал Шехабеддин, когда в сопровождении секретаря, а также слуг и охраны ехал по горной дороге по направлению к Гирокастре, где находился центр завоёванных албанских земель, то есть новообразованной турецкой области.
И вот, двигаясь по дороге к Гирокастре, Шехабеддин ещё издали увидел, что по обочине шагает некий хорошо одетый человек, препоясанный мечом и держащий в руке копьё, который ведёт в поводу коня. Человек был явно из местных, поэтому евнух, помня о том, что должен завоевать расположение албанского населения, решил показать себя начальником, который внимателен к нуждам людей.
Остановившись возле албанца, который тоже почтительно остановился, Шехабеддин велел секретарю, знавшему албанский язык, спросить, почему надо вести коня в поводу, если можно ехать верхом.
В ответ прозвучало, что конь захромал, и если на нём ехать, то хромает очень сильно, а если вести в поводу, то хромоты почти нет. Албанец надеялся к вечеру довести коня до города, то есть до Гирокастры, а там уже заняться лечением животного.
Ответ прозвучал так, как если бы дело не стоило беспокойства и не требовало сторонней помощи, но Шехабеддин, раз уж остановился ради проявления заботы, решил всё-таки спросить, не нужно ли албанцу чего-нибудь.
Секретарь перевёл вопрос, а когда албанец стал отвечать, в речи вдруг промелькнуло знакомое слово «санджакбей». Именно так по-турецки называлась должность Шехабеддина – начальника области, то есть санджака, – а албанцы, судя по всему, не стали придумывать ей своего названия. Затем прозвучало ещё одно турецкое слово «тимарлы», которым обозначался владелец большого земельного надела, обязанный нести военную службу и подчиняться санджакбею.
По словам секретаря, единственная просьба албанца заключалась в том, чтобы «любезный господин», когда доберётся до Гирокастры, передал «санджакбею», что «тимарлы Заганос» не может предстать перед ним сегодня днём по серьёзной причине, но предстанет вечером и заранее просит прощения за опоздание.
Секретарь перевёл это улыбаясь и тихо заметил:
– Албанский дикарь не знает, что любезный господин – это и есть тот, кому предназначены извинения.
Веселья добавляла и серьёзность Заганоса, хотя любой бы на его месте был серьёзен, ведь на встречи с начальником лучше не опаздывать.
По случаю прибытия санджакбея всем землевладельцам, нёсшим воинскую повинность, приказали к полудню собраться в Гирокастре на смотр. До города, если ехать верхом, оставалось полтора часа пути, и Шехабеддин как раз успевал, а вот Заганос, чей конь захромал в дороге, не успевал никак.
Сознавая это, Шехабеддин развеселился ещё больше своего секретаря и решил поддержать шутку, предложив Заганосу:
– Если хочешь успеть, то возьми коня у одного из моих слуг. Ты поедешь со мной, мой слуга останется с твоим конём и отведёт его в город на мой двор, а вечером придёшь ко мне, и мы снова проведём обмен конями.
Секретарь перевёл, а албанец вдруг произнёс по-турецки, хоть и не очень чисто:
– Благодарю, любезный господин. Но если оставишь на дороге слугу, оставь с ним также кого-нибудь из охраны. Так будет спокойнее и тебе, и мне. Тебе – за слугу, а мне – за коня.
Евнуху показалось, что шутка не удалась, ведь если албанец понимал по-турецки, то мог понять и тихое замечание секретаря о том, что «албанский дикарь» торопится на встречу с тем, с кем уже встретился. Однако Заганос продолжал вести себя свободно, а не так, как полагалось бы в присутствии санджакбея. Даже не постеснялся дать наказ слуге Шехабеддина:
– Веди коня медленно. А если тот станет хромать, дай отдохнуть четверть часа.
Вскоре выяснилось, что албанец понимал только те турецкие фразы, которые сказаны чётко и не спеша, а если говорить тихо и быстро, не понимал ничего. И всё же для местного жителя он владел турецкой речью на удивление хорошо.
– Откуда ты знаешь турецкий язык? – спросил Шехабеддин, который попросил нового знакомого, чтобы на протяжении всего пути ехал рядом.
Тот почему-то смутился:
– От пленных турок. Мой отец не раз участвовал в войнах с Турцией и захватил нескольких пленников. Они были незнатные и не могли заплатить за себя выкуп, поэтому мой отец не стал отпускать их на свободу, а надел на них железо и заставил работать в нашей усадьбе. Рыть канавы, строить ограды, валить лес. Отец велел мне не приближаться к пленникам, но в детстве я был любопытен, мне были интересны эти люди, которые пришли издалека и видели большой мир, которого я не видел. Я пытался расспрашивать их о том, что они видели, и так постепенно выучил их язык.
Шехабеддин слушал спокойно, но Заганос, видя перед собой знатного господина из турецкой столицы, конечно, понимал, как звучит рассказ о пленниках, поэтому, будто оправдываясь, добавил:
– Когда мой отец умер, я в тот же день отпустил их всех на свободу, дал немного денег, новую одежду и запас еды, чтобы все добрались до родных мест. Они поблагодарили и ушли.
– А как давно ты принял ислам? – продолжал спрашивать Шехабеддин, поскольку на голове собеседника был тюрбан – головной убор правоверного.
– Не так давно, – коротко ответил Заганос, который не понимал, зачем его расспрашивают, но благодарность за услугу не позволяла совсем отказаться отвечать.
– Я рад встретить в этой стране доброго человека и к тому же правоверного, с которым могу говорить без толмача. – Евнух с нарочитой приветливостью улыбнулся. – Мне рассказывали, что в здешних краях чужестранцу непросто завести дружбу с кем-нибудь. И что здесь хорошо принимают чужаков только первые три дня, пока считают гостями, а после – гонят прочь.
Заганос тоже улыбнулся, весело и открыто:
– Ты можешь считать другом меня. Ты оказал мне услугу, хотя мог бы не оказывать. Теперь я – твой должник.
– Разве должник и друг – это одно и то же? – с притворным удивлением спросил Шехабеддин.
– Если должник хочет вернуть свой долг, то да, он друг, – ответил Заганос. – А если должник не хочет возвращать долг и стремится избежать этого, то такой должник – враг.
– Интересное суждение, – сказал евнух. – Я запомню его. Но подожди называть меня другом, ведь ты слишком мало обо мне знаешь.
Когда путешественники прибыли в Гирокастру, а точнее – в крепость на вершине горы, Заганосу стало наконец понятно, что последние полтора часа он беседовал с санджакбеем, но Шехабеддину при взгляде на изумлённое лицо албанца почему-то было уже не смешно. Евнух досадовал, что дорожная беседа закончилась, и даже подумал, что следовало прекратить шутку ещё на въезде в Гирокастру и назвать себя.
Смотр, состоявшийся на огромном внутреннем дворе крепости, закончился, все разъехались, а евнух отправился в свой дом в городе. Но никак не мог выкинуть из головы этого простодушного албанца Заганоса, с которым было так приятно говорить, потому что этот человек не прятался за словами, а был открыт. Не то что его собеседник, который нарочно скрыл своё имя и полагал, что это забавно.
Шехабеддину даже захотелось извиниться, но он подумал, что это неправильно. Вышестоящий не должен извиняться перед нижестоящим. «Проклятая должность», – думал евнух, расхаживая по комнатам дома, как вдруг явился слуга и сообщил, что «тимарлы Заганос» просит, чтобы санджакбей принял его.
В комнате для приёма гостей, где состоялась встреча, албанец вёл себя уже не так открыто и свободно, как несколько часов назад, на дороге. Появившись в дверях, Заганос вёл себя осторожно и смотрел не на собеседника, а в сторону:
– Прошу прощения, господин. Я явился, чтобы снова обменяться конями, как ты обещал. Я пошёл на конюшню, но твои слуги не хотят совершать обмен. Сказали, что нужно твоё разрешение.
– И это всё, зачем ты пришёл? – так же осторожно спросил евнух, приблизившись к посетителю и пытаясь заглянуть ему в глаза. – Ты хочешь забрать коня и покинуть мой дом? А как же дружба, которую ты предлагал?
Заганос потупился:
– Господин, теперь мне понятно, о чём ты говорил, когда предупреждал меня, что я не всё о тебе знаю. Ты не станешь дружить с человеком, который настолько ниже. Таких, как я, у тебя много…
– Триста пятьдесят пять, – сказал Шехабеддин, вспомнив число из отчёта, который ему показали перед смотром.
– А санджакбей один, – закончил Заганос, и в его голосе послышалось сожаление.
«Проклятая должность», – снова подумал Шехабеддин. Он хотел быть свободным и богатым, но быть санджакбеем совсем не хотел, ведь эта должность сковывала его по рукам и ногам. Он не мог отправиться на поиски семьи и не мог подружиться, с кем хочется. Однако в следующее мгновение пришла другая мысль: «Нет, я свободен. За мной здесь никто не следит, никто не приказывает. Или я так привык быть рабом, что теперь сам себе стану всё запрещать?»
Сердце вдруг охватила странная тревога – такая же, как в покоях у султана перед тем, как евнух решился играть в шахматы, а в итоге выиграл больше, чем мог представить. Опять возникло чувство, что сейчас должно произойти нечто важное, определяющее жизнь на много лет вперёд. Казалось, что если албанец сейчас уйдёт, а его дружеское расположение окажется потеряно, то это станет такой потерей, которую не восполнить ничем. Но удержать Заганоса можно было лишь одним способом – вести себя, как он, открыто и честно, и тогда Шехабеддин решился.
– Дело не в моей должности, – сказал он. – Ты по-прежнему не всё знаешь обо мне, Заганос. Да, по должности я выше тебя, но кое в чём другом – гораздо ниже. Ты – человек, а я – нет. Я лишь похож на человека. Я – евнух, скопец. Ты понимаешь, что это значит?
Заганос молча кивнул.
– Я был бы рад, если бы ты назвал меня другом, – продолжал Шехабеддин, – но ты должен знать, что обычно с евнухами не дружат. Их используют. Если станешь дружить со мной, многие люди скажут, что ты хорошо устроился и с моей помощью непременно выслужишься. А если ты ответишь им, что сблизился со мной вовсе не ради выгоды, они подумают, что ты либо дурак, либо лжец.
– Но турецкие обычаи допускают дружбу с такими, как ты? Или не допускают? – спросил албанец. – Называть тебя другом для меня унизительно или нет?
Конечно, это обстоятельство являлось для Заганоса очень важным. Он был из тех, кто дорожит своей честью и добрым именем, однако Шехабеддин не смог удержаться от иронии:
– О! Совсем не унизительно. Называть евнуха другом не более унизительно, чем называть другом своего коня или ловчего ястреба. Если ты будешь оказывать им внимание, как лучшим друзьям, есть с ними за одним столом и дарить им подарки, то это сочтут причудой. Это необычно, но нисколько не унизительно. Дружба вовсе не обязательно должна быть между равными.
Заганос слушал внимательно, и сначала его лицо просветлело, а затем помрачнело. Он нахмурился.
– Если дружить с тобой – не унизительно, то почему ты так себя принижаешь? Ты ведь гораздо лучше, чем конь или ястреб. Ты… – он на мгновение запнулся, пытаясь подобрать наиболее удачное слово, чтобы выразить свои чувства, – почти человек.
– О! Благодарю. – Евнух всё так же иронично улыбнулся. – «Почти человек» – для евнуха это много.
– Если я обидел тебя, прости, – сказал Заганос, но разговор стал ему явно неприятен. Все эти игры со словами были не для него. Он любил простоту, открытость и ясность.
Шехабеддин вздохнул, уткнулся взглядом в ковры на полу и устало присел на одно из длинных мягких сидений, располагавшихся вдоль стен.
– Это ты меня прости. Я говорю не слишком понятно. Но главное я тебе объяснил. По положению я одновременно и выше, и ниже тебя, так что не стану смотреть на тебя свысока. Ты не будешь унижен. К тому же ни один обычай или закон, которые мне известны, не запрещают тебе дружить со мной и не осуждают этой дружбы. Единственное, в чём я вижу препятствие – так это в том, что ты сам не захочешь. Если говорить откровенно, я испугался этого. Ещё там, на пути в Гирокастру. Поэтому и сказал тебе: «Не торопись, если не знаешь, кто я».
Шехабеддин почувствовал, как Заганос садится рядом с ним и кладёт ему руку на плечо.
– Я согласен быть твоим другом, – сказал албанец.
Евнух развернулся и внимательно посмотрел в глаза этому человеку. Человек, хоть и убрал руку с плеча Шехабеддина, не опускал взгляда. И в этом взгляде была готовность проявлять терпение и заботу.
«Зачем человеку это нужно? – спросил себя Шехабеддин. – Зачем ему возиться со мной, если он меня не знает?» Но затем вспомнилось, как терпеливо Заганос вёл по обочине своего захромавшего коня. «Если конь достоин такого отношения, то я – тем более, – решил евнух. – Ведь этот человек сам сказал, что я лучше животного».
А ещё вспомнилась история, рассказанная румами, о том, как Искендер относился к своему боевому коню: заботился и не забывал, даже когда конь состарился и не мог служить в походах. В поведении Заганоса было что-то похожее, ведь он, конечно, знал, что для коня нет ничего хуже, чем хромота. Если ногу нельзя вылечить, такое животное режут на мясо. Но Заганос вряд ли поступил бы так. Вероятнее всего, он продолжал бы содержать коня, пока тот не умрёт своей смертью.
«А если этот человек и есть мой Искендер?» – задумался Шехабеддин, но, помня о предыдущих разочарованиях, которые пришлось изведать в жизни, не торопился поверить в удачу. И всё же тревога за будущее, ещё недавно мучившая его, ушла, поэтому он повеселел, и теперь его улыбка не была горькой.
– Заганос, друг мой, ты не пожалеешь об этом решении. Клянусь! – пообещал евнух. Бросив взгляд на своё плечо, где только что покоилась ладонь человека, он повторил тот жест: тоже положил свою ладонь человеку на плечо. И почти сразу убрал. – Кстати… Где ты думал остановиться на ночлег до того, как мы повстречались? – Не дав Заганосу ответить, он продолжал: – Ты остановишься у меня, то есть у своего друга. А твой конь будет гостить в моей конюшне столько, сколько нужно, чтобы нога зажила. Если заставить его идти куда-то ещё, это вредно для ноги. Ты согласен?
– Да. – Заганос кивнул. – Но тогда мне нужно пойти и сказать своему приятелю, с которым я уже договорился о ночлеге, что не останусь.
Евнух почувствовал что-то похожее на ревность: «Что ещё за приятель?» Однако внешне остался радостным:
– Хорошо. Но возвращайся поскорее. И как бы твой приятель тебя ни уговаривал, не думай у него оставаться. У твоего приятеля наверняка нет такого большого дома. Остановившись там, ты его стеснишь. А я здесь один в этом множестве комнат. Мой секретарь, слуги, охрана – это всё не то. Ты же понимаешь? Я не хочу быть здесь один. Возвращайся поскорее.
* * *
Май 1453 года, продолжение осады
Раннее утро, как всегда, было прохладным, поэтому Шехабеддин-паша, сидя в седле, привычно поёжился. Турецкий лагерь, который сейчас находился в пятистах шагах за спиной, только начал просыпаться. Впереди в двухстах шагах возвышались западные стены столицы румов, окутанные синей тенью, как цепь далёких гор. Последний огонёк, который виднелся на стенах, только что погас. Небо посветлело, до восхода оставалось не так много времени, поэтому Шехабеддин-паша нетерпеливо взглянул на своего слугу, бродившего по дороге, которая вела к воротам. Ворота назывались Адрианопольскими.
– Ищи! Стрела должна быть там. Если не найдёшь, я сам посмотрю.
Евнух уже хотел тронуть пятками конские бока, чтобы подъехать поближе, но слуга остановил:
– Нет, прошу, господин. Мне нужно ещё немного времени.
Шехабеддин остановился, потому что понял, что ведёт себя неразумно. Он сейчас находился на самой границе территории, которая считалась для осаждающих безопасной. Даже если бы кто-то из защитников вздумал пустить стрелу со стены, стрела не долетела бы до Шехабеддина. А вот слуга, который бродил по дороге и выискивал очередное послание от «верной тени», подвергал себя опасности. Его подстрелить вполне могли, поэтому он на всякий случай прикрывался щитом, всё время обращая его в сторону стен.
