Цифровой постимпериализм. Время определяемого будущего бесплатное чтение
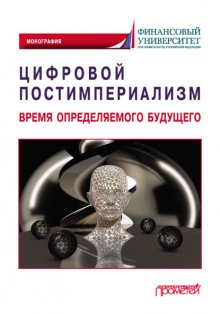
© Коллектив авторов, 2022
© Издательство «Прометей», 2022
Введение
Капитализм, находящийся в своей терминальной стадии, обанкротившийся и исчерпавший все свои ресурсы, задушенный метастазами «финансовой чумы» XX–XXI веков, закономерно приблизился к своему логическому концу. Вместе с тем, все настоящие теории заговора, хрестоматийно именуемые конспирологическими и полагающими судить о населении в целом как лишенном способности управлять государством и хозяйством, о существующей прерогативе исключительно «избранных» в исполнении данной функции, в настоящее время констатируют факт своего существования и действенность.
Постимпериализм вступил в свои права. Его тяготение к архаичной природе сего бытия, опирающегося на реализуемые замыслы дерационализации и тотальной деградации человека в частности и общества в целом, нашло свою точку опоры и отсчета в начинающемся 2020 году. По существу, наступил «постисторический» (по-фукуямовски) период с его концом общества, человечества, самого человека, всей его философии, идеологии и мировоззрения. Реализация данных угроз влечет за собой лавинообразные тектонические мультипликативно развивающиеся в процессы «оцифровки» и трансгуманизации, проявляющиеся в принуждении к стигматизации, сегрегации, сепарации и болезненному необратимому распаду некогда единого и неделимого социоисторического организма. И все это весьма критично!
В представленной читателям книге ее авторы посчитали своим долгом раскрыть возникающие противоречия, диссонансы и парадоксы насаждаемой извне «швабовской новой нормальности» с целью концептуального формирования определенного набора программных установок и пересмотра ценностно-приоритетного списка философско-мировоззренческих конструкций и социально-хозяйствующих механизмов. В соответствии с чем нахождение сущностного и содержательного «будущего» авторы концентрировали в исследовании проблем глобального «цифрового порядка», в обзоре перспектив «напирающего» общества без человека как субъекта. В тексте особое внимание уделяется тому факту, что человечеству, все же, предречено целенаправленно двигаться в направлении так называемой «цифровой» революции. Акцентируется тревога и опасения, что «цифровая экономика», продуцирующая системы «человек-машина», «человек-компьютер», имеет своей целью далеко не гуманистические идеи. При этом реализация выше означенных идей возложена, все же, на представителей определенной страты – бюрократию, осуществляющую отнюдь не безрезультативные попытки освоения цифровых технологий, высокоразвитых компетенций и т. д., позволяющих выдвигать новые мнимые цели ради сохранения позиций уже «модернизированной» бюрократии и ее хозяев. Что же предлагается авторами книги в противоречие предписываемому извне? Масштабная переоценка созданного человеком предшествующей эпохи кибермира с позиций соответствия его развитию самого человека и общества в целом.
В развитие вышеозначенной проблемы глобального «цифрового порядка» и перспективы теснящего общества в книге выносятся на обсуждение особенности капиталистического воспроизводства, трансформации «старой» ресурсной структуры в новую систему производительных сил. Так, в числе наиважнейших вопросов обозначена необходимость бесконфликтного перехода к новой траектории развития современного общества, предусматривающего наличие четырех векторов на пути в этом направлении. Это и научно-технический прогресс, и трансформация экономического способа удовлетворения потребностей человека в преимущественно неэкономический, также сюда добавляется развитие «ноо-качеств» человека и солидарность как идеологическая платформа общества будущего. Далее, размышляя о судьбах человечества и, как следствие, его хозяйствующей деятельности, в тексте монографии авторами особое место отводится анализу краха экономических отношений собственности и перспективе становления их новой ипостаси. В связи с чем на основании историко-логического подхода раскрыты феномен собственности, структура «господствующего» класса, механизмы трансформации исторических форм на переломных этапах действительности. Что же касается трансформационных процессов ресурсной базы в книге не обойдена наиактуальнейшая загадка современности – энергетика цифровой экономики, являющаяся наряду с информационной системой основной инфраструктурой четвертой промышленной революции.
Итак, проблема необратимости качественных изменений будущей человеческой цивилизации ставится основополагающей авторами книги. В тексте отмечается, что глобальная экономика находится в точке бифуркации, путь дальнейшего развития всей цивилизации весьма неопределен. В следствие чего, с определенной уверенностью можно говорить только о том, что при условии выхода «заблудшего» человечества из череды усиливающихся кризисов, противоречий и локальных войн (не исключено, что и ядерных), перерастающих, возможно, в столкновения властвующих глобальных элит, в результате тотальных трансформаций есть основание вступления в новую технологическую эпоху. И этот «план-проект» вызывает необходимость фундаментального пересмотра многих общечеловеческих ценностей нашей цивилизации и системы хозяйствования, подвергшихся в последние десятилетия коренной ломке и полному разрушению.
В целом, для, как минимум, осознания, осмысления происходящих явлений и событий с целью формирования ясного представления обозримого будущего необходимо внедриться в сущность соответствующих процессов, обращаясь при этом к опыту человеческой истории. Что и попытались сделать авторы предлагаемой читателям книги.
Ответственный редактор,
д. э. н., профессор
Марина Леонидовна Альпидовская
Глава 1. Глобальный «цифровой порядок»: перспективы теснящего общества
1.1. В обществе цифрового устранения
Господствующая глобально экономическая модель, либеральная по своему содержанию, изначально являвшаяся антисистемной, несет в глубине своей «антиприродный» процесс формирования и обоснования целей любого развития. Это, прежде всего, произвольное увеличение количественных показателей прибыли в ущерб и самому процессу производства, и населению, и окружающей природе как таковой. Постмодернистские метафизические «паттерны» перестают согласовываться с общественными экономическими интересами и уничтожают их субъектность и подлинность, что в итоге приводит к виртуальному структурному переформатированию (но сначала обнулению) системы на стадии практически максимального спада.
В конце 60-х годов XX столетия французский экономист и социолог, один из авторов теории индустриального общества Жан Фурастье в книге «Открытое письмо четырем миллиардам людей»[1] отмечал, что на смену общества модерна должно прийти качественно иное социоисторическое устройство постиндустриального типа. Подобное стремление к осмыслению существа господствующих социально-экономических отношений было ответом на нарастающий кризис уже того общества, в котором система ценностей начала рушиться, и социально-экономическая организация нацелилась к терминальной стадии дисфункции. В свою очередь французский социолог Ален Турен в середине 1980-х годов обозначил действительность кризиса цивилизации в целом. Он писал: «Мы движемся прочь за рамки индустриального общества, но куда?.. Нет сомнения, что угроза упадка существует. Привыкшие быть в достатке, наши общества скатываются к… вырождению подобно Восточной Римской империи или более поздней Византии»[2]. И выводы практически всех исследований Римского клуба, отпраздновавшего в 2018 году свой полувековой юбилей, также оказались весьма неблагоприятными – за пределами роста находится и человечество, и мир в целом, приблизившийся к глобальной катастрофе. «Система показателей, применяемых к человеческому и планетарному прогрессу, должны отличаться от устаревшей линейной экономической модели, которая любой ценой способствует росту ВВП. Экономическая система требует большего внимания к экономическому, социальному и экологическому благополучию, признавая баланс между людьми, процветанием и планетарными границами»[3], – этот эпиграф открывает раздел «Переосмысление экономики» официального сайта Римского клуба и подтверждает приближающуюся фрустрацию цивилизации.
Вместе с тем вызывает особое беспокойство, и весьма небезосновательно, точка зрения одного из главных членов Римского клуба и первого его президента Аурелио Печчеи, который в книге «Человеческие качества»[4], написанной им в 1977 году, он в очередной раз пытается постичь глубинные причины грядущего кризиса человечества (загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов, нехватка продовольствия). Он, не ограничиваясь причинами роста народонаселения и промышленности, уходит в сферу антропологии, «назначая» врагом человечества самого человека, и, созвучно своей идеологии, призывает к переделке природы человека – трансгуманизму[5]! В итоге им создаются Институты эколого-психологических исследований, среди которых – «Стэнфордский исследовательский институт», «Институт социальных отношений», «Гарвардская психологическая клиника», «Управление исследований человеческих возможностей», «Исследовательская и аналитическая корпорация»[6]. Основной замысел создания данных институтов состоял в разработке методов управления и психологической обработки населения, и без того подвергавшегося излишнему запугиванию со стороны СМИ, а также представителей «модных» научных школ. Известно, что один из представителей новой австрийской школы, сторонник экономического либерализма и свободного рынка, один из ведущих критиков коллективизма в XX столетии Фридрих Август фон Хайек[7], заслуживший «нобелевскую» премию имени Шведского банка за весьма негативно-неодобрительные характеристики в своих текстах в адрес деятельности профсоюзов, предостерегал представителей банков и бизнес-сообщества от будущих революций в более чем неоднозначной книге с резко выраженным названием «Дорога к рабству»[8]. В результате последовательных действий рекомендациям – экономику деиндустриализировали, «рабочий класс» элиминировали и закабалили кредитами, трансформировав его в получивший сомнительное будущее «средний класс», а напуганные банкиры, все же, «рабами» так и не стали.
И, с точки зрения представителей западной идеологии, сотворившей «новый» материальный кибермир, капитализм, как бы то ни было, одержал сокрушительную победу на всем земном шаре, положим, формируясь в новую свою ипостась – некую «инклюзивность». К тому же Фрэнсис Фукуяма[9] в книге «Конец истории и последний человек»[10] акцентировал на тезисе о капитализме, как наивысшем достижении человечества, вслед за которым придет конец человеческой истории, завершение идеологической эволюции человеческой цивилизации и универсализации западной либеральной демократии как окончательной формы правления. Именно универсализация, как сущностная заливка глобализационных процессов в экономических интересах транснационального класса глобалистов, стала основополагающей установкой и направлением развития тех действий, далеко не медицинской (санитарно-эпидемиологический) в своем глубинном смысле составляющей, в мировом масштабе происходящих сегодня.
Философия экономического либерализма, в последствии логично приявшая постмодернистскую первооснову, парадоксально повлияла на закладываемую в докладах Римскому клубу идеологию деиндустриализации экономики и депопуляции в глобальном масштабе. Эта философия базируется на рыночных постулатах, предполагающих наличие конкуренции и допускающих исключительно товарно-денежные отношения во всех сферах социально-экономических отношений. Не исключая образование, медицину, культуру, спорт. Все это в настоящее время – рыночные услуги. И на риторический вопрос «Кто одерживает победу в этой конкурентной борьбе?» ответ понятен – тот, кто снижает издержки, то есть оптимизирует их. В следствие чего не стоит чрезмерно удивляться качеству предоставляемых так называемых далеко уже не общественных благ. Оно оставляет желать лучшего, если вообще эти блага имеют место предоставления. При этом конкуренция при такой философии означает «неслыханно зверское подавление предприимчивости, энергии, смелого почина массы населения, гигантского большинства его, девяносто девяти сотых трудящихся, означает также замену соревнования финансовым мошенничеством, непотизмом, прислужничеством на верху социальной лестницы»[11].
Адепты «экономической свободы», подобные Милтону Фридману[12] в целях переформатирования экономики и перехода ее на рыночные рельсы предлагали «шоковую терапию», последствия и результаты которой экономика нашей страны ощущает до сего дня. Подобная политика, имевшая своей целью решение определенного комплекса задач, к числу которых отнесены отмеченная выше деиндустриализация, а также дерационализация социально-экономического поведения человека, включающая в себя его десоциализацию, деисторизацию, деморализацию, декультурацию, метафизическую депривацию[13], деинтеллектуализацию, отчуждение от труда, и денационализация[14] отнюдь не была случайна и непреднамеренна.
В итоге неолиберальные, а точнее постмодернистские «шаблоны» перестают опираться на общественные (общенациональные) экономические интересы и уничтожают и субъектность и подлинность, то есть приводят к не только виртуальному структурному переформатированию системы на стадии практически пикового спада и разрушения, но и формируют ресурс ее недопустимой и вопиющей мутации и кардинальной «перелицовки». Финальная цель ясна, как бы это конспирологически не представлялось и не звучало – конструирование нового «дивного мира» – «новой нормальности» с единым мировым правительством («директорией»).
Рисунок 1.1. Взаимообусловленность процессов установления транснационального диктата
В конце 1980-х годов в результате издания работы Эдуарда Пестеля «За пределами роста»[15] Римский клуб не ограничился обсуждением данного доклада в кругу своих членов. Данный текст был сделан достоянием широкой общественности с целью выявления (демаскировки) крайностей в суждениях о рассматриваемых проблемах. На страницах доклада было отмечено, что никогда еще мир не находился в таком плену у денег, капитализм сам создал условия для его провала, состоящие в культивировании мечты о бесконечном и неограниченном выборе. Также выдвигалась идея о том, что мир изобилия может погрузиться в век всеобщей скудости. И никакого ответа на вопрос о времени, когда произойдет это «погружение», не дается. «Без интуитивного проникновения в суть дела, без глубокого понимания движущих сил, которые – часто скрыто от общего взора – движут миром» – отмечается в книге Э. Пестеля, – «мировая проблематика представляется страшно запутанным лабиринтом фактов и событий, в котором не найти никакой отправной точки для будущих действий»[16].
Но реальные причинно-следственные связи обозначены, естественно, не были (таковая цель и не ставилась). Собственно, все проекты Римского клуба и доклады ему же пронизаны апологетикой капитализма, а также стремлением снять ответственность с него за обострение глобальных проблем. Ограничиваясь философией экономического либерализма, авторы данных опусов, конечно же, нередко критикуют капитализм, его отдельные негативные стороны, но то, как они это делают, показывает фальшивую ограниченность их миропонимания. Происходящие и предстоящие катастрофы и катаклизмы предрекаются ими для всего человечества. Вместе с тем, виновником этого назначается само же человечество.
Принимая основные человеческие функции за главные составляющие культурной эволюции, в докладах Римскому клубу признается, что на современной стадии развития они перестают соответствовать своему назначению. А сознательный контроль над репродуктивным поведением – главное условие выживания человеческого рода. И при, казалось бы, весьма позитивной трактовке намерений по решению ряда возникающих глобальных проблем, одновременно ненавязчиво и недвусмысленно все доклады Римскому клубу несут в своей сердцевине мальтузианскую концепцию, состоящую в формировании взаимосвязанной системы идей, принципов, мировоззрения и достижении целей по реализации экономических интересов глобального господствующего класса.
При этом адептам неомальтузианства неведомо, что, по сути дела, навязываемая с конца XVIII века профессором колледжа Ост-Индской компании теория, весьма абсурдна, несообразна, эмпирически не обоснована. Элементарная логика отнюдь не присуща основным ее принципам и тезисам о наличии какой-либо корреляции количества средств существования от математических законов арифметической или геометрической прогрессий, поскольку произведенный продукт растет в соответствии развитию производительных сил общества. И бессмысленно снимать ответственность за бедность и нищету населения с капитализма.
Тем не менее, некий всемирно известный французский экономист Жак Аттали[17] уверен, что современным обществом можно и нужно управлять и направлять его по предопределенному назначению – в сторону отраслей экономической деятельности «нового человека», ориентированных на кардинально иную жизнь. Здесь речь идет о здравоохранении, питании и гигиене, энергетике, образовании, медицинских исследованиях, водных ресурсах, цифровом секторе, безопасности и т. п. В частности, Ж. Аттали в своем нашумевшем бестселлере «Краткая история будущего»[18] пишет, что уже к 2040 году должны значительно сократиться трансакционные и организационные издержки государств, снизится роль последних и постепенно исчезнет полицентрический порядок. Появятся новые промышленные товары, способные заменить множество контрольных функций государства. Их основная функция должна состоять лишь в гипернаблюдении и самонаблюдении.
При этом сверхцинизм по отношению к человеку и его жизни не исключается в качестве «направленческой» и управленческой деятельности идеально устроенного по Ж. Аттали общества будущего. На страницах своей «Краткой истории будущего» он беспринципно намечает, что даже «последнее путешествие» будет осуществляться при использовании определенных механизмов – «средств для достижения вечности. …рынок будет предлагать услуги суицида, эвтаназии, крионики»[19].
В сущности, не стоит этого отрицать, человечеству предречено целенаправленно двигаться в направлении IV технологической, то есть так называемой «цифровой» революции. И это уже не вопрос риторики, это оформленная ратификация происходящего. Акцент этой самой «революции» ставится не на развитии техники и технологий, а на человеке как таковом. Человек должен стать «цифровым» биороботом. «Цифровая экономика», продуцирующая системы «человек-машина», «человек-компьютер», имеет своей целью далеко не гуманистические смыслы. Для большей части человечества – это «новый мир», который может обернуться эпохой мрака, сопровождающейся варварским сокращением населения планеты, разрушением семьи, науки, образования, здравоохранения…, а также – и это самое важное – распадом института государства, его суверенитета. «Государства станут ностальгическим воспоминанием, растворяющимся призраком нашего времени, входящего в стадию своей абсолютной коммерциализации»[20]. Известное намерение глобальных элит со всей откровенностью заявлено основателем Давосского форума Клаусом Швабом в его «Четвертой промышленной революции»: «Правительства должны адаптироваться и к тому, что власть под воздействием этой промышленной революции зачастую переходит от государства к негосударственным субъектам… полномочия (правительств) сдерживаются конкурирующими центрами власти, имеющими транснациональный, региональный, местный и даже личный характер»[21].
В подтверждение данных суждений – обложка, вышедшего в сентябре 2021 года журнала, обслуживающего транснациональный клан Ротшильдов, The Economist (рис. 1.2). На рисунке изображено целенаправленное стремительное движение (бег без препятствий) в кроличью нору под бдительным наблюдением Алисы и Кролика из сказки Льюиса Кэррола[22] «Алиса в стране чудес» не только мировых валют и криптовалют – «юаней», «долларов» и «биткоинов». За ними следует и фондовый рынок, а также разрушающаяся судебная система (на картинке – весы Фемиды). Видимо, ожидается и трансформация «категориального аппарата» на условиях международных корпораций и «права сильного». В эту же нору устремляется и монета с изображением «портика» – символа государственной власти.
Рисунок 1.2. Обложка журнала The Economist (сентябрь, 2021)
Как следствие, неолиберальные (по своей сути – постмодернистские) «паттерны» утратили некую скрытую согласованность с общественными экономическими интересами и последовательно уничтожают и субъектность и подлинность как таковые, то есть приводят к виртуальной структурной трансформации системы на стадии ее практически колоссальнейшей деградации. И осуществляются подобные акты в отношении всех элементов (более конкретно-институтов) некогда гармонично выстроенной единой социально-экономической системы – это, помимо национального государства, и политика, и идеология со всеми присущими ей ценностями, и наука, и массовое образование. Дисгармонично звучит также гражданское общество. И объективная вероятность сохранения всех этих элементов прежней системы в прежней их ипостаси сводится к нулю. В связи с чем немаловажным обстоятельством становится явление нового парадоксального качества формирующейся принципиально иной системы – это феномен общества без труда, «швабовского» общества вторичных участников в огромном коммерческом секторе капитализма «стэйкхолдеров» (по сути рядовых пайщиков)[23]. Вместе с тем, современный капитализм постепенно приобрел свойства, иллюзорно гордо именуемые, общества «потребления» в ущерб «производству», все более и более деградирующему. А «всеобщее благоденствие» «сопровождается нарастанием негативных проявлений глобального кризиса сокращением произведенного национального продукта, безработицей, инфляцией, массовыми банкротствами, снижением жизненного уровня населения и т. д.»[24]. Жан Бодрийяр в одном из своих трудов социально-философского содержания акцентировал на разрушительном характере духа потребительства в отношении здорового организма экономики. Он писал: «Обществом потребления является то, …где само потребление потреблено в форме мифа. Трудно отрицать, что речь идет об опасном превращении социального метаболизма, несколько похожем на то, чем является рак для живых организмов: о чудовищном разрастании бесполезных тканей»[25]. Реальный сектор экономики в интересах гипертрофированно и непропорционально разросшихся финансового и сектора услуг весьма быстро свернулся.
Действительно, в эпоху одержавших верх процессов глобализации, когда «капитал» преодолел все пространственные, материальные, социальные государственные барьеры, и, при этом, будучи экспансивным по своей сути, обладающим экстенсивной функцией жизнеобеспечения, подчинив себе всю имеющуюся периферию, начинает «внедряться» в самого себя, разрушать себя изнутри. Однако сам капитализм как общественный строй не думает сходить с арены исторического развития. Он и ранее обладал своей спецификой, характеризующей его историческую природу. И специфика эта не менялась годами и веками сущностно, в виду того, что капитал как таковой не является тривиально предметом, или стоимостью, он – общественное отношение, отражающее процесс отторжения – присвоения прибавочной стоимости, произведенной наемным трудом вследствие гегемонии капитала над трудом. «Создатели», управители и координаторы капитализма весьма склонны оставить в своем ведении бразды правления всей системой в целом.
Однако, возникает вопрос – каким станет капитализм современного общества, теряющего человека – субъекта, занимающегося реальным трудом? Как оценить его (капитал) с позиций этой новой сущности? Ведь, собственно, сегодня утрачен смысл самого труда как источника общественного развития, как способности превосходить затраты. И в этом качестве труд выступал не просто перводвигателем, а вечным двигателем социально-экономической системы в целом[26]. И это происходит на терминальной стадии вековых тенденций в условиях немыслимости и утопичности сохранения какой-либо деятельности социально-экономической системы как таковой. Уже не стоит вопрос о том «вступила или вступает историческая система, в которой мы живем, капиталистический мир – экономика, в такое время хаоса»[27]. И возникший глобальный диссонанс глобальной капиталистической системы в существе своем обостряет кризисные процессы, причем не свойства циклического спада, а по сути «поворотного пункта», когда система как таковая уже не может быть жизнеспособной.
Итак, каким становится капитализм будущего, корректнее – уже настоящего? Ошибаются, надо признаться, наши отечественные исследователи-эксперты, упорствующие в своем понимании современного строения общественного строя. Некоторые из них, в частности, утверждают, что многие так называемые развитые страны далеко эволюционировали за пределы капитализма, стали постиндустриальными. В. Л. Иноземцев настаивает на трансформации прибавочного капиталистического продукта в сторону служения всему обществу, о чем свидетельствует наличие преимущественной доли государственного бюджета в ВВП стран развитого Запада[28]. Также апологеты левого толка, попавшие под влияние эфемерной концепции постмодернизма, до сего дня готовы современный капитал признавать работающим в интересах населения, а систему государственного капитализма – за социалистическую систему хозяйствования. Обосновывается это представление обоснованием возможности изъятия государством необходимого и прибавочного продукта в виде налогов в государственный бюджет. И, собственно, этим общество – ближе к социализму.
В действительности мы наблюдаем модель капитализма, разрушившего реальное производство посредством монетаризма, и находящегося в терминальной стадии. Ему априори предначертан необратимый ход тотального регресса со всеми предполагаемыми в этом процессе «де…» – деиндустриализацией, демодернизацией, дерационализацией, деогосударствлением, ненационализацией…
Начиная с нулевых двухтысячных годов некоторое преимущество набирает некая экономика с определением «цифровая», механизмы которой, имеется общепринятое мнение, предназначены, реализуя высокие технологии, гарантировать прекрасное новое будущее для нового человека. В свою очередь, эти же самые механизмы способны практически незаметно оказывать влияние на человека очень тонко и деликатно, что трансформация человека из субъекта отношений незримо и неощутимо уже превратила его в объект управления, эксплуатации – порабощения. И высокие «мечты» о прекрасном будущем человечества, взявшего на вооружение результаты научно-технического прогресса, оказалось, что канули в лету и стали утопией, подобной изображениям идеального общественного строя А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна.
В сложившейся (или искусственно складываемой) ситуации хозяева агонизирующего современного капитализма в ответ на сверхзатруднительное положение, не пренебрегая опасностью, начали контрнаступление не только на общество, но и на социально-экономическую систему в целом. Формируется новая эра – в терминологии профессора Гарвардского университета Шошаны Зубофф «Эра надзорного капитализма»[29], применившая (и это уже свершившийся факт) все достижения научно-технического прогресса в виде «цифровых» инструментов в интересах сохранения своего контроля над происходящими процессами. Подобным образом по итогам «длинного XVI века… феодалы в своих классовых интересах демонтировали феодализм, чтобы сохранить власть, привилегии и богатство и в процессе этой борьбы создали новую систему»[30]. Тем самым хозяева современного мира получили возможность «транслировать себя в будущее в новом системном «обличье»»[31].
И сегодня в XXI веке воочию оформляется искусственно синтезируемая общность – интеграция капитализма и цифровых технологий, вернее, встраивание последних в систему капиталистических отношений. Их глобальные субъекты – «интернет-гиганты» и компании, специализирующиеся на интернете вещей, не только интересуются и проводят сбор данных своих пользователей, но и имеют своей стратегической целью влиять на них и их поведение. Пользователи всевозможных социальных сетей «в большинстве своем не знают, насколько уязвимыми они становятся, сообщая в социальной сети информацию о себе»[32].
Итак, как бы не трансформировались фасады и формы господствующих ныне социально-экономических отношений, их содержание остается прежним – их паразитарная сущность. И достаточно сложно в настоящее время дать ответ на вопрос каким будет тип отношений в новой исторической системе? Согласно мнению И. Валлерстайна в пост энтропийный период расширения бифуркаций, то есть в 2050–2075 годах историческая система или системы также не определены. Однако его оптимистичный дух превосходит все существующие мрачные прогнозы будущего – рано или поздно «мы увидим завершение перехода от капитализма к социализму с отмиранием государства и межгосударственной системы»[33]. Но это только надежды и ожидания. Само собой разумеется, что никакой трансформации капитализма в иную более справедливую систему не будет. В обозримом будущем. И следует внедриться в природу происходящего процесса, обращаясь к опыту человеческой истории. Настоящие «хозяева мира» проделали весьма серьезную работу над ошибками. Каков же будет ответ на их действия? И будет ли он в принципе?
1.2. Угрозы и риски цифровой трансформации общества – законы диалектики
Мы обсудим взаимосвязанные вопросы о цифровизации и ее влиянии на общество, хозяйство, экономику в проекции на решение задач национальной безопасности, науки и образования.
Меньше всего хотелось бы говорить о научных основах развития современного общества в историческом аспекте его эпох – в частности, капитализма и разных его фаз, империализма, социализма и его конвергенции, всяких их пост-модификаций и др. Эти вопросы уже около 200 лет обсуждаются как выдающимися мировыми классиками, так и современными исследователями из разных областей знаний, технологий и дисциплин. Правда, в последнем случае это делается часто из конъюнктурных соображений и по спецзаказу разных структур (в том числе властных). Данные монетаристские олигархические субъекты с их «романтикой» глобализации мировой экономки заинтересованы в таком квазинаучном ландшафтом фоне – пусть ученые в этих объектах исследований резвятся, а мы будем грести деньги на космополитических принципах в России – стране возможностей… для олигархов.
Но здесь есть еще один, на первый взгляд, неожиданный трагический аспект – аналог «зацеперов» для поднятия боевого духа ради мнимого престижа – якобы кино снимают в опасных ситуациях, а там уж как повезет. Так погиб министр МЧС, а сейчас запустили «мартышек» в космос, причем – за средства, выделенные на научные исследования из космоса и для решения задач национальной безопасности. А в это время еще глава Роскосмоса посетовал на приостановку работ по ракетам в целях экономии кислорода для COVID-госпиталей[34]. И это общая проблема отказа от традиционных ценностей и отсутствие профессионализма в условиях якобы легко доступной и обозначенной цифровизации.
Вроде бы, напрямую, это не касается нас – научно-образовательной сферы, которая не является властью, но должна требовать от нее понимания и обеспечения адекватных мероприятий и решений в нашей профессиональной деятельности по развитию науки и образования и воспитанию молодежи, и что особенно принципиально – именно в нашем понимании этих вопросов, а не в чиновничьей опалубке.
На эти блоки накладываются многие факторы современных цифровых технологий и их достижений – щадящее (трудно проверить!) в горизонте ожиданий на десять-пятнадцать лет: мнимых, реальных и перспективных, но с колоссальными государственными вливаниями финансовых средств во всемогущий искусственный интеллект (далее – ИИ). При этом переформатируются базовые основы общества в историческом процессе развития человечества, и часто обосновываются в ложных построениях типа глобального потепления климата, зеленой энергетики и прочих бездоказательных явлений, но с неадекватными конкретными мероприятиями в принятии управленческих решений.
Это уже затрагивает жизнь каждого человека – текущую и будущую, – поражает его права, ликвидирует личное пространство позволяет им манипулировать людьми под угрозой репрессивных мер в условиях нового мирового порядка, которого «крышуют» власти. По сути речь идет о виртуальных государствах с виртуальными нематериальными финансами и активами (управляемыми непонятно кем) с приоритетами и правилами в далеко неоднозначных сервисных услугах, часто мошеннических. Распространенная практика – засилье банковских структур с их диктаторским брезгливым отношением к заботам и проблемам людей, с равнодушием к «низам», и их отчуждению от реальной жизни. Эту уже опасные риски и угрозы для стабильности страны в целом.
К сожалению, мы уже близки к точке невозврата по этим проблемам и не можем реально на них влиять без жесткой политической воли и четкой реакции властей на этот негатив в условия монетаристских олигархических мировых структур, в которые вплетена Россия через виртуальную цифровизацию и прямые «серые» схемы. Но вопрос в стратегическом плане стоит о независимости страны в широком смысле и ее национальной безопасности.
Эти вопросы в едином комплексе мы и будем обсуждать ниже.
В настоящее время поиск формата организации современного мирового порядка является приоритетом в деятельности различных государств, международных организаций и учреждений, различных экономических и политических структур и сообществ (открытых и закрытых с непрозрачным функционалом), в том числе с руководящей ролью неясных управляющих субъектов при принятии управленческих решений под целевые функции определенного направления.
Действительно, даже за последний год проводится большое количество различных форумов (как у нас в стране, так и за рубежом) с участием высших должностных лиц государства в поисках оптимальной организации этого мирового порядка, но, к сожалению, результаты всех этих Форумов – ничтожны. Они сводятся только к самоотчетам и обсуждениям практических бизнес-процессов, да еще с участием государственных деятелей под политическую конъюнктуру. Иллюстрацией к этому могут служить дискуссии по такой мировой проблеме как энергетика на энергетическом Форуме-неделе в Москве с 13 по 15 октября 2021 года[35].
В этой непростой ситуации, казалось бы, большая роль должна принадлежать научно-образовательному сообществу с разработкой соответствующих моделей и алгоритмов для прогнозирования и регулирования принимаемых решений, и конкретных действий властей и их последствий. Однако, по-видимому, властям это не требуется в их девственной неприкосновенности.
Они снисходительно относятся к любым рекомендациям научно-образовательного сообщества, которое иллюзорно думает, что власти чего-то не понимают и чего-то не знают. Они все знают и понимают, но очень конкретно – под целевую функцию монетаристских подходов, обеспечение сверхприбылей олигархов, которые заняты своими делами по добыванию финансовых средств от государства без всякой ответственной ориентации на социально-ориентированное государство и интересы его граждан.
Справедливости ради надо сказать, что мы – научно-образовательное сообщество – совершенно не готовы (и/или боимся) к конструктивной и жесткой критике властей и околонаучного чиновничества (его обслуживающего) за принятие ими глубоко непродуманных решений в сфере науки и образования. Речь идет о непрерывном ее реформировании, требованиями выполнения непотребных показателей эффективности на всех уровнях, с бизнес-раболепием перед импортными журналами и учеными, якобы способствующими поднятию нашей науки на мировой уровень. Отдельный разговор – об унизительных мировых, якобы научных, а по существу – бизнесрейтингов (как будто это биржевые сводки). «Находка» наших чиновников – ориентация образовательного процесса на предпринимательство (которое в сфере высоких технологий у нас в стране фактически не развивается) вместо глубокой фундаментальной подготовки в университетах специалистов по полной программе единого пяти-шестилетнего фундаментального образовательного процесса, как это было в СССР с выдающимися достижениями на мировом уровне, с которыми все считались. Трагично, что и школьное образование разрушается, в том числе и под демагогией внедрения новых ИКТ-технологий с сопровождающимися отчуждением обучающихся и многочисленными финансовыми злоупотреблениями в интересах определенных структур и лиц. А ведь школьное образование – основа интеллектуального потенциала страны на многие годы вперед, и наиболее деликатный его компонент.
Казалось бы, удобной площадкой для таких дискуссий и взаимодействий с властями «на равных» является профессорское сообщество с проведением соответствующих профессорских форумов – это как раз тот разумный подход для свободной дискуссии высокого класса специалистов с властями, часто плохо понимающими и/или не желающими прислушиваться к специалистам из сферы науки и образования. Конечно, не хочется обижать эту уважаемую структуру, но последний Форум в начале октября сего года[36] показал несостоятельность этих надежд – полное стремление понравиться властям и приспособиться к их, не ясно на чем основанных реформациях, которые в итоге приводят к разрушению науки и образования в стране. Но зато профессура становится пригретой властями как в экономическом, так и в политическом аспектах. Это что – стокгольмский синдром? Не вмешивались бы власти в ту тонкую материю, за которую абсолютно должна отвечать профессура. Кроме того, представляется что, профессорское сообщество обязано провести для властей аналитическую работу по оценке того, что было в Китае двадцать лет назад и какие достижения у них сейчас в проекции на нашу ту же шкалу времени, вместо «дерганий» по цифровой экономике в отсутствие самой экономики высокотехнологичных секторов промышленности. Да и необходимо убавить иллюзии и восторги по огромному обезличенному товарообороту России с Китаем, когда не принимается во внимание учет структуры поставляемых с обеих сторон продуктов и номенклатуры услуг, а фонтанируются абсолютные объемы денег.
В связи с COVID-19 по нынешней существующей практике «достижений» бессмысленной QR-цифровизации, появился, к сожалению, новый аспект этой проблемы – недееспособность властей и прострация профильных ведомств в решении реально существующих проблем, кроме принятия репрессивных мер по отношению к ослушникам и воспитанию новой когорты медико-политической номенклатуры без доказательной медицины, пригретой властями. Мы здесь не говорим уже о полной недееспособности в выработке определенной стратегии в деятельности Роспотребнадзора и других структур, которые с удивительной регулярностью меняют свои противоречивые показания и рекомендации практически каждую неделю под «вздох» властей. Поистине «хроника пикирующего Роспотребнадзора»! Печально, что в этом процессе совершенно бездарно принимают участие часто и ученые, совершенно не имеющие отношения к доказательной медицине, но выступающие вроде плачущих Пьеро, и/ или врачей – «депутатов Балтики» – уже с депутатским статусом, и/или агрессивных особей по утверждению политических заказов в обосновании получения бизнесприбыли (за каждого ковидного больного медучреждение получает дотации от 200 до 600 тысяч рублей[37] – выгодно (!), да еще хватать на улице людей с ОРВИ и помещать их в ковид. При этом с полным изгнанием реально болеющих людей по другим патологиям, которые предоставлены сами себе. Совершенно возмутительным фактом является преступное предложение члена-корреспондента РАН о внедрении регулярных штрафов для непривитых граждан по пять тысяч рублей в месяц (якобы обоснованно посчитал)[38]. Трудно удержаться от замечания, что, когда ковидного больного (без учета его реальной жизненной ситуации, в которой он находится) ловят на улице и штрафуют на сорок тысяч рублей, хотя он возможно находится на грани жизни и смерти, то приходит на ум только аналогия с обреченными в газовые камеры, когда у них изымали золотые коронки для пополнения бюджета рейха. Не поддающимся пониманию фактом является событие, когда ректора якутского университета (пусть и небольшого) уволили за то, что он отказался предоставить помещение университета под ковидный госпиталь[39]. А где же наши олигархи, которые дворцы себе строят за один день? Здесь же они не могут создать времянки-госпитали – а власть молчит, не прессуя их!
В исторической ретроспективе человеческое общество в формате различных государств и общего ландшафта взаимоотношений между разными странами и народами всегда стремилось к оптимальным управленческим структурам и разумным взаимодействием под разные интересы отдельных государств, включая доминирование одних над другими – странами-сателлитами и назначенными изгоями. Это особенно характерно именно для современной эпохи в условиях диктаторских полномочий монополистических олигархических структур, которые часто идут вразрез с интересами не только отдельных государств и тенденций мировой геополитики, не говоря уже о гражданах и социальной справедливости, но и приводят к преступным построениям во взаимоотношениях с различными общественными структурами и организациями по всему миру.
Сложность состоит в том, что сами власти часто подкармливаются от таких неприкасаемых олигархических структур и поэтому фактически дают им полную свободу в своих действиях, правда пока они не несут непосредственную угрозу самой власти и ее личным представителям. Разумеется, организация мирового порядка основывается на подчинении слабых сильным, на управлении сателлитами, с различными формами давления – от санкций и «цветных революций» вплоть до военного вторжения с целью создания государств-марионеток с внешним управлением и подчинением собственным геополитическим интересам метрополий.
В этом ряду на современном этапе особое значение имеют взаимоотношения России с различными странами – в первую очередь экономически мощными. Учитывая, мягко говоря, нынешнюю скромную роль России в мировой экономике, особенно в высокотехнологичных секторах промышленности, политическое влияние России также очень ограничено с учетом того факта, что как говорили классики: «политика – это концентрированное выражение экономики»[40].
У России, безусловно, есть свои амбициозные геополитические планы, но их реализация на конкурентном поле мировой экономики и политики наталкивается на существенны трудности в условиях доминирования мощных мировых экономик – США и Китая.
Глобализация экономики с ее тотальной цифровизацией воспринимается иногда как возможность занять достойное место в мире на монетаристских наднациональных принципах, даже в условиях общей отсталости, которая якобы может затушевываться в различных сетевых построениях. Но это глубокое заблуждение. Никто не отменял законов устойчивого состояния сложной нелинейной системы, особенно в конкретном ландшафте многих стран, когда стабильность определяется именно на принципах биполярного мира. Никакие другие модели – типа многополярного мира – не являются устойчивыми, и рано или поздно свалятся к биполярности. Принципиальный вопрос, кто будет этими двумя полюсами.
В советское время – это были СССР и США. Сейчас вернуться к этой доминанте с участием России практически нереально, и поэтому основные угрозы и риски для нас связаны со складывающейся мировой биполярностью в лице США и Китая. Они всегда между собой договорятся (и договариваются!) – и без нас – с учетом мощных ресурсов и их возможностей экономического статуса. Не спасут нас всякие региональные объединения типа ЕврАзЭС и восточные новые друзья, включая арабских шейхов. Стоит напомнить, как выстроились эти наши партнеры в ряд на постсоветском пространстве, когда к ним приезжал госсекретарь США[41]. Но зато теперь планируются ковидные поезда в Россию из Узбекистана с гастарбайтерами, но на фоне, как ни странно, стремления США создать там военные базы. Отдельный вопрос с нашим новым перманентным другом – Турцией, где убили нашего посла, сбили наш самолет и натравливают террористов в Сирии на атаки наших вооруженных сил с обеспечением их дронами и другими современными средствами поражения, и без осуждения мировым сообществом более пятидесятилетней оккупации части территории Кипра. Более того, совершенно непотребная вещь, когда от Турции идет посыл о ликвидации фундаментального статуса Совета безопасности ООН; а на этот скандальный факт наша реакция – практически никакая.
Очевидно, что ни одна проблема в мире на современном этапе (как и всегда в современной истории) не может решаться без согласия и воли США. К сожалению, у нас бытует мнение, что главное в паритете с США – это военное могущество нашей страны. Да, этот фактор принципиален и позволил уже около восьмидесяти лет держать мир вне глобальных военных конфликтов. Однако, во-первых, военный бюджет России трудно сравнивать с военным бюджетом США[42] – он несопоставим и приблизительно в пятнадцать раз превышает наш бюджет. Во-вторых, полезно вспомнить слова Маргарет Тэтчер, которые были ею сказаны еще в 1991 году о том, что нам надо опасаться не военной мощи СССР, а ее экономических успехов, когда СССР вытесняет нас с мировых рынков[43]. Сейчас мы способны на это? И где же эти нынешние наши экономические успехи в обрабатывающей промышленности, а не в добывающей, да еще с акцентом на тотальные сервисные услуги и мероприятия на импортных комплектующих. А чего стоят амбициозные мегапроекты (без ясного конечного результата) с огромными тратами финансовых ресурсов на непроизводственные расходы в отсутствие практически какой-то локализации производства и отечественных достижений не только в машиностроительной отрасли, но и даже в примитивных продуктах бытовой техники и в результатах производства изделий металлообработки (от гвоздей и гаек, сковородок до всяких запчастей – простых и ответственных деталей машиностроения и их комплектующих). А о самолетах, тракторах, автомобилях и др. изделий отечественного производства – как-то не хочется упоминать. Про микроэлектронику и ее элементную базу – говорить не приходится. Вся компьютерная индустрия в нашей стране сводится к использованию зарубежных разработок с неясными последствиями для национальной безопасности страны и ее развития в передовую промышленную державу.
Наши власти никак не могут понять, что никто никого не догонит и России надо искать свои ниши в мировой экономике, а не потакать/поддерживать огромными финансовыми вливаниями якобы отечественных олигархов, которые жируют и на самом деле инвестируют свои финансовые вложения в другие страны. Это долгий разговор, но здесь нет особой необходимости приводить цифровые данные: они легко доступны и широко известны, но внятной политики как выйти из этой ситуации, да еще в условиях тотальной отечественной коррупции – не очень ясно. Остается, по-видимому, только подчиняться якобы доминирующим тенденциям в мире, которые фактически приводят к потере экономической независимости России и угрозе ее национальной безопасности под притягательным термином «цифровой экономики», но по сути затрагивающей только сферу услуг.
В аспекте этих отмеченных рисков и угроз, среди которых в нынешней России главную роль играют внутренние угрозы и разобщенность общества, и практически отсутствие социально-ориентированного государства с тотальной бедностью населения на различных территориях и в регионах, катастрофические последствия может иметь бездумное неквалифицированное внедрение искусственного интеллекта.
Такую же угрозу представляют мифы о зеленой энергетике, карбоновых дискуссий под абсолютно научно необоснованным тезисом о глобальном потеплении климата на объективных временных интервалах, характерных для процессов физики Земли и атмосферы, которые и надо только учитывать. Тотальная некомпетентность людей, обсуждающих эти проблемы, и, к сожалению, имеющих административный ресурс, связана с тем, что глобальные процессы на Земле, тем более катастрофические, происходят при взаимодействии Солнца и ядра Земли, а не человека. В приливах и отливах под влиянием Луны ведь никто не сомневается.
В общем подходе – ни на чем не основанном оптимизме цифровизации общества на всех уровнях и по всем параметрам – уничтожается креативное развитие общества и страны в целом. И дело не только в катастрофической ненадежности и уязвимости этих систем даже от конкретного физического лица/хакера (мы в этом убедились в начале октября 2021 года по блокировке тотальных социальных сетей[44]), но и в реально реализуемом внешнем управлении нашей страной через внедрение этих цифровых технологий во все структуры власти и ее фискальные органы и ведомства.
Если говорить об искусственном интеллекте, то здесь много аспектов – технических, научных, политических, экономических, бизнес-бенефициаров, возможности общего тотального контроля населения, исхода его из производственной сферы в виртуально-сервисную, и общего внешнего управления страной со стороны мировых ИКТ-монстров. К сожалению, понимание этих проблем во многом сводится к примитивному представлению типа Греты Тумберг, Сбера, Илона Маска и прочих недоучек-конъюнктурщиков. Во всех этих начинаниях главным пунктом должен быть вопрос о национальной безопасности страны и ее экономической независимости с учетом геополитических амбиций и достойного места России в мире на базе отечественных новых технологий и разработок на текущую и постоянную долговременную перспективу, но без пустых деклараций об ожидаемых горизонтах успеха через десять-пятнадцать лет.
В научном плане тематика ИИ – это прежде всего раздел математики со всеми ее плюсами и минусами в зависимости, к сожалению, от капризов/требований сильных мира сего. Конечно, это проблема многофакторная. Во-первых, надо различать истинные знания и профессионализм от легкодоступной информации (реальной и/или фейковой), между которыми лежит дистанция огромного размера. Без этого учета могут быть катастрофические последствия для жизни человека в окружающей среде. Во-вторых, принятие управленческих решений не может осуществлять искусственный интеллект на основе сколь угодно богатых Big Data и даже эффективных поисковых систем. Только на базе доказательных знаний, и только человек с его интеллектом и ответственными государственными деятелями могут принимать решения, определяющие в принципе состояние общества и жизнь человека в нем. При этом необходимо игнорировать рекомендации «умных систем», которые легко рукотворно можно настроить в нужном направлении.
Неплохо бы напомнить нашим горячим головам, ратующим за природоподобные технологии, что наш мозг работает не в цифре, а в виде нелинейных образов, к которым самое прямое отношение имеют квантовые технологии и нелинейная динамика. Физико-математические аспекты развития ИИ и его использования с предсказательным моделированием последствий его внедрения – главный вопрос на современном этапе. Но это – наука, а не конъюнктура добывания денег и лоббирования по коррупционным схемам и интересам с отмыванием колоссальных финансовых средств.
К сожалению, в нынешнем ажиотаже по ИИ меньше всего науки, трезвой оценки возможностей ИИ, но в приоритете – желание подавлять волю людей и манипулировать ими. Все эти построения с искусственным интеллектом основаны на конкретном обучении заданным образом этих технических средств/смарт-систем человеком под целевые функции определенных кланов субъектов мировой политики. Это не менее опасно, чем внедрение нового порядка в мире, который пыталось делать великая немецкая нация в XX веке.
Парадокс состоит в том, что эти решения часто принимают не лидеры различных государств, пусть и под разные конфликтные цели, а группа зарвавшихся лидеров монополистических ИКТ-компаний по сути с преступными целями личного обогащения и с тотальным уничтожением личного пространства человека, его зомбирования с подавлением воли.
Но есть угроза и более трагических последствий. Первое – если обучить на входе нейросеть по “Mein Kampf”, то нетрудно предсказать, что будет на выходе? Достойное управленческое решение для наших фанатов цифровизации! Второе – карибский кризис 1962 года. Если собрать полную БД и общие характеристики того времени по этой ситуации, то решение ИИ – нажать на «Красную кнопку». Приемлемо!?
Мало от этих трагических ситуаций отличаются, по существу, и такие приоритеты как всякая фиктивная зеленая энергетика, включая солнечную энергетику, приливную энергетику и ветроэнергетику, беспилотную электроавтомобильную индустрию и другое. И дело здесь не только в их локальных масштабах. Они очень вредны с точки зрения экологических последствий, если брать всю технологическую цепочку, включая утилизацию, вибрации на почве, нарушение естественных ландшафтов, вывод огромных территорий из хозяйственного оборота под полигоны солнечной энергетики и др. И это опасно и вредно не только для человека, но и для животного мира, включая почвенные структуры и биоразнообразие в целом.
Хотелось бы спросить тех, кто ратует за водородную тематику – они проходили в пятом классе школы, что водород при соединении с кислородом приводит к взрывным процессам. Нам мало, что почти ежедневно происходят взрывы газовых баллонов в различных структурах, падают самолеты, огромные жертвы на дорогах. Теперь к этому прибавятся беспилотные электромобили с искусственным интеллектом, которые будут давить всех и вся. Здесь важен и социальный аспект: вождение автомобиля – это же удовольствие и сфера жизнедеятельности человека, как и многие другие прямые контакты между людьми: посещение театров, концертов, музеев, магазинов с реальной живой, например, примеркой одежды, реальные, а не виртуальные путешествия и т. д. Все это формирует личность человека как интеллектуального субъекта, а не бесполого зомбированного объекта. Здесь, кстати, мало что изменилось с древних времен, и эти истины – вечны. Никакие цифры их не заменят.
Следует отметить, что самые оптимальные, в том числе и с точки зрения экологии – это двигатели внутреннего сгорания. Постановка соответствующих фильтров может сделать ничтожными вредные выбросы, пусть и с некоторой потерей мощности. Кстати, в США именно из-за вопросов безопасности, в первую очередь, не эксплуатируются автомобили на газовом топливе – в основном бензин и дизель, да и особого ажиотажа по беспилотной паранойе нет, включая метро, если речь идет не о демагогах типа Маска.
Естественно спросить, откуда будет браться электроэнергия для всех этих инсинуаций с электроавтомобилями, ракетами, самолетами. А как же получать водород – это опять современные технологии с использованием традиционных углеводородных энергоисточников?
Надо прямо сказать, что никакая зеленая энергетика (если только мы не хотим спуститься в первобытно-общинный строй) не может конкурировать с атомной и ядерной энергетикой, разумно спроектированной сетью гидроэлектростанций и истинно высокотехнологичными нефтегазовыми и угольными отраслями. Им еще далеко до заката…
Поэтому при принятии принципиальных управленческих решений необходимо в совокупности использовать предсказательное моделирование и прогнозирование с учетом технических, политических, экономических, сервисных вопросов, и всех аспектов жизни общества в целом и отдельного человека. Но в первую очередь должно быть обеспечение безопасности и комфортности проживания населения, а не возвращение людей в пещеры под идиотские воззрения неадекватных деятелей зеленой энергетики, в то числе и во власти. Они на самом деле являются апологетами монополистических структур с их стремлением переформатирования мирового порядка как в монетаристски ориентированном мире, так и в политическом аспекте с учетом бесплодной болтовни в различных международных организациях, забюрократизированных на получение бешенных прибылей без всякого реального производства и в условиях имитации деятельности. К сожалению, и представители нашей страны принимают в этом участие (с соответствующим денежным обеспечением), где пассивно статистируют принимаемые решения против своей собственной страны, например, по санкциям.
Опять пример с COVID. Именно сейчас стала ясна бездеятельность и бессмысленность такой организации как Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ) с бешенными доходами ее агентов, абсолютно некомпетентных для сложных нынешних условий.
Удивляет, что никто не обсуждает профессионально простую логическую мысль – если уже больше года делается вакцинация населения, но пусть даже не так тотально, как хотелось, так почему нет хотя бы ни позитивного тренда, ни тенденции к замедлению роста эпидемии, не говоря уже об ее остановке. В реальности сейчас происходит дикий всплеск заболеваний и рекордное число летальных исходов – до вакцинации ничего подобного не было. Надо срочно разбираться, но, по-видимому, у ответственных товарищей мозги атрофировались, и никаких членораздельных доказательных суждений от них нет – только отговорки и неясные сентенции, либо всхлипы печальных пьероподобных, казалось бы, уважаемых медработников, и/ или непотребная их агрессивность и призывы к тотальным репрессиям по отношению к людям, уже находящимся в условиях государственно раздуваемой по всем коммуникационным каналам и телевидению паранойе. Никто не говорит и о центральной проблеме – разработке целевых лекарственных средств, что является первоочередной задачей для всех подобных чрезвычайных ситуаций. Об этом – вообще ни слова, а пользуются стандартными антигриппозными препаратами в условиях их бизнес-лоббирования по отдельным компонентам со стороны финансово заинтересованных определенных управленцев из разных ведомств. Более «глубокие» функционеры вяло утверждают о возможных решениях таких комплексных проблем с помощью искусственного интеллекта, который направит наши действия в успешном направлении.
Остановимся на некоторых практических решениях по ИИ, которые обсуждаются на разных интеграционных уровнях в интеллектуальном мировом сообществе.
В качестве исходного материала, определяющего ландшафт развития использования ИИ, приведем – без комментариев – список победителей недавнего конкурса Минобрнауки с соответствующими объемами финансирования по данному направлению. Речь идет о предоставлении в 2021 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета организациям на разработку программ бакалавриата и программ магистратуры по профилю «искусственный интеллект», а также на повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций высшего образования в сфере искусственного интеллекта (таблица 1.1).
Теперь это надо внедрять в каждую рабочую образовательную программу практически по любому направлению. А между тем, как уже отмечалось, само направление искусственного интеллекта – это прежде всего раздел математики, а она является стратегической дисциплиной. Более того, обоснованность ИИ и его «гуляние» по сетям приводит к опасности и вредности тотального использования соцсетей под разные цели, что уже признано на государственном уровне, а в Китае законодательно запрещено в школах, кроме несколько часов для детей в выходные дни. Аналогичные ограничения существуют и в Великобритании. Сложилась уже целая индустрия ИТ-технологий, связанная с веб-дизайном, созданием баз данных, которые имеют малое отношение, например, к такому стратегическому направлению как развитие высокотехнологичных секторов промышленности.
Таблица 1.1. Предоставление в 2021 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета организациям на разработку программ бакалавриата и программ магистратуры по профилю «искусственный интеллект» Наименование победителей конкурса и размер предоставляемого гранта
Если говорить о цифровизации экономики в целом, то прежде всего это надо делать в наукоемких технологиях, определяющих уровень развития страны (не может быть цифровизации экономики без самой экономики!). При этом здесь необходима суперпозиция четырех блоков в одно целое: знать, как делать, как разрабатывать, как создавать прототипы и непрерывно их сопровождать. Молодежь надо настраивать идти не в блогеры, зарабатывающие немалые суммы, а в высокотехнологичные сферы экономики с соответствующим образованием на базе фундаментальных знаний.
Еще раз напомним о Карибском кризисе (16–18 октября) 1962 года, когда мир был на грани термоядерной войны, но мудрые руководители двух стран – президент США Дж. Кеннеди и Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета министров СССР Н. Хрущев приняли единственно правильное компромиссное РЕШЕНИЕ о взаимных уступках. А теперь давайте попробуем промоделировать ситуацию, когда РЕШЕНИЕ должен был принимать в сложившейся критической ситуации искусственный интеллект.
Далее, о якобы всесильности нейросетей в принятии управленческих решений в сложных комплексных ситуациях, а не при оказании стандартных сервисных услуг с их классификацией. Проблема состоит в том, что как человек обучил многомерные нейронные сети такие результаты они и будут выдавать по запросам на выходе при соответствующей загрузке их на входе. Поэтому их использование может быть эффективным при соответствующей квалификации «обучающих» для принятия решений и прогнозирования, например, в природных катаклизмах (катастрофические наводнения, землетрясения, цунами, ураганы и др.). При этом необходимо наличие соответствующей базы знаний по предвестникам этих сложных явлений, а также номенклатура отказов при оценке надежности различных технических устройств. Необходимая предварительная основа – технологии распознавания образов при наличии соответствующих данных по предшествующим подобным критическим событиям в условиях близких к реальным процессам.
Кроме того, наверное, можно говорить и об большой эффективности исследований по синтезу новых материалов с заданными/требуемыми функциональными и конструкционными характеристиками, а также в медицине и фармакологии при определении стратегических общих направлений при лечении больных с разработкой соответствующих лекарственных препаратов, но с дальнейшей конкретизацией по их реальному состоянию – это уже исключительная сфера ответственности человека.
Что же касается принятия управленческих решений по экономическим, политическим, военным вопросам, то использование нейросетей весьма проблематично – весь вопрос, кто их рукотворно обучал и под какой социальный заказ. Но даже в относительно простых ситуациях некорректность выдачи управленческих решений достаточна очевидна. Это проявляется даже в таком очевидном и простом по реализации процессе функционирования любого учреждения и систем жизнеобеспечения граждан как электронный документооборот, в частности в расплодившихся цифровых платформах типа Госуслуги и др. Стоит провести в подтверждение этого факта мнение такого авторитетного отца-создателя алгоритмов для функционирования нейронных сетей, каким является Джеффри Хинтон – британский ученый-информатик, наиболее известный работами в области глубинных нейронных сетей.
Речь идет о подходе на платформе GLOM (is derived from the slang «glom together» which may derive from the word «agglomerate») – о философии нейронных сетей[45].
Существующие здесь проблемы по итогам его анализа.
• Можно ли научить ИИ понимать окружающий мир так, как его понимают люди. Ключом к этому станет ли техника восприятия мира, подобная человеческой.
• Человеческое восприятие построено на интуиции, и чтобы ИИ понимал мир, возможно ли смоделировать для ИИ интуицию.
• Система визуального восприятия (пока ИИ не умеет это делать в принципе!).
• Понимание всей сцены в терминах объектов и их естественных частей (например, если такому ИИ показать десять фрагментов тела подорвавшегося на мине солдата, он опознает, что это труп мужчины).
• Распознавание объектов при взгляде с иной точки зрения (современный ИИ не может даже распознать автобус, перевернувшийся и лежащий на крыше).
В научном аспекте создаваемые алгоритмы и процедуры для принятия управленческих решений в разных сферах должны опираться на моделирование и прогноз с учетом современных достижений нелинейной динамики/стохастических процессов и квантовых технологий. Принципиально, что еще со времен Древней Греции было понято, что динамический процесс нельзя анализировать и рассматривать по стационарным точкам – знаменитые парадоксы Зенона. Но у некоторых наших нынешних аналитиков фиксация параметров в определенные моменты времени позволяют говорить о якобы новых тенденциях и трендах. В этом аспекте можно утверждать, что приоритетом является формулирование соответствующих математических уравнений с ключевыми управляющими параметрами в многофакторной задаче с последующей оптимизацией получаемых решений при соответствующем подборе значений этих параметров с проверкой на устойчивость финального решения при изменении значений параметров. При этом должны быть использованы методы корреляционного и статистического анализа с учетом влияния различных шумовых факторов, которые могут играть и конструктивную роль в формировании окончательного признака.
Другое дело, что решение таких сложных уравнений с учетом реальных внешних факторов часто не удается сделать аналитическими методами. Поэтому здесь и становятся необходимыми мощные вычислительные высокопроизводительны вычисления с использованием соответствующих программных и аппаратных средств. В этом плане до сих пор ведутся исследования в первоначально (20 лет назад) воспринятыми с большим энтузиазмом якобы из-за универсальных возможностей суперкомпьютерной отрасли. Однако, дальше вопросов создания и практики применения суперкомпьютеров, ГРИД и облачных технологий дело не идет. При этом Big Data требует очень деликатного обращения как при формировании контента, так и при тотальном использовании подобных баз данных (часто формулируемых без требуемой и необходимой экспертной оценки). В качестве доказательства этого можно привести широкий комплекс проблем и сфер применения, который обсуждался на Балтийском Форуме: Нейронауки, Искусственный интеллект и Сложные Системы, 13–15 сентября 2021 года[46].
Не останавливаясь далее подробно на многочисленных публикациях по проблеме ИИ, кратко приведем перечень ряда ключевых пунктов по данной тематике.
Во-первых, полезно познакомиться с государственной политикой США в области искусственного интеллекта: цели задачи, перспективы реализации[47]. Данная работа дает основание утверждать, что, обосновывая свои действия классическим «бронебойным» предлогом – угрозами для национальной безопасности, демократии и американского образа жизни со стороны «репрессивных режимов», а также используя сложность понимания тематики ИИ для непосвященных и очередную волну энтузиазма относительно этих технологий, лидеры ИТ-индустрии обеспечили себе доступ к административному ресурсу, чтобы:
• открыть дорогу широкому внедрению ИИ, в том числе в тех областях, где от решений алгоритмов будут зависеть человеческие жизни, пренебрегая при этом реальным решением существующих проблем с безопасностью таких систем;
• убрать правовые барьеры для бесконтрольного доступа и использования в своих целях таких массивов конфиденциальной информации, как персональные данные граждан или данные государственных структур.
Во-вторых, в литературе обсуждается искусственный интеллект и как инструмент развития финансовой глобализации[48]. Авторы данной работы ссылаются на мнение известного специалиста[49], когда глобализация становится моделью, основанной на восьми основных явлениях, к которым относятся:
– нивелирование межгосударственных границ;
– свободное перемещение информации, ресурсов, услуг, капиталов и увеличение их объемов;
– распространение западного менталитета на другие части планеты;
– усиление роли транснациональных и наднациональных организаций;
– навязывание внедрения модели устройства западного демократического государства в политическую жизнь других стран мира;
– формирование виртуального пространства для общения людей, которое усиливает возможность их непосредственного приобщения к общемировым процессам;
– насаждение в глобальном информационном пространстве образа ответственности человека за чужие судьбы, проблемы, конфликты, политические и иные события в любых уголках мира;
– формирование идеологии глобализации, основанной на совокупности принципов, призванных обосновать тенденции, направленные на объединение мира в единое пространство.
В-третьих, наряду с глобальными вопросами ИИ обсуждается также и применение технологий искусственного интеллекта в корпоративном управлении[50]. В этой работе делается вывод о том, что внедрение технологий искусственного интеллекта в различные сферы деятельности корпораций, включая систему корпоративного управления, будет сопровождаться значительным количеством проблем и потребует поиска ответов на ряд сложных вопросов. С другой стороны, отказ от использования этих технологий неизбежно создаст угрозу для существования бизнеса корпораций, учитывая конкурентные преимущества, которые могут предоставить алгоритмы искусственного интеллекта.
В-четвертых, разумеется, вся эта деятельность проходит в условиях сильной мировой конкуренции. В частности, если говорить о США, то они обеспокоены достижениями России и Китая в сфере искусственного интеллекта[51]. США на современном этапе считают основную угрозу по данному направлению, связанную с Китаем. В этом плане интересно познакомиться с мнением главного эксперта Пентагона по программному обеспечению, который считает, что США проигрывает Китаю[52]. Он считает, что нет конкурентных шансов противостоять Китаю в течение ближайших 15–20 лет, поскольку сейчас это уже решенная сделка. Она, на взгляд эксперта, уже закрыта. При этом примечательно, что успех Китая в ИТ-секторе эксперт связал со стратегией властей – номинально технологические компании Китая независимы, однако они выполняют любые требования регуляторов и сотрудничают с конкурентами, когда это необходимо. Этот добровольно-принудительный порядок привел к тому, что технологическая инфраструктура Китая работает слаженно и быстро – разработчики избегают бюрократии, а правительство обеспечивает необходимое финансирование новых проектов.
К сожалению, Россия не в состоянии на сегодняшний день следовать этим принципам, поскольку на нашем отечественном ИКТ-рынке полностью доминируют иностранные компании, работающие под свои собственные интересы в условиях агрессивного подавления возможных конкурентов, включая Россию.
