Фонтан бабочек бесплатное чтение
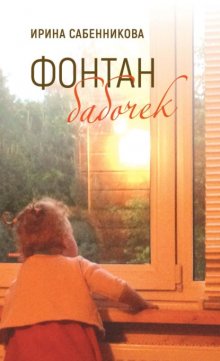
© Сабенникова И.В., 2023
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2023
Считалочка для взрослых
- Давай с тобой сорочью кашу сварим:
- Открой ладошку, пальчики сожми,
- По одному их, не спеша расправим,
- Считая вместе только до пяти.
- Сорока наварила вдоволь каши
- И накормила ею четверых,
- А пятый был ленив, хотя всех братьев краше,
- И на его уходе кончен стих.
- Он блудный сын, который всех дороже,
- Как совесть, растревоженная боль.
- Куда ушёл он, на какой рогоже
- Глотает пыль или событий соль?
- Но всё потом, а детская считалка
- От этого не стала весела.
- Раскрыты пальчики, но отчего-то жалко,
- Что пятому мать каши не дала.
- И снова, подставляя мне ладошку,
- С надеждой смотришь, веря, что теперь
- И пятому найдётся каши ложка,
- Пусть он останется и не закроет дверь.
Как просто быть счастливым
– Дедушка, дедушка, у меня тень пропала, – причитал маленький мальчик, вертясь на затемнённом участке площадки, где ветви подросшего клёна закрывали уличный фонарь. – Может быть, ей со мной скучно стало, и она ушла? – говорил он, едва не плача, теперь уже присев и осторожно, с каким-то несвойственным взрослым доверием заглядывая под машины: не спряталась ли она там?
– Ничего, ничего, иди ко мне, сейчас найдём её, – отозвался высокий, особенно в сравнении с маленьким и худеньким мальчиком, и чуть нескладный мужчина – очевидно, его дед. – Тень – она же как приведение, то нет её, а то прилипнет и не отстаёт, – объяснял он ребёнку. – Иди сюда, здесь поищем.
Ребёнок, исследовав днище всех машин, вышел на тускло освещённый участок и тут же замер.
– Дедушка, – громко прошептал он, – я её нашёл, только она какая-то вялая, заболела, наверное. Как же нам её теперь лечить?!
– Ничего, вылечим, вот увидишь, – гудел дед, уводя ребёнка подальше от дома, то ли потому, чтобы тот не потребовал немедленно вернуться к маме за помощью, то ли борясь со своим собственным желанием вернуться домой под тёплый плед к телевизору: на улице был первый по-настоящему холодный день.
– Вот здесь посмотри, – слышалось уже издалека, – видишь, она уже и оживилась, здесь простора больше, да и светлее.
Возле аптеки, где они теперь остановились, горел яркий фонарь.
– Ой, дедушка, – послышались радостные возгласы мальчика, – она выросла! Смотри, смотри, в кустах запуталась, давай-ка её вытащим оттуда.
– Ничего-ничего, – откликался дед со знанием дела, – ей не страшно, не порвётся, сам-то туда не ходи, ко мне иди.
Так понемногу они продолжали удаляться, перемещаясь от фонаря к фонарю, и оттуда продолжали долетать детские возгласы: ребёнок то радовался, то огорчался, по мере того как вела себя его ещё не прирученная тень.
Он воспринимал её как только что обретённого друга, который может уйти, не захотев с ним играть, или пойти к какому-нибудь другому мальчику, что было бы очень обидно. Ребёнок искренне дорожил этой дружбой, которая была для него важна, как важно бывает в три года всё: и коробка спичек, и катушка, и потрёпанный плюшевый медведь, а тем более живая тень, которая дружит только с тобой!
Я стояла возле подъезда чужого дома и, прислушиваясь к удаляющемуся и уже едва слышному разговору деда и внука, думала о том, насколько наполнены событиями и эмоциональными переживаниями дни маленьких детей, насколько они долги, так, что порой кажется, что это и есть вся жизнь, а завтра будет уже другая жизнь и ты будешь другой, и страшно вечером засыпать: вдруг завтра тебя не узнают, так ты переменишься за ночь. А взрослые, живущие рядом, окружающие заботой и любовью этого ребёнка, даже не догадываются об этих страхах, не чувствуют, что время у них и у ребёнка течёт совсем иначе, и только торопят его то есть, то спать, то гулять, спешат скорее подвести малыша к тому возрасту, когда их время совпадёт и они станут равны. Но только это совпадение длится одно мгновение, а дальше их время, постоянно ускоряясь, устремится к своему завершению, а его время, став обычным в общепринятом смысле, когда день включает 24 часа, 1440 минут, или 86 400 секунд, вдруг потечёт размеренно и скучновато. И только тогда, когда он обретёт ощущение абсолютного счастья и гармонии, влюбившись, это время опять станет как широкая река – наполненным бесчисленными событиями, ощущениями, открытиями, эмоциями как в детстве. Значит, ощущение времени зависит от состояния нашей души, а вовсе не от того, насколько много дел нам надо переделать и какими техническими средствами мы обладаем, чтобы ускорить этот процесс.
Помните ли вы хоть один день из своего детства? Наверное, нет. Отдельные события, переживания, какие-то разрозненные ситуации, конечно, помните, но целый день с утра и до вечера – маловероятно. Это примерно то же, как если бы вас спросили: помните ли вы всю свою жизнь в мельчайших подробностях? Даже если бы вы вели дневник, то и тогда не вспомнили бы всего и не смогли бы восстановить в памяти того, что было с вами до семи лет, когда вы научились хорошо писать и начали записывать события своей жизни. Конечно, ваши детские записи позабавят вас своей наивностью, но вы стали другим, в прежние ощущения уже не влезть, как и в детскую одежду. И всё же попробуйте это сделать. Зачем?! Ну хотя бы затем, чтобы отвоевать у вечности несколько драгоценных мгновений своей жизни, чтобы стать моложе, чтобы очистить свою душу от тех пустых треволнений, которые вы теперь почему-то называете эмоциями, но которые ими не являются, чтобы наконец прикоснуться к источнику истинной радости, стать, пусть только на эти несколько мгновений, искренним с самим собой, понять самого себя.
– А потом, потом как жить? – спросите вы.
– Потом? Сами всё поймёте. Это совсем не страшно, попробуйте. Давайте вместе, вы и я. Я буду вспоминать этот свой день, а вы будете рядом, и оттого ваши воспоминания постепенно пробудятся, окрепнут, приобретут какие-то конкретные событийные формы, давно забытые запахи, цвет, вкус, ощущения.
Утро, раннее утро, я – жаворонок, по крайней мере меня так всегда называют родители, потому что я просыпаюсь рано и с улыбкой, как просыпается большинство маленьких детей. Просыпаются для того, чтобы открывать для себя мир.
Луч весеннего солнца уже проник сквозь занавески и дотянулся до самой кроватки, взбаламутив пылинки, которые теперь плавают в его ярком многослойном, словно слюда, свете, похожие на планеты, то исчезая, то вновь появляясь. Почему планеты, я не знаю, наверное, брат что-то читал мне о планетах. Он всегда читает мне вечером вслух, но поскольку сказки все давно уже прочитаны, то он читает то, что интересно ему, – Майн Рида или что-то из учебников. Планеты пылинок медленно плавают в солнечном луче и не тонут. Я выставляю пальчик и пытаюсь дотронуться до луча, он тёплый, а палец становится розовым и прозрачным, отчего хочется его лизнуть.
Я лежу в детской кроватке, выкрашенной белой краской и затянутой нитяной сеткой сбоку, чтобы я не выпала. Кроватка уютная, но сетка мне не нравится, и я начинаю думать, как бы выбраться, хотя лежать и мечтать, представляя себя такой же плавающей пылинкой, очень приятно. Выбраться не так-то просто. «Точно для кроликов», – думаю я, вспомнив, как недавно кормила травой и капустными листьями кроликов с подвижными розовыми носиками, а они, жуя, шевелили усиками, но бежать не пытались.
Я не кролик, и поэтому меня одолевает навязчивое желание вылезти из кроватки, к тому же там внизу – игрушки, которые меня ждут. Я сбрасываю одеяло, луч скользит по моей руке к плечу, точно чьи-то нежные тёплые пальцы.
Подёргав туда-сюда сетку, я наконец-то сдёргиваю её с одного из невидимых крючков и ужом вылезаю наружу сквозь образовавшуюся щель. Свобода!
Однако шуметь не стоит. Брата я, конечно, не разбужу, он, должно быть, не так давно и уснул, но родителям не обязательно сразу знать, что я проснулась: можно спокойно поиграть, прежде чем придут нас будить.
Игрушки все, как их вчера посадили, сидят на деревянных стульчиках за столом: Петрушка – в разноцветном балахоне, он совсем новый, с пластмассовой жёсткой головой, которой он всё время норовит удариться об пол, если его подбрасывать. Прежний мне нравился больше, он весь был тряпочный и мягкий, уютный такой и не дрался. А этот всё время бодается. Вот кукла Наташа, волосы у неё светлые и заплетены в косички как у меня, мама сшила ей платье из лоскутов, и теперь Наташа очень нарядная. Рядом с ней негритёнок Том – это имя из какой-то книжки. Он в ярко-жёлтом, ему идёт всё яркое, и для него сшили необычный костюм из маминой пижамы. Рядом с Томом – пупс Додо, пластмассовый и гладкий, он мне очень нравится, его можно заворачивать в лоскуты и купать, он ещё совсем маленький. Почему его так зовут, я точно не знаю, но все куклы приходят уже со своими именами, так же как и люди. Лишь одной самой красивой кукле я дала имя сама. Её прислали мне из Ленинграда большой посылкой ко дню рождения. Прислала моя двоюродная бабушка Лёля – и кукла тут же стала Лёлей. Она самая большая, умеет закрывать серо-синие глаза и говорить «ма-ма», и потому, наверное, у неё своё отдельное место. Для других кукол мама шьёт наряды, а у Лёли своё бело-голубое платье с бантом, на ножках носочки и баретки, она немка и гордячка, и такая нарядная, что с ней почему-то не хочется играть.
Раз утро, то пора завтракать, и я накрываю для кукол стол к завтраку, достаю кукольную посуду из кукольного буфета – маленькие тарелочки с синей яхтой посередине, чашечки, чайник и молочник. Теперь они могут завтракать, а я порисую. Я не особенно люблю играть с куклами, но мама говорит, что девочка должна играть в дочки-матери и уметь шить куклам одежду, а не гонять по улице, поэтому я с ними играю, но рисовать мне нравится намного больше.
Мне нравится рисовать берёзы, на которых распускаются цветы, – это очень красиво, хотя нравится только мне, да ещё Вовке Сухову. Взрослым совсем не нравится – ни воспитательнице Анне Чеславне, ни моим родителям, а брат говорит, что я художник от слова «худо», потому что рисую то, чего в природе нет. Но я же нарисовала – значит, есть. Мне так хочется быть художником! Я даже книжки раскрашиваю, чтобы они красивее были, а то всё одни буковки. Вчера меня за это отругали, но я же знаю, их больше никто не раскрасит, что ж, им так серыми и оставаться?!
Я неловко дёргаю карандаш, и большущая коробка с разноцветными карандашами с грохотом падает на пол. Брат приоткрывает один глаз, просыпаться ему не хочется, видит меня и опять засыпает. Привлечённый шумом, в комнату заглядывает папа. Наверное, он подумал, что я выпала из кровати. Я сижу на полу на большой плоской подушке, набитой конским волосом и вышитой крестиком. Если смотреть близко-близко, то видно только крестик – один, другой, третий, все разного цвета, а рисунка нет. Но если встать и посмотреть на подушку сверху, то крестиков совсем не видно, зато видно оранжевые цветы. Иногда из подушки можно выдернуть чёрный упругий, как проволока, волос – наверное, это он конский, но откуда их столько набралось, непонятно. Мои волосы мама собирает, когда они остаются на расчёске, но ими подушку не набьёшь. Вот интересно: почему у лошади конский волос, а у коня тогда чей, лошадиный, что ли? И зачем они поменялись. Надо спросить папу.
Подушку подарили, когда я родилась, теперь мне пять лет, недавно был день рождения, и приходил Вовка Сухов. В садике нас дразнят «тили-тили-тесто, жених и невеста». Думают, наверно, что это обидно.
Мы с Вовкой приятели, он во всё верит, что ему ни скажу. И рисунки ему мои нравятся. А ещё мы с ним делаем птичек из пластилина. В садике цветных карандашей много, и всё больше поломанные, их всё время точат, а стерженьки разноцветные вместо пёрышек – очень даже красиво. Птички прямо настоящие получаются.
Вовка ко мне на день рождения приходил и чашку голубую с белым блюдцем подарил, на блюдце тоже голубая каёмочка. Я из неё теперь чай пью. Мой брат говорит, что Вовка, когда вырастет, вертолётчиком станет, потому что у него уши оттопырены, точно пропеллеры у вертолёта. Я Вовку спрашивала, правда ли он вертолётчиком хочет быть, да он не знает. А я знаю: буду художником.
Я делаю последние короткие вертикальные штрихи зелёным карандашом, означающие траву, и разбрасываю по ней снежинки цветов. Ну вот картина уже готова: маленький жёлтый домик с одним окошком на зелёной поляне, большая белая берёза в чёрную крапинку, вся покрытая розами, точно розовый куст, и солнышко наверху в веснушках. Солнышко раскрасило мой нос, так что каждую весну я ото всех только и слышу: «Какие конопушки! Это тебя солнышко любит!» Я его тоже люблю, пусть теперь с веснушками будет. Очень красиво!
Солнце уже заполнило своим светом, пройдя сквозь шёлковые занавеси, как вода сквозь сито, всю комнату, добралось до кукольного стола и до моего рисунка, тут же оживив всё, что я нарисовала.
«Чтобы стать счастливым, надо радоваться тому, что имеешь» – слова оптинского старца Амвросия просты и точны, как у ребёнка, который всегда видит суть. Не оттого ли дети так часто счастливы, что у них нет промежуточных состояний и всё делится на «да» и «нет», «плохое» и «хорошее». Для них день не является монолитом – начался утром, закончился вечером, нет, он разбит на множество логически завершённых временны́х отрезков, каждый из которых уже равен по своей эмоциональной насыщенности целому взрослому дню, как это раннее весеннее утро, как путь в детский сад – никогда не повторяющийся, точно вода, в которую не войти дважды, как встреча с родителями вечером, которая всегда праздник и всегда чудо, как тень, с которой каждый раз надо знакомиться заново, заново её приманивать и приручать, и так без конца. Жаль, что мы, вырастая, забываем, как просто быть счастливыми.
Сиренька, сырок и старый баркас
Сиренька и Старый Баркас жили здесь давно и были знакомы уже много лет. А вот Сырок появился совсем недавно и очень удивился, что уже существуют и Сиренька, и Старый Баркас и ему не придётся их придумывать.
Старый Баркас лежал на песчаном берегу, поскрипывал всеми своими снастями, охал при каждом порыве ветра и ждал, когда же его наконец спустят на воду. Ещё осенью рыбаки вытащили его из моря на прибрежный песок, и всю долгую сырую зиму он провёл на берегу, как никому не нужная старая галоша. Его обшивка под ветром и дождём сильно обтрепалась, доски на палубе разошлись, краска местами облупилась – он явно нуждался в починке и обновлении, но самое, конечно, главное, что знал только он, так это то, что он нуждался в любви и участии. Время шло, уже наступил апрель, море из серого и мрачного стало волнующе голубым, а Старый Баркас всё ещё не спустили на воду. Только чайки, которых он мог видеть с берега то припадающими к волне, то взмывающими высоко с восходящим потоком воздуха, прилетали к нему порой по старой памяти. Они по-свойски садились на капитанскую рубку или флагшток, а чаще важно расхаживали по палубе, делясь с ним последними птичьими новостями, неожиданно поднимали гвалт и шум, не сойдясь во мнении о важности какого-то события, и, рассорившись, улетали. А Старый Баркас опять оставался один, он всё ждал и ждал, когда же о нём вспомнят.
Сиренька была небольшим изящным кустом сирени, каждый лист которого своей формой повторял настоящее человеческое сердце. Эти листья, плотные и блестящие, никогда не желтели, но осенью, уже с заморозками, вдруг разом все опадали, словно не могли перенести холодного равнодушия к себе. Однако уже в апреле, при первом проявлении тепла, когда солнце ласково касалось её обнажённых веток, на них вновь, точно по волшебству, появляются маленькие зелёные сердца, среди которых неожиданно радостно вспыхивали то лиловым, то ярко-белым цветом кисти соцветий, сплошь состоящие из маленьких четырёхлепестковых цветков. Сирень оживала, и в буйстве её цветения вдруг начинало казаться, что она кипит, наполняя всё кругом горьковатым пьянящим ароматом, заглушавшим даже запах самого́ моря.
Так и в этом апреле, при первом появлении солнца зацвёл куст сирени, сначала робко, но постепенно набирая силу своего неповторимого глубокого аромата. Куст рос на самом краю спускающегося к морю старого дубового леса, там, где серая полоса дороги отделяла его от прибрежного песка, и был хорошо виден со стороны моря. Старый Баркас, лежащий на берегу, не обращал на сиреневый куст никакого внимания, даже не отличал его от других кустов и деревьев, ещё лишённых своей разнообразной листвы, по которой так легко прочесть их имена. Хотя и Старый Баркас, и Сиренька знали о существовании друг друга давным-давно, но ситуация сложилась неравной: Сиренька всегда помнила о Старом Баркасе и смотрела на него влюблёнными глазами, каждый свой сердцевидный листок, как откровение, посылая ему, в то время как Старый Баркас, мысли которого были обращены к морю, не замечал Сиреньку до тех самых пор, пока она не расцветала в середине апреля, наполняя своими чарующими ароматами всю округу и даже его заставляя волноваться. Все влюблялись в Сиреньку, и Старый Баркас вдруг тоже вспоминал о ней и начинал бросать ревнивые взгляды, призывая её к скромности. Сиренька цвела, думая, что цветёт только для него. На её цветы слетались пчёлы и шмели, маленькие птички порхали в её ветвях, даже соловей на вечерней заре прилетал спеть свою песню любви среди её цветов. Так что не заметить и не полюбить Сиреньку было нельзя, и Старый Баркас на время забывал о море и смотрел на неё растроганно и влюблённо, как смотрит моряк после долгого плавания на свою невесту.
Правда, они только и могли что бесконечно смотреть друг на друга то нежно, то, когда подует сильный ветер с моря и Старый Баркас задумается о скором и далёком своём плавании, вопросительно. Так бы и продолжалась их жизнь, если бы однажды и совершенно случайно не появился Сырок. Так ласково называли маленькую девочку, которая хотя и жила уже на свете три с половиной года, но только теперь познакомилась с Сиренькой и Старым Баркасом. Она, как это свойственно только маленьким детям, сразу почувствовала всю сложность и трагизм сложившейся ситуации и заявила: «Они такие красивые, надо им помочь», – и тут же придумала свою историю, которая, в сущности, была продолжением прежней.
Старым Баркасом у неё оказался немолодой мужчина, который часто прогуливался вдоль моря, наблюдая за полётом крикливых чаек, вступивших в единоборство с ветром. Он носил капитанскую фуражку и чем-то неуловимо был похож на человека, сошедшего когда-то на берег с такого же баркаса, как тот, что лежал теперь здесь, зарывшись в песчаные волны пляжа, как когда-то зарывался в морские. А потому его романтический облик и капитанская фуражка вполне совпали в детском воображении с самим Старым Баркасом и срослись в одно, так что даже душа Старого Баркаса переселилась в этого мужчину.
Сиренькой стала симпатичная женщина, время от времени составлявшая компанию мужчине в капитанской фуражке. Ребёнок не слышал и не всегда понимал, о чём именно говорили эти двое, но дети видят сердцем, то есть самое главное, как объяснял когда-то Лис Маленькому принцу. Возможно, поэтому Сырок чувствовала, что эти двое гуляющих по пустынному пляжу, оставляя на влажном песке едва видимые следы, которые тут же с непонятным усердием стирали морские волны, смотрят друг на друга совсем иначе, чем все остальные. Она решила, что имя Сиренька подойдёт женщине больше любого другого, даже её собственного. Таким образом справедливость была восстановлена – Старый Баркас и Сиренька встретились, и не только встретились, став теперь людьми, но и узнали друг друга. А ведь могли и забыть или не узнать, сколько таких неузнанных ходит по жизни, по какой-то необъяснимой причине забыв и только во сне вспоминая, кто они есть на самом деле.
Двое людей, ничего не зная о фантазиях маленькой девочки, прогуливались по пляжу, держась за руки, и с наслаждением вдыхали морской воздух, смешанный с запахом цветущей сирени, что бывает только в апреле. Со стороны казалось, что они действительно только что встретились после бесконечно долгой разлуки и боятся, что их опять разлучат обстоятельства или чьи-то недобрые фантазии. Но этого уже никогда не произойдёт, потому что Сырок заботливо следит, чтобы Сиренька и Старый Баркас всегда были вместе, ведь это её сказка и никто другой изменить её счастливого конца уже не сможет. Даже когда Сырок вырастет и перестанет быть Сырком, а станет изящной и красивой девушкой, сказка о Сиреньке и Старом Баркасе останется.
Два жирафа
Первое сентября – уже не лето, но ещё не осень, а некое переходное состояние, от блаженного ощущения дачного покоя и неторопливого, только лету присущего медлительного течения времени к чётко структурированному расписанию городской жизни, где у каждого предопределены свои обязанности. Стеша всего этого не знала, но всем своим детским существом чувствовала, как меняется красочная летняя картина настроения, окружавших её взрослых, приобретая более холодную сине-зелёную и фиолетовую тональность. А потому она сама стала задумчивее и даже капризней. А тут ещё детский сад.
Стеша – человек общительный, для неё детский сад – приключение с продолжением, не то что для других. «Социализация» – слово-то какое казённое, а для ребёнка это движение вверх по лестнице: где-то ступенька поменьше – и там легко, а другая покруче и не в размер – там труднее. Но если оставить все эти рассуждения за кадром и сказать просто, то получится – 1 сентября Стеша первый раз пошла в детский сад.
Забрали из садика её пораньше, чтобы не пугать сразу длительным пребыванием в незнакомом месте. Мороженое купили для закрепления положительных эмоций и устроили маленький семейный праздник. Стеше в садике понравилось.
– Клоны, – говорит, – были, играли сказку «Маша и Медведь».
– Какие такие «клоны»? – спрашиваю я, дивясь развитости трёхлетнего ребёнка и одновременно ужасаясь неожиданному предположению.
– Те, которые в цирке выступают!
«Ах клоуны, – доходит до меня, – ну слава богу, не вундеркинд, можно успокоиться».
– Девочки в группе были? – задаю я глупый, но необходимый вопрос, хотя знаю, девочек от мальчиков она с младенчества отличает и своё женское начало всеми фибрами души чувствует, да и использует уже неплохо. Лиса – Стеша.
– Были, конечно, – отвечает она снисходительно.
– А мальчики?
Она кивает.
– А кого больше, мальчиков или девочек? – это уже вопрос на развитие.
– Девочек, конечно. Эх, хорошо, что все мы девчонки! – восклицает она с искренним удовлетворением, а я и не знаю, включена ли я в этот круг девчонок, но полагаю, что включена, от этого мне тоже становится хорошо. Интересно, чувствует ли трёхлетний ребёнок возраст, он ещё почти чистая душа, а у души возраста нет. Не потому ли так легко общаться с детьми, даже без слов, улыбки довольно. Это как от берега оттолкнуться, а дальше уже всё само, и ведущим обязательно будет ребёнок, что бы педагоги по этому поводу ни рассуждали.
– А чем же вы там в садике занимались? – спрашиваю я, хотя и так знаю распорядок дня, заранее всё изучила на доске детсадовской информации.
– Играли, гуляли… – перечисляет Стеша, каждое слово сопровождая кивком головы, потом перестаёт кивать, задумывается и говорит мечтательно: – Спали.
Для неё это необычно, первый раз спала вне дома. Сон для ребёнка не только некое физиологическое состояние, это волшебство, переход в параллельное измерение. Посмотрите на ребёнка, когда он просыпается и не может понять, здесь он или ещё там, и никак не хочет сюда, назад, в нашу социализацию.
Я понимаю, что надо эту тему как-то разговорить, и спрашиваю:
– Ты спала в кроватке?
– Да, – согласно кивает девочка, – мно-о-о-го кроваток.
– А что снилось? – наконец задаю я давно припасённый и самый для меня интересный вопрос.
– Мне снились жирафы, – сообщает ребёнок доверительно, словно приоткрывает мне свою тайну. – Один жираф жёлтый, а другой – фиолетовый.
Она произносит слова раздумчиво, мечтательно растягивая, а я чувствую, что ко мне откуда-то свысока склоняются две жирафьих морды на длиннющих узорчатых шеях: одна – улыбающаяся, жизнерадостная (жёлтая), другая – немного грустная, задумчивая (фиолетовая). У обеих мягкие, большие, подвижные губы, которые щекочут мои волосы. Стеша это тоже чувствует, мы обе смеёмся.
Сон – это всегда чудо. Ну неслучайно же ей приснился такой необычный сон, которым она поделилась со мной, да и не только со мной, а со всеми нами. Значит, этот сон теперь и наш тоже. И что же это всё значит для неё, для меня, для её родителей? Не знаю, что бы сделали вы, но я лезу в сонник – и не в первый попавшийся, а подхожу к вопросу вполне научно и исследую все сонники, до которых только могу докопаться. Получается интересно.
Сначала поискала в шкафу потрёпанный семейный сонник, перешедший мне по наследству от кого-то из двоюродных бабушек (именно эта категория родственников оставляет самое неожиданное наследство, которое не знаешь, как применить, а выбросить рука не поднимается). Но не нашла и тогда, вспомнив, что на дворе двадцать первый век, прибегла к помощи интернета. Сонников в сети оказалась тьма-тьмущая, хорошо ещё, не во всех упоминается жираф. Я не нашла его в древнееврейском и ассирийском сонниках – должно быть, в те далёкие от нас времена мало кто знал о существовании длинношеих животных или просто не было времени на интересные сны.
Не было его и у Карла Юнга. Впрочем, с его методом ассоциаций однозначного толкования и быть не может, для каждого оно своё. По мнению Юнга, главное – понять, почему бессознательное выбирает именно этот символ для спящего, что оно хочет этим сказать. Собственно, я хочу того же, что и великий психолог, – хочу понять, почему жирафы и для чего так причудливо раскрашены. Пролистав ещё несколько страниц учёного трактата и почти уже забыв о первоначальной причине своего интереса, я вдруг натыкаюсь на постулат, в котором говорилось, что если сновидение не имеет смысла для того, кто его увидел, то невозможно и толкование. «Надо будет к этому вернуться и спросить Стешу, что она сама-то думает о своём сне», – решила я и продолжила поиски. Если уж Юнга не поленилась открыть, то надо и Фрейда посмотреть, у него хотя бы символика носит универсальный характер, а значит, и сонник должен быть. Я не ошиблась, основатель теории психоанализа не обошёл вниманием жирафа.
«Видеть жирафа во сне, – повествовал Зигмунд Фрейд, которого прошлое с врезавшимися в него, точно остеофиты, комплексами интересовало гораздо больше, чем будущее с его радужными надеждами, – значит, что вы обратили внимание на человека, который считает ниже своего достоинства общаться с вами. Совершенно непонятно, что послужило стимулом для того, что вам захотелось быть с этим человеком, потому что он – неисправимый сноб и гордец, который любит в жизни только себя одного. Вы испытаете жесточайшее разочарование. Вам это нужно?»
«Нет, – решила я, – ни мне, ни Стеше этого не нужно». Но что-то всё-таки не давало покоя, уж больно красив был этот фиолетовый жираф и загадочен, и я продолжила поиски.
Жирафа не было в толстенном томе Генри Миллера, я нашла там целый зверинец – в алфавитном порядке выстроились: волк, лисица, земляные черви и жабы, царь зверей – лев и символ нашей российской ментальности – медведь, а также небольшой птичник, неизменно включающий петуха, заменяющего собой феникса, ворону, совмещённую почему-то с вороном, сову и орла, как родоначальника целого семейства ястребиных. Что делать, толкователи снов далеки от орнитологии. Любопытно было бы узнать, что снится самим орнитологам, жаль, у меня среди них знакомых нет. Но то, что в этой компании не было жирафа, меня даже порадовало. Единорога тоже не было, а по моему мнению, два этих образа очень близки в эмоциональном восприятии.
Полистав другие сонники весьма уважаемых, но большей частью глобально мыслящих провидцев, включая Нострадамуса и Вангу, где жираф также отсутствовал, я перешла к тематическим изданиям. И первым, конечно, выбрала детский сонник, хотя гендерный подход мне не кажется особенно уместным. Но в данном случае мне было любопытно, сильно ли будет отличаться трактовка сновидений.
«Не спорь с теми, кто старше тебя, им виднее» – истина, разумеется, вечная, не поспоришь, только при чём здесь жираф и даже два жирафа. О возрасте и социальном статусе во сне ничего не было, только цвет, хотя жирафу с его колокольни окрестности, конечно, виднее. Ладно, посмотрим, что ещё есть.
Поскольку Стеша – член семьи, даже можно сказать – центр семейной вселенной, вокруг которого всё и вращается, то её сон не может не отразиться на всех нас, и я заглянула в книжечку с многозначительным названием – «Сонник для всей семьи». Да, если предположить, что Стешин сон в руку, то нас ждут большие расходы и африканское сафари с последующим непременным безденежьем. Ничего удивительного, экзотические путешествия сегодня дор́ оги, а если возьмут в заложники (какой-нибудь местный племенной царёк, например), то и вся родня на выкуп собирать будет, и неизвестно, соберёт ли. Нет, в Африку пока не поедем, как это ни заманчиво.
«Если вы погладите жирафа, то скоро добьётесь расположения дамы, о которой мечтаете уже длительное время», – гласила следующая запись в том же соннике. «Интересно, – подумала я, – сонник позиционируется как семейный, а подтекст у него определённо мужской. В наше время всеобщей эмансипации звучит как-то несовременно и не к месту романтично».
В следующей книжке с настораживающе-неопределённым названием «Сонник странника» жираф, как ни странно, присутствовал. Впрочем, «странник» – понятие очень неконкретное, он может оказаться и путешественником, и охотником, а в таком случае жираф просто необходим, как символ чего-то далёкого и труднодостижимого. Однако автор сборника был предельно лаконичен – сон о жирафе означал успех. Это хорошо, но хотелось бы пояснений. Вот так всегда. Либо чернуху какую предскажут с подробными пояснениями, так, что, кажется, неприятностей уже не избежать, а как что приятное, так обязательно кратко, сам, мол, додумывай, и ответственность за предсказание только на тебе: неправильно расшифровал – сам и виноват.
Наконец я добралась и до наших современников – «Сонник Белого Мага», значит, и такие бывают, а ведь двадцать первый век. Здесь всё оказалось неоднозначно и весьма противоречиво, но можно было выбирать, что нравится больше. Так подряд всё и дано, и, как этими толкованиями пользоваться, я не вполне поняла: может быть, как при гадании на книгах – строчку загадывать. Так, например, вторая строка сверху сообщала, что жираф означает недостижимую мечту и надо набраться терпения. На строчке седьмой был дан совет – не стоит недооценивать окружающих и преуменьшать свою значимость. Тоже весьма неоднозначно и противоречиво, одно, на мой взгляд, исключает другое.
Не знаю, видели ли вы где-нибудь стадо жирафов, но такой сон предвещает встречу с врагами и выяснение отношений. Если вы к этому не готовы, то лучше избегайте таких снов или не пользуйтесь сонником Белого Мага. Хотя услугами Чёрного Мага тоже лучше не пользоваться, а то ведь от этого стада потом не оторваться без его же помощи – скорее всего, недешёвой.
«Ладно, Бог с ней, с учёностью, спрошу лучше ребёнка», – решила наконец я, вспомнив давнюю поговорку: устами младенца глаголет истина. Пора было эту истину услышать.
– Стеша, а ты сама как думаешь, почему тебе жирафы снились?
– Потому что кла-си-вые, – нараспев и делая ударение на последнем слове, ответил ребёнок.
Всё тут же встало на свои места. Не надо было больше ворошить гору литературы, скопившуюся у меня возле стола, не надо рыскать по интернету в поисках чего-то упущенного. Всё просто: красота – это главное, она, как тут же подсказала мне услужливая память подходящую цитату, спасёт мир.
Грустный продавец книг
В июле подмосковные дачи – лучшее место для отдыха: там нет ни удушающей в своих объятиях ночной духоты, ни испепеляющей страсти полуденного зноя, а только ощущение бесконечного лета, которым пропитано всё вокруг, создающее чувство детского праздника, радостного даже в самых незначительных своих проявлениях, таких как, например, чаепитие с самоваром в саду или утренняя чашечка кофе, сваренная на раскалённом песке мангала, или качание на садовых качелях. Качели – это в полной мере летнее чудо: на них можно сидеть, откинувшись на спинку, и читать, оставаясь невидимой для всех за разросшимися кустами гортензии. Можно лежать, изучая беспрерывно меняющийся сюжет небесной пантомимы, где облака без устали меняют свой облик, рассыпаясь и вновь сливаясь воедино, послушные то ли ветру, то ли твоей фантазии, непонятно.
Вот в такой июльский день мы и сидели со Стешей на садовых качелях, укрывшись от глаз всех остальных, и читали сказки. Теперь к сказкам продаются ещё и раскраски, а значит, ребенок полноценно участвует в процессе освоения книги – он слушает и трудится одновременно, чувствуя себя созидателем того волшебства, которым является сказка. Эта находка современных издателей нам со Стешей очень нравится.
– Где ты купила эту книжечку? – спрашивает меня Стеша, она, как все трёхлетние дети, хочет всё знать, теперь её заинтересовал и этот вопрос – где берут книги?
– Сказку о Дюймовочке мне дал грустный продавец книг. Можешь ли ты представить себе что-нибудь более печальное, чем грустный продавец книг? – спросила я ребёнка непонятно зачем, впрочем, это был скорее риторический вопрос самой себе.
– Грустный продавец воздушных шариков, – услышала я в ответ и в очередной раз поразилась, как тонко дети всё чувствуют, даже порой не понимая всего смысла. Действительно, грустный продавец воздушных шариков – это ужасно. Представляете, человек, продающий детям праздник, – грустный! Нет, так быть не должно. Вы, даже будучи взрослыми, наверняка замечали, как учащённо начинает биться ваше сердце, как оно трепещет от непонятного уже для вас восторга при виде разноцветных воздушных шариков и, вопреки разумным доводам, ждёт чуда. Это один из известных мне способов возвращения в детство, так же как мороженое или карусель с лошадками. Полагаю, что спорить с этим вы не станете, хотя на лошадку уже едва ли взгромоздитесь.
– А какие книги он продаёт?
Я отвлеклась и не сразу поняла вопрос, переспросила: Кто продаёт?
– Как кто? Ну дядя этот, что книги продаёт и грустный.
Я припоминаю книги, которые видела на прилавке, большей частью это взрослые книги, которые для ребёнка непонятны, но всё же решаюсь назвать несколько.
– Там есть «Чёрная и Белая богини» Роберта Грейвса, «Мифы Древней Греции», и «Иудейские мифы» я тоже видела.
– Мифы – это что? Это сказочки такие? – спрашивает Стеша, напоминая мне о своём реальном возрасте.
– Да, – вынужденно соглашаюсь я, – только пришедшие к нам из очень давних времен.
– Как Дюймовочка? – следует следующий вопрос, который приводит меня в замешательство.
– Почему как Дюймовочка? – переспрашиваю я, стараясь уловить логику детских рассуждений.
– Потому что Дюймовочка одета совсем не как я или Варя и с животными умеет разговаривать, а я не умею. Забыла, наверное, – добавляет она не вполне уверенно.
Я поражаюсь логичности размышлений трёхлетнего ребёнка и признаю его правоту: действительно, сказки и мифы очень похожи.
– Твой продавец книг потому грустный, – делает неожиданное для меня заключение Стеша, – что он продаёт грустные книги.
– Нет, – протестую я, – у него не все книги грустные.
– «Дюймовочка» – грустная, мифы – тоже грустные, мне папа читал…
«Вот так открытие, читать почти что младенцу мифы», – думаю я, отметив про себя, что надо бы поговорить с родителями, чтобы не форсировали образование.
– Он там живёт? – догоняет меня уже следующий вопрос, словно кегельный шар, желающий выбить из-под моего понимания последнюю опору.
– Кто живёт? Где? – беспокоюсь я, думая, что что-то пропустила.
– Продавец книг, конечно, – удивляется моей несообразительности ребёнок.
– Нет, что ты, он там не живёт, а работает.
– Всё время работает? – уточняет она.
– Нет, только когда концерт или спектакль, когда людей много собирается и можно продать книги, – объясняю я режим работы книжного киоска в ЦДЛ.
– Он что, по праздникам только работает, как продавец воздушных шаров? – делает она свой парадоксальный, но вполне логичный вывод.
– Получается, что так, – вынуждена согласиться я. Действительно, театральное представление, нарядные люди, улыбки, цветы – всё это атрибуты праздника. А покупка воздушного шарика для ребёнка – тоже всегда праздник, правда, если тот не улетит при первом порыве ветра. Хотя если улетит, запомнится на всю жизнь, точно герой, погибший в борьбе за свободу. Другие, осевшие к утру на пол и потерявшие за ночь своё волшебство, не вспомнятся никогда, а он, вырвавшийся из рук, останется в памяти нереализованной мечтой.
– Почему же он тогда грустный, – спрашивает Стеша и уточняет для особо непонятливых, – твой продавец книг?
– Не знаю, – честно признаюсь я.
– Может быть, его никто не любит? – предполагает девочка, и я понимаю, что, скорее всего, она права, только нам, взрослым, не хочется об этом думать, да и что делать, если догадаешься вот о такой причине.
– Давай к нему сходим, – предлагает она в следующую минуту, – мы ему скажем, что он хороший. Вот Ласточку тоже никто не любил, а Дюймовочка полюбила – и Ласточка ожила.
Я засомневалась.
– Ну давай ему скажем, что мы его тоже любим, – выдвинула она ещё более волюнтаристское предложение, но, взглянув на меня, попросила: – Ну хоть книжечку купим.
– Хорошо, сходим и купим книжечку, – согласилась я, понимая, что и это будет сделать непросто – ехать через пол-Москвы с маленьким ребёнком, чтобы купить детскую книжку, которых в любом магазине завались, – это тоже поступок. Я представляю, как мы берём такси, едем в ЦДЛ, Стеша долго и восторженно разглядывает книжки, выбирает для себя самое интересное. Немного попривыкнув к обстановке, соглашается поговорить, а потом сообщает Андрею, что знает: он самый грустный продавец книг, потому что его никто не любит. Вот хороши мы с ней будем. Надо было немедленно придумать какую-нибудь историю, и я придумала. В ней грустный продавец книг перестал быть грустным, потому что познакомился с маленькой девочкой, которая умела красиво рисовать. И когда ей читали грустные книги, она всё равно рисовала к ним яркие и волшебные картинки, такие, на которых даже тогда, когда в сказке шёл дождь, сквозь тучи проглядывало солнце.
А продавец детских шаров был самым весёлым человеком во всей округе, потому что за каждый проданный шарик он получал не только монетку, но и улыбку ребёнка, а ещё – их мам, и никто в мире не получал больше улыбок очаровательных молодых женщин, чем он. Вопрос о грустном настроении был нами снят именно тогда, когда нас позвали пить чай в беседке, а это значило, что все уже собрались и не хватает только нас и нашей сказки.
Картины из морской гальки
Конечно, вы видели, как с шумом набегающая морская волна накрывает своим пенящимся, кипящим пологом пологий берег, а через мгновение как бы нехотя сдёргивает его, захватывая и перекатывая морскую гальку, обломки раковин, разноцветные стекляшки. И только ты успеешь присмотреться к пятнистому рисунку морского берега, только-только почувствуешь некую гармонию в сочетании разноцветной гальки, как следующая волна собьёт всё и перемешает – и перед тобой уже новая картина. Словно сменился кадр, один, другой, третий. А ты всё смотришь и не можешь удержать этих мгновенно сменяющихся картин нашей жизни, только шорох гальки под морской волной и остаётся в памяти.
– От этих конфеток крылышки растут, – доверительно сообщила Стеша, – мне их есть можно, они полезные, – добавила она на всякий случай, обводя взрослых серьёзными серыми глазами, чтобы они не подумали, что это шутка.
– Смотри не ешь много, а то взлетишь и будешь с ангелочками летать, – сказал, скрывая улыбку, её папа. – Как мы тогда ловить тебя будем, сачком для бабочек?
– Да, – кивнула Стеша, – тряхнув рыжей кудрявой головой с двумя маленькими смешными хвостиками, напоминающими мягкие бугорки пробивающихся рожек у ещё не бодучего козлёнка, – я буду вашей домовой бабочкой.
– Домовой только моль бывает, ты молью хочешь быть? – поинтересовался отец.
– Нет, – настаивала на своём Стеша, – домовой бабочкой, – и, повернувшись ко мне, доверительно сообщила: – Я бабочек очень люблю. Они на цветы с крылышками похожи.
К этому моменту вазочка, прежде наполненная клюквой в сахаре, почти опустела, но крылья ни у кого почему-то не выросли, хотя довольны были все собравшиеся за столом. Одни вспоминали, каким редким было это лакомство в их детстве – сахарной пудры меньше, а ягоды крупнее, другие просто с удовольствием пили чай, наслаждаясь спокойно текущей беседой, которая никого не напрягала, время от времени меняя тему, так же как и картины из морской гальки в приливной волне.
– Что это за значок такой у тебя на лацкане – конгресс по элитоведению?
Теперь появилась странная тенденция называть наукой любой околонаучный вопрос: занимался кто-то изучением элит в рамках, допустим, политологии, захотелось ему обратить на себя внимание – и вот вам пожалуйста элитология, а вслед за тем уже и форум, и конгресс по элитологии. А другой партологию в молодые умы внедряет, его не беспокоит, что звучит чудовищно и уже существует теория элит или социология партий. Так можно и клюквоведение или бутербродоведение в науку возвести.
Разговор тянется сам собой, никто им не управляет, мысль перепрыгивает с темы на тему, иногда направляемая тостом или не до конца расслышанной фразой.
– Бабочка, – обращается ко мне Стеша, она называет так меня ещё с тех пор, когда не знала разницы между бабушкой и бабочкой, а теперь это создаёт некую атмосферу доверия и даже нашей с ней тайны, – давай порисуем на компьютере.
Я не большой мастер рисовать на компьютере, но соглашаюсь, поскольку многого от меня и не требуется, справлюсь.
– Что рисовать будем? – интересуюсь я, хотя примерно уже представляю, Стеша не любит мрачных красок, на каждой картине должно быть солнце, как же иначе, ведь солнышко её любит, и оттого и волосы у Стеши такие яркие и солнечные.
– Давай травку рисовать, – руководит ребёнок, удобно устраиваясь у меня на коленях и кладя свою миниатюрную ладошку на мою руку, управляющую компьютерной мышью, так что получается, что мы рисуем вместе. Иногда наши руки меняются местами, и Стеша водит непослушной и ныряющей из стороны в сторону мышкой, старясь усмирить её и нарисовать ровную линию. Это получается с трудом, мышка велика для её маленькой ладошки, и трава похожа на неровные зубы улыбающегося дракона.
– Надо мягкую траву, о такую уколоться можно, – критически высказывается она, и мы сглаживаем особо непослушные и острые выступы, а потом заливаем всё изумрудно-зелёным цветом, чем и хорош компьютер – любой, даже самый примитивный рисунок делает сказочно ярким.
– Теперь посадим цветочки, – руководит Стеша, – розовые, жёлтые и… – задумывается она над цветовой палитрой, – фиолетовые.
Это её любимый цвет – фиолетовый, цвет её фантазии. «А у меня какой цвет фантазии? – задаюсь я вопросом, хотя никогда прежде не предполагала, что фантазия имеет цвет. – Золотисто-жёлтый, наверное».
– Давай же рисовать, Бабочка, – возвращает меня к реальности ребёнок, ёрзающий у меня на коленях от нетерпения, и удовлетворённо хмыкает при появлении каждого нового цветочка, от которых уже пестрит наша картина.
– Теперь солнышко, – командует она, – и пусть улыбается.
Я рисую круг, от него идут лучи во все стороны, заполняя оставшееся пространство рисунка. Потом две маленькие запятые – глазки, ещё две запятые – приподнятые в удивлении брови и улыбку до ушей, ещё веснушки. Для меня солнце всегда ассоциируется с веснушками, я же рыжая, вот пусть и солнце будет таким же.
– Бантики нарисуй, – просит Стеша, – как у меня.
Мы рисуем смешные розовые бантики. Не удержавшись, я пририсовываю солнцу длинные ножки в башмачках и смешные ручки, так, что оно становится похожим на Пеппи Длинныйчулок.
– А ножки зачем? – удивляется ребёнок.
– Чтобы по травке ходить, – отвечаю я первое, что приходит в голову, дети очень логичны в своих рассуждениях, хотя нам часто кажется, что это не так. Немного подумав, Стеша соглашается, хотя это и не входило в её планы.
– Надо ещё сердечки нарисовать, – неожиданно сообщает она.
– Какие сердечки? – не понимаю я.
– Такие, как бабочки, пусть летают над цветочками, – получаю я немедленное пояснение и сама уже удивляюсь абсурдности своего вопроса: действительно, какие же ещё могут быть сердечки.
Рисунок готов, но Стеше уходить не хочется, и она предлагает:
– Давай посмотрим наши рисунки.
Я открываю электронную папку с рисунками, и мы смотрим: вот солнышко спит в гамаке, вот весенняя открытка, а это солнышко и луна одновременно, точно на изображениях индейцев майя. Стеша критически разглядывает рисунки один за другим и остаётся довольной. Можно идти пить чай с конфетами, от которых вырастают крылышки.
За столом уже говорят о детском саде, и каждый старается вспомнить название того, в который когда-то ходил сам. Как ни странно, но почти все вспоминают: «Колобок», «Ёлочка», «Грибок»… А мне на память неожиданно приходит рассказ моей мамы о том, как её в возрасте Стеши отдали в детский сад, а она, свободолюбивая по натуре, при первой возможности сбежала, добралась до дома никем не замеченной и спряталась под родительскую кровать. Мамин характер унаследовала моя дочь – тоже стрелец и борец за справедливость, а вот Стеша – скорее мой, а может быть, и нет, это не так важно. Жизнь никогда не создаёт копий.
За столом уже рассказывают, как в детском саду устроили праздник пап и начали с того, что позвали их в гости, а когда те пришли, вовлекли в игры с детьми. Одна из таких игр называлась «Папавоз», кто-то заснял её на видео и выставил в YouTube. На экране большей частью солидные папы в недоумении и некоторой растерянности изображают паровоз, идущий на всех парах, двигаясь за симпатичной воспитательницей невероятно путанным маршрутом, пыхтя и отдуваясь. Дети делают то же самое, но гораздо проворнее и веселее, для них это игра, для их пап – испытание. Но все, смотрящие видео, смеются, а Стеша – громче всех, ей нравится, когда её фотографируют. Фотографии она тоже любит рассматривать, но исключительно свои: должно быть, младенческий кокон эгоцентризма ещё не прорвался, и она смотрит на мир через щёлочку своего маленького, но собственного «Я».
– Стеша, а у тебя есть кавалер? – задаю я не вполне корректный вопрос, но ребёнку это кажется нормальным.
В сущности, все детские вопросы некорректны, поэтому взрослый человек от неожиданности не успевает что-либо придумать и говорит правду.
– Темирхан, – сообщает Стеша, – и Исмаил.
Я с сомнением гляжу на её родителей, не зная, что на это сказать. Те, чтобы меня успокоить, показывают фотографию садовской группы, где присутствуют и оба названных мальчика: светловолосые и застенчивые, Стеша, пожалуй, побоевей их будет. Впрочем, у меня в детском саду тоже ухажёр был – Вовка Сухов, милый лопоухий мальчик, несколько рассеянный и мечтательный, может, поэтому я его и выбрала. Вся группа с воспитателем во главе, когда мы появлялись, взявшись за руки, где-то на тропинке, пели: «Тили-тили-тесто: жених и невеста». Даже тогда я понимала, что это непедагогично. В пять лет на день рождения Вовка подарил мне голубую чашку – может быть, его родители любили Аркадия Гайдара, не знаю. Но чашка, которая мне очень нравилась (ещё бы, первый подарок от кавалера!), скоро разбилась. Как, впрочем, сошла на нет и наша детская любовь, и осталось только тёплое воспоминание о милом рассеянном Вовке, сквозь лопоухие уши которого, вылезавшие наружу из-под любой панамки, нежно-розовым просвечивало летнее солнце.
Странное ощущение вневременья овладело мной и, кажется, всеми сидящими за праздничным столом, точно наше детство никуда не делось, а вот здесь, с нами, и оно того же возраста, что и Стеша, и я не то чтобы его помню, а просто живу в нём.
Картины из гальки меняются одна за другой, и нет им числа, и невозможно все их запомнить и зафиксировать в своём сознании, как не фиксируем мы и прожитые нами дни, лишь к Рождеству замечая, что год прошел, а то и десятилетие. И время, которое идёт так незаметно, уносит с собой мгновение за мгновением нашу жизнь, а мы постепенно и незаметно для себя забываем название тех конфет, от которых растут крылышки. Хорошо, когда есть кому об этом напомнить.
Маленькая путаница в понятиях
Моллюск лежал на тёплой отмели, и прозрачная морская зыбь, пробегающая над ним, чуть-чуть покачивала его разноцветную раковину, убаюкивая. Там, поверх морской зыби, эмаль голубого неба казалась неизменной и вечной, но он её не видел. Зато видел золотистый песок, в который немного закопалась его раковина, чтобы её не сносило прибоем, и который казался ему сейчас особенно мягким и комфортным. Моллюск приоткрыл створки своей пёстрой раковины и с любопытством рассматривал мир вокруг себя. Вот маленькая серебристая рыбка толкается носом в песок совсем рядом с ним, поднимая фонтанчики песчинок, которые тут же оседают, не замутняя прозрачной воды. Маленький краб-отшельник, волоча за собой крошечную раковину, пробирается поближе к пятнистой гальке, где безопасней для его хрупкого домика, но лежащая на песке галька вдруг сдвигается с места и оказывается сонной пятнистой рыбой. Морская вода, проходя в щёлку между створками раковины, приятно волновала его нежное тельце и навевала неизвестно откуда берущиеся мечтания. В такие минуты мечтать было легко и даже весело. Маленький моллюск воображал себя большой сильной рыбой или даже китом, плавающим на морских глубинах и извергающим из себя фонтаны брызг, тут же обращающихся радугой. Когда довольно неповоротливый кит ему надоедал, моллюск представлял себя русалкой, собирающей букет из разноцветных морских водорослей. Но чаще всего маленький моллюск воображал себя кораблём, большим морским кораблём, идущим из одного порта в другой, пересекающим моря и океаны, с тем чтобы обойти вокруг всей Земли.
– Так что же он сидел в своей раковине, сам бы и отправился путешествовать, если так уж этого хотел, – заявил непоседливый мальчик, присоединившийся к Стеше, которой я рассказывала сказку, с намерением скормить ей незаметно тарелку супа.
– Он не мог, – стала объяснять малышу Стеша, едва проглотив очередную ложку супа, – он же моллюск, и ножек у него нет.
– Ножек нет?! – удивился мальчик. – А что же есть?
– Ничего нет, – опять ответила Стеша, уворачиваясь от следующей ложки, считая, должно быть, что просветительская деятельность много важнее насыщения собственного желудка.
– Тогда зачем о нём рассказывать сказку? – опять удивился малыш. – Лучше уж о корабле расскажите, это интересней.
О корабле, конечно, было бы интересней, кто же спорит. Но о моллюске достоверней. Разве, например, я не тот же самый моллюск, сидящий в своём домике и сквозь небольшую щёлку наблюдающий за миром. Эта щёлка раскрыта ровно настолько, чтобы мир со всеми его тревогами и опасностями не смог ворваться внутрь, а, подобно морской воде на отмели, лишь омывал домик, создавая иллюзию сопричастности с ним. А мечты, чудесные разноцветные мечты, они вполне заменяют опасный и непредсказуемый мир, и, что особенно приятно, они совершенно ручные: не оставляют тебя, как могут оставить друзья, и не предают, ходят за тобой подобно собаке, всё время готовой доверительно лизнуть руку. А мечтать можно и о корабле, плывущем в далёкие страны, главное, что в мечтах он обязательно вернётся.
– Моллюска жалко, – неожиданно заявляет Стеша вместе с последней ложкой супа, которую мне всё-таки удалось в неё влить, и на её глазах появляются слёзы, – он такой беспомощный.
– Его съедят, – уверенным голосом заявляет мальчик и добавляет со знанием дела: – Вот мои родители очень любят готовить моллюсков в соусе и говорят, что это вкусно.
– Я не хочу, чтобы его ели, – уже почти рыдает Стеша, – он хороший, он мечтать умеет.
Надо признаться, я растерялась: ну кто бы мог подумать, что моя незатейливая сказка о маленьком кусочке материи, научившемся мечтать из-за того, что был лишён какой-либо другой активной жизни, вызовет такие переживания. Надо было как-то выходить из сложившегося положения, и я мужественно встала на защиту моллюска, почти как на свою собственную. Для начала я отмела идею со съедением и заявила, обращаясь к мальчику:
– Твои родители едят моллюсков, купленных в магазине, – это совсем другие моллюски, они, может быть, никогда даже в море не были и уж точно никогда не мечтали. А наш моллюск жил на необитаемом острове, который омывали воды тёплого моря, и где 360 дней в году светило солнце. На отмели, где он обосновался, не было хищных птиц, и туда не заплывали океанские корабли, потому что остров был маленький, необитаемый, и вокруг него высились неприступные острые рифы.
Я воздвигала один ряд защиты за другим, и придуманный мной остров вот-вот мог превратиться в бастион Второй мировой войны или стать настоящей тюрьмой для несчастного моллюска. Осознав это, я остановилась и переключила свою фантазию на другое.
– На острове наш моллюск был не один, – заявила я голосом, не допускающим возражений, – там было много разных моллюсков. И однажды тёплой весенней ночью наш мечтатель встретил другого моллюска – девочку, которой очень понравились его фантазии, и она согласилась слушать их каждый день.
– А что потом? – с некоторым сомнением, но уже без слёз спросила Стеша.
– Потом у них родилось много-много маленьких моллюсков, и у каждого из них была своя крохотная цветная раковина, а чтобы они не потерялись в морском приливе, то все как один прилепились к длинной мохнатой водоросли, растущей на выступе скалы. Теперь целое семейство маленьких и больших моллюсков вечерами, когда песок из жёлтого становился голубым и в нём, подобно звёздам, поблёскивали при свете луны осколки кварца, папа-моллюск рассказывал свои удивительные истории, и всем казалось, что он вовсе их и не придумал, а узнал и пережил в далёких сказочных путешествиях.
– Значит, у них всё было хорошо? – на всякий случай уточнила Стеша. – Их не съели?
– Нет, – уверенно ответила я, – их не съели.
Сама же про себя подумала: «Кто же сможет пробраться сквозь все те преграды, которые я воздвигла вокруг нас? Разве что люди, которые гуляют по берегу в надежде найти красивую мёртвую раковину, распластавшуюся на песке. Но им привычней зайти в магазин и купить замороженных мидий, чем искать меня и вас в море, а значит, я пока могу наслаждаться чудесными мечтами о своей безопасности в маленькой хрупкой раковине, лежащей на отмели и чуть погружённой в песок, чтобы её не смыло случайной приливной волной».
Апельсин
– Ребята, знакомьтесь, это Тамара, она будет учиться в вашем классе.
Девушка стояла рядом с учительницей и без тени смущения, а скорее даже с любопытством разглядывала класс, не испытывая при этом ни малейшей неловкости от того, что её то же рассматривают, причём рассматривают весьма придирчиво, особенно девочки.
– Смотри-ка, стриженая, – толкнула Генку в бок его соседка Лёлька Гусева. Он с интересом посмотрел на новенькую, в его классе все девчонки носили косы, но этой стрижка шла – каштановые, с небольшой рыжин-кой волосы облегали голову плотной пушистой шапочкой.
– Что, всем, что ли, хвосты носить?! – он дёрнул соседку за косу, за что тут же получил по голове учебником.
Учительница глянула на них укоризненно, новенькая снисходительно улыбнулась, точно это была смешная театральная сценка и разыгрывалась она исключительно, чтобы её повеселить.
– Тамара, садись пока сюда, за первую парту, – сказала учительница и постучала ручкой по столу, призывая класс к порядку.
– Ну как тебе новенькая? – Сашка нагнал Генку уже во дворе школы – высокий, широкоплечий, с пробивающимся над верхней губой пушком, он казался старше своего одноклассника. Генка был щуплым, но вёртким и задиристым. Они были приятелями.
– А тебе? – ответил тот вопросом на вопрос.
– Классная девчонка, мне нравится.
Говоря это, Сашка приосанился – всем своим видом показывая, что и он сам имеет все основания понравиться новенькой. Последние два года он занимался академической греблей. Генка ревниво глянул на перекатывающиеся под рубашкой мышцы приятеля, таких ему никогда не накачать. Нет, Генка в обиде не был, в свои неполные пятнадцать он – кандидат в мастера по настольному теннису, но в глазах девчонок, конечно же, проигрывал рядом с таким вот атлетом. Правда, у Генки были другие преимущества, и, как он уже понял, немаленькие – он писал стихи, писал вдохновенно, как и должен писать поэт, девочки это ценили.
Новенькая Генке сразу понравилась, а тут ещё Сашка масла в огонь подлил, поэтому уже на следующее утро он подсунул под её учебник сложенный в четыре раза тетрадный листок с только что написанными стихами. Наградой ему была улыбка.
Сашка, заметив, что приятель его опережает, тут же предложил Тамаре книгу, которую просил у него Генка.
Соревнование между ними набирало обороты.
После уроков Генка первым подскочил к Тамаре:
– Я тебя провожу, мне в ту же сторону, – торопливо проговорил он, видя, что Сашка направляется к ним.
– Я уже провожаю Тамару, – на Сашкиной физиономии большими буквами было написано «На, получи!», и Генке захотелось врезать по этой физиономии.
– Мальчики, не ссорьтесь, вы оба можете меня проводить, – произнесла Тамара и, демонстративно оставив на парте портфель, двинулась из класса.
– Напросился – вот и тащи, – зло бросил Сашка, торопясь за девушкой.
Генка подхватил портфель: «Тяжёлый, зараза, что только девчонки в них носят?!» Свой тощий он нёс под мышкой, но всё равно было неудобно, и он с досадой поглядывал на приятеля, налегке вышагивающего рядом с Тамарой. Догнав их, Генка прислушался: говорили, как ни странно, о Достоевском.
«Надо же, – разозлился он, – ладно бы о гребле, но Достоевского-то этот верзила не читал, а туда же, философствует».
– И кто же из братьев Карамазовых нравится тебе больше? – ехидно спросил он приятеля, намереваясь перехватить инициативу. Тот метнул в него уничижительный взгляд, мол, «не лезь, не по тебе черешня». Генка принял вызов, не моргнув глазом.
– А мне понравилась постановка «Идиота» во МХАТе, – как бы между прочим заметил он, зная, что против этого Сашка бессилен, последний раз тот был в театре в начальной школе.
Тамара тут же переключила внимание на него – вероятно, наглядное искусство ей нравилось больше.
– Ты правда ходил? Билетов же не достать!
Генка, игнорируя это замечание, принялся рассказывать о спектакле, бравируя для убедительности именами известных актёров, в результате чего Сашка был отодвинут на второй план и шёл теперь насупившись.
– Ты что лезешь, не видишь, что ли, что Тамара мне по-настоящему нравится?! – бросил он приятелю, как только дверь подъезда закрылась за девушкой.
– Мне она тоже по-настоящему! – тут же парировал Генка.
– Ты что, не понимаешь, что ли, что она не для тебя!
Замечание задело Генку, он аж подскочил, точно петушок, увидевший противника.
– Думаешь, девчонок только бицепсы привлекают? – съязвил он, намекая на то, что в интеллектуальном плане приятель до него недотягивал.
– А ты думаешь, им твои стихи нужны, тоже мне Пушкин! – не остался в долгу Сашка.
– Ладно, – махнул он рукой, не желая продолжения ссоры и зная Генкин задиристый характер, – давай лучше её спросим.
– Вот так сразу и спросим?! – засомневался приятель. – Она же нас пошлёт…
– Ну тогда давай вдвоём ходить, а потом спросим, – нехотя согласился Сашка, понимая, что Генка просто так не отстанет. Они уговорились о двух неделях нейтралитета, в течение которых каждый мог склонить Тамару на свою сторону. Вот тут-то всё и началось.
Две недели огонь вдохновения полыхал в Генкиной груди, точно доменная печь, и каждый день он клал на алтарь своей мальчишеской любви новое стихотворение, которое Тамара прочитывала, всякий раз восклицая: «Это ты писал?!» или «Неужели это ты придумал?!»
Сашка не отставал, он добывал всё новые и новые модные книжки и даже пригласил один раз Тамару в театр. Правда, пьеса оказалась неудачной, но поход в театр дал ему фору.
После уроков, точно конвоиры, они сопровождали Тамару до дома, по очереди неся её портфель и соревнуясь в острословии, но девушка воспринимала их внимание как должное, никому не отдавая предпочтения, и смотрела на них точно королева на вассалов.
– Ну что? – ровно через две недели, день в день, подойдя на перемене к приятелю, спросил Сашка. – Не передумал?
– Нет, – задиристо ответил тот, – как решили, так и сделаем, всё по-честному.
В тот день, идя рядом с Тамарой, они оба молчали.
– Скучные вы какие-то, поссорились, что ли? – спросила она, привыкнув к их постоянному соперничеству.
– Нет, – взял на себя инициативу Сашка, по-прежнему уверенный, что на его стороне преимущество. Он остановился, так что остальным тоже пришлось остановиться, и, немного помедлив, спросил, выразительно глядя в глаза девушке: – Скажи, кто из нас тебе нравится?
Девушка, глянув на его серьёзную физиономию, прыснула со смеху:
– Ты чего? Оба вы мне нравитесь: с тобой о спорте можно поговорить, а с Генкой – о литературе, а что?
– Видишь ли, Тамара, – тут же встрял Генка, – так не пойдёт. Ты прямо скажи: я или Сашка?
– А если не скажу, то что, на дуэль друг друга вызовете? – спросила она, насмешливо глядя на приятелей.
– Может быть, и на дуэль, – ответил Сашка мрачно.
– Ну и на чём драться будете? – поинтересовалась девушка. – На шпагах или так, на кулаках?
Ребята растерялись, они не были готовы к такому повороту.
– А знаете что, – Тамара сунула руку в портфель и достала апельсин, – вот! Кто мне его принесёт, тот и победил.
Размахнувшись, она бросила апельсин, и тот, точно кегельный шар, покатился по белой снежной наледи. Мальчишки не сговариваясь бросились за ним, толкая и тесня друг друга, точь-в-точь две легавые, бегущие за мячиком. Сашке, более массивному, чем приятель, удалось оттеснить Генку и первому схватить апельсин. Однако тот, извернувшись, выбил ногой апельсин из его рук и, подхватив на лету оранжевый шар, бросился назад. Сашка, забыв о всяком благородстве, подставил ножку. Не ожидавший такого подвоха, Генка рухнул, выпустив из рук апельсин, который сам собой подкатился к Тамаре.
– Ничья! – рассмеялась она и принялась деловито чистить апельсин, в морозном воздухе его аромат ощущался особенно остро.
– Знаете, – девушка не торопясь отправляя в рот сначала одну, потом вторую сочные апельсиновые дольки, – вы, конечно, забавные, но по правде сказать…
Она помедлила, насмешливо глядя на запыхавшихся одноклассников, пожала плечиками (мол, сами виноваты, напросились) и безжалостно закончила:
– Маленькие вы ещё, понимаете, ма-лень-ки-е.
Доев апельсин, она повернулась и пошла к дому, оставив приятелей в полном недоумении. На утоптанном снегу, выделяясь своей скандальной яркостью, валялись оранжевые остро пахнущие апельсиновые корки.
– Это всё ты, – пошёл на приятеля раздосадованный Сашка, – ты у меня апельсин выбил.
– А ты меня зачем оттолкнул, а потом ещё и ногу подставил? – налетел на него Генка. – Разве это честно, подножки ставить?! – петушился он.
Сашка вытянул руку, чтобы не дать подойти тому ближе, драться ему не очень хотелось. Покружив так пару-тройку минут, Сашка вдруг остановился:
– Слушай, а ведь она над нами издевалась!
Разгоряченный Генка не сразу понял.
– Ну, конечно же, издевалась, точно над собачонками, а мы-то дураки…
Сашка хлопнул приятеля по плечу, давая понять, что их ссора прекращена.
– Да нет, не может быть, – пробормотал Генка, однако слова приятеля заставили его засомневаться.
– Д-а-а, купились мы, – протянул он ещё через минуту, поняв, что Сашка, скорее всего, был прав. Признавать поражение было не в его характере, он просто кипел от обиды, не зная, на что её излить, и, заметив брошенные Тамарой апельсиновые корки, со злостью пнул их носком ботинка и вдруг принялся со злостью топтать их.
– Маленькие мы! Маленькие!
И зло глянув на Тамарин подъезд, как-то совсем по-детски выпалил:
– Хоть бы долькой угостила, жадина!
Русалочка
Я вела машину уже давно и постепенно стала впадать в состояние некой отстранённости, хорошо, что уже выработался некий автоматизм в вождении.
– Почитай мне, – совершенно неожиданно и совсем не к месту попросила Стеша, сидящая сзади и уже уставшая от путешествия.
– Не могу, я веду машину, – ответила я из своего пограничья.
– Тогда расскажи.
Дети не любят выражение «не могу».
– Что же ты хочешь услышать?
Рассказывать мне совершенно не хотелось. Но ребёнок не отступает, и я слышу:
– Вообще-то, хотелось бы о Русалочке послушать.
– Хорошо, – соглашаюсь я и начинаю рассказывать, понимая всю безнадёжность ситуации: помню-то я только структуру сказки, а дети не признают схем.
– Нет, ты расскажи, как она пела, когда на волнах качалась, – требует ребёнок.
– Она пела сердцем, – зачем-то говорю я, хотя догадываюсь, что ребёнку этого не понять, слишком это по-взрослому. – Услышать другого можно, если он говорит сердцем.
– Почему… – недоумевает Стеша. – Принц же ушками слушал?
– Ушками слушают рассказ, как ты сейчас, а Русалочка пела о своей любви и хотела, чтобы Принц услышал именно это, – пытаюсь я опять объяснить сугубо взрослые вещи трёхлетнему ребёнку.
– Значит, – делает Стеша вывод, – он тоже слушал сердцем, а не ушками.
В логике у ребёнка недостатка нет, как и в понимании самого главного – любви. «Да, – думаю я, – у взрослых совсем всё не так легко. Многие ли способны петь сердцем?»
Любопытно, видят ли дети наши мысли или, может быть, образы наших чувств? Иначе как объяснить, что одних людей они пугаются, а другим доверяют. Может быть, эмоции взрослых материализуются у них в каких-нибудь зверей? Кто-то прогуливается с ланью или фиолетовым жирафом, как я, например, теперь, а другой – с бультерьером на железной цепи или медведем. Представьте себе такое – и сами шарахнетесь в сторону, да и заревёте, пожалуй, когда станут вас упрашивать не бояться и подойти к этой милой женщине, оседлавшей уродливого бородавочника.
– А Принц её услышал? – прерывает мои размышления детский голос. – Он знал, что надо слушать не ушками?
– Да, – отвечаю я, рассеянно глядя на дорогу, – услышал, потому что слушал сердцем.
– И что тогда, когда услышал? – подбирается ребёнок к тому, что его интересует.
– Тогда полюбил, – отвечаю я и понимаю, что, если сейчас с меня потребуют пояснений того, что значит «полюбил», я просто утону. Но дети мудры, они не станут вас топить сразу, а шаг за шагом подведут к сути, к вашему собственному прозрению. Захотите ли вы прозреть или сломя голову бежать прочь – это уже ваш личный выбор.
– Почему Русалочка пошла к колдунье? – слышу я уже новый вопрос и автоматически отвечаю:
– Хотела стать человеком.
– Но это же больно! – протестует детский голосок.
«Да, – думаю я, – быть человеком больно, очень больно, но как иначе постичь эту любовь».
– Злая колдунья!
– У Русалочки был выбор, – говорю я совершенно по-взрослому, – она могла остаться русалкой.
– А как же Принц? – недоумевает ребёнок.
– Встретил бы другую девушку, женился, стал королём и мудро управлял бы королевством, – выстраиваю я логичную линию возможного сюжета в соответствии с датским законом о престолонаследии, но не сказки.
– А та тоже пела сердцем? – слышу следующий вопрос.
– Нет, но она умела изящно говорить и была, наверное, красивой и доброй девушкой.
– Не-е-т, – протестует ребенок, мотая для убедительности головой, – тогда она ненастоящая.
Ненастоящая?! А как быть этой настоящей, когда каждый сделанный шаг, каждый поступок, каждое движение навстречу пронзает непереносимой болью, точно долотом от твоей живой плоти кто-то откалывает куски ракушечника, наросшего на тебя и уже ставшего частью тебя. А этот кто-то твердит: «Нет, не верю, это не то, должно быть подлинное, я знаю, чувствую!» И потихоньку, исподволь, а другой раз – со страстным остервенением набрасывается он на твоё огрубевшее от долгого пребывания в морских глубинах тело. Терзает его рашпилем, скалывает наросты, и вот наконец из-под бесчисленных напластований проступает уже забытая всеми и даже самой тобой подлинная твоя сущность.
– Почему она молчала? – слышу я вопрос и не сразу понимаю, о ком, собственно, речь, а потому сама спрашиваю:
– Кто молчал?
– Кто-кто, Русалочка, конечно. А ты думала, ты, что ли? – в голосе Стеши слышится обида.
Думаю, что молчим мы по одной и той же причине, но ребёнку не надо всего знать, даже если он и чувствует так остро. И я отвечаю за себя, прикрываясь Русалочкой, а как иначе:
– Молчала, потому что любила.
– Тогда ей надо было всё рассказать Принцу, вот как я, я же тебе всё объяснила, и ты поняла.
Да, я поняла, только как это своё понимание донести до другого?
Но вновь стараюсь объяснить:
– Есть вещи, о которых легче говорить сердцем, а не словами, потому что сердце не лжёт, а в словах можно схитрить.
Смотрю в зеркальце заднего видения и вижу задумавшуюся Стешу. Наконец, переварив информацию, она спрашивает:
– Принц её не слышал?
– Почему-то не слышал. Или слышал, но не доверял себе, хотел слов. Все кругом говорили слова, и он привык всё выражать словами. А Русалочка не могла говорить, колдунья забрала у неё голос, но сохранила в её сердце любовь. Тогда Русалочка попросила колдунью вернуть ей слова в обмен на свою жизнь, – кратко излагаю я сюжет.
– Зачем она так сделала? – малышка расстроена, я вижу это в зеркале. А автомобиль, как это ни странно, всё ещё продолжает свой путь вопреки здравому смыслу. Должно быть, я веду его на автопилоте, занятая исключительно своими мыслями.
– Потому что любила Принца. Она была готова на всё, чтобы только объяснить ему, что это она – та, которую он любит. Что она настоящая, живая, подлинная.
– А потом превратилась в морскую пену? – с типично детским любопытством уточняет ребёнок, у детей любопытство превалирует над всем другим.
– Да, в морскую пену на гребне волны, – подтвердила я.
– А ты не боишься стать морской пеной?
Этот вопрос показался мне провокационным, хотя ребёнок всегда действует интуитивно, а потому я отвечаю скорее себе, чем ребёнку:
– Что ж, искрящаяся пена на гребне морской волны так красива. И это подлинно. Нет, не боюсь.
Мы подъехали к придорожному кафе, где я с облегчением остановила машину. Признание, которое заставил меня сделать ребёнок, забрало все силы, словно я сама прошла сквозь Русалочьи муки и страдания.
– А что Русалочка сказала Принцу? – догнал меня следующий вопрос.
– «Я вся в твоём сердце, потому что люблю тебя» – наверное, так, – предположила я, – по крайней мере примерно так сказала бы я.
– Я тоже так скажу, а потом стану морской пеной, – уверенно произносит девочка.
Ну что на это ответить, остаётся надеяться, что у неё всё сложится счастливо и не надо будет становиться морской пеной, чтобы доказать свою любовь, потому что любовь вовсе не надо доказывать. Малышка уже это знает.
Собачья душа
– Бабушка, а почему собаки такие преданные – охраняют, ходят везде за тобой, а кошки ну совсем другие.
И видя, что я не тороплюсь отвечать, Стеша подсказывает:
– Папа говорит, что у них душа собачья, потому они такие.
– Не знаю, может быть, твой папа прав, – откликаюсь я, поняв, что от меня не отстанут, но не слишком задумываясь, Стеша вообще болтушка, как и все девчонки.
– А как ты думаешь, душа из собаки может куда-нибудь переселиться? Вот наш Альфик – он умер, а его душа, например, взяла и переселилась в Есика.
– Так он же морская свинка, это же… – я хотела сказать «самое глупое животное», но сдержалась, дети их любят, да и вообще эти меховые комочки снимают стресс, чем их существование в нашем доме уже полностью оправдано.
– Ну и что, что морская свинка, у неё же тоже душа есть?
Я пожала плечами, до души морских свинок мне дела не было.
– Ты про кого, про Есика? – встряла в разговор Варя, появляясь в дверях с морской свинкой, которую она таскает за собой везде, словно игрушку.
– У него знаешь какая душа, во! – Варя широко разводит руки, чтобы ни у кого не осталось сомнений в широте души её любимого питомца.
Я, собственно, не возражаю, почему бы и нет, у всего живого, вероятно, есть душа, пусть будет и у морской свинки.
– Нет, – уверенно произносит Стеша, вероятно, придя к какому-то выводу, – у Есика не собачья душа, он всё время убегает, команд никаких не знает и только и делает что ест.
– Ну и что, что не знает команд, – вступается за любимца младшая сестра, – зато он вот как умеет.
Девочка ставит морскую свинку на задние лапки и тянет к себе, Есик судорожно переступает короткими лапками, даже не пытаясь кусаться, вероятно, это с ним проделывают не впервые.
– А в кошку может? – теребит меня Стеша, и я откладываю книгу в сторону, читать уже не получится.
– Ну-у… – тяну я время, надеясь, что что-нибудь отвлечёт Стешу, и тут вдруг вспоминаю своего кота Казимира.
– Может!
Решительность, с которой я вдруг делаю такой вывод, удивляет детей, и они заинтересованно ждут продолжения. Значит, придётся рассказывать.
– Когда я училась в школе, мои родители всё время работали, дома я всегда была одна. Мне ужасно хотелось иметь собаку.
– У тебя что, даже собаки не было? – удивилась Варя.
Конечно, как ей такое понять, у неё и сестра-погодка, и две собаки, а теперь ещё и морская свинка.
– Нет, не было, – вздыхаю я, вспомнив вдруг, как порой одиноко я себя чувствовала в тринадцать лет: уже не ребёнок, ещё не взрослая.
– А почему родители тебе собаку не купили? – встревает Стеша. Для неё в восемь лет всё просто.
– Мне купили котёнка! – прерываю я дальнейшие расспросы.
– И что? – недоумевают девочки, кошек в нашем доме нет.
– Ничего, я же хотела собаку, а принесли крошечного сиамского котёнка с голубыми глазками, вот я и стала его дрессировать, как собаку.
– А он слушался? – с недоверием переспрашивает Варя. – Я вот Есю всё время дрессирую, а он…
Она со вздохом прижимает свинку к груди, как это делают матери, обнимая непослушного малыша.
– Слушался, – только теперь понимаю, как, должно быть, мучила котенка.
– Он что, и «сидеть» знал, и «лежать»? – Стеша принимается перечислять известные ей команды.
– Ну насчёт команд не скажу, но гулять за мной без поводка ходил – и в магазин, и в лес за грибами, и даже защищал от собак.
– Как он тебя защищал? – Варя не может себе этого представить, ещё бы, их Хантер в два раза больше её самой, а тут кот.
– Мы как-то гуляли с Казимиром и встретили в лесу мужчину с боксёром, это такая довольно большая собака, – начинаю объяснять я.
– Да знаю я, знаю, – прерывает мои объяснения Варя, – у дяди Лёши рыжий Боб такой породы.
Она, вероятно, знает всех окрестных собак.
– Боксёр – бойцовая собака, а кошек так и вовсе не любит, – продолжаю я прерванный рассказ.
– Так кошка же на дерево может залезть, что ей боксёр, – подсказывает мне Стеша.
– Обычная кошка, наверное, так бы и сделала, только не Казимир. Он не только на дерево не полез, а ещё и впереди меня встал, спину дугой выгнул. А когда пёс к нему бросился, кот вдруг присел на задние лапы, а передними – по морде, по морде и всё норовил по носу царапнуть – это самое чувствительное место у собак. На лапках когти, так что ошалевший от боли пёс и про хозяина забыл, и про собачью гордость, бросился через кусты куда глаза глядят. Хозяин его догнать не мог.
– А ты не придумываешь? – усомнилась Варя, ей стало обидно за собак.
– Бабушка не выдумывает, – вступилась за меня Стеша, хотя я в защите не нуждалась, – просто он, наверное, не знал, что он кот, а может, у него собачья душа была.
– Как это она к нему попала? – Варя определённо сегодня не готова была верить на слово, ей нужны были доказательства.
– Ну не знаю, – Стеша тряхнула головой, надеясь, что какая-никакая мысль из неё вылетит, но ничего не получилось.
– Может быть, она летала, летала… – стала она фантазировать, – не знала, куда приземлиться, а тут котёнок, ну она в него и залетела.
– Кто это она? – не отступалась Варя.
– Душа собачки, вот кто.
Варя пожала плечами:
– Она что, бабочка, что ли? Тогда она могла и ещё куда-нибудь сесть, вот, например, – девочка посмотрела по сторонам, но не нашла никого, кто бы мог служить ей примером. Вдруг на дорожку опустилась трясогузка и, не обращая на нас внимания, деловито затрусила к цветам. – В птичку!
– Насчёт трясогузки не знаю, а вот про гуся, который ходил за хозяйкой точно собачонка, отгоняя всех, кто встречался на её пути, мне рассказывали, – вспомнила вдруг я рассказ одной знакомой.
– Гусь?! – в один голос выдохнули обе сестры.
– Ну да, обычный домашний гусь ходил с хозяйкой в магазин и в гости, ждал возле двери, пока та освободится, домой провожал.
Девочки недоверчиво переглянулись: с гусями они знакомы не были.
Вечером ко мне в комнату зашла Стеша.
– Как ты думаешь? – начала она, делая вид, что тема её не слишком интересует и вообще, она всё это делает только ради меня. – Может быть, нам у Владимира Владимировича гусёнка взять?
Я растерялась, только гусей в нашем доме и не хватало. Видя, что к такому шагу я не готова, девочка пояснила:
– Ну ты же сама нам с Варей рассказывала про гуся, у которого собачья душа была, может быть, и у этого тоже. А мы с Варей сами его воспитывать будем, травку там рвать…
За дверью зашуршало. Вероятно, сёстры решили действовать вместе, и за дверью дожидалась своей очереди Варя. Стало ясно: надо действовать решительно, иначе гусь на это лето мне обеспечен, а я ведь не сказала детям, что и того преданного гуся в конце концов съели.
– А что, если у гусёнка окажется не собачья, а кошачья душа и он Есика съест? – сказала я первое, что пришло в голову, и, кажется, угадала.
В дверях появилась Варя и тут же с порога заявила:
– Не надо нам гусёнка, мы лучше Есику девочку купим, а то ему одному скучно.
Приключения шахматного коня
Владимир Андреевич разбирал вещи деда, вещей было не так много, но все они были для него памятны, он помнил их с самого детства и теперь мучительно думал, что из них он может взять с собой, а что придётся оставить здесь: квартира не резиновая, и всего вместить, конечно, не может. Мужчина уже отложил в сторону альбом с фотографиями, письменный прибор, пачку писем и вдруг вспомнил о шахматах, о тех костяных шахматах, которыми дед так дорожил, что даже ему не давал с ними играть. Владимир Андреевич был страстным шахматистом – правда, играл оставшимися ему от отца простенькими деревянными фигурами. Вспомнив о дедовых шахматах, он пробежал глазами по полкам шкафа, те были почти пусты, заглянул в стол. Шахмат не было.
«Странно, – подумал он, – неужели дед их кому-то отдал?»
Мужчина выдвинул один за другим ящики дедова комода – какие-то листки, конверты, вырезки из газет, оловянный солдатик. Владимир Андреевич взял его, повертел в руках, не веря своим глазам. Совершенно точно, это его солдатик, вот даже кончик штыка отломлен, это он его отломал, когда выковыривал застрявшую в щели монетку. Как же он сюда попал? У него в детстве игрушек было немного, потому отчётливо помнилась каждая, а единственный оловянный солдатик – тем более.
Владимир Андреевич присел на старенький диван, стараясь вспомнить что-то, что связывало пропавшие дедовы шахматы и солдатика. Напряг память, боясь, что не вспомнит, слишком много времени прошло, и вдруг вспомнил.
Он просочился в комнату деда незаметно, даже дверь не скрипнула, но дед всё равно заметил.
– Пришёл? За шахматами охотишься? Ну садись, мы ещё не начинали.
Шахматная доска была уже разложена, пестрела белыми и чёрными квадратиками, и на ней в боевом порядке, точно на реальном боевом поле, расставляли теперь шахматные фигуры. Приготовление к сражению было неторопливым, дед вообще не любил суеты, а уж когда к нему заходил его старый институтский товарищ и они садились играть в шахматы, тем более. Он не спеша брал фигуру из коробки, некоторое время держал в ладони, словно оценивая, на что та способна, потом окидывал внимательным взглядом шахматную доску и аккуратно ставил ту на предназначенное для неё место. Наконец два войска выстроились своеобразным каре друг напротив друга. Впереди пеший ряд воинов с пиками и топорами в каких-то смешных плоских касках, больше похожих на тарелки, оттого эти пехотинцы не особенно напоминали настоящих солдат. Эти недотёпы чаще всего гибли в шахматных сражениях, потому мальчик и знал их лучше других – съеденную фигуру отдавали ему, а уж он ставил их на край стола и долго внимательно рассматривал. Больше всего его удивляло, что на их камзолах даже пуговки были вырезаны. Игрушек у него в детстве почти не было, он родился сразу после войны, когда было не до игрушек. «Страну поднимать надо», – часто говорил отец. Вовка, конечно, играл, как и всякий ребёнок, даже устраивал целые баталии, правда, солдатиками ему служили большей частью бабушкины пуговицы, а тут, на шахматной доске, были настоящие солдаты.
– Дед, а что они так смешно одеты, ни пилоток, ни ружей? – спрашивал он поначалу.
– Шахматы старые, – отвечал тот скупо, – тогда ружей было мало.
– Это когда же было, при царе, что ли?
Вовка уже слышал, что была революция, а до неё – царь.
– Ещё раньше, и вообще… – дед не любил такие разговоры, считал Вовку слишком маленьким для них.
Дед и дядя Юра не спеша начали партию, разыгрывали дебют, как они говорили. Играли они не часто и оттого, наверное, растягивали удовольствие. Партию обычно начинали пешки.
«Оно и понятно, – думал Вовка, внимательно следя за каждым ходом, – не жалко, вон их сколько». Он с нетерпением ждал, когда игрокам надоест строить оборонительные линии и они пойдут в наступление.
– Смысл шахмат не в том, чтобы съесть чужую фигуру, а чтобы сохранить свою, – часто говорил дед, видя, как внук елозит от нетерпения.
Вовка ещё в шахматы не играл и совершенно не мог взять в толк, зачем нужно так долго переставлять фигуры, когда можно вот так сразу – бац! И всё.
Вероятно, тогда у него и родился план завладеть дедовыми шахматами.
– Вот, на, – дядя Юра с гордостью передал ему белого офицера, – дед «проспал».
Вовка глянул на деда, тот сосредоточенно смотрел на шахматную доску, не спал.
Мальчик осторожно взял маленькую костяную фигурку. Человечек небольшой, в половину его ладони, а то и меньше, на голове треуголка и маска, на плечах широкий плащ, в складках которого виднеется кинжал. Кинжал острый, Вовка сам пробовал, укололся даже. Офицер, дед его ещё слоном называл, мальчику не слишком нравится, да и какой из того слон, слонов-то Вовка видел.
«Хорошо бы короля получить», – думал он, с вожделением глядя на странную фигурку в мантии и с короной на голове, почему-то одетую в пузатые шорты и чулки. Вовка бы такие ни за что не надел, их только маленькие носят, а ему уже шесть лет, и он через год в школу пойдёт. Королева ему тоже нравится, она хоть и поменьше, но очень красивая и в платье. У мамы такого платья не было, хотя мама, он это точно знал, красивее королевы.
«И почему папа не купит ей такого платья?»
Вовкины мысли всё время кружились, словно бабочки, он их не отгонял.
– Держи, – дед протянул мальчику чёрного коня.
«Вот это да!» – Вовка замечтался и не заметил, как того съели. Конь с всадником поднялся на дыбы и угрожал копытами столпившимся вокруг него пленным пешкам, а всадник-то вот-вот упадёт, тянет на себя уздечку, впивает в конские бока острые шпоры, коню это не нравится, и он недовольно ржёт. Вовка поставил коня на край стола и стал разглядывать. «Надо же, даже подковы на копытах, вот это класс! Не то что его оловянный солдатик. Хотя солдатик самый настоящий, в пилотке и с ружьём».
Дед, вероятно, заметил, как у внука загорелись глаза.
– Это тебе не игрушка, а шахматная фигура. Подрастёшь – тоже будешь играть, а пока поосторожней, они и сломаться могут.
Играть Вовка и сейчас может, только бы дали, так не дадут, придётся опять пуговицы пулять.
Воскресным утром едва Вовка открыл глаза, сразу понял: сегодня или никогда! Дед собирался в гости, надел свой лучший костюм и даже галстук повязал, родители ушли по делам, нужно действовать.
Для начала он залез в книжный шкаф и достал коробку с отцовскими шахматами, они были не такими красивыми, как дедовы, но войско из них выглядело значительно лучше, чем из пуговиц. Вовка расставил грубоватые шахматные фигурки на полу, соорудил из кубиков защитный вал для них, сзади положил диванные подушки, вроде как горы. Теперь надо было подумать о войске противника.
Заходить в комнату деда без спроса Вовке не разрешалось, и он этого не делал, но сейчас, толкнув дверь, огляделся: письменный стол, кресло, платяной шкаф с зеркалом, в котором тут же отразился заглядывающий в дверь испуганный мальчик. Ему стало стыдно и немного не по себе – кто-то ему говорил, что зеркало может всё рассказать другому человеку, этого совсем не хотелось. Вовка присел и на коленках прополз до стола.
«Лишь бы дед ящики не запер», – думал он, дёргая за ручку тяжёлого ящика. Шахматы обнаружились в нижнем. Так же на корточках, толкая перед собой коробку с шахматами, он добрался обратно, сгорая от нетерпения начать игру. Вовка открыл коробку, и ему показалось, что среди шахматных фигурок произошло какое-то волнение, точно они не ожидали, что коробку откроет он. Осторожно, по одной он вынул их из коробки, расставил. Король и королева, по его мнению, не слишком подходили для военных действий, да и руки у короля были заняты не пойми чем. Вовка было задумался, зачем шахматной фигурке мячик и палка, но решил оставить всё на потом и расспросить при случае деда, а пока короля с королевой он поставил позади войска, в тылу – может быть, ещё сгодятся.
Мальчик поднялся на ноги и с высоты своего роста осмотрел войска: всё было готово к сражению. Только тут Вовка понял, что у него не было продуманного плана действий. Единственное, что он знал, – что перед наступлением всегда бывает артиллерийская атака. Недолго думая, мальчик вытащил из-под дивана коробку с кубиками, отобрал те, что поменьше, и, примерившись, стал их метать. Первый кубик не нанёс никакого повреждения защите противника, тогда он кинул второй, посильнее. Тот сбил импровизированное заграждение и пару пешек.
Вовка перебежал на другую сторону комнаты и принялся швырять кубики в другое войско. Потери были значительными, от точного попадания кубика лёгкие костяные фигурки разлетались в разные стороны. Игра его захватила, он уже совершенно забыл о шахматных фигурках, перед ним был враг, и его нужно было уничтожить. Сражение продолжалось минут двадцать, наконец стало ясно, что ни одного живого на поле боя не осталось, даже король и королева лежали среди неразорвавшихся снарядов совершенно бездыханными. Вовка взглянул на часы и понял, что вот-вот придут родители, часы показывали 12.45.
Деревянные отцовские фигурки он собрал быстро, а вот дедовы, более лёгкие, разлетелись по всей комнате, и их пришлось искать, лазить под стол, стулья и даже диван. Вовка разложил собранные фигурки на полу, чтобы ещё раз посмотреть на них, и тут обнаружил: пропал чёрный конь. Пересмотрел ещё раз, чёрного коня не было. Времени до прихода родителей оставалось совсем мало, мальчик быстро сунул в коробку с костяными шахматами деревянного коня из отцовских шахмат и бегом бросился в дедову комнату. Отцовские шахматы убрал в книжный шкаф.
– Что это у тебя кубики везде разбросаны? – спросил отец, входя в комнату. – Собери, ноги переломаешь.
Вовка послушно сгрёб кубики под диван и хотел было залезть туда же посмотреть, куда завалился чёрный конь, но отец остановил:
– Хватит пыль собирать, вылезай, сейчас обедать будем.
Весь день Вовка ходил озабоченный, при всяком удобном случае становился на коленки или ложился на пол, заглядывая под мебель.
– Ты же уже большой, – не выдержала мать, – что ты всё на животе елозишь, потерял что?
Вечером отец с братом сели играть в шахматы.
– Пап, а чёрный конь где? – спросил брат, показывая на пустую шахматную клетку.
– Как где, в прошлый раз был, в коробке посмотри…
– В коробке нет.
Вовка замер, он совершенно забыл, что, забрав чёрного деревянного коня из коробки, не заменил его чем-нибудь подходящим, впрочем, подходящего у него ничего и не было.
– Это не ты коня взял? – спросил отец, обращаясь к младшему сыну.
Вовка молчал, да и что ему было сказать. Он изо всех сил делал вид, что увлечён разложенной перед ним книгой.
– Ладно, найдётся, вот возьми пирамидку, – и отец передал брату маленькую стеклянную пирамидку, которой обычно придавливал бумаги.
Заняться поиском шахматного коня Вовке в тот день так и не удалось. Ночью он спал плохо, ему снились кошмары, и в каждом присутствовала чёрная лошадь. Всадники на лошадях скакали за ним, а он убегал, но никак не мог от них скрыться, и, куда бы ни прятался, там опять оказывался всадник на лошади. Даже когда он с головой спрятался под одеяло, то и тогда слышал стук лошадиных копыт и негодующее ржание.
– Ты не заболел, что-то уж очень бледный? – озабоченно спросила мать, когда Вовка сел за стол завтракать.
Всё время завтрака ему казалось, что все за столом смотрят только на него, у него даже аппетит пропал, а уж это последнее дело, когда аппетит пропадает. Вконец измаявшись, он достал из потайного места за комодом единственного своего оловянного солдатика, которым ужасно дорожил, и, зажав его в кулаке, отправился к деду.
– Вот! – протянув руку и раскрыв кулак, произнёс Вовка.
Дед посмотрел на него с интересом:
– Оловянный солдатик? Ты хочешь мне его подарить?
– Поменять, – уточнил внук, – я твоего коня потерял, шахматного, вот за него солдатика бери.
– Как так потерял? Когда?
Дед полез в ящик стола и достал шахматы. В коробке, на самом верху лежал чёрный деревянный конь.
– А это откуда?
Дед взял коня, с удивлением разглядывая грубо выточенную деревянную фигурку.
– Кажется, это из отцовских шахмат? – произнёс он, глядя на потупившегося Вовку, тот кивнул. – А мой где?
– Не знаю, – стушевался мальчик и вдруг добавил: – «Пал смертью храбрых».
– Что-что? – дед подался вперёд. – Сломал, что ли?
– Нет, я не ломал, просто они сражались, ну и конь пропал. Я же тебе солдатика принёс.
Дед взял солдатика, покрутил в руках и поставил на стол.
– Не жалко? – спросил, внимательно глядя на внука.
Вовка закусил губу, солдатика ему было ужасно жалко, но признаваться в этом не хотелось, ко всему прочему, он боялся расплакаться.
Дед, вероятно, всё понял и вдруг улыбнулся.
– Значит, говоришь, баталия была, и конь со всадником пропал?
Вовка кивнул, всё ещё не решаясь взглянуть на деда. Ему было стыдно, он знал, что шахматы дед любил и берёг.
– Ну что же ты за командир, когда своих солдат не бережёшь?! Может быть, он в плен попал или заблудился на незнакомой местности, надо срочно организовать экспедицию по поиску пропавшего.
– Я искал, – робко произнёс внук, – под диван лазил…
– Не там, верно, искал, идём.
Дед решительной походкой направился в гостиную.
– Объявляется тревога, – громко произнёс он, привлекая внимание всех присутствующих, – пропал чёрный всадник, возможно, захвачен в плен или заблудился, организуем компанию по его поиску.
– У нас тоже пропал шахматный конь, – отозвался из кресла отец.
– Ваш уже найден, – дед протянул ему деревянную фигурку, – теперь ищем моего.
Вовка побежал в кухню, принёс веник и швабру, и все занялись поиском. Через несколько минут шахматный конь был найден под буфетом, запылившийся, в обрывках паутины, но совершенно целёхонький. Экспедиция по спасению окончилась удачно.
Владимир Андреевич ещё раз взглянул на оловянного солдатика:
– Надо же, значит, дед сохранил его подарок, а он-то совершенно о нём забыл.
– Однако где же всё-таки шахматы?
Владимир Андреевич встал, подошёл к комоду, выдвинул первый попавшийся ящик…
– Ну что же я в самом деле, если бы дед хотел, сам бы давно уже отдал мне шахматы, вероятно, кому-то они были нужнее.
Он улыбнулся и потрогал карман пиджака, в который положил оловянного солдатика.
– Кажется, я нашёл что-то более ценное, и это уж точно дед хотел мне вернуть.
История, рассказанная старым шкафом
– Знаешь, наш шкаф простудился! – сообщила Стеша нарочито озабоченным голосом.
– Какой шкаф? – не поняла я.
– Ну как-какой, наш! Большой, с цветными стёклышками!
– И что с ним? – недоумевала я, стараясь вспомнить тот шкаф, о котором шла речь, к вещам привыкаешь и постепенно перестаёшь их замечать.
Между тем Стеша не отставала:
– Он простудился и теперь кашляет, когда открываешь дверку. Кх-кх-кх – вот так, – продемонстрировала она, чтобы я не сомневалась.
– Может быть, петли проржавели, смазать надо, – предположила я, как всякий здравомыслящий человек, предлагая простейшее решение.
– Нет, петли – это не то, он точно простудился, и его надо лечить, а то совсем разболеется и умереть может!
Информация о том, что шкаф может умереть, меня удивила, и я попыталась умерить детскую фантазию.
– Шкаф может сломаться, он вещь, а умирают только люди и животные.
Стеша посмотрела на меня с недоверием, в её взгляде ясней ясного читалось: «Как же так, взрослый человек, а простых вещей не понимаешь?»
Я смутилась, хотя и не вполне понимая, почему именно, просто не хотелось вот так, наскоком менять детское представление об окружающем мире. Живой этот шкаф или неживой, для меня никакого значения не имеет, а для неё совсем наоборот. Хорошо, пусть так, вырастет и забудет об этих фантазиях, а пока надо как-то помягче её к этому подвести. Я и сама фантазёрка, но со шкафом – это перебор.
– Как же он мог простудиться, он в комнате лет десять уже стоит и никуда не выходит.
– Как же он выйдет, – засмеялась Стеша, – он же шкаф, ножек-то у него нет!
«Ну вот и хорошо, – подумала я, – ребёнок мыслит логически верно».
Словно подслушав мои размышления, Стеша тут же дала мне понять, что логика может быть не только линейной:
– Мы на санках с папой ходили кататься, окно в комнате открытым оставили, вот шкаф и продуло. Теперь кашляет. Лечить надо.
– Как его лечить, громадину такую, – возмутилась я, поняв, что проиграла, – таблетки ему в ящичек насыпать или леденцов от кашля?
– Леденцов, – согласилась Стеша, не услышав в моем голосе иронии, – леденцы вкусные.
Пришлось нам идти в магазин и покупать мятные леденцы.
Прошло некоторое время, я забыла историю с простуженным шкафом, приписав её детским фантазиям. Но так случилось, что мне пришлось остаться у сына и спать в гостиной на диване, как раз напротив шкафа. На новом месте спать всегда непривычно: то сны снятся беспокойные, то не уснёшь никак. Так было и в этот раз, хотя я до сих пор не вполне уверена, было ли.
Проснулась я так же неожиданно, как и заснула. В комнате стоял полумрак, и лишь настольная лампа давала немного света. Я лежала с прикрытыми глазами, силясь окончательно проснуться или заснуть, и сквозь ресницы разглядывала комнату. В этом неверном освещении и вещи приобрели нечёткие очертания, утратив присущую им жёсткость линий и форм, ограничивающих их свободу. Вот в таком странном состоянии ума, между сном и явью я и подслушала необычный разговор – между старым шкафом и новенькой витриной, недавно обосновавшейся в квартире. Но удивила меня не столько способность вещей общаться друг с другом, сколько та их способность оценивать людей, которую прежде я предположить в них никак не могла. Ну в самом деле, человек создаёт вещи, определяет их функциональность, покупает и продаёт, использует как ему того захочется, совершенно не задумываясь, что, изо дня в день общаясь с вещью, прикасаясь к ней, находясь в одном пространстве, требуя от неё подчинения, он вольно или невольно передаёт ей и часть своего темперамента или даже души – этой не определяемой никем субстанции. И вот уже вещь способна рассуждать и оценивать своего хозяина, подлаживаться под него, создавая тот комфорт и удобство, которым новые вещи не обладают.
Так вот, шкаф был старый, из орехового дерева, сделанный русскими мастерами в середине девятнадцатого века, теперь уже позапрошлого. Верх его украшала резная панель из дубовых листьев и переплетённых цветов – слава богу, съемная, иначе нам никогда бы было не занести его в квартиру, совершенно не приспособленную для старых громоздких вещей. Две его боковые двери украшены решётчатыми окошечками с вставленными в них разноцветными витражными стеклами, и если луч солнца случайно вдруг касался их, то они отбрасывали весёлую разноцветную тень то на стену комнаты, то на пол, словно оброненную кем-то пёструю шаль. Эти разноцветные стёкла нравились мне, как и Стеше, больше всего, отчего-то казалось, что именно в них живая душа нашего старого шкафа. Я говорю «нашего» только потому, что последние несколько лет он стоял в нашей квартире, но изначально принадлежал моему двоюродному деду, после смерти которого и перекочевал к нам. Потеснив всю остальную мебель, большей частью стандартную и безликую. Этот старомодный шкаф изменил стиль квартиры, заставив пересмотреть всех нас отношение к окружающему пространству, определив его раз и навсегда как наш дом. Да, пожалуй, он внёс в нашу жизнь стабильность, которой ей не хватало, и сделался тем краеугольным камнем, без которого никакая стабильность в принципе невозможна.
Когда его внесли и поставили на приготовленное заранее для него место, он казался пришельцем из другого мира, мастодонтом, гробницей ушедшей эпохе, вещью не к месту. Но постепенно и незаметно всё это сгладилось, и именно шкаф уже начал управлять домом. Так, сначала дом покинули безликие стулья восьмидесятых, приобретённые где-то по случаю, поскольку других тогда купить было нельзя. Вместо них появились удобные полукресла и вслед за тем – бюро с бесчисленными потайными ящичками и дверками (типично женская вещица), хранящее теперь и мои секреты. Потом вместо колченого журнального столика румынского гарнитура семидесятых объявился круглый – красного дерева, с изящными ножками в виде изогнутых лебяжьих шей, на который так и хотелось поставить кофейную чашечку. И тут обнаружилось, что старенький и прежде, лет двадцать назад, казавшийся роскошным сервант, всё того же румынского гарнитура, нуждается в немедленной замене, и его вытеснила изящная витрина, вместившая в своё сияющее стеклом и светом чрево все те случайные и милые сердцу предметы, которые каким-то чудом ещё сохранились у нас. Вот с этой витриной, сделанной по старым образцам каким-то неизвестным краснодеревщиком в Малайзии, и вёл беседу старый ореховый шкаф, чей возраст, возможно, приближался уже к двумстам годам.
– Люди – существа странные, суетные, – говорил старый шкаф, – им всё не сидится на месте, всё что-то нужно, и покоя от них никакого нет. И ещё – они растут. То ли дело мы, вещи: какими нас мастер сделал, такими и живём свой век.
Новенькая витринка не имела ещё никакого практического опыта, а потому молчала. Её молчание нисколько не смущало шкаф, и он продолжал свой монолог.
– Но без людей наша жизнь была бы невозможной, это надо признать. Да и привыкаешь к ним со временем, как к своим собственным ящичкам и дверкам, – он скрипнул рассохшейся от времени дверкой и закашлял, точь-в-точь как показывала Стеша: – Кх-кх-кх.
– Вот, к примеру, мой прежний хозяин… – продолжил шкаф прерванные рассуждения. – Я же его знал с младенчества. Когда он родился, я уже лет двадцать стоял в комнате его матери, так что на моих глазах он и родился, в той же самой комнате. Крику-то было, крику, что от несмазанного колеса деревенской телеги, на которой по четвергам привозили в дом овощи.
Шкаф опять помолчал, точно сверяя сказанное со всеми теми впечатлениями, которые накопил за свою долгую жизнь, и боясь что-то перепутать.
– Ну родился и родился, сначала всё в кроватке лежал, и я его не видел, потом ползать начал. Подползёт ко мне, сядет на пол и давай крутить маленькое бронзовое колёсико. Это у меня накладки такие по краю двери идут, вот он и нашёл то, что не закреплено, и крутил своими крохотными пальчиками. Потом уже, как подрос, стал за ручку ящика дёргать, всё ему не терпелось внутрь заглянуть. Да куда там, ящики у меня тугие, да и бельём нагружены, их и взрослому человеку вытянуть непросто. Вскорости он уже и до двери доставать стал.
Я слушала эту странную историю и старалась представить человека в форме инженера, запечатлённого на одном из снимков в семейном альбоме вот таким маленьким и забавным карапузом на четвереньках, но у меня ничего не получалось. Слишком сложно оживить в воображении того, кого ты никогда не видел, не слышал интонаций его голоса, и все твои впечатления ограничиваются снимком в фотоальбоме.
– Теперь вот маленькая девочка появилась, смешная непоседа, но добрая. Заметила недавно, что голос у меня осип, так на прошлой неделе леденцов мне в ящик напихала. Могла бы сама съесть, так ведь нет, мне подложила. Отец нашёл, начал на неё ругаться, они ему носки склеили. Кх-кх-кх, – то ли рассмеялся, то ли закашлялся старый шкаф, приоткрыв высокую дверку с витражными стеклами, и в свете настольной лампы они загадочно сверкнули, точно стёкла очков.
Я шевельнулась на диване, меняя положение, и спугнула говоривших – шкаф и витринка замолчали, притворившись самыми обычными неживыми предметами. Так что я не знала, что и думать – приснилось мне всё это или привиделось.
Утром в комнату прокралась Стеша и пристроилась рядом со мной, пытливо разглядывая старый шкаф, точно доктор, который одним взглядом может определить, здоров пациент или болен.
– Стеша, ты что, леденцы лизнула перед тем, как в ящик положить? – спросила я, догадавшись о причине, по которой склеились папины носки.
– Откуда ты знаешь? – прошептал ребёнок. – Шкаф рассказал?
Я отрицательно покачала головой, не желая, чтобы на честный старый шкаф пало нехорошее подозрение.
– Сама догадалась.
– Да, – призналась Стеша, – очень хотелось попробовать, мятные ли они, а то ведь от кашля только мятные помогают.
– Ну и как? – полюбопытствовала я.
– Мятные! Ты разве не слышишь, шкаф больше не кашляет, выздоровел.
В это время другая дверка шкафа беззвучно приоткрылась, точно оттопырились уши, и теперь казалось, что шкаф прислушивается к тому, что о нём говорят.
Стеша соскочила с кровати и зашлёпала босыми ногами по полу. Подойдя к шкафу, притворила обе его дверки, издавшие при этом недовольное поскрипывание.
– Подслушивать нехорошо, – ласково наставляла она старый шкаф, знавший не одно поколение маленьких девочек и мальчиков, – ушки могут заболеть.
Я смотрела на огромный платяной шкаф и на маленькую девочку, поглаживающую пальчиками его полированный бок, и думала: как всё-таки хорошо, что есть старые вещи, которые хранят наши традиции и порой, даже незаметно для нас, напоминают о них самим своим присутствием в доме. О чём в это время думал старый платяной шкаф, я не знаю, но догадываюсь, что о чём-то очень хорошем, судя по тому, как нежно подрагивали и мерцали в свете утреннего солнца разноцветные стёклышки его дверей.
Что хорошего может произойти в старой лифтовой кабине
Володька стоял перед лифтом и что было силы жал на красную пластиковую кнопку, которая всё не загоралась и не загоралась. Обычно он предпочитал подниматься пешком, оно и быстрее, чем в этом почтовом ящике, на который больше всего походил их старенький лифт, но сегодня тащиться пешком ему было влом. В лифтовой шахте что-то звякнуло, натужно заныла усталая лебёдка, но кнопка не загорелась. Володька тихо выругался. Эта дворовая привычка, которую он тщательно скрывал от родителей, нет-нет, но прорывалась. Во дворе ругались все, неумение вставить в разговоре острое словцо тут же становилось поводом для насмешек, и Володька (ему уже шёл шестнадцатый год) это знал и прекрасно мимикрировал в дворовую среду, в которой ощущал себя как рыба в воде. Был он мальчиком из профессорской семьи, но отца услали в длительную командировку, мама уехала вместе с ним, а его оставили на попечение старшей сестры.
Сестре было не до него, так что Володькиным воспитанием занимался двор, да ещё книги, те он читал в огромном количестве и без разбора. Любовь к книгам – это было то, что ему привили в семье, да ещё, может быть, какую-то внутреннюю интеллигентность, которую он теперь тщательно скрывал от приятелей. Только натуру скрыть трудно, она всё равно лезет наружу – в построении фразы, в подборе слов, да даже в том, что ты задумываешься над теми вопросами, о которых твои сверстники просто не догадываются.
Двери лифта нехотя открылись, и Володька, ещё раз выругавшись, зашёл в кабину, нажав кнопку восьмого этажа, – он договорился с приятелем, что зайдёт к нему. Теперь двери этой развалюхи отказывались закрываться.
– Подождите, пожалуйста!
В лифт вбежала девочка, Володька её знал, она жила на пятом, а он на втором. Того же возраста, что и он, даже могла бы учиться с ним в одном классе, но ходила в другую школу, в английскую, да и во дворе она никогда не гуляла.
– Спасибо, – поблагодарила девочка. Володька даже фыркнул от такой невозможной вежливости, но посторонился, впуская её в лифт. От девчонки исходила какая-то тревожная настороженность, и мальчик чувствовал себя в её присутствии неловко.
