Швея с Сардинии бесплатное чтение
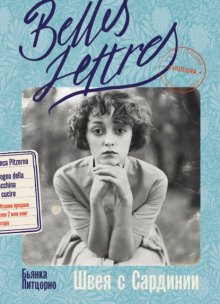
Переводчик Андрей Манухин
Редактор Юлия Гармашова
Главный редактор Яна Грецова
Заместитель главного редактора Дарья Петушкова
Руководитель проекта Дарья Рыбина
Арт-директор Ю. Буга
Дизайнер Денис Изотов
Корректоры Наталья Витько, Татьяна Редькина
Верстка Максим Поташкин
Фото на обложке Александра Кириевская
Разработка дизайн-системы и стандартов стиля DesignWorkout®
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© 2018 Giunti Editore S.p.A. / Bompiani, Firenze-Milano
© Андрей Манухин, перевод, 2024
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2024
Посвящается светлой памяти:
синьоры Анджелины Валле Валлебеллы, хозяйки нашего летнего домика и единственной портнихи в Стинтино, у которой имелась чудная швейная машинка с педалью. Синьора Валлебелла всегда шила у открытой двери, то и дело поглядывая на площадь (а вернее, просто широкую улицу) Оливковой бухты, и прокалывала уши всем местным девчонкам с помощью раскаленной иглы и бутылочной пробки, а мне в своем прохладном дворике, усаженном цветущими гортензиями, по утрам заплетала косы;
безвременно покинувшей нас два года назад синьоры Эрменеджильды Гарджони, самой умной и изобретательной женщины, какую я когда-либо знала, продолжавшей шить на машинке до девяноста семи лет, даже после того, как окончательно ослепла;
Джузеппины по прозвищу Жареная Рыба, фамилию которой я, к сожалению, не помню. Джузеппина была приходящей портнихой, она перелицевала для нас после войны множество пальто, нашила мне школьных халатиков с рюшами и крылышками, братьям – штанишек на подтяжках, а когда мне исполнилось пять, научила простейшим стежкам, терпеливо объясняя основы шитья, включая искусство обращения с ручной швейной машинкой;
моей бабушки Пеппины Систо, которая научила меня вышивать белой и цветной гладью и всякий раз, заметив отсутствие наперстка (я никогда не надевала и не надеваю его по сей день), жаловалась матери, уверяя ее, что так я совсем от рук отобьюсь;
и всех нынешних портних третьего мира, шьющих для нас по модным лекалам дешевые тряпки, которые мы потом покупаем за пару евро в сетевых магазинах одежды, за гроши горбатящихся над машинками по четырнадцать часов в сутки, каждая всегда над одной и той же деталью, никак не связанной с другими, как на конвейере, в подгузниках, чтобы не тратить время на походы в туалет, а после заживо сгорающих прямо в тех же огромных фабриках-тюрьмах. Шить – дело прекрасное и творческое, им нужно заниматься в удовольствие, а не так, НЕ ТАК.
События и персонажи, описанные в этой книге, – плод авторской фантазии. Однако все эпизоды основаны на реальных случаях, о которых я узнала из рассказов бабушки, ровесницы главной героини, из тогдашних газет, писем и открыток, хранившихся в ее чемодане, из воспоминаний и семейных преданий. Конечно, мне пришлось слегка обработать факты, заполнить пробелы, придумать дополнительные детали, добавить второстепенных персонажей, в паре случаев изменить финал… Но события, подобные тем, о которых вы прочтете, действительно происходили, как гласит старая пословица, «даже в лучших домах».
«Приходящие портнихи» были некогда весьма распространенным явлением, их держали все зажиточные семьи вплоть до моей юности, особенно сразу после войны, когда без восстановления или перелицовки имевшейся одежды невозможно было обойтись: одежда фабричного производства и магазины готового платья (сперва прет-а-порте, а затем и домов высокой моды) появились гораздо позже. Но даже с началом бума больших универмагов и падением цен на одежду люди побогаче, стремившиеся выглядеть элегантно или выделиться из общей массы, продолжали носить платья и костюмы, сшитые на заказ, – правда, теперь уже известными мастерицами в крупных ателье.
Время «приходящих портних» прошло. И главная цель этой книги – в том, чтобы они не были забыты.
Жизнь моя, сердце мое
Мне было семь лет, когда бабушка начала доверять мне самые простые детали отделки одежды, которую она шила на дому для своих клиентов, пока заказчики не приглашали ее поработать у них. Из всей семьи только мы с ней и остались в живых после эпидемии холеры, унесшей без разбора моих родителей, братьев, сестер и всех остальных бабушкиных детей и внуков, моих дядей и кузенов. До сих пор не знаю, как нам обеим удалось избежать той же участи.
Мы, конечно, были бедняками, но вовсе не из-за эпидемии: наша семья испокон веков могла похвастать разве что силой мужских рук и сноровкой женских пальцев. Моя бабушка и ее дочери и невестки славились на весь город своим мастерством и аккуратностью в шитье и вышивании, а еще честностью, надежностью и чистоплотностью на службе в господских домах, где они одинаково хорошо исполняли обязанности горничных и заботились о гардеробе, да к тому же и готовили прилично. Мужчины же нанимались каменщиками, грузчиками, садовниками. В нашем городе в то время еще не было заводов, которые бы нуждались в рабочих, но на пивоварне, маслобойне и мельнице, а особенно для бесконечного рытья траншей и для прокладки водопровода часто требовалась неквалифицированная рабочая сила. Не помню, впрочем, чтобы мы когда-либо голодали, даже если нам часто приходилось переезжать и какое-то время всем вместе ютиться на нижних этажах или в подвалах старого центра города, когда мы не могли оплатить аренду более чем скромных квартирок, в которых обычно жили люди нашего сословия.
Когда мы остались одни, мне было пять, а бабушке – пятьдесят два. Чтобы снова наняться в одну из тех семей, где она служила в молодости и где получила хорошие рекомендации, сил у нее было еще вдосталь, но взять с собой ребенка ей никто бы не позволил, а отдавать меня в городскую богадельню или в сиротский приют, под присмотр монахинь, она не хотела: слишком уж дурной славой пользовались такие заведения в нашем городе. Впрочем, даже устройся она приходящей прислугой, ей не с кем было бы оставлять меня на время работы. Поэтому бабушка решила рискнуть и попробовать прокормить нас обеих одним лишь портновским ремеслом – и преуспела в этом настолько хорошо, что я не помню, чтобы в те годы нам чего-то недоставало. Мы жили в двух комнатушках в полуподвале величественного здания на тесной, мощенной камнем улице в самом центре, а за аренду платили натурой – ежедневной уборкой парадной и лестниц аж до пятого этажа. Эта работа отнимала у бабушки по два с половиной часа каждое утро: вставала она затемно, а за шитье садилась лишь после того, как убирала ведра, тряпки и швабру.
Одну из двух комнатушек она обставила довольно прилично и с некоторой долей изящества, чтобы там можно было принимать клиенток, которые приходили с заказами, а порой и для промежуточной примерки, хотя обычно она сама ходила к ним, перекинув через руку сметанные платья, для верности завернутые в простыню, с подушечкой для булавок и ножницами, прикрепленными к свисавшей на грудь ленте. В таких случаях бабушка брала меня с собой, не забыв тысячу раз напомнить, чтобы я тихо сидела в уголке. И дело тут не только в том, что ей не с кем было меня оставить: она хотела, чтобы я смотрела и училась.
Специализировалась бабушка на белье: приданое для дома, простыни, скатерти, шторы, а также сорочки, мужские и женские, исподнее и даже все необходимое для младенцев. В те времена такие готовые вещи продавались лишь в нескольких роскошных и очень дорогих магазинах. Нашими главными конкурентками в этом деле были монашки-кармелитки, большие мастерицы, особенно в вышивке. Зато бабушка, в отличие от них, умела шить повседневные и вечерние платья, жакеты и пальто – исключительно женские, но и для детей тоже, – используя те же выкройки, но, конечно, с уменьшенными размерами. Я тоже всегда была хорошо одета, опрятна и умыта, в отличие от прочих маленьких голодранцев из нашего переулка. Впрочем, несмотря на свой возраст, бабушка все равно считалась всего лишь швеей, к которой стоило обращаться лишь с самыми простыми, повседневными заказами. В городе было две «настоящие» портнихи, соперничавшие друг с другом за право обслуживать самых богатых и модных дам. Каждая держала ателье и по несколько помощниц. Каталоги выкроек, а иногда и сами ткани они получали прямиком из столицы, и сшить у них платье стоило целое состояние: на эту сумму мы с бабушкой могли бы безбедно прожить года два, если не больше.
А вот глава одного знатного семейства, адвокат Провера, для балов и прочих церемоний заказывал жене и обеим дочерям вечерние платья из самого Парижа – настоящая экстравагантность, учитывая, что, как хорошо знали в городе, во всем остальном, включая собственный гардероб, адвокат Провера был крайне скуп, хотя и владел одним из крупнейших состояний в округе. «С жиру бесятся», – вздыхала бабушка, в молодости служившая у не менее богатых родителей его жены, выписавших для единственной дочери, Терезы, все из того же Парижа огромное приданое, достойное наследницы какого-нибудь американского миллионера, и задаривших молодоженов поистине королевскими подарками. Но их зять, видимо, готов был тратиться только на красоту и элегантность женщин, а не на свои собственные: как и прочие знатные синьоры, адвокат заказывал себе костюмы у местного портного-мужчины, работавшего совсем не так, как мы, – другие ткани, другой крой, другие способы отделки… Даже правила для подмастерьев – и те другие. Женщинам работать в «мужской» области не позволялось – уж не знаю почему, но эта традиция уходила в глубь веков: вероятно, требования благопристойности не позволяли им касаться мужских тел, даже чтобы снять мерки. В общем, это были два совершенно разных мира.
Грамоты бабушка не знала: в детстве она не могла позволить себе роскошь посещать школу, а сейчас, как бы ей того ни хотелось, не могла позволить этого и мне. Было необходимо, чтобы я как можно быстрее научилась ей помогать и посвящала работе все свое время. Альтернативой, о чем она не уставала мне напоминать, был сиротский приют, где читать и писать меня бы, конечно, научили, но жила бы я там как в тюрьме, страдала бы от холода, ела плохо и мало, а после, в четырнадцать, когда меня выставили бы на улицу, мне только и оставалось бы, что наняться в прислуги и жить в чужом доме – руки, вечно озябшие от холодной воды или в ожогах от кастрюль и утюгов – и подчиняться, подчиняться хозяевам в любое время дня и ночи без всякой перспективы и надежды на лучшее. Обучившись же профессии, я могла ни от кого не зависеть. Хотя больше всего (как она призналась мне много лет спустя, незадолго до смерти) бабушка боялась, что, нанявшись в служанки и ночуя под одной крышей с господской семьей, я подверглась бы домогательствам со стороны самого хозяина или его сыновей.
«Уж я-то вполне могу за себя постоять!» – с возмущением заявила я ей. И тогда бабушка рассказала мне весьма печальную историю своей кузины Офелии, которая в ответ на приставания хозяина дала ему пощечину и пригрозила все рассказать жене, а тот, чтобы отомстить и предотвратить скандал, стащил из гостиной золотой портсигар и спрятал в комнатке, где ночевала Офелия. Потом он в сопровождении жены обыскал скудные пожитки несчастной горничной и, «обнаружив» портсигар, вмиг уволил ее безо всяких рекомендаций. Синьора к тому же рассказала о произошедшем всем своим знакомым. Слухи быстро разнеслись по городу, и ни одна порядочная семья больше не хотела брать на службу «воровку». Офелии с трудом удалось устроиться посудомойкой в остерию. Но и там у нее не было отбоя от пьяных посетителей, то и дело подкатывавших с непристойными предложениями и ссорившихся из-за нее друг с другом. Бывало, доходило и до драк, в которые вовлекали саму Офелию. Однажды вечером ее даже арестовали, и это стало началом конца. Законы Кавура и Никотеры о проституции были суровы: бедняжку поставили на учет в полиции и после третьей потасовки, в которой она и виновата-то не была, заставили зарегистрироваться в качестве проститутки, отправив в дом терпимости, где несчастная подхватила французскую болезнь и через несколько лет скончалась в больнице для бедняков.
Вспоминая эту историю, бабушка словно заново переживала тогдашний ужас. Она знала, как тонка грань, отделяющая достойную жизнь от настоящего ада, полного страданий и стыда. В детстве она никогда не рассказывала мне об этом, даже наоборот, старалась сделать все возможное, чтобы держать меня в полнейшем неведении обо всем, что касалось секса, включая связанные с ним опасности.
Но иголку и нитку, а также обрезки ткани, оставшиеся от заказов, бабушка начала вкладывать мне в руки очень рано. Подобно хорошей учительнице, она представляла это как новую игру. У меня была старая потрепанная кукла из папье-маше, доставшаяся мне в наследство от одной из умерших кузин: той ее, в свою очередь, подарила много лет назад дочка одной синьоры, у которой мать кузины служила приходящей горничной. Куклу я очень любила и ужасно жалела, что та вынуждена ходить обнаженной, выставив напоказ свое ободранное бумажное тело (как-то ночью бабушка сняла с нее и куда-то спрятала всю одежду). Мне не терпелось узнать, как сшить хотя бы простенькую сорочку, платок, потом простыню, а после и фартук; вершиной моих трудов стало, разумеется, элегантное платье с оборками и кружевным подолом – сшить его было непросто, и бабушке в конце концов пришлось доделывать за мной работу.
Зато в процессе я научилась идеально обметывать края мелкими, совершенно одинаковыми стежками и с тех пор ни разу не уколола палец, не то кровь могла бы попасть на тончайший белый батист детских распашонок и пеленок. К семи годам обметывание краев стало моей ежедневной работой, и я была счастлива слышать: «Ты мне так помогаешь!» И действительно, количество одежды, которую бабушка могла сшить за неделю, с каждым месяцем становилось больше, а вместе с ним, пусть и понемногу, росли и наши заработки. Я научилась подрубать простыни (работа монотонная, зато позволявшая мне немного помечтать) и делать особую переплетенную в середине мережку, хоть это и требовало больше внимания. Теперь, когда я подросла, бабушка позволяла мне выходить из дома одной (например, чтобы купить ниток в галантерее или доставить готовый заказ) и не ругалась, если на обратном пути я задерживалась на полчаса поиграть с соседскими девчонками. Но надолго оставлять меня дома одну ей по-прежнему не нравилось, и, когда приходилось целый день работать у кого-нибудь из заказчиков, она брала меня с собой под предлогом того, что ей нужна моя помощь. Такие заказы были куда выгоднее, потому что даже в самые пасмурные дни мы могли жечь хозяйские свечи или керосин для лампы, не тратясь на собственные. И еще потому, что в полдень нас непременно кормили обедом, – а значит, в такие дни мы могли сэкономить на еде, – причем обедом приличным, намного лучше того, что мы обычно ели дома: с макаронами, мясом и фруктами. Где-то нас сажали на кухне, в компании горничных, где-то накрывали на двоих прямо в комнате для шитья, но за хозяйский стол не приглашали никогда.
Как я уже говорила, в богатых домах обычно выделяли комнату, предназначенную исключительно для шитья: хорошо освещенную, с большим гладильным столом, на котором можно было также и кроить, а часто и со швейной машинкой – настоящим чудом из чудес. Бабушка умела ею пользоваться – даже и не знаю, где только успела научиться, – а я лишь зачарованно наблюдала, как она ритмично качает педаль: вверх-вниз, вверх-вниз – и как быстро движется под иглой ткань. «Ах, если бы мы только могли завести такую дома, – вздыхала она, – сколько еще заказов я бы приняла!» Но мы обе знали, что никогда не сможем себе этого позволить, да и, кроме того, у нас просто не было места, чтобы ее поставить.
Как-то вечером, когда мы, закончив работу, уже собирались пойти домой, в комнату, подталкиваемая матерью, вошла хозяйская дочка, для которой мы шили белое платье на конфирмацию. Девочка была моей ровесницей – мне тогда исполнилось одиннадцать. Она застенчиво протянула мне туго перетянутый шпагатом сверток в плотной бумаге, совсем как в бакалейной лавке.
– Это прошлогодние журналы, – объяснила ее мать. – Эрминия их уже прочитала и даже перечитала, к тому же каждую неделю ей приходит новый. Она подумала, тебе понравится.
– Но я не умею читать, – выпалила я, прежде чем бабушкин взгляд успел меня остановить.
Синьорина Эрминия смущенно потупилась, ее лицо печально скривилось, словно она готова была вот-вот расплакаться.
– Ну и что, можешь просто разглядывать картинки. Они здесь очень красивые, – быстро нашлась ее мать и, непринужденно улыбнувшись, вложила сверток мне в руки.
Она оказалась права. Когда дома я открыла сверток и его содержимое рассыпалось по кровати, у меня перехватило дыхание: еще никогда в жизни я не видела ничего столь же прекрасного. Одни картинки были цветными, другие черно-белыми, но все они меня буквально завораживали. О, чего бы я только ни отдала, чтобы прочитать то, что было под ними написано! Ночью, натянув на голову простыню, я даже немного поплакала, стараясь не разбудить бабушку. Но та все равно услышала, и через неделю, когда мы закончили заказ синьорины Эрминии, сказала: «Я договорилась с Лючией, дочерью галантерейщика. Как ты знаешь, она помолвлена и через два года выйдет замуж. Я пообещала ей вышить двенадцать простыней с ее инициалами подкладным швом, а она за это два раза в неделю будет давать тебе уроки. В конце концов, она собиралась стать учительницей, хотя диплома так и не получила. Уверена, читать и писать ты быстро научишься».
Однако учеба заняла у меня не два, а почти три года: Лючии не хватало опыта, а мне – времени, я ведь продолжала помогать бабушке, выполняя все более сложную работу, а когда целыми днями шила у заказчиков, и вовсе вынужденно пропускала уроки. Сначала, поскольку у меня не было букваря, а тратить бабушкины деньги мне не хотелось, я попросила Лючию учить меня по журналам, и она легко согласилась: «Так даже лучше – это будет не так скучно». Ей уже исполнилось двадцать, но она, как ребенок, радовалась каждой загадке, каждой заметке о необычных животных, каждой скороговорке. Попадались и стихи, такие смешные, что мы хохотали в голос, вот только обычные, повседневные слова встречались в журналах нечасто, и через пару месяцев нам пришлось все-таки одолжить школьный учебник. Заниматься мне нравилось. Я была так благодарна своей неопытной учительнице, что упросила бабушку разрешить мне самой вышить ей простыни, закончив их как раз накануне ее свадьбы. А за уроки, которые она дала мне в следующем году, я сшила двенадцать распашонок разных размеров для ребенка, которого она к тому времени ждала. Я даже вышила для него платьице, вдохновившись нарядами королевских дочерей, принцесс Иоланды и Мафальды, которых увидела на большой фотографии, выставленной в витрине магазина: королева держала их на руках. Но вскоре после моего четырнадцатилетия, когда у Лючии родился ребенок, прелестный мальчик, она сказала: «Хватит с тебя уроков, да и времени у меня больше нет. Ты уже достаточно продвинулась, дальше справишься сама».
И, чтобы я могла упражняться, подарила мне свои «журналы», которые ей теперь некогда было даже листать. На самом-то деле это были вовсе не журналы, а оперные либретто: многие страницы, стоило их перевернуть, рассыпались на части от слишком частого использования. Сама я в театре никогда не была, но знала, что в город ежегодно приезжает труппа бельканто, исполняющая самые модные оперы. На их представления ходили не только знатные синьоры, но и владельцы магазинов, и даже кое-кто из ремесленников, если только мог скопить на место на галерке. Я знала многие арии, потому что самые молодые из наших заказчиц частенько пели их у себя в гостиных, аккомпанируя себе на фортепиано.
Читая эти либретто, словно они были романами, я через некоторое время с удивлением обнаружила, что во всех, буквально во всех историях речь шла о любви: страстной любви, роковой любви. Это была тема, которой я до тех пор большого внимания не уделяла, но с этого момента начала с любопытством прислушиваться к разговорам взрослых.
В те дни не только в гостиных богатых семейств или в кафе, куда захаживали знатные синьоры, но и в нашем переулке, а также на соседних улицах, вплоть до прилавков рыночных торговцев, много шуму наделала история, весьма напоминавшая так любимые Лючией оперы: семнадцатилетняя дочь синьора Артонези без памяти влюбилась в маркиза Риццальдо и, несмотря на сопротивление отца, собиралась за него замуж. Мы с бабушкой хорошо знали семейство Артонези: они жили неподалеку, в большой квартире на втором этаже роскошного палаццо, каких много было в старом городе. К нему примыкало другое здание, пониже, раньше служившее конюшней, но теперь, когда число лошадей и экипажей в городе поуменьшилось, ставшее пристанищем для самых отчаянных бедняков. Нам не раз случалось шить в доме Артонези по просьбе их экономки, заправлявшей всем после того, как синьора, жена хозяина, умерла во время эпидемии испанки, оставив после себя единственную дочь, главную героиню столь нашумевшей любовной истории. Синьорину, которую мы знали еще ребенком и для которой сшили немало домашних халатиков и муслиновых летних платьев с вышивкой, звали Эстер; отец души в ней не чаял и не мог отказать ей ни в одной, даже самой экстравагантной прихоти. Он не только выписал ей из Англии восхитительный рояль, но и позволил брать уроки верховой езды в манеже, который посещали практически исключительно молодые мужчины (хотя появлялось там и несколько женщин, но только в сопровождении мужей). В городе перешептывались, что катается Эстер Артонези не в женском, а в мужском седле и что под юбку она при этом неизменно надевает брюки. Невзирая на постоянные жалобы родственников и экономки, отец прощал ей полное пренебрежение к шитью, вышивке, кулинарии и прочим вещам, относящимся к ведению домашнего хозяйства. Зато когда Эстер пришла в голову блажь обучаться иностранным языкам, в том числе и древним, он пригласил некую старую деву тунисского происхождения два раза в неделю учить ее французскому, много лет прожившую в нашем городе американскую журналистку – английскому, а священника из семинарии – давать уроки латыни и древнегреческого. Кроме того, у Эстер с детства был учитель естествознания, преподававший ей ботанику, химию и географию, а также объяснявший, как устроены недавно изобретенные машины. Эти уроки были главным ее развлечением, их она никогда не пропускала. (Я обожала синьорину Эстер еще и потому, что однажды, когда мы работали в доме Артонези, она привела учителя естествознания в комнату для шитья и позволила нам с бабушкой присутствовать при том, как он объясняет ей устройство механизма новейшей немецкой швейной машинки. Учитель полностью разобрал ее и рассказал нам, как называется и для чего нужна каждая деталь, дал нам все потрогать, а после медленно собрал машинку, продемонстрировав одну за другой все шестеренки и объяснив бабушке, как их смазывать. Мне, которой было тогда одиннадцать, казалось, что я стала свидетельницей какого-то чуда.)
«Растит ее как мальчишку…» – неодобрительно шептались родственницы. Свояченица синьора Артонези так и сказала ему прямо: «Послушай, со временем Эстер выйдет замуж, все это ей будет ни к чему. Ты своими руками портишь девочке жизнь». Но тот лишь пожал плечами и посоветовал ей больше интересоваться воспитанием собственных дочерей, которые росли редкостными вертихвостками.
Такую оригинальность и презрение к условностям (а заодно и к расходам, которые подобное поведение за собой влекло) синьор Артонези мог позволить себе потому, что был очень богат. Владелец огромных полей, засеянных пшеницей, ячменем и хмелем, он, в отличие от многих других местных землевладельцев, никогда не ограничивался положенной долей урожая арендаторов, а лично управлял и несколькими собственными мельницами, которыми разрешал пользоваться другим окрестным фермерам, и единственной в нашей округе крупной пивоварней. Дочь не раз сопровождала его во время инспекций.
– Однажды управляться со всем этим придется тебе, – говорил он.
– Точнее, ее мужу, – поправляла его свояченица, тетка девушки по материнской линии. – Если только благодаря всем твоим причудам бедняжка не останется старой девой.
А это будет непросто, думала я, потому что синьорина Эстер Артонези была не только богатой наследницей, но и редкой красавицей. Ее стройная фигура поражала необычайной грацией и изящностью движений, а милое, но при этом очень выразительное лицо заставляло забыть обо всем даже самых неотесанных и равнодушных из мужчин. За ней увивались многие кавалеры, но она с легкостью сдерживала их пыл, всегда вежливо и без оскорблений парой шутливых фраз давая понять, что им стоит держаться подальше. Это было для меня еще одним поводом восхищаться ею. Мужчины в те времена казались мне нелепыми, особенно когда пытались ухаживать за девушками: их лишенные смысла приторно-сладкие фразы и некоторые действия годились разве что для оперных либретто.
Услышав, что синьорина Эстер влюбилась в маркиза Риццальдо, которого встретила в манеже, я не могла в это поверить, не говоря уже о том, что маркиз в свои тридцать казался мне стариком. Бабушка же, напротив, не находила в этом ничего странного. Маркиз, как заметила она в разговоре с галантерейщицей, у которой мы покупали иголки с нитками, хоть и не был так богат, как Артонези, но обладал приличным состоянием, а значит, точно не оказался бы охотником за приданым. Кроме того, он носил знатный титул и происходил из древнего, весьма почтенного рода, единственным представителем которого стал после все той же великой эпидемии, так что его желание поскорее жениться, чтобы родить наследника, а может, и создать большую семью, пока сам он еще был достаточно молод, казалось вполне логичным. Что же до возраста невесты, то для моей бабушки и ее знакомых в этом не было проблемы: сами они выходили замуж лет в шестнадцать.
Однако синьор Артонези, до того потакавший многим капризам дочери, никак не хотел соглашаться с этим ее выбором: маркиз ему инстинктивно не нравился, хотя ничего конкретного он против него и не имел. Но вот сама Эстер казалась ему слишком юной для роли жены и хозяйки.
– Ты еще такая неопытная, – твердил он, – тебе еще столькому предстоит научиться…
– Гвельфо научит, – упрямо отвечала дочь.
– Я ведь прошу тебя лишь дождаться совершеннолетия, – настаивал отец. – Если к тому времени ты не передумаешь, я дам тебе свое согласие и благословение.
– Четыре года! Смерти моей хочешь? Через четыре года я буду старухой, а Гвельфо тем временем найдет себе другую: ты не представляешь, сколько девушек вокруг него крутится. И потом, уж прости, конечно, но, когда я стану совершеннолетней, твое согласие мне не понадобится.
Об этих спорах мы знали из рассказов экономки. Она также не раз говорила нам о страстных посланиях, регулярно приходивших на адрес Артонези в сопровождении огромных букетов цветов. И о долгих днях, которые синьорина Эстер проводила в слезах в своей комнате, поскольку отец теперь не позволял ей выходить из дома одной, а всем возможным компаньонкам было приказано не допускать ее контактов с маркизом.
Как-то утром девушка, бледная как мел, вошла в отцовский кабинет и молча протянула ему только что полученное письмо: «Если я не смогу получить тебя, то убью себя. Без тебя моя жизнь не имеет никакого смысла».
«Если Гвельфо покончит с собой, я последую за ним в могилу», – заявила Эстер с таким убийственным спокойствием, что синьор Артонези впервые по-настоящему испугался. Он смирился, принял претендента на руку дочери и долго с ним беседовал. В итоге молодые могли отныне считаться официально помолвленными, хотя и не должны были встречаться наедине. Маркиз имел право приходить к Эстер домой, обедать с ней и с ее отцом по воскресеньям и сопровождать их в поездках на мельницу и пивоварню, а также посещать в компании тетки и кузин городские балы-маскарады или вместе с ними пить горячий шоколад в самом роскошном местном кафе – том, что на проспекте, прозванном за остекленную террасу «Хрустальным дворцом», куда захаживала одна только знать. Но они никогда не должны были оставаться наедине: отец поставил условие, чтобы свидания всегда происходили при свидетелях. Впрочем, писать друг другу они могли без каких-либо ограничений и контроля. Что касается приданого, то синьор Артонези пообещал ежегодно выплачивать дочери солидное содержание, но никакого недвижимого имущества в собственность не отдавал. «После моей смерти она и так унаследует все, так что можно считать, что это уже ее собственность», – сказал он, и маркиз постыдился возражать. Помолвка должна была продлиться два года, чтобы проверить взаимность чувств влюбленных; разумеется, разорвать ее после официального оглашения, о котором сразу же узнал весь город, стало бы невероятным скандалом. Но синьора Артонези больше интересовала не репутация дочери, а ее счастье, и он не боялся чужого осуждения.
С этого момента синьорина Эстер начала готовить приданое. Жених хотел было заказать все готовое из Парижа, как это делали, например, синьорины из семейства Провера, но невеста не доверяла каталогам. Заказы на самые элегантные платья были отданы в оба городских ателье, чтобы никого не обидеть. «Остается надеяться, что эти тщеславные портнихи понимают: девочка еще растет, и не станут шить ей одежду впритык», – заметила моя бабушка, раздуваясь от гордости, что за бельем Артонези обратились именно к нам.
На эти два года мы дали отставку всем другим заказчикам (впоследствии стало ясно, что это было крайне непредусмотрительно) и работали только на Артонези: носовые платки, простыни, скатерти и шторы шили у себя, а все остальное делали у них дома, в комнате для шитья. Бабушка подготовила будущей невесте уйму ночных сорочек, лифчиков, нижних юбок, домашних халатов и восхитительных накидок-пеньюаров, отороченных кружевами, специально привезенными из Швейцарии; все это великолепно на ней сидело. У меня же с каждым днем получалось делать оборки все тоньше, петли – мельче, а воланы – пышнее. И, как и Эстер, я тоже росла и становилась выше: в конце концов, нас разделяло чуть меньше трех лет.
Платили нам вовремя и щедро, обращались с нами вежливо, к тому же нам удавалось экономить на еде, ведь в доме Артонези нас кормили обедом; так можно было бы работать лет десять, если не больше! Через несколько месяцев я набралась смелости и спросила синьорину Эстер, не могла бы она одолжить мне какой-нибудь из ее романов, и она не только согласилась, но и с энтузиазмом взялась помогать мне с выбором книг для чтения. Она выписывала журнал под названием «Корделия» и каждую неделю отдавала мне прочитанный номер. Уроков музыки, языков и естествознания она не бросала, но училась теперь с куда меньшим энтузиазмом и вовлеченностью, чем раньше, – еще и потому, что жених, хоть и довольно снисходительно, но все-таки дал ей понять, что считает все эти занятия чудачеством и чуть ли не детским капризом.
Если бы вечерами, по возвращении домой, у меня не слипались глаза от усталости, за эти два года я бы могла научиться многим полезным вещам (хотя сама предпочитала те, что моя бабушка считала вредными). «Не стоит желать того, чего никогда не получишь: по одежке протягивай ножки», – не раз повторяла она, видя, как я вздыхаю над очередным романом. Я же теперь точно знала: любовь прекрасна, ради нее можно с легкостью пойти на любые жертвы, а сентиментальные мужчины вовсе не так нелепы, как я считала раньше. И маркиз Гвельфо Риццальдо – настоящий влюбленный, готовый жизнь отдать за свою Эстер, как и она ради него. Я тоже мечтала встретить такого мужчину: молодого, красивого и благородного, который любил бы меня так же сильно. А вот грубые комплименты уличных торговцев и мелких лавочников меня только оскорбляли и расстраивали. Я знала, что рано или поздно мне придется смириться и выбрать одного из них: все-таки я была не настолько наивна, чтобы ждать прекрасного принца. С другой стороны, помечтать-то ведь можно и бесплатно.
Время шло, синьорина Эстер продолжала расти и потихоньку начала отдавать мне платья, которые стали ей коротки, хотя и выглядели по-прежнему как новенькие. Бабушка немедленно их перешивала под мои размеры, предварительно споров оторочку, бахрому, пуговицы, тесьму и кружевные оборки: «Нечего тебе красоваться, как дочке какого-нибудь синьора! И синьорину Эстер смущать будешь, и меня, что такое позволила». Но ведь качество не спрячешь: платья были из очень хороших тканей и разительно отличались от тех, что обычно носили девушки нашего круга. А вот свои туфли синьорина Эстер, к сожалению, отдавать мне не могла: ее ножка была тонкой и узкой, гораздо меньше моей. Мне же приходилось покупать новую обувь каждый год, потому что ноги у меня тоже росли, а туфли, даже если брать их у сапожника из ближайшего переулка, были недешевы. Что касается шляпок и зонтиков, то их синьорина, поносив вдоволь, отдавала кузинам, которые затем слегка перелицовывали их у модистки. Дарить шляпки мне было бы немыслимо: женщины моего класса, даже самые богатые и тщеславные, никогда их не надевали – просто не посмели бы. Тогда и зонтик казался отчаянной и немыслимой дерзостью: он считался атрибутом знатных дам.
Расти синьорина Эстер перестала незадолго до своих девятнадцати лет, когда срок помолвки подходил к концу и близился день свадьбы. Они с маркизом по-прежнему были влюблены, нисколько не охладев друг к другу: напротив, казалось, что с каждым днем их чувства становятся только сильнее и глубже. Даже просто глядя на них, я чувствовала себя словно в романе. Синьор Артонези тоже, по-видимому, убедился, что нашел дочери достойного мужа, который сможет сделать ее счастливой и защитить, когда его самого рядом уже не будет.
Свадьбу справили с большим размахом, новобрачные сияли. Она походила на сказочную принцессу, он – на театрального актера. Даже тетки невесты при всем желании не нашли, к чему придраться, и уж точно позавидовали, что не смогли столь же пышно отпраздновать свадьбы собственных дочерей.
Новобрачную, хоть ей не исполнилось еще и двадцати, все стали называть маркизой. Мне непросто было обращаться к ней с упоминанием этого благородного титула, слишком уж я привыкла думать о ней как о своей любимой «синьорине». И да простит меня читатель, если я, продолжая свой рассказ, не всегда смогу называть главную героиню приличествующим ей титулом, а то и вовсе опущусь до простого «Эстер», как если бы она была моей подругой. Что, впрочем, совсем не значит, что я не понимала тогда или сейчас, какая огромная социальная пропасть нас разделяла, и не осознавала своего места.
К тому времени бабушка уже волновалась вовсю: с приданым Артонези мы покончили, едва успев в последнюю неделю перед свадьбой, теперь нужно было искать новые заказы – и новых заказчиков. Правда, нам удалось отложить немного денег. Я мечтала, что мы сможем внести аванс за швейную машинку, бабушка же настаивала на том, чтобы беречь каждый чентезимо на черный день. И действительно, найти клиентов пока не удавалось.
Но недолго ей оставалось волноваться, бедняжке: маркиза еще не успела вернуться из свадебного путешествия, как моя бабушка, перешивая подол одного из моих зимних платьев, вдруг склонила голову на грудь, глубоко вздохнула и умерла. «Внезапный удар, – постановил доктор, выписывавший разрешение на похороны. – Сердце слишком износилось».
Большая часть наших скромных сбережений пошла на похороны и место на кладбище: мне не хотелось хоронить бабушку на участке для бедняков, где лежали все прочие родственники.
Теперь я осталась совсем одна: слава богу, ремесло у меня было, но никаких заказов на тот момент не предвиделось. Хорошо еще, что о крыше над головой мне не надо было волноваться: домовладелица, придя попрощаться с телом, хотя и не поехала потом на кладбище, заверила меня, что я могу остаться на прежних условиях – если продолжу убирать с тем же старанием, что и бабушка. Но как быть с остальным? Сбережения скоро закончатся, и чем тогда платить за еду, мыло, свечи, керосин и уголь? К своим подругам детства, ставшим теперь прачками, гладильщицами или посудомойками в тратториях, я не могла обратиться за помощью: все они едва сводили концы с концами, работая по пятнадцать часов в день, чтобы хоть как-то прокормить своих детей. Может, лучше забыть о независимости, послушать кумушек-соседок да подыскать себе местечко прислуги в каком-нибудь почтенном семействе? Тебе всего шестнадцать с половиной, говорили они, ты еще слишком молода, чтобы жить одной. Но, вспоминая историю Офелии, о которой сама узнала лишь недавно, я думала о том, как много моя бабушка сделала, чтобы научить меня ремеслу. Разве можно предать ее последнюю волю?
Стараясь теперь экономить даже на еде, я протянула еще пару месяцев. Каждый день обходя старых заказчиков, расспрашивая, нет ли у них для меня работы, я стыдилась настаивать, когда они отвечали: «Нет, мы уже обратились к другой швее». О том, чтобы снова явиться к Артонези, не говоря уже о новом доме, куда переехали синьорина Эстер с мужем, я даже не думала: ворохов одежды, которые мы с бабушкой для них нашили, хватило бы на долгие годы, разве могло новобрачным понадобиться что-то еще? Как назло, в это время в городе не было и американской журналистки, обучавшей синьорину Эстер английскому (заботу о ее белье бабушка время от времени брала на себя): она на несколько месяцев уехала на родину навестить сестру.
Лежавший в комоде кошелек с каждым днем становился все более тощим. Я уже снесла в ломбард платья, подаренные синьориной Эстер, несколько комплектов простыней, которые бабушка собирала мне в приданое, ее золотую крестильную цепочку и сережки с коралловыми подвесками, которые она оставила мне в наследство, продала старьевщику даже те немногие книги, что у меня имелись, в том числе журналы «Корделия» и те, что отдала мне Эрминия, и даже оперные либретто, что были в хорошем состоянии. Конечно, чтение могло бы помочь мне скоротать время, особенно сейчас, когда глаза не утомлялись над шитьем, но даже эти несколько чентезимо были мне необходимы. К счастью, мне удалось сохранить за собой обе полуподвальные комнатки, иначе с учетом постоянных скитаний от дома к дому в поисках работы и регулярных прогулок в полях за городом, где я собирала мангольд, дикие артишоки, цикорий и съедобные травы, меня бы непременно арестовали за бродяжничество.
Но сдаваться я не собиралась.
В конце концов мое упорство было вознаграждено. Как раз в тот момент, когда я, проведя неделю на пустых макаронах и диком цикории, уже совсем выбилась из сил, меня разыскала экономка синьора Артонези. «Маркиза хочет с тобой поговорить, – сказала она. – Сейчас же ступай на виллу. Адрес-то знаешь?»
Невероятно! Что могло понадобиться синьорине Эстер?
По своей наивности я как-то не думала, что, помимо множества красивых рубашек, халатов и нижних юбок, новобрачной в скором времени может понадобиться еще один набор одежды. Не то чтобы я не понимала простейших вещей, но история ее любви всегда казалась мне такой поэтичной, такой идеальной и бестелесной, что в душе я отказывалась думать о физической стороне «венчания», как это именовалось в романах Делли[1], и того, что за ним следовало. Я не задумывалась даже о том, что сама королева уже родила одну за другой двух принцесс и юного наследного принца, хотя хозяева всех до единого магазинов выставили по этому поводу в своих витринах увеличенную фотографию нашей государыни с тремя детишками в кружевных платьицах: меня, если честно, больше интересовал крой самих платьиц и чепчиков, чем то, как их владельцы появились на свет.
Признаться, из-за этой дурацкой романтики я даже немного расстроилась, узнав, что моя синьорина Эстер ждет ребенка. Зато сама маркиза была бесконечно счастлива. Она встретила меня, вся сияя от радости, в гостиной роскошной виллы, где жила теперь с мужем.
– Ты должна сшить мне самое прекрасное приданое для новорожденного, какое только можно представить! – заявила она. – На крещение возьмем конверт и крестильную рубашку семьи Риццальдо: для Гвельфо это очень важно, она слегка пожелтела от времени, – придется тебе помочь мне с отбеливанием. Остальное Гвельфо хотел заказать у кармелиток: ради вышивки, конечно, ты же понимаешь? Такая у них семейная традиция. Но я сказала, что лучше позову доверенную швею…
