Метод Сократа: Искусство задавать вопросы о мире и о себе бесплатное чтение
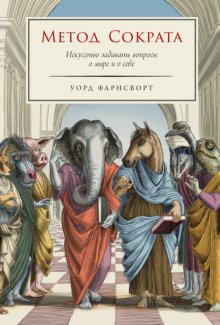
Переводчик Анна Попова
Научный редактор Станислав Наранович
Редактор Андрей Захаров, канд. филос. наук
Издатель П. Подкосов
Руководитель проекта А. Шувалова
Ассистент редакции М. Короченская
Корректоры Е. Сметанникова, Л. Татнинова
Компьютерная верстка А. Фоминов
Арт-директор Ю. Буга
Дизайн обложки Olivia Knapp
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Ward Farnsworth, 2021
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2023
Предисловие
Метод Сократа – это стиль мышления. Это стимулятор для интеллекта и противоядие от тупости. Нужно сказать об этом с самого начала, поскольку многие люди считают сократический метод не более чем техникой обучения – если, конечно, им вообще доводилось о нем слышать. В принципе, так оно и есть; но причина, из-за которой метод Сократа полезен в университетской аудитории или школьном классе, заключается в том, что присущий ему стиль мышления лучше того, который по привычке применяется нами для осмысления чего-то важного. Сократ задавал людям вопросы не для того, чтобы призвать нас делать то же самое, а для того, чтобы научить нас думать. Именно это делает его метод интересным для всех в любых положениях, а не только для специалистов в особых случаях. Я предлагаю читателю практическое руководство, и первый урок, который следует из него извлечь, состоит в том, что практиком сократического метода может быть кто угодно, причем в любой ситуации.
В книге объясняется, что такое сократический метод и как применять его в первозданном виде, то есть в той манере, в какой это делал сам Сократ в диалогах Платона. Это книга о том, как работает наш разум. Кроме того, в более широком смысле это и практическое введение в философию прославленного мудреца. Сократическая философия неизменно поражает: она не дает окончательных ответов на сложные вопросы, но зато содержит в себе навык задавания сложных вопросов и поиска ответов на них. Сократический образ мысли – путь к мудрости, но не сама мудрость в готовом виде; он в принципе отрицает возможность того, что мудрость может быть окончательной и завершенной. Предложенный Сократом метод полезен в размышлениях о любой проблеме, какой бы насущной или, наоборот, тривиальной она ни была, – и о том, как правильно жить, и о том, кому выгуливать собаку.
Кроме того, в книге рассказывается история происхождения стоицизма – того комплекса античных идей, который до сих пор привлекает многих. Доктрины стоиков, сохраняющие притягательность и сейчас, происходят из поучений Сократа, поэтому всем, кто интересуется стоической мудростью, полезно понимать, как она соотносится с тем, что говорил Сократ. В свою очередь, люди, интересующиеся Сократом, с легкостью найдут у стоиков примеры приложения сократического способа мышления к повседневной жизни.
Учение Сократа способно также усовершенствовать обсуждение всякого рода сложных тем. Помимо всего прочего, пользоваться сократическим методом – это значит задавать и принимать вопросы с бесстрашием; говорить то, что думаешь, и не горячиться, когда другие поступают так же; любить истину и не терять скромности, даже если овладел ею. Другими словами, в этом методе – множество хороших обыкновений, которые в последнее время исчезают из нашего культурного дискурса.
Таковы цели настоящей книги, представленные вкратце. А вот их более полное изложение.
Метод Сократа часто называют одним из выдающихся свершений античной мысли. Грегори Властос, самый яркий исследователь нашего предмета в XX в., назвал его «одним из величайших достижений человечества», потому что
с его помощью моральное исследование делается общечеловеческим делом, доступным каждому. Чтобы практиковать этот метод, не обязательно придерживаться той или иной философской системы, осваивать специальные техники или применять формальную терминологию. Нужен лишь здравый смысл и разделяемый собеседниками язык[1].
Сократический метод имеет ценность в праве, политике и других предметах, требующих обоснованных суждений. Джон Стюарт Милль считал, что метод Сократа оказал глубочайшее воздействие на его мышление, став подлинным открытием. В своем эссе о Платоне он рассуждал о том, что человечество в долгу перед ним «за этот величайший и несравненный дар»[2].
Таким образом, метод – ценнейшее наследие Сократа, а сам Сократ, вероятно, наиболее величественная фигура в истории западной мысли. Исходя из сказанного, можно было бы ожидать, что с основными особенностями сократического метода знакомы все. Однако на деле большинству людей они неизвестны; более того, даже видные интеллектуалы порой не видят в наставлениях Сократа практической пользы, по крайней мере, прямой и непосредственной. Почему же образовалась такая пропасть между признанием, во всяком случае на словах, той ценности, которой обладает сократический метод, и реальной осведомленностью о нем?
По моему мнению, на то есть три причины. Во-первых, в диалогах Платона сам метод толком не объясняется. Он просто фоновым образом используется в дискуссиях на разные темы. Метод приходится самостоятельно извлекать из того, как Сократ говорит и действует, а также из того, как он аргументирует свои слова и поступки; тот читатель, который попытается найти в сократическом диалоге прямые инструкции по использованию метода, ничего подобного не обнаружит.
Во-вторых, обсуждения, описываемые в диалогах, да и сама фигура Сократа, нередко обескураживают. Персонажи часто спорят о вопросах, едва ли способных заинтересовать читателя. Они завершают дискуссию ничем, за исключением констатации того, что на поставленный вопрос нет должного ответа, а выдвигаемые ими аргументы иногда кажутся притянутыми за уши или формалистичными. Разобраться в этих аргументах до такой степени, чтобы насладиться сократическим методом и извлечь из него уроки, – своего рода работа, которая для большинства читателей, мягко говоря, остается навыком, приобретаемым тяжело и не сразу.
В-третьих, метод Сократа вряд ли когда-нибудь станет популярным, поскольку он не дает того, чего, как представляется большинству людей, они сами желают. Поучения Сократа не сулят ни богатства, ни известности. Не обещают они и награды после смерти. Они не содержат ответов на мучающие нас вопросы и не подтверждают нашей правоты в том, что мы уже и так считаем верным. А вот что наставления Сократа действительно дают, так это мудрость; но это благо всегда дается нам ценой определенных неудобств. Человеческая тяга к мудрости и готовность мириться с дискомфортом, с нею связанным, никогда не были сильными людскими качествами – ни в Античности, ни в наши дни.
Все эти наблюдения помогают понять, почему метод Сократа большинству людей неизвестен и в школах не преподается – хотя, как представляется, напрасно. Элементы сократического метода просты и действенны, их легко понимать и интересно применять. Метод может оказаться результативным даже для тех, кто больше ничего о философии не знает. Он полезен в размышлениях и спорах, касающихся вещей, которые важны для любого человека наших дней, а не только для современников Платона. А еще, что немаловажно, сократический метод действительно ведет к счастью (в античном смысле этого слова) – к лучшей жизни, не говоря уже о хорошем настроении.
Поскольку в диалогах доступное изложение самого метода отсутствует, моя книга призвана восполнить этот пробел. В ней я попытаюсь облегчить постижение как идей Сократа, так и его метода в особенности.
На практике сказанное означает, что подробному текстологическому анализу каждого затрагиваемого вопроса в моей книге будет уделяться меньше внимания, чем в других подобных работах. Платон дает безбрежную пищу для споров. Вам потребуется немало времени и слов, чтобы защитить любое свое суждение о Платоне от ваших оппонентов и критиков. Мне, однако, хотелось бы, чтобы книга сохранила умеренный объем, а этого невозможно добиться, если последовательно рассматривать каждый аргумент, попадающий в наше поле зрения. Поэтому множество сложных вопросов рассматриваются мной лишь поверхностно, по касательной, а сноски подскажут, где при желании можно узнать о них побольше. Перед читателем, которому требуется более полная интерпретация, открывается выбор из сотен работ. Многие из них перечислены в списке литературы, однако это далеко не полный алфавитный указатель работ, посвященных нашей теме, – в основном в него включены те источники, которые цитируются в тексте. Тем не менее и его вполне достаточно, чтобы представить заинтересовавшемуся «точки входа» в профильную литературу.
То же самое можно сказать и о скептицизме – еще одной философской традиции, имеющей множество современных приверженцев, которые обращаются к этой системе целенаправленно или неосознанно. Античные скептики были учениками Сократа и соперниками стоиков. Их взгляды мы тоже не оставим без внимания.
Сократический метод помогает исправить ситуацию. Прежде чем рассматривать его как технику, взгляните на него как на этику терпения, исследования, скромности и сомнения – другими словами, то самое здравое отношение к проблеме, которое не поощряется в социальных сетях и все заметнее исчезает из политической и культурной жизни. Пользующийся этим методом ставит трудные вопросы с бесстрашием и принимает их без обиды; в его глазах брошенный вызов и опровержение предстают актами дружбы. Сократ, как мы увидим, порой любит определять ускользающее понятие через его противоположность. Мы также воспользуемся этим подходом. Если бы мне пришлось в одном слове выразить антитезу метода Сократа, то я использовал бы слово «Твиттер».
Угроза подобных технологий для качества нашего дискурса, а также ущерб, уже нанесенный ими, очевидны для всех. Однако пока мы сражаемся с силами, еще не получившими четкого определения, хоть оно и было бы полезно. Фанатичная пристрастность, склонность выдавать желаемое за действительное вместо того, чтобы докапываться до истины, шельмование инакомыслящих, цензура или самоцензура мнений, не снискавших одобрения, неспособность несогласных к общению, не говоря уже о сотрудничестве, – все перечисленные явления находятся на подъеме, распространяясь все шире. Большинство думающих людей воспринимает их со страхом и отвращением, ужасаясь тому, что еще может ждать нас впереди. Упомянутые тенденции пока не слились в единый поток, за исключением, вероятно, тех контекстов, в которых сторонники одного политического лагеря пытаются приписывать все подобные пороки (или самые ужасные из них) исключительно своим оппонентам. Альтернатива же всему этому массиву неразумия, взятому в совокупности, еще не формулировалась в виде целостной программы. Происходящее не нравится никому, но у сопротивления пока нет ни формы, ни плана, ни героя.
В этой книге долгожданным героем предстает Сократ, а планом сопротивления – его метод, который естественным порядком одолевает все скопище вышеперечисленных пороков. Вы можете различать пороки и распределять их между политическими крайностями как вам угодно; сократическое состояние ума в любом случае будет лучшим средством против них. Сократический метод концентрирует в себе несколько важных вещей сразу: это мыслительный аппарат, имеющий мощное логическое обоснование, набор эффективных инструментов и хорошая родословная. Те, кто намерен противостоять коррозии мышления и дискурса, причем по всем фронтам, могут – перед присоединением к той или иной группировке – объявить себя сократиками: тем самым, прежде чем взяться за оружие, они примут на себя обязательство следовать тем правилам ведения дискуссии, которые завещал нам Сократ. В книге объясняется, что подобное обязательство означает.
Как человеку из университетской среды мне особенно хочется, чтобы эта книга предложила этику, следуя которой академические учреждения сделаются еще более эффективными. Их благополучие явно нуждается в сократической рецептуре: им стоило бы привыкнуть неустанно рассуждать, бесстрашно опровергать и не бояться сложных вопросов, когда таковые возникают. Университет должен превратиться в подобие сократического гимнасия.
В главах 1 и 2 содержится необходимая исходная информация. В главе 1 разговор пойдет о том, кем был (или мог быть) Сократ, а также о том, как исторический Сократ соотносится с литературным Сократом. В главе 2 обозначается различие между идеями Платона и методами Сократа, представленными в платоновских диалогах.
Главы с 3 по 12 показывают, как работает сократический метод. В главе 3 его элементы представляются целостно, а затем растолковываются детально. В главе 4 обсуждается использование сократического метода не столько в разговорах с другими, сколько в индивидуальном мыслительном процессе. В главе 5 обсуждается исследовательский подход, основанный на вопросах и ответах. Главы 6 и 7 объясняют, что такое «эленхос» – любимый тип аргументации, используемый Сократом, и подчеркивают важность непротиворечивости в сократическом размышлении. Глава 8 посвящена тому, как Сократ обозначает и преодолевает различия, а в главе 9 представляется использование метода аналогий. В главе 10 рассматриваются некоторые базовые правила сократического диалога. Глава 11 посвящена невежеству, и в частности двойному невежеству, то есть неосведомленности о собственном незнании – проблеме, выступающей средоточием всего сократического проекта. Глава 12 имеет дело с апорией – тупиком, в который порой заводит сократический диалог, – и состоянием разума, возникающим в результате этого.
В главе 13 излагаются преимущества, которые дает метод Сократа. В главах с 14 по 16 показаны примеры того, к чему сократический метод может привести. В главе 14 кратко суммируются выводы Сократа относительно того, что значит счастье, и пути его обретения. В главе 15 рассказывается, как методологией Сократа пользовались стоики, продолжавшие размышлять над его выводами. В главе 16 аналогичному анализу подвергаются скептики.
В главах 17 и 18 читатель найдет несколько простых советов, касающихся того, как задавать собственные сократические вопросы. Наконец, в эпилоге метод Сократа и лежащая в его основе этика преобразуются в правила ведения дискуссий, протекающих в различных формах. В нем также говорится о важности сократической этики в жизни учебного заведения.
Примечания относительно переводов приводятся в конце книги. Ссылки на тексты Платона следуют Стефановской нумерации. По ее цифрам легко найти нужный отрывок в любом издании платоновских диалогов. Они обозначают страницы превосходного издания трудов Платона, которое в XVI в. опубликовал Анри Этьенн, французский книгопечатник (Стефан – латинизированная версия его имени). В опубликованном им трехтомнике страницы пронумерованы от 1 до трехзначных чисел; кроме того, каждая страница делилась на части, обозначенные латинскими буквами от a до e. Этой пагинацией пользуются до сих пор для отсылки к нужным местам из Платона. (Аналогичная нумерация используется и для цитирования работ Плутарха, как мы увидим ниже.)
Получается очень удобно. Предположим, вы видите цитату из рассуждений Сократа, маркированную: Пир, 221d. Взяв в руки «Пир» Платона в любом издании и переводе, на полях легко обнаружить знак 221d, отмечающий нужный пассаж. Технически такая метка означает, что цитата находится в разделе d на странице 221 того тома, в котором Стефан в свое время расположил этот диалог (в его собрании это третий том). Практически же все просто: по этому номеру легко найти цитату из Платона в любом издании его текстов.
Благодарности. За замечания и комментарии к черновикам этой книги я благодарю Генри Абелова, Филипа Боббитта, Роберта Чесни, Джона Дея, Александру Дельп, Виктора Ферререса Комеллу, Стэнли Фиша, Майкла Гагарина, Ребекку Гольдштейн, Дэвида Гринвальда, Марка Хелприна, Энтони Кеннеди, Эндрю Кулла, Сола Левмора, Энтони Лонга, Сьюзан Морс, Брайана Переса-Дейпла, Рейда Пауэрса, Уильяма Пауэрса, Дэвида Раббана, Кристофера Робертса, Фреда Шауэра, Николаса Смита, Джеффри Стоуна, Юджина Волоха и Пола Вудраффа. Кроме того, выражаю признательность сотрудникам Юридической библиотеки Тарлтона в Техасском университете за оказанную мне великодушную профессиональную помощь.
1
Проблема Сократа
Кого мы имеем в виду, когда рассуждаем о методе и мыслях Сократа, – историческую личность или литературного персонажа? Если говорить кратко, то ответа на этот вопрос не знает никто. В сущности, это и не особенно важно, однако время от времени упомянутая проблема задает наше отношение к темам, затрагиваемым в диалогах. Тем не менее дискуссии, посвященные проблеме Сократа, сами по себе довольно интересны, и поэтому в настоящей главе мы остановимся на них подробнее, хотя и затронем лишь малую толику тематической литературы, которой нет конца и края. Читателям же, которым этот сюжет неинтересен или уже известен или которые хотят поскорее обратиться к практическим упражнениям с методом, не вдаваясь в исторические подробности, можно посоветовать безболезненно пропустить эту главу.
Позвольте предположить, что именно вам ничего по данной теме неизвестно, и кратко познакомить вас с Сократом, а также с теми, кто рассказывал людям о нем.
Сократ. Сократ жил примерно в 470–399 гг. до н. э. О его жизни нам известно относительно мало. Биографы античности утверждают, что отец его был каменщиком и что в юности Сократ, вероятно, осваивал то же ремесло. Во время Пелопоннесской войны, в которой Афины сражались со Спартой, Сократ служил в афинском войске. Тогда ему было уже за сорок. Он состоял в браке с женщиной по имени Ксантиппа. Согласно легенде, та была сварливой особой и как-то раз в ссоре даже вылила на мужа содержимое ночного горшка[3]. Еще у Сократа было три сына. Наш герой обладал, по-видимому, примечательной внешностью, которую часто описывают как уродливую. Говорили, что он пузат, что у него странный нос (вероятно, вздернутый) и что глаза у него навыкате[4]. Сохранились шутки о том, как он смотрит этими глазами в разные стороны, словно краб[5].
Сократу постоянно приписывают как заслугу то, что именно он переориентировал философию с изучения природы на сложные вопросы повседневной жизни – иными словами, сделал ее интересной для каждого[6]. Хотя он не написал ни строчки, в Афинах эту противоречивую фигуру хорошо знали; его обожали ученики и пародировали драматурги, а его имя связывали с известными политическими злодеями (подробнее об этом ниже). Примерно в 70-летнем возрасте он предстал перед судом по обвинению в нечестии и развращении афинской молодежи. Суд присяжных по этому делу, по всей видимости, состоял из 500 граждан – мужчин старше 30 лет, выбранных по жребию (из 20 000 свободных афинян, достигших нужного возраста). Суд выслушал речи обвинения и защиты, а приговор определили голосованием. Сократа признали виновным и приговорили к смерти.
Платон. Платон жил примерно в 427–347 гг. до н. э. и умер в 80 лет. Он родился в знатной афинской семье, где у него были двое братьев и сестра. Биографы Античности пишут, что при рождении его назвали Аристоклом, а Платон – всего лишь прозвище, означающее «широкий»; вероятно, то была отсылка к каким-то особенностям его лица или комплекции. Однако достоверно обо всем этом мы не знаем – личность Платона по-прежнему почти неведома для нас.
Наиболее подробным источником, повествующим о жизни Платона, остается послание, которое, как предполагается, он написал в преклонном возрасте, – так называемое Седьмое письмо, подлинность которого оспаривается. Оно адресовано последователям Диона, бывшего ученика Платона, который стал политиком в Сиракузах и которого убили незадолго до написания документа. В письме говорится об увлечении Платона политикой в молодости и его поездках на Сицилию в зрелости. Еще в нем высказаны несколько идей, которые мы обсудим в главе 12. Один из историков античной философии предыдущего поколения обобщил – «исключительно ради забавы» – мнения своих коллег относительно Седьмого письма: из его подсчетов следовало, что 36 из них сочли документ подлинным, а 14 – подложным[7]. Некоторые же предпочли вообще воздержаться от суждений на сей счет. Как бы то ни было, большая часть письма состоит из повествования о тех или иных событиях, оно мало что говорит нам о самом Платоне. В связи с отсутствием достоверной информации о философе Ральф Уолдо Эмерсон сделал следующий комментарий:
Биография величайших гениев короче всякой другой. О них не расскажут вам ничего их двоюродные братцы. Гении живут в своих творениях; домашняя же или уличная их жизнь проста и чрезвычайно обыкновенна. Хотите ли узнать что-нибудь об их наклонностях и темпераменте? Самые пламенные приверженцы из их читателей весьма и весьма походят на них. В особенности Платон не имеет никакой внешней биографии. Любил ли он, был ли женат, имел ли детей? Ничего не известно. Все это зарисовано им как полотно картины. Хороший камин выжигает свой дым и чад, так и философ обращает ценность всего своего достояния на духовное[8].
Вероятно, Платон стал учеником Сократа еще подростком. (Его дядя тоже входил в кружок Сократа.) Когда Сократ умер, Платону еще не было 30. На несколько лет он отправился на Сицилию и, возможно, странствовал еще где-то, а затем вернулся в Афины, основав там собственную школу – Академию. Его главными, а возможно и единственными, произведениями стали диалоги, которых насчитывается около 30. Сам он в них не фигурирует, однако в «Апологии» устами Сократа сообщается о его присутствии на суде. Многие ученые полагают, что первые диалоги Платон написал еще до своего путешествия, которое, как им видится, изменило направление его мысли[9]. Они также задаются вопросом, удалось ли Платону написать хотя бы несколько сократических диалогов еще до кончины учителя.
Как говорят, у Сократа был ученик, еще более приближенный, чем Платон, – это Антисфен, который, по имеющимся данным, написал более 60 произведений различного объема, в том числе собственные сократические диалоги (такого рода диалоги превратились в небольшой самостоятельный жанр). Но ни одно из его сочинений не сохранилось. У нас есть лишь свидетельства других людей о том, что говорил Антисфен, причем по большей части эти суждения не слишком способствуют раскрытию исторической личности Сократа. Тем не менее античный историк Диоген Лаэртский пишет, что Антисфен и Платон не ладили, и их вражда в некоторой степени проливает свет (пусть и в нелицеприятной манере) на Платона как самостоятельную фигуру.
…Антисфен, говорят, собираясь однажды читать вслух написанное им, пригласил Платона послушать: тот спросил, о чем чтение, и Антисфен ответил: «О невозможности противоречия». «Как же ты сумел об этом написать?» – спросил Платон, давая понять, что Антисфен-то и противоречит сам себе. После этого Антисфен написал против Платона диалог под заглавием «Сафон», и с этих пор они держались друг с другом как чужие[10].
«Сафон» рифмуется с именем Платона, а означает «большой половой член»[11].
Ксенофонт (ок. 431–354 гг. до н. э.) был афинским полководцем, а также еще одним учеником Сократа и современником Платона. Он оставил пространные воспоминания о Сократе, в первую очередь в своих «Меморабилиях». Эти воспоминания зачастую представляют собой диалоги Сократа с другими людьми. Сократ Ксенофонта – более прямолинейный и менее тонкий моралист, чем Сократ Платона. Вот небольшой пример:
Исследуя вопрос, что такое зависть, Сократ находил, что она есть некоторая печаль, но печаль не о несчастье друзей или о счастье врагов: завистники, говорил он, только те, кто горюет по поводу счастья друзей. Когда некоторые удивлялись, как можно, любя кого-нибудь, печалиться о его счастье, он напоминал, что у многих бывает к тем или другим лицам такое чувство, при котором они не могут равнодушно смотреть на их бедствия и помогают им в несчастье, но при счастье их они испытывают печаль. Впрочем, с человеком рассудительным этого не может случиться, а у дураков всегда есть это чувство[12].
Ксенофонт покинул Афины незадолго до того, как Сократ предстал перед судом. Свои воспоминания о нем он записал позже – возможно, несколько десятилетий спустя. Похоже, что местами он опирается в них на диалоги Платона, а некоторые фрагменты и вовсе вымышлены. Так что полагаться на воспоминания Ксенофонта, как и на тексты Платона, довольно рискованно[13]. Вопрос о том, можно ли одного из них считать надежнее другого, мы рассмотрим ниже.
Аристофан (ок. 446–386 гг. до н. э.) сочинял комедии, где Сократ либо просто упоминается, либо фигурирует как действующее лицо и высмеивается (в первую очередь здесь следует упомянуть «Облака»). Эти исторические свидетельства о Сократе соблазняют нас сильнее прочих, поскольку они создавались не просто при жизни философа, но за 25 лет до его смерти. Несомненно, в Афинах он был широко известен, в аристофановских образах заметны и те черты, которые присущи платоновскому Сократу. Однако в других отношениях Сократ из «Облаков» отличается от прочих своих портретов. Здесь он преподает науку и ораторское искусство и ждет, что ему будут за это платить. Некоторые считают, что Аристофан использовал образ Сократа для обобщенного изображения софистов (странствующих учителей риторики и добродетели)[14]; другие же утверждают, что Аристофан таким образом критиковал идеи Сократа о нравственном воспитании[15]. Для тех, кто занимается проблемой Сократа, все эти теории могут показаться интересными, но вот узнать, отражает ли аристофановский Сократ то, как он воспринимался публикой, или все же нечто большее, нет никакой возможности. Аристофан не позволяет нам понять, где заканчивается исторический Сократ и начинается литературное творчество[16].
Несколько упоминаний о Сократе есть и в трудах Аристотеля (384–322 гг. до н. э.). Этот философ родился примерно через 15 лет после смерти Сократа. Однако Аристотель стал самым выдающимся учеником Платона, и потому естественно предположить, что он много узнал о Сократе как от своего учителя, так и из других источников. Кроме того, мы можем быть уверены, что Аристотель читал диалоги Платона, поскольку иногда он с очевидностью полагается именно на них. Вместе с тем в иные моменты он высказывает о Сократе нечто такое, чего невозможно было извлечь из диалогов. К сожалению, мы не знаем точно, когда он опирается на диалоги, а когда нет, и потому подкреплять диалоги ссылками на Аристотеля довольно опасно[17]. Еще одной причиной для беспокойства служит то, что его исторические свидетельства о других философах признаны не вполне надежными[18]. Впрочем, иногда его комментарии способны посодействовать реконструкции образа исторического Сократа[19].
Теперь мы можем непосредственно, хотя и кратко, обратиться к вопросу о том, кем является «Сократ», представленный в диалогах, – историческим Сократом или же литературным творением Платона. Вот контуры трех основных подходов к этой проблеме[20]:
У этой позиции мало сторонников[21]. Ее критики отмечают, что в диалогах Сократ порой занимает разные позиции по одному и тому же вопросу, противореча себе[22]. В «Апологии», например, он отрицает свой интерес к тем аспектам философии, которые заботят его в «Государстве» и «Федоне». Согласно Аристотелю, теория идей[23] не была детищем Сократа, но у Платона он постоянно говорит о ней. Поэтому в большинстве своем современные ученые уверены, что по крайней мере в некоторых диалогах запечатлены мысли самого Платона, вложенные в уста Сократа.
Все это звучит вполне правдоподобно. Платон нигде не утверждает, будто образ Сократа в диалогах отражает подлинную историческую личность. Он просто излагает истории, где появляется герой по имени Сократ; любое заявление о том, что этот герой схож с реальным человеком, будет лишь гипотетическим умозаключением. Кроме того, в нашем распоряжении есть труды еще одного ученика Сократа – Ксенофонта, который не оставляет места для подобных догадок. Он прямо говорит, что повествует об историческом Сократе и что его Сократ не похож на персонажа платоновских диалогов. Да, они отличаются не радикально, обе фигуры порой даже ставят одни и те же вопросы. Однако Сократ Ксенофонта и Сократ Платона отличаются в плане стилистики, изощренности и содержания рассуждений. Если портрет Ксенофонта точен, значит, у Платона образ безмерно приукрашен, и какие бы исторические черты он ни содержал, они слишком разрозненны и случайны, а потому не должны приниматься в расчет. С этой точки зрения к диалогам Платона можно относиться как к не слишком точному байопику: наслаждайтесь просмотром, но не думайте, что все так и было.
Приверженцы этого воззрения иногда критикуют Ксенофонта. Они утверждают, что его Сократ не может быть настоящим (и, следовательно, Сократ из ранних диалогов Платона, напротив, может быть таковым). Сократ у Ксенофонта не подлинный, потому что, мол, он чересчур скучен и не сумел бы обрести ни преданных последователей, ни ярых врагов, какие у исторического Сократа, бесспорно, имелись[26]. Но корень проблемы, по мнению некоторых, в том, что скучен сам Ксенофонт. Ему не хватило способностей, позволяющих раскрыть изящество Сократа. Не понимая его трудных рассуждений, он просто пропускал их – но как раз они-то и имели наибольшее значение. Эту позицию ярко подытожил Бертран Рассел:
Пересказ глупым человеком того, что говорит умный, никогда не бывает правильным, потому что он бессознательно превращает то, что слышит, в то, что он может понять. Я предпочел бы, чтобы мои слова передавал мой злейший враг среди философов, чем друг, несведущий в философии. Поэтому мы не можем принять то, что говорит Ксенофонт, если это включает какой-либо трудный вопрос в философии или является частью аргументации, направленной на то, чтобы доказать, что Сократ был несправедливо осужден[27].
В целом тезис Рассела кажется убедительным, однако он излишне суров к Ксенофонту[28]. Оставленные последним воспоминания о Сократе открыты для разнообразных трактовок и по-своему умны – как попытки либо защитить Сократа, либо раскрыть те стороны его личности, которые проигнорировал Платон[29]. Но, конечно, следует помнить, что Ксенофонт все же был военным, а не философом; в нынешние времена он действительно покажется большинству из нас скучноватым. Впрочем, это может оказаться и его сильной стороной. Если мы хотим представить Сократа таким, каким он был на самом деле, – если нам требуется отчет, – то не мешало бы запросить его у человека жесткого и скучного. Приключения Шерлока Холмса лучше опишет доктор Ватсон, чем какой-нибудь другой Холмс.
Между тем даже те, кто считает, что в платоновских диалогах Сократ изображается исторически верно, признают, что Платон обладал немалым литературным талантом. И хотя в этом таланте им видится подспорье, одновременно он заставляет и понервничать – причина указывалась выше: из гениев получаются неважные репортеры[30]. Платон был достаточно талантлив для того, чтобы выдумать Сократа, причем нельзя исключать, что именно так он и поступил[31].
Суд над Сократом. Теперь надо затронуть еще несколько сюжетов, связанных с проблемой Сократа. Мы уже убедились в том, что специалисты, считающие платоновского Сократа подлинным, нередко прибегают к следующему аргументу: поскольку многие из платоновского окружения знали Сократа лично, это обязывало Платона описывать его точно. По мнению Грегори Властоса, такой ход мысли особенно применим в отношении «Апологии», где Сократ защищает себя перед судом. На этом процессе присутствовали сотни афинян. Платону необходимо было изобразить своего персонажа так, чтобы они посчитали его убедительным. «Если мы с этим согласны, – пишет Властос, – то проблема источников оказывается решенной. Ибо тогда мы можем принять "Апологию" за пробный камень для правдоподобности мыслей и характера Сократа в других ранних диалогах Платона»[32]. Подобный вывод, однако, представляется скоропалительным. Ведь «Апология» не похожа на прочие диалоги. По большей части это вообще не диалог – по большей части это речь. Нетрудно предположить, что Платон действительно описал это событие более или менее точно, после чего отправил своего вымышленного Сократа в другие приключения, для которых не имелось сопоставимой исторической основы.
Если Платон написал «Апологию» с элементами литературного вымысла, это тоже не удивило бы нас. Как известно, Ксенофонт тоже написал о суде над Сократом, и его изложение отличается от платоновского. Каждый из них мог позволить себе отойти от исторической точности ради репутации своего учителя. И нам стоит задуматься, почему. Некоторые исследователи пришли к выводу, что суд над Сократом в значительной степени имел политическую подоплеку[33]. Проиграв в 404 г. до н. э. войну со Спартой, Афины оказались под властью Тридцати тиранов – группы олигархов, благоволивших спартанцам. Их правление, продлившееся меньше года, оказалось довольно кровавым: сторонников демократии не только ссылали, но и казнили. Между тем Сократ все это время оставался в Афинах[34]. Лидером Тридцати тиранов был один из его учеников по имени Критий; философ был знаком и с другими из тиранической тридцатки. Крития убили во время восстания, покончившего с его режимом. Суд над Сократом состоялся четыре года спустя. Мыслитель мог попасть под амнистию, освобождавшую граждан от судебного преследования за какую-либо причастность к преступлениям предыдущего режима, но материалы других судебных разбирательств того времени свидетельствуют, что политические претензии с легкостью обращались в преследования за «нечестие»[35]. Это объясняет знаменитую реплику оратора Эсхина, брошенную полвека спустя: «Когда-то, афиняне, вы казнили софиста Сократа за то, что он оказался наставником Крития, одного из Тридцати, ниспровергнувших демократию»[36].
Причина, по которой Сократа судили и казнили, – сложнейший вопрос, и я коснулся лишь одной его грани. Некоторые ученые отклоняют политические трактовки процесса, предпочитая опираться на версию платоновской «Апологии»[37]. Для внесения окончательной ясности нам не хватает прямых свидетельств, поэтому к каждой точке зрения нужно относиться ответственно. Возможно, исторический Сократ был мудрым и благородным философом, чересчур честным для своего времени; возможно, он был своеобразным лидером секты, учившим своих последователей презрению к демократии и воспитывавшим будущих тиранов. В любом случае каждая из политических интерпретаций должна, по крайней мере, предупреждать нас о риске того, что ученики Сократа облагораживали и мифологизировали его образ.
Последовательность. Исследователи единодушны в том, что диалоги существенно отличаются друг от друга, но в большинстве своем они примерно одинаково видят список тех диалогов, где запечатлен сократический метод. При этом к настоящим сократическим диалогам принято относить прежде всего самые ранние. Но какие из диалогов были написаны раньше остальных и как установить это?
Ни один из платоновских диалогов не имеет датировки. Попытки расположить их по порядку стали предметом сотен исследований; автор одной из работ на эту тему насчитал 132 предложенные последовательности[38]. Во многих исследованиях использовалась стилометрия – изучение небольших стилистических изменений в диалогах, которое показывает, какие из них написаны приблизительно в одно и то же время. Но подобные изыскания не дают результата, если (как считают многие) Платон на протяжении жизни не раз возвращался к ранее написанным текстам и редактировал их либо если стилистические изменения были преднамеренными, а не неосознанными. Кроме того, стилометрия требует предварительных решений – как правило, касающихся тематических аспектов, – о том, какие именно диалоги следует брать за отправную точку. Дискуссия о последовательности диалогов поражает затраченными в течение веков усилиями и почти полным отсутствием консенсуса. Фактически договориться удалось лишь относительно пары довольно расплывчатых групп. Такой результат, впрочем, вполне в духе Сократа. Процесс исследования может быть поучительным, даже если не дает ответов.
Что касается упомянутых групп, то разделение всего массива диалогов на «ранние» и «поздние» сегодня принято большинством специалистов в качестве рабочей гипотезы[39]. Ранними диалогами обычно считаются следующие тексты, расставленные здесь в алфавитном порядке: «Апология», «Гиппий больший», «Гиппий меньший», «Горгий», «Евтидем», «Евтифрон», «Ион», «Критон», «Лахет», «Лисид», «Протагор» и «Хармид». Многие добавили бы к этому списку и первую книгу «Государства», которая, как считается, была написана раньше, чем остальные книги этого диалога, а также, возможно, «Менексена». Моя книга в основном опирается на диалоги из этого списка, но иногда мы будем обращаться и к более поздним диалогам, проливающим свет на обсуждаемые вопросы, в особенности к «Теэтету», но также и другим. Так или иначе, но в нижеследующем повествовании будет упомянута бóльшая часть диалогов. По моему мнению, сократический метод в значительной мере был создан Платоном, так что комментарии ко всему его творчеству помогут нам лучше его понять.
Единство против развития. Приведенная выше аргументация перекликается с еще одной дискуссией о том, как правильно читать Платона. Некоторые придерживаются позиции, которую можно назвать унитаристской: по их мнению, диалоги следует читать так, как если бы они были главами книги, завершенной одномоментно[40]. Если между ними и есть различия, то из этого не стоит заключать, будто бы изменился сам Платон. В рамках указанного подхода предполагается, что за различиями стоят лишь литературные решения автора – либо потому, что подобное кажется вполне вероятным, либо же потому, что это самое конструктивное из доступных предположений. Читатели, руководствующиеся таким убеждением, склонны думать, что Платон довольно рано создал свою философию, а затем всю жизнь ее тем или иным образом выражал[41]. Описанному подходу противостоит так называемый девелопменталистский взгляд на диалоги; он предполагает, что Платон менял свои воззрения на протяжении своей жизни и в его творчестве это отражено. Девелопменталистский подход естественно (но отнюдь не обязательно) сопутствует идее о том, что в ранних диалогах перед нами предстает исторический Сократ, а в более поздних диалогах мы его не видим.
Рабочие предположения. По большей части эта книга опирается на те предпосылки, которые разделяются большинством историков античной философии. Во-первых, метод Сократа наиболее ярко представлен в наборе диалогов, написанных Платоном, скорее всего, в самом начале творческого пути. Во-вторых, эти «ранние» диалоги демонстрируют нам, пусть даже приблизительно, как действовал сам Сократ; поэтому я буду писать «Сократ говорил то-то» или «Сократ поступал так-то». Даже если предположить, что Сократ, представленный в ранних диалогах, остается лишь литературным персонажем, придуманным Платоном, то его подходы и его идеи все равно останутся непохожими на те, что мы видим в «поздних» диалогах. Было бы удобно как-либо различать их. Поэтому говорить так, как если бы ранние диалоги отражали слова «Сократа», а не Платона, полезно даже в том случае, если мы не слишком в этом уверены.
Мое собственное мнение немногого стоит, но я его выскажу, а вы можете не принимать его во внимание. На мой взгляд, Сократ ранних диалогов представляет собой смесь воображения Платона и его воспоминаний, причем второго, по-видимому, больше. Однако независимо от того, какое решение проблемы Сократа кажется наилучшим, нельзя забывать о свойственной ей неопределенности. Любая позиция может оказаться неверной. Тем не менее книга будет опираться на вышеупомянутые предположения, чтобы мы могли начать сам процесс обучения. Даже если выбранные предпосылки неверны (а такое возможно), то последующие рассуждения все равно останутся примерно теми же.
2
Метод против доктрины
В этой главе объясняется разница между методом Сократа и содержанием тех идей, о которых писал Платон. В этом деле нам отчасти поможет Джон Стюарт Милль, выдающийся британский философ и один из первейших поборников сократического метода. Есть много способов размышлять о Сократе и учиться у него. В этой книге я пытаюсь заниматься этим в той манере, которую предложил Милль.
Текст и примечания. Статус Платона в глазах специалистов-философов не нуждается в комментариях. Однако людям, находящимся вне круга заинтересованных, присуще пусть и уважительное, но по большей части равнодушное отношение к этому мыслителю. Да, они признают его значимость и время от времени воздают ему должное. Вероятно, они уже знакомы с высказыванием Альфреда Норта Уайтхеда о том, что вся европейская философская традиция есть «лишь серия примечаний к Платону»[42]. Но на самом деле они предпочитают эти самые примечания. Они не считают себя платониками, не любят читать Платона и не связывают его с какими-либо конкретными идеями, которые представляются им важными. Если они и помнят из Платона хотя бы что-нибудь, то это, как правило, теория идей, трактовка познания как припоминания или концепция правителей-философов. Ни во что из перечисленного сами они не верят. В силу сказанного многие читатели реагируют на Платона примерно так же, как это сделал Томас Джефферсон после прочтения «Государства». В одном из писем к Джону Адамсу он признавался:
Пробираясь через причуды, ребячество и непостижимый уму жаргон этого труда, я часто откладывал его, чтобы спросить себя, как могло случиться, что мир так долго соглашался принимать всерьез такую бессмыслицу, как эта. ‹…› Что касается современников, я думаю это скорее вопрос моды и авторитета. Образование находится главным образом в руках лиц, которые в силу своей профессии проявляют интерес к имени и фантазиям Платона. Они задают тон в школе, а немногие в последующие годы имеют возможность пересмотреть свои школьные взгляды[43].
Я привел здесь этот суровый приговор вовсе не для того, чтобы поддержать его. Лично мне Платон нравится. Я лишь хотел показать, как на него подчас смотрят даже просвещенные читатели, получившие классическое образование. (Как известно, Джефферсон отличался философской любознательностью, знал древнегреческий и любил Эпиктета, Эпикура и других античных философов[44].)
Сократ, в отличие от Платона, для большинства непрофессиональных читателей вообще мало что значит. У них он ассоциируется с изречением о том, что жизнь, которую не пытаются исследовать, не стоит того, чтобы ее проживать (хотя, возможно, это высказывание лучше было бы перевести так: «Нельзя прожить жизнь, не исследуя её»[45]). Им также известно, что его рассудительность и храбрость много кого вдохновили. Однако его собственные идеи их ничуть не интересуют. Они восхищаются его репутацией, но на этом, пожалуй, и все. А зачастую они так и не могут оправиться от первого впечатления: Сократ кажется им чудаком, который постоянно докучал людям, причем без всякого толку.
Сущность против метода. Чтобы в полной мере оценить наследие Сократа, полезно обратиться к Миллю, самому выдающемуся британскому мыслителю XIX в. Это был чрезвычайно разносторонний философ. Его труд «О свободе» – классика политической мысли, которая и сегодня продолжает убеждать и вдохновлять многих. (Главу 2 этого сочинения можно считать убедительной современной апологией сократической позиции.) Трактат «О подчинении женщины» значительно опередил свое время: в нем Милль выдвинул такие аргументы в защиту прав женщин, которые продолжают громко звучать в полемике даже спустя многие годы после его смерти. Большим влиянием пользовались также его работы по логике, экономике и истории. Его собрание сочинений насчитывает 33 тома. (Помимо этого, Милль находил время и заседать в парламенте.)
Я касаюсь здесь всей этой предыстории потому, что Милль будет играть весьма важную роль в моем дальнейшем повествовании. Он далеко не всем по нраву (хотя есть ли такие мыслители, кого любит каждый?), но его способность рассуждать безупречна; следовательно, полезно было бы обратиться и к его собственным учителям. Милль, подобно Джефферсону, любил философию, но, в отличие от Джефферсона, он был поклонником Платона. Фундаментальным образованием Милля занимался его отец. Ребенок рос вундеркиндом: уже к семи годам он читал Платона в оригинале. В 20 с небольшим он перевел на английский язык девять платоновских диалогов, снабдив некоторые из них комментариями. Оставленные Миллем обзоры, посвященные творчеству Платона и Сократа, до сих пор остаются образцовыми. Он считал, что в качестве «дисциплины абстрактного рассуждения на самые сложные темы» метод Сократа остается «непревзойденным» и «ничто в современной жизни и в современном образовании ни в малейшей степени c ним не сравнится»[46]. Милль пишет, что сократический метод
стал частью моего собственного разума; я всегда ощущал себя учеником Платона, воспитанным на его диалектике, в большей степени, чем любого известного мне современного мыслителя, за исключением, пожалуй, моего отца, а может, и включая его[47].
Стоит попытаться понять, почему так получилось.
Милль считал, что Платон может преподать нам два вида уроков. Во-первых, его философские идеи, или, по формулировке Милля, догматическая сторона. Под догматикой Милль подразумевал вовсе не безоговорочную приверженность каким-то недоказанным утверждениям, как можно было бы подумать, а те места платоновских сочинений, где делаются выводы и обозначаются определенные позиции. Вторым уроком служит сам стиль мышления Платона, то есть метод, используемый Сократом в диалогах. По мнению Милля, именно этот метод составляет наилучшую часть диалогов Платона:
Таким образом, за вычетом незначительных отклонений, Платона можно разделить как бы на двух полноценных Платонов – сократика и догматика, из которых первый представляет для человечества гораздо большую ценность, но второй получает от него гораздо больше почестей. Это и неудивительно: ведь один мог послужить опорой для многих моральных и религиозных догм, а другой лишь прояснял и укреплял человеческое мышление[48].
В другом месте Милль высказал свою точку зрения еще более четко:
[С самого детства] я стал думать, что название учеников Платона скорее принадлежит мыслителям, которые воспитались на его процессе исследования и старались держаться его, чем людям, принимающим только некоторые догматические заключения, заимствованные из его наиболее непонятных сочинений, тогда как гений Платона и характер его творений заставляют сомневаться, не смотрел ли он сам на эти произведения только как на поэтическую фантазию или на философскую гипотезу[49].
По Миллю, использовать слово «платоник» слишком поздно: теперь им обозначают сугубо тех, кто согласен с сущностью платоновских идей. Приверженцев же метода Сократа скорее нужно называть сократиками. Объяснение того, что значит быть сократиком, составляет, по сути, центральную тему моей книги.
Недуг. Какова цель сократического метода? Попытаемся сформулировать этот вопрос в стиле самого Сократа. Люди носят очки потому, что без них внешний мир предстает смутным и расплывчатым; рентгеновские лучи позволяют им заглядывать внутрь своего физического «я»; но метод Сократа – для чего же нужен он? Он позволяет нам увидеть более четко кое-что еще, а именно функционирование и упущения разума и его производных. Вот как сформулировал это Милль:
