Театр мира. История картографии бесплатное чтение
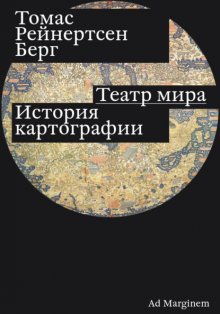
Copyright © 2018 by Forlaget Press. Published in agreement with NORTHERN STORIES. (All rights reserved)
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2023
Фредрику и Эрленду – с надеждой,
что вы сумеете повидать мир
Предисловие
Мир как сцена
Осло,
Норвегия
59º56’38” с. ш.
10º44’0” в. д.
На титульном листе и предыдущем развороте – карта мира из книги Абрахама Ортелия Театр мира (1570).
Люди могли видеть мир с высоты птичьего полета задолго до того, как научились летать. Еще в доисторические времена мы начали рисовать вид сверху, чтобы лучше ориентироваться в окружающем нас пространстве. Самые ранние свидетельства этой потребности – наскальные изображения домов и полей. Но лишь в наше время, а именно одним декабрьским вечером 1968 года, мы узнали, как наш мир выглядит на самом деле. В этот день три астронавта облетели на корабле «Аполлон-8» вокруг Луны и стали первыми в истории человечества, кто увидел всю Землю целиком. «Это восход Земли. Господи, как же красиво! <…> Скорей дай мне катушку с цветной пленкой», – сказал Уильям Андерс и сделал снимок восходящего земного шара, прекрасного, одинокого и хрупкого, парящего в бесконечном космосе.
Аполлоном звали греческого бога, который каждый день пересекал небо, увлекая за собой солнце. Когда фламандский картограф Абрахам Ортелий в 1570 году, почти за четыреста лет до полета «Аполлона-8» вокруг Луны, выпустил первый в истории современности всемирный атлас, один из его друзей написал в его честь стихотворение. В этом стихотворении Ортелий удостоился восседать рядом с богом и обозревать весь мир: «Ортелий, которому светлоликий Аполлон позволил нестись высоко в небесах, рядом с собой в своей колеснице, влекомой четверкой коней, дабы сушу и воды, ее объявшие, зреть».
Созданный Ортелием атлас начинается с карты мира, обрамленной, словно занавесом, облаками. На ней мы читаем названия: Noruegia, Bergen, Suedia, Aegyptus, Manicongo, Iapan, Brasil, Chile и Noua Francia. Автор озаглавил свою книгу Theatrum orbis terrarum (Театр мира)[1], потому что считал, что благодаря картам мир разыгрывается перед нашими глазами, как театральное действо.
Во времена Ортелия сравнивать мир с театром было обычным делом. Спустя год после выхода атласа появилась пьеса английского драматурга Ричарда Эдвардса, вложившего в уста своего персонажа слова: «Этот мир подобен сцене, на которой многие играют свои роли»[2]. Эта формулировка так понравилась Шекспиру, что он использовал ее в своей комедии Как вам это понравится: «Мир – театр; В нем женщины, мужчины, все – актеры; У каждого есть вход и выход свой»[3]. Кстати, Шекспир и театр свой назвал «Глобусом».
Ортелий не был собственно картографом. Он не был и астрономом, географом, инженером, землемером или математиком, и вообще не получил никакого формального образования. Однако о картах он знал достаточно, чтобы отличать хорошие от плохих. Кроме того, у него были высокие требования к качеству, основательности и стилю – и многочисленные друзья и знакомые, которые либо рисовали карты сами, либо знали тех, кто этим занимался профессионально. Поэтому ему удалось собрать внушительную коллекцию карт и составить первый всемирный атлас.
Работа над книгой, которую вы держите в руках, отчасти напоминала работу Ортелия над атласом. Я основывался на том, что другие сделали до меня: проштудировал множество книг, статей и фильмов, чтобы узнать самое важное и самое интересное, и на этом пути мне постоянно приходилось принимать решения. Ни одна карта не может отобразить весь мир, и ни одна книга не может полностью вместить в себя историю картографии, потому что история создания карт – это история развития человеческого общества. Карты имеют политическое, экономическое, религиозное, бытовое, военное и организационное значение, и потому некоторые решения давались мне особенно трудно – тем труднее, чем ближе к нашему времени, поскольку сегодня едва ли существует область жизни, не связанная с вопросами картографии.
Создание карт всегда сопровождалось принятием решений, основанных на базовых ценностях, определявших, что именно должно быть включено в карту. Любая карта дает нам сведения отнюдь не только о географии. Мы видим разительные отличия между картой города Теночтитлана, созданной ацтеками в 1540 году, где отмечены лишь имена правителей городских районов, и атласом Норвегии, вышедшим в издательстве «Каппелен» в 1963 году, составители которого решили из уважения «лучше включить в атлас слишком много названий, чем слишком мало». Карта ацтеков отражает строгую классовую иерархию их общества, атлас Норвегии – яркий пример того, что в эпоху расцвета социал-демократии внимания достоин каждый. Обе карты несут на себе отпечаток ценностей своего времени.
Разумеется, и я не мог избежать этого, работая над книгой. Я последовательно отдавал предпочтение истории создания карт своего – северного – уголка мира. Не потому, что скандинавы играют в истории картографии более важную роль, нежели американцы, арабы, британцы, французы, греки, итальянцы, китайцы или нидерландцы, а потому, что для большинства из нас интереснее всего собственная история. Кроме того, история карт Норвегии и Скандинавии до сих пор мало изучена, хотя и составляет важную часть истории скандинавских стран. Существенно и то, что, рассматривая общую историю картографии под «скандинавским» углом, мы видим ее в ином ракурсе, чем увидели бы, рассказывая о ней в контексте всего мира. Я, как мог, старался показать, каким образом большая история, которая сообщает (очень скупо) об улучшении карт, новых методах, новых измерительных инструментах и более глубоком понимании всех областей применения карты, влияет на нашу локальную историю. Я надеюсь, что тем самым мне удалось осветить и малоизученную страницу модернизации Норвегии, а именно: как постоянное совершенствование карт способствовало развитию норвежской промышленности, политики и общества.
Американский картограф Уолдо Рудольф Тоблер в 1969 году сформулировал так называемый первый закон географии: «Всё связано со всем, но близкие вещи связаны теснее, чем дальние». Когда мы видим новую карту, то первым делом стараемся отыскать на ней свою родину. «Вероятно, некоторые станут искать в этом театре изображение родной местности (поскольку все любят свою родину и хотят видеть ее наряду со всем остальным)», – писал Абрахам Ортелий в предисловии к своему атласу, так что это явление далеко не новое.
И тем не менее, отыскав свою родину, многие продолжают водить по карте взглядом и пальцем, останавливаясь на таких местах, как Такоради, Тимбукту и Тринкомали, маршрут Восточного экспресса и Шелкового пути, линия Западного фронта или границы Римской империи, и ощущают трепет от осознания того, что мы – столь же обыкновенная, сколь и экзотичная часть этого мира, как и всё прочее.
Дальность и близость относительны. Из космоса весь земной шар воспринимается как родина человечества. «Мы проделали весь этот путь, чтобы исследовать Луну, но самое главное из наших открытий – Земля», – сказал астронавт Уильям Андерс.
Я хотел бы поблагодарить за помощь в работе над книгой многих. Во-первых, моего редактора Трюгве Риисера Гюннерсена, направлявшего текст в нужное русло; Бенедикта Гамборга Брисо из Национальной библиотеки за вдохновляющие обеды и разговоры о картах и его энтузиазм, а также Сири Ресбак Глусли за пересылку мне нужных карт; Бьерна Гагнвалла Петтерсена за все присланные статьи о современной топографической съемке в Норвегии; дизайнера Димитрия Карамбакиса за то, что книжка получилась очень красивой; Астрид Сверресдоттер Дюпвик и Тура Ивара Эстму за переводы с немецкого и латыни; Эрлинга Сандму, опытного консультанта и эксперта по морским чудищам; Норвежский полярный институт за помощь и отзывчивость; Эллен Гиилхюс и Сиссель Квартейг из Государственного управления картографии; маму и папу за то, что подарили мне атлас мира, когда мне было одиннадцать – я им пользуюсь до сих пор. Самое большое спасибо моей любимой Марии, которая терпеливо выслушивала бесконечные истории о картах разной степени увлекательности и позволяла мне писать и вычитывала главы.
С. 15 Самая старая из сохранившихся карт эпохи Средневековья была нарисована в конце VII или начале VIII века. В ее верхней части мы видим Иисуса, возвышающегося над земным шаром с распростертыми руками. Африка подписана именем Хама, Ноева сына, который отправился на юг после Великого потопа. Это непросто разглядеть на репродукции, но Европа носит имя Иафета, а Азия – Сима, других сыновей Ноя. К югу от Африки находится большая Terra inhabitabilis – необитаемая земля. Две самые длинные полосы обозначают Средиземное море и неизвестное море южнее Африки, поперечные полосы – реки Дон и Нил, а две диагональные полосы – Азовское море. Подробнее на с. 86–87.
Все ошибки – будь то неверно указанные координаты города, опущенные имена, слишком маленькие озера или реки, впадающие не туда, куда следует, – целиком и полностью на моей совести.
Как отец, я имел возможность с близкого расстояния наблюдать за тем, как мои сыновья картографируют окружающий мир. Из карапузов, исследующих комнаты в квартире от спальни к спальне, от гостиной к кухне, они превратились в отважных первооткрывателей детского сада, школы, игровой площадки, пекарни и домов друзей. В ближайшие годы они продолжат исследовать наш бескрайний мир. Поэтому я посвятил эту книгу им.
Первые изображения мира
Бедолина,
Италия
46°02’00” с. ш.
10°20’29” в. д.
С. 16 По всей вероятности, карта Бедолины была высечена на камне примерно за тысячу лет до Рождества Христова. Если отправиться в долину Камоника, располагающуюся в итальянских Альпах к северу от Брешии, на западном склоне горы, чуть выше небольшого городка Капо-ди-Понте, можно увидеть изображение своими глазами. Этот район охраняется, поскольку здесь находится несколько тысяч образцов наскальной живописи.
На севере Италии расположена плодородная долина Камоника, где люди живут уже на протяжении многих тысяч лет. Сейчас она пролегает в стороне от оживленной трассы Е47, еще восточнее располагается железная дорога, протянувшаяся с юга на север через Верону и Альпы. Камоника по праву считается одной из колыбелей мировой картографии, ведь здесь находится древнейшая карта Бедолины, созданная три тысячи лет назад.
Карта выгравирована на скале, откуда открывается прекрасный вид на долину. Изображение, которое вполне можно считать сложной наскальной живописью, имеет 4,3 метра в ширину и 2,4 метра в высоту. На нем можно найти людей и животных, воинов и благородных оленей, а также дома, тропинки и квадратные поля с точками – всего 109 различных изображений, которые складываются в карту поселения и пашен, увиденных с высоты птичьего полета. Но кто же и с какой целью много веков назад создал эту карту?
Римляне называли этот район Vallis Camunnorum, что означает «долина племени камунов», народа, проживавшего на этой территории еще с железного века. Греко-римский географ Страбон упоминал это племя в своей Географии, написанной примерно в первом десятилетии нашей эры: «Далее по порядку следуют части гор, обращенные к востоку и к югу; их занимают реты и винделики <…>. Область ретов простирается до части Италии, расположенной над Вероной <…>; к этому племени принадлежат лепонтии и камуны»[4].
Около двух с половиной тысяч лет назад камуны начали активно сообщаться с этрусками, населявшими земли к югу, у которых они переняли письменность. На стенах рядом с картой располагается более двухсот надписей. Однако никому еще не удалось прочитать ни одной из них. Поэтому утверждать, что карта была выгравирована около трех тысяч лет назад, можно лишь с некоторой долей уверенности: письменных источников, способных это подтвердить, не сохранилось.
Карту Бедолины нельзя отнести к точным географическим картам, ведь по ней нельзя отыскать путь из одного места в другое. Для чего же она понадобилась? Итальянский археолог Альберто Марретта считает, что карта имеет сугубо символическое значение. По его словам, Бедолина олицетворяет поворотный момент в жизни ее составителей: переход от охоты к земледелию. Другие наскальные рисунки и археологические раскопки в этом районе указывают на то, что у камунов была землевладельческая аристократия, и цель карты, по мнению Марретты, – показать их символическую власть над указанной территорией. Карты всегда отвечают определенной потребности. Многие из самых древних известных нам карт как раз и запечатлели владение землей. Другие, более амбициозные карты, удовлетворяли религиозную потребность определить место человека в космосе.
Сталкиваясь с доисторическими наскальными рисунками и петроглифами, мы неизбежно задаемся вопросом: что же такое карта? Что отличает ее от других изображений? Как мы можем ее распознать, если ничего не знаем об обществе, в котором она была создана? В предисловии к классическому труду История картографии редакторы Джон Брайан Харли и Дэвид Вудворд дают следующее определение карты: «Карты суть графические изображения, способствующие пространственному пониманию предметов, идей, условий, процессов или событий в человеческом мире»[5]. Сюда же можно отнести и самые ранние представления человека о пространстве, а под «человеческим миром» авторы труда подразумевают наше окружение в самом широком смысле, включая космос и потусторонний мир. Но в конце концов всё зависит от интерпретации.
Так, норвежский археолог Сверре Марстрандер, изучавший петроглифы на скандинавском полуострове, в своей книге Наскальные рисунки земледельцев Эстфолла (1963) упоминает о «странных, похожих на сетку рисунках», которые, по его мнению, иллюстрировали «примитивные представления о конкретном типе пахотных угодий земледельцев бронзового века. <…> Более не осталось сомнений в том, что эти изображения действительно следует воспринимать как древние поля».
Марстрандер, однако, предпочел не называть эти поля картами. Вместо этого он связал их с обрядами плодородия, которые должны были привести к хорошему урожаю. Может ли вообще археолог интерпретировать их как карты, фиксирующие принадлежность земельных участков?
Если современные карты всегда содержат пояснения, благодаря которым мы понимаем, какими символами обозначены дороги, города, трассы, школы и лыжные маршруты, то в том, что мы считаем доисторической картой, таких пояснений, естественно, не найти. В таких случаях мы вынуждены опираться на догадки и трактовки, и любой, кто когда-либо пробовал разгадать иконки на незнакомом телефоне, может представить, насколько это бывает нелегко. Расшифровать древние карты полностью вряд ли когда-нибудь получится. Общество склонно постоянно упрощать знаки до тех пор, пока они не перестают быть загадками для непосвященных. Скрытые, символические и закодированные послания станут понятны лишь тогда, когда картографы изучат не только то, что они считают подобием карты, но и всю культуру породившего ее общества. Постичь мысли людей, живших тысячелетия назад, – весьма сложная задача.
Однако можно сравнить друг с другом доисторические произведения. В городе Минусинске в Красноярском крае находится большой петроглиф, похожий на карту Бедолины. На нем мы тоже видим вперемешку дома, людей и животных на большой площади, почти в десять метров длиной, это реальная деревня. Но здесь скульптор был озабочен скорее правдоподобным воспроизведением домов, чем их расположением относительно друг друга. Всё нарисовано в профиль. Также трудно сказать, представляет ли собой петроглиф единое произведение, высечены ли были на нем все дома изначально, или новые сооружения пририсовывали к уже имеющимся там, где оставалось свободное место на камне. Сравнивая наскальную живопись в Камонике и Минусинске, мы можем утверждать, что в первом случае перед нами карта, а во втором – изображение.
Способность передавать информацию о местности была развита у некоторых животных задолго до появления homo sapiens. Наиболее известный пример – танец, посредством которого медоносные пчелы сообщают другим пчелам, где можно найти цветы. Пчела подлетает к улью и, чуть виляя жалом, начинает потихоньку подниматься по сотам, затем поворачивает вправо и полукругом возвращается к исходной точке, после чего повторяет танец, но на этот раз в верхней точке она разворачивается уже влево. Если найденные ею цветы находятся в направлении Солнца, она «танцует» вверх вдоль сот, и любое отклонение вправо или влево от Солнца, которое потребуется от пчел во время перелета, она указывает в танце соответствующим углом движения. Чем выше относительно сот поднимается пчела, тем дальше лететь к цветам, и чем чаще она виляет жалом, тем больший «улов» ожидает ее товарок. Это умение пчел «описывать» направление отметил более двух тысяч лет назад греческий философ Аристотель в трактате История животных: «Придя в улей, они разгружаются, и каждый раз за этим следует три или четыре вылета»[6].
Полезность танца пчелы налицо. Когда она знает, где можно найти пищу, и делится информацией с другими, улей процветает. По всей видимости, точно так же было и с первобытным человеком. Тот, кто мог объяснить соплеменникам, где находится добыча, изрядное количество фруктов или пресной воды, помогал им нагулять жир и таким образом выжить. Первые люди были кочевниками. Наши ближайшие родственники – обезьяны и полуобезьяны – в основном жили в лесах, тогда как мы бо´льшую часть времени обитали на равнинах. Это позволило нам развить более острое, чем у обезьян, зрение и по-другому относиться к расстояниям, пространству и ориентироваться на местности. Ощущение пространства, по-видимому, было первым проблеском нашего примитивного сознания.
Люди также усвоили еще четыре навыка, необходимых для составления карт. Они научились, во-первых, исследовать мир, во-вторых, хранить полученную информацию, в-третьих, абстрагироваться и обобщать и, в-четвертых, пользоваться полученной информацией. В отличие от своих предков, которые говорили главным образом о том, что происходило здесь и сейчас, люди стали связывать события прошлого, настоящего и будущего – с пространством.
Способность выражать словами всё, что нас окружает, будь то дерево, море или гора, делает мир одновременно и больше, и меньше, и понятнее, что облегчает передачу информации. Таким образом, мы можем предположить, что развитие пространственного восприятия и языка шли рука об руку. Поскольку первым людям понадобилось составить карту, уже возникшую у них в сознании, они придумали слова, выражающие длинные и короткие расстояния, направления, ориентиры и время, необходимое для того, чтобы добраться до того или иного места. Поначалу они наверняка импровизировали с картами, созданными из палок и камней на песке, земле и снегу, а затем рисовали пальцами или кистью на стенах пещеры.
Человечество начало создавать изображения мира около сорока тысяч лет назад. Во всяком случае, именно этим периодом датируют древнейшие из известных нам наскальных рисунков животных черного, красного и желтого цвета в пещере Эль Кастильо на севере Испании. Пещерные люди смешивали пигменты, найденные в глине и саже, с жиром, воском, кровью или водой. Петроглифам, найденным в Австралии, тоже около сорока тысяч лет.
Самая древняя в мире карта вырезана на бивне мамонта. Ее возраст – 38 000–32 500 лет. Она была найдена в районе Альб-Дунай в Германии и, по словам немецкого археолога, профессора Михаэля А. Раппенглюка, представляет собой звездную карту, изображающую созвездие Ориона. Тот же археолог утверждает, что и 13 700-летние рисунки в пещере Ласко на юго-западе Франции, где мы видим очертания бизона, человека и птицы, не что иное, как карта звезд Вега, Денеб и Альтаир, образующих Летний треугольник – звезды, которые первыми проступают в летние вечера на северном небе. Этот треугольник ученый обнаружил, проведя линии от глаз трех фигур.
Мнение профессора Раппенглюка разделяют не все. С другой стороны, логично предположить, что люди рисовали карты звезд прежде, чем взялись изображать ландшафт. Всё же обозревать небо куда легче, чем местность. Звезды висят над нами упорядоченными конфигурациями, разбросанными, словно на холсте или стене, и их легко воспроизвести точками. Звездные карты, возможно, сыграли важную роль в жизни самых ранних земледельческих общин: появление некоторых созвездий до сих пор воспринимают как знак того, что пришла пора сеять. Но не все доисторические точечные изображения – звездные карты.
На острове Фюн в Дании есть курган Рэвехёй. Под ним скрывается погребальная камера каменного века. На одном из камней в основании точками выгравирован витиеватый узор. В 1920 году датский историк Гудмунд Шютте предположил, что эти точки изображают созвездия Большой Медведицы, Девы, Близнецов, Рака, Волопаса, Льва, Собаки, Близнецов и Возничего. Проблема, по признанию Шютте, лишь в одном: расстояние между некоторыми созвездиями указано неверно, а точек больше, чем реальных звезд. Но его легко понять. Точки поразительно похожи на созвездия. Современные археологи считают, что они образуют солнечный крест – диск, внутри которого расположен крест с равноудаленными от центра сторонами.
Рисунки с карты Бедолины, позволяющие лучше понять, что на ней изображено. Здесь с высоты птичьего полета мы видим, в частности, шесть домов и около тридцати полей, соединенных небольшими дорогами, а также лестницу, животных и людей. Только в 1934 году некоторые исследователи начали задаваться вопросом, не карта ли это.
В 1967 году британский археолог Джеймс Мелларт опубликовал книгу о раскопках 9500-летнего турецкого города Чатал-Хююк. В ней он, в частности, заявил, что одна из найденных стенных росписей похожа на карту города с извергающимся вулканом Хасандаг на заднем плане[7]. Версия карты сразу же обрела невиданную популярность. Многие подхватили эту гипотезу.
«Самый старый в мире план города», – писал Джереми Харвуд в книге На край Земли: 100 карт, изменивших мир[8]; «Древнейшая в мире подлинная карта», – сообщал Дж. Б. Харли в Курьере ЮНЕСКО; «Самая древняя из известных нам (карт)», – вторит Кэтрин Делано-Смит в монументальной Истории картографии; «Карта Чатал-Хююка <…>, возможно, на две тысячи лет старше самой древней системы письменности», – утверждал Джеймс Блаут в академическом журнале британских географов. Но была ли это карта? В 2006 году археолог Стефани Мис написала статью, в которой заявила, что «дома» – это геометрический рисунок, аналогичный найденным в других местах Чатал-Хююка, а «вулкан» – шкура леопарда. Семь лет спустя вулканологи из Калифорнийского университета проверили версию карты, попытавшись установить, мог ли Хасандаг извергаться примерно в то время, когда была составлена карта. Взятые ими образцы горных пород показали, что вулкан извергался 8900 лет назад – следовательно, его извержение могли видеть из города.
Наше восприятие доисторической эпохи напоминает качели, когда речь заходит о картах того периода. Мы либо недооцениваем, либо переоцениваем древность и тем самым заблуждаемся. Раньше мы ее недооценивали. До 1980 года надлежащим образом исследовали только четыре карты, которые можно было отнести к доисторическому времени. Затем наступила эра новых теорий о доисторической религии, о мышлении людей каменного века, о роли символов в первобытных сообществах и значении наскальных рисунков. В результате появилось множество «новых» карт. Когда в 1987 году вышел первый том Истории картографии, главу о доисторических временах в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке замыкал список из пятидесяти семи гипотетических карт. Некоторые из них мы уже можем вычеркнуть. Другие продолжают нас очаровывать.
В Талат-н’Лиске, в Атласских горах Марокко, был обнаружен круглый наскальный рисунок диаметром один метр. Внутри круга мы видим сложный узор, возможно, изображающий просторную долину, окруженную двумя горными хребтами, а в центре – широкую реку с притоками и две точки, одну поменьше, другую побольше, символизирующих поселения. Этому петроглифу около шести тысяч лет.
На Северном Кавказе нашли серебряную вазу пятитысячелетней давности, на ней выгравированы две реки, которые стекают с горного хребта и впадают в море. Похоже на попытку воспроизвести Кавказские горы и пару рек. Такой же мотив запечатлен на еще одной вазе, из древнего поселения Тепе-Гавра близ современного города Мосула в Ираке: в широкой долине с крупной рекой и притоками, в окружении высоких гор изображены охотники. Часть исследователей уверена, что узор срисован с конкретного ландшафта, другие считают, что это скорее схематичный набросок более общего явления – охоты, а не определенного места.
В Цанъюань-Васком автономном уезде на юго-западе Китая мы встречаем очередной петроглиф, напоминающий карту Бедолины. В центре наскального рисунка мы видим деревню с домами на сваях. Древний художник явно стремился отразить пространство, расстояния и расположение объектов, поскольку дальние дома он нарисовал вверх ногами, показав этим, что их сваи вбиты у самого дальнего забора. Со всех сторон к деревне сходятся пунктирные линии – дороги, по которым снуют люди и животные.
Еще одна деревня высечена на камне недалеко от Лиденбурга в Южной Африке. Петроглиф весьма внушительный, размером 4,5×4 метра, и состоит из круглых поселений с сетью дорог; он тоже напоминает карту Бедолины.
Вдоль течения Енисея, близ местечка Мугур Саргол в Монголии, обнаружены наскальные рисунки, изображающие с высоты птичьего полета шатры местных пастухов и загоны для скота. В Монголии мы также находим множество карт захоронений. На некоторых из них показан как наш мир, так и потусторонний.
Историки согласны, что представления об ином мире (а не только нашем) зародились у людей около ста тысяч лет назад. Именно тогда в могилы стали класть предметы, с тем чтобы они сопровождали умерших и в загробной жизни. Однако долгое время считалось, что первобытные люди могли воспроизводить на картах лишь непосредственно окружавшую их среду, тогда как показать свое местоположение относительно солнца, луны, звезд, царства мертвых и обиталища богов было для них слишком сложно. «Как правило, <…> карты примитивных народов ограничены очень небольшим районом <…>. Они не могут изобразить мир целиком или даже просто зрительно представить его себе. Такие народы не имеют карт мира, поскольку в их мыслях всегда доминирует непосредственно окружающая их местность», – писал известный специалист по истории картографии Лео Багров в 1964 году[9]. Однако позднее были открыты карты, на которых человек соотносил себя с остальным творением. На таких картах часто присутствуют лабиринты, круги, лестницы и деревья; нередко на них представлены различные уровни мироздания, включая небо, землю и загробное царство.
В Сахаре мы находим наскальный рисунок с изображением человекоподобной фигуры, окруженной овалами, волнами и прямоугольниками, с отверстием внизу, которое можно трактовать как вход в царство мертвых.
На небольшом каменном обелиске в Триоре в Италии вверху высечено Солнце, посередине – Земля, ниже – лестница, ведущая в подземный мир. В Йоркшире, в Англии, на наскальных рисунках изображены лестницы, тянущиеся от одного кружка к другому, что можно трактовать как попытку показать связь между Землей, звездами и планетами.
В индийском штате Мадхья-Прадеш обнаружен довольно сложный образчик пещерной живописи: в верхней части его нарисовано море с камышами, птицами и рыбами, а в центре – Cолнце в окружении геометрических фигур. Считается, что это карта нашей Вселенной, как ее представляли себе когда-то люди.
Факты свидетельствуют и о том, что картами пользовались в ритуальных целях. У шаманов австралийских и сибирских народов, сохранивших полностью или частично свою тысячелетнюю религию, на барабанах, в которые они бьют для того, чтобы войти в транс, есть карты. Благодаря им они проникают в мир духов, не боясь заблудиться.
В начале XVIII века живший среди саамов норвежский миссионер Томас фон Вестен зарисовал шаманский бубен, на котором картографические элементы древней религии соседствуют с элементами новой, христианской, веры. На саамской карте двумя линиями отделены небо от земли, небесные боги от земных; присутствует Солнце; на христианской карте – Rist-baiges – изображены лошадь, коза, корова и церковь; в царстве мертвых – Jabmiku di aibmo – нарисованы еще одна церковь и саамская вежа. На этой космической карте нанесены также озеро и земное поселение саамов.
С. 28–29 Шаманский бубен, конфискованный миссионером Томасом фон Вестеном в XVIII веке. Рисунки образуют карту, отражающую представления саамов о земном и потустороннем мире. «Необходимо покончить со всей этой дьявольщиной – колдовством, заклинаниями и бубнами», – говорил фон Вестен, грозя шаманам судебным приставом или ленсманом, если они не отдадут ему свой шаманский «арсенал». Таким образом он собрал около ста бубнов.
Карты суть образы мира, это мировоззрение. Религиозные тексты сродни картам в том смысле, что они пытаются объяснить устройство мира. Это способ упорядочить и структурировать мир, который кажется бесконечным и непонятным. Поэтому практически в каждой культуре любой эпохи мы находим космогонические истории о том, как возник мир, и космологические описания того, как он выглядит.
Господствующая сегодня космогоническая история – научная теория, согласно которой Вселенная появилась в результате Большого взрыва, случившегося 13,8 миллиардов лет назад, – относительно молодая: ее выдвинул в 1927 году бельгийский священник и астрофизик Жорж Леметр. Прежде ученые были уверены, что Вселенная вечна и неизменна. Далеко не все астрономы и физики приняли идею Большого взрыва: мысль о том, что мир сотворен, слишком отдавала религией. Они утверждали, что эта идея по-новому представляет Бога в качестве первопричины, однако теория Леметра прижилась, не в последнюю очередь благодаря астроному Эдвину Хабблу, который в 1929 году подтвердил, что Вселенная расширяется. Тем не менее лишь в 1964 году, когда было доказано существование реликтового излучения[10], предположительно возникшего во время Большого взрыва, эту теорию признало научное сообщество.
Теория Большого взрыва также принята многими людьми с религи озным мировоззрением. Так, индуисты считают, что их гимн о сотворении мира, описывающий, как изначально всё было тесно переплетено и приведено в движение чем-то горячим при неясных обстоятельствах, изображает как раз его:
- Мрак вначале был сокрыт мраком.
- Всё это было неразличимой пучиною:
- Возникающее, прикровенное пустотой, —
- Оно одно порождено было силою жара[11].
В Коране сказано: «Небо и земля единой массой были, которую Мы рассекли на части», а папа Пий XII в 1951 году заявил, что теория Большого взрыва не противоречит христианским представлениям о сотворении мира.
Любой народ любой эпохи имеет свою космогоническую историю и свое ви´дение мира. В Финляндии известно сказание о яйце, которое раскололось и стало землей и небом; на Гавайях мы узнаём о том, что земля возникла из ила со дна морского; инуиты верят, что земля упала с неба, тогда как греки рассказывают о Гее, породившей небо, высокие горы, прекрасные долины и бескрайнее море – Океан. Эти истории в рамках одной культуры могут варьироваться в зависимости от места и времени, порой мифология противоречит географическим познаниям людей. Это говорит о том, что истории о сотворении мира отнюдь не следует воспринимать буквально. «То, что представляется историей в одну эпоху, становится мифом в другую, и то, что считается мифом сегодня, завтра может быть правдой или, возможно, было ею когда-то в прошлом», – пишут Тур Оге Брингсвярд и Енс Брорвиг в книге Начало времен. Космогонические мифы народов мира (I begynnelsen. Skapelsesmyter fra hele verden). Если в чем древние космологии и сходятся, то именно в том, что Земля, на которой мы живем, есть центр мироздания, и что есть царство мертвых и сверхъестественное место, где обитают боги.
Образчик такого представления о мире мы находим в древнескандинавской мифологии. В центре мира находится ясень Иггдрасиль. «Тот ясень больше и прекраснее всех деревьев. Сучья его простерты над миром и поднимаются выше неба. Три корня поддерживают дерево, и далеко расходятся эти корни», – рассказывает один из героев Видения Гюльви Снорри Стурлусона[12]. Вокруг дерева расположен Асгард – царство богов, а вокруг Асгарда – Мидгард, царство людей. Под одним из трех корней Иггдрасиля находится Нифльхейм – самая глубь царства мертвых. Там же живет змей, или же дракон, Нидхёгг, порождение сил тьмы. Вокруг Асгарда и Мидгарда простирается мировой океан, в котором обитает опасный Мировой Змей.
В обеих Эддах и сагах не говорится, откуда взялся ясень. А вот мир вокруг него был сделан из тела первобытного великана. Эта история сотворения мира рассказана в Старшей Эдде:
- Имира плоть
- стала землей,
- стали кости горами,
- небом стал череп
- холодного турса,
- а кровь его – морем.
- <…>
- Из ресниц его Мидгард
- людям был создан
- богами благими;
- из мозга его
- созданы были
- темные тучи[13].
Имир был великаном, сотворенным в незапамятные времена в Мировой Бездне между знойным Муспелльсхеймом на юге и студеным Нифльхеймом на севере. Однажды воды рек, именуемые Эливагар, настолько удалились от своего начала, что замерзли и превратились в лед в северной части Мировой Бездны. От соприкосновения с искрами, летевшими из Муспелльхейма, лед стал таять и стекать вниз: эти капли ожили от тепла и приняли образ человека – Имира.
Согласно сказанию, «заснув, он вспотел, и под левой рукой у него выросли мужчина и женщина. А одна нога зачала с другой сына». Так появились великаны. Имира кормила корова Аудумла, тоже возникшая из льда и инея. Сама же она питалась, облизывая соленые камни, покрытые инеем, «и к исходу первого дня, когда она лизала те камни, в камне выросли человечьи волосы, на второй день – голова, а на третий день возник весь человек»[14]. Его звали Бури. Он взял в жены Бестлу, и у них родился сын по имени Бор. Бор взял в жены дочь великана Бёльторна, от которой родились три сына – Один, Вили и Ве.
Тогда началась в Мировой Бездне борьба за власть. Сыновья Бора убили Имира, чтобы он больше не порождал новых великанов из своего пота. Снорри в Видении Гюльви рассказывает о том, как они сотворили из его плоти землю, но добавляет: «Из крови, что вытекла из ран его, сделали они океан и заключили в него землю. И окружил океан всю землю кольцом, и кажется людям, что беспределен тот океан и нельзя его переплыть»[15].
В египетских мифах мир живых также окружен огромным океаном хаоса. Над или под этим миром простирается невидимая часть Вселенной, где обитают Солнце, звезды и Луна, когда их не видно на небе, и туда же отправляются люди и животные, когда заканчивается их земная жизнь. На египетской карте, созданной в 350 году до н. э., изображен Египет и его окрестности. Юг помещен в верхней части карты. Над миром, подобно мосту, склоняется богиня неба Нут: ноги ее опираются в восток, а руки – в запад. На других картах ее изображают под землей, поглощающей Солнце вечером и снова рождающей его утром.
В Илиаде, греческой эпической поэме, написанной около IX–VIII века до н. э., мы находим похожее космологическое изображение мира, окруженного морем. В разгар войны между греками и троянцами богу огня Гефесту поручили выковать подходящий щит для греческого воина Ахиллеса. Описание работы Гефеста, украсившего щит, есть одновременно и описание греческой вселенной:
- Там представил он землю,
- представил и небо, и море,
- Солнце, в пути неистомное,
- полный серебряный месяц,
- Все прекрасные звезды,
- какими венчается небо:
- Видны в их сонме Плеяды,
- Гиады и мощь Ориона,
- Арктос, сынами земными еще
- колесницей зовомый[16].
Гефест показал на щите весь мир, города, людей и животных, битвы и пиры, и наконец океан, который определял внешнюю границу мира:
- Там и ужасную силу представил реки Океана,
- Коим под верхним он ободом щит окружил велелепный[17].
В переводах Илиады само собой считается, что древние греки представляли землю плоской – недаром она умещается на щите, который они описывают как «круг». Однако верен ли такой перевод? В оригинале употреблено слово γαιαν – Гея. Так древние греки называли и землю, и богиню, ее породившую.
Аналогичная проблема возникает и с переводом библейского рассказа о творении мира. В книге Бытия мы читаем: «И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом» (Быт. 1:6–8).
Вот только «твердь»[18] не вполне точно передает значение еврейского слова «ракия». Современная, 2001 года, английская версия Библии (English Standard Version) предпочитает это слово переводить как expanse: «Let there be an expanse» – «Да будет простор». Таким образом, возможно, древние евреи и не считали, что небо над нами вроде укрывшего нас твердого колпака.
В той же книге Бытия есть намеки на то, как представляли себе библейские авторы мироустройство. Во второй главе говорится: «Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс. Имя второй реки Гихон: она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддекель: она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат» (Быт. 2:10–14).
Земля Хавила – это, по всей видимости, горы в Хиджазе, западной части Саудовской Аравии, где несколько тысячелетий назад существовала система рек, которые текли на восток, вплоть до Персидского залива, а теперь пересохли. Куш – так называлось царство, располагавшееся в пограничной области между современным Египтом и Суданом, известной также как Нубия, а Гихон, или Геон – это, вероятно, Голубой Нил. Хиддекель – ивритское название реки Тигр, которая берет начало на востоке Турции, протекает через Ирак и впадает в Персидский залив. Евфрат, понятное дело, и есть Евфрат, эта река также течет по территории Ирака.
Когда сын Адама и Евы Каин убил своего брата Авеля, он ушел «от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема» (Быт. 4:16). А поскольку «нод» – ивритский корень слова, означающего «скитаться», обычно под ним подразумевают не землю, а то, что Каин стал вести кочевую жизнь.
В центре библейского мира находится Иерусалим. В Книге пророка Иезекииля мы читаем: «Так говорит Господь Бог: это Иерусалим! Я поставил его среди народов, и вокруг него – земли» (Иез. 5:5). Иерусалимский храм построили по плану, который одновременно был и космической картой: внешний двор представлял собой видимый мир, сушу и море, священное пространство внутри храма олицетворяло видимые небеса и райский сад, тогда как в святая святых пребывало невидимое царство Божье.
Вера в мир, у которого есть центр, присуща многим культурам. Возникла она, вероятно, вследствие того, что люди обратили внимание на вращение звезд и предположили, что они обращаются вокруг чего-то. Как правило, такой точкой отсчета становилось место, где они обитали. И это естественно: дом мы знаем лучше всего, он обжит и обустроен, а всё, что далеко, неизвестно и ассоциируется с хаосом, ночью и смертью. Центром чаще всего была возвышенность, где встречались земля и небо – например, гора, дерево или храм.
Японцы считали центром мира священную гору Фудзи. Шайенны, североамериканские индейцы, верили, что центр находится в Черных холмах Южной Дакоты, на шайенском языке Mo’ōhta-vo’honáaeva. Для племени питьянтьятьяра, живущего в центральных районах Австралии, центром мира была гора Улуру. У древних греков – оракул в Дельфах. В даосизме упоминается Куньлунь – «гора в центре мира». Кстати, Китай дальше всех пошел в самоутверждении себя как центра мира: на мандаринском языке эта страна называется Чжунго, то есть «Срединное царство».
На древнейшей из найденных карт в центре мира изображен Вавилон. Карта создана около 2600 лет назад и представляет собой глиняную табличку, обнаруженную в вавилонском городе Сиппар, юго-западней современного Багдада. Табличка невелика; ее размеры всего 12,5×8 сантиметров, и поначалу никто не выделил ее среди семидесяти тысяч других табличек, которые отправили в Британский музей после археологических раскопок 1881 года. Сегодня ей отведено почетное место в музее, где она выставлена как The Babylonian Map of the World – «Вавилонская карта мира».
На этой карте внутри большего круга помещен круг поменьше, в котором в свою очередь расположены еще несколько кружков, овалов и изогнутых линий. Больший круг обрамляют восемь треугольников. То, что табличка представляет собой карту, стало понятно лишь после того, как расшифровали текст на ее оборотной стороне.
В нем говорится, что больший круг – это marratu – соленое море, или океан, окружающий обитаемый мир. В меньшем круге продолговатая фигура, которая начинается наверху и проходит через центр, обозначает реку Евфрат. Ее исток на севере изображен в виде кружка, отмеченного как «гора», а заканчивается она на юге, упираясь в расположенный горизонтально прямоугольник – «канал» и «болото». Прямоугольник, лежащий поперек Евфрата, это Вавилон. Кружками указаны соседние области – Сузы (южный Ирак), Бит-Якин (Халдеи на юге Ирака), Хаббан (Йемен), Урарту (Армения), Дер (восточный Ирак) и Ассирия.
Треугольники, которые выступают с другой стороны океана, – это nagu, что можно перевести как «регион» или «провинция». По всей видимости, древние вавилонские герои бывали в этих местах, и в текстах рядом с треугольниками описано, к примеру, место, где «не видно солнца», возможно, это свидетельствует о том, что вавилоняне слышали о северных краях и полярной ночи. Еще один регион находится «там, куда не долетают птицы». Упоминаются в текстах и экзотические животные, в том числе хамелеоны, обезьяны, страусы, львы и волки. Эти регионы суть неизведанные территории, таинственные дальние страны, куда не простираются вавилонские познания о мире.
Неизвестно, с какой целью была создана эта карта. В тексте говорится, что ее автор – потомок Эа-бел-или из города Борсиппы, лежавшего южнее Сиппара, и больше ничего. Но это не единственная карта из этих мест, дошедшая до наших дней.
До вавилонян самым передовым среди народов, населявших территорию современного Ирака, были шумеры. Известный им мир простирался от Турции и Кавказа на севере до Египта на юге, Индии на востоке и Средиземноморья, Кипра и Крита на западе. Их ближайшими соседями были жившие на востоке эламиты, с которыми шумеры нередко соперничали и воевали; на западе обитал семитский народ марту, он жил в шатрах и кочевал со стадами овец и коз; на севере шумеры граничили со страной Субарту, на которую время от времени совершали набеги, захватывая рабов, древесину и прочее сырье; на юге находился Дильмун (Бахрейн) – торговый форпост, часто фигурирующий в рассказах о сотворении мира и царстве мертвых.
Расцвет шумерской цивилизации пришелся на 3500–2270 годы до н. э. Она подарила миру две вещи, которыми мы по сей день пользуемся, создавая карты: письменность и математику. Именно шумерам мы обязаны тем, что делим наши карты на 360 градусов долготы и 180 градусов широты. Их система счисления была шестидесятеричной: в ее основе лежали числа 6, 12 и 60, а не 5, 10 и 100, как у нас.
Существует несколько гипотез, объясняющих эту систему счисления. Согласно одной из них, она связана со счетом на пальцах. Если кончиком большого пальца посчитать фаланги на остальных пальцах: 1-2-3 на указательном, и точно так же на среднем, безымянном и мизинце, то можно легко досчитать до двенадцати. А если каждый раз, досчитав до двенадцати, разгибать по одному пальцу на другой руке, то, разогнув все пальцы, мы получим шестьдесят.
Кроме того, число 60 удобно еще и потому, что у него целых одиннадцать делителей: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 и 30, то есть от него легко образовать различные доли – половины, трети, четверти и десятые части. Развивая шумерскую и вавилонскую астрономию, геометрию и географию, древние греки переняли и эту систему счисления, благодаря чему мы пользуемся ею до сих пор.
Письменность шумеров, древнейшая из известных ученым, позволяла записывать географические сведения. Воины в походах, а также купцы, переезжавшие с места на место ради металлов, камней и древесины, составляли записки, в которых указывали расстояние от одного города до другого и время в пути. К примеру, в описании одного военного похода из южной части Ирака в город Эмар на севере Сирии зафиксированы все стоянки с учетом дневного перехода в двадцать пять-тридцать километров, а если в каком-то месте останавливались больше чем на одну ночевку, уточняли: «здесь сломалась колесница» или «тогда войска отдыхали два дня».
Уже около 3000 года до н. э. у шумеров были собственные единицы измерения, а спустя еще двести лет они задействовали геометрию, то есть геодезию для межевания пахотных земель и начисления налогов. При этом они пользовались мерной веревкой, привязывая ее к вбитому в землю колышку. Мы называем такую систему триангуляцией – метод настолько прост и эффективен, что применяется по сей день. Сначала мы отмеряем на земле базисную линию, затем находим поблизости, в паре сотен метров, второй контрольный пункт (например, дом или дерево), который становится третьей вершиной треугольника. После этого замеряем углы между базисной линией и линиями, ведущими к этому пункту. Зная длину базисной линии и величину углов, мы можем определить расстояние до контрольного пункта.
На шумерской карте 3500-летней давности изображена местность с несколькими пашнями и каналами, а также крутым изгибом реки. К тому же периоду относится и карта священного города Ниппур, на которой мы видим его главный храм, парк, реку Евфрат, два канала, протекающие через город, и семь ворот с подписанными названиями. Уникально в ней то, что это, по всей видимости, первая карта, нарисованная с применением масштаба: все нанесенные на ней элементы правильно соотносятся друг с другом. Указанные рядом с некоторыми зданиями числа обозначают их размеры. Современные раскопки в Ниппуре подтверждают, что город выглядел именно так, как показано на карте. Столь точное изображение этого города-крепости позволяет говорить о военном назначении карты.
Иногда шумеры предпринимали попытки изобразить на картах места, весьма удаленные друг от друга. Как раз в Ниппуре была найдена карта, на которой показаны девять городов, расположенные вдоль трех каналов и одной дороги.
Математические знания шумеров развивали вавилоняне. Судя по сохранившимся табличкам, они достигли весьма высокого уровня, не в последнюю очередь в геометрии. Кроме того, они разработали свои единицы измерения для передачи длины и расстояния, взяв за основу время, потраченное на дорогу из одного места в другое. Главной единицей измерения был beru – «двойной час», соответствовавший приблизительно десяти километрам.
Жители древнего Вавилона пользовались математикой, составляя карты недвижимости, земельных владений, домов, городских улиц с названиями, храмов, рек и каналов, на которых иногда волнистыми линиями обозначалась вода. На одном фрагменте городской карты изображен, по-видимому, вавилонский храм и прилегающие к нему улицы, на другом – город Урук и некое здание.
Мы уже упоминали вавилонскую карту мира. Не менее важна для истории картографии и первая карта с указанием сторон света – восток, запад и север (причем восток находится наверху). Она была найдена недалеко от города Киркук на севере Ирака и датируется примерно 2300 годом до н. э. На этой карте мы видим долину, по которой течет река. Текст в левом нижнем углу гласит, что местность называется Машкан-дурибла. В центре карты находится земельный участок площадью триста пятьдесят четыре ику, или около двенадцати гектаров, указан и владелец: Азала. Однако разобрать бо´льшую часть текста невозможно.
Поскольку вавилоняне первыми указали на картах стороны света, а шумеры первыми учли масштаб на карте Ниппура, получается, что два важнейших принципа современной картографии используются уже 4300 лет.
Древние египтяне, подобно шумерам и вавилонянам, занимались земледелием у великой реки. Их благополучие зависело от Нила, который каждый год, разливаясь вдоль своих берегов, обеспечивал их плодородным илом, необходимым для возделывания земли. Из-за половодья ландшафт часто менялся, следовательно, у них, как прежде у шумеров и вавилонян, была потребность в землемерии.
Папирусная карта эпохи фараонов, созданная, вероятно, около 1100 года до н. э. и указывающая путь к рудникам в ущелье Вади-Хаммамат («Долина многих бань») на востоке Египта. Карта была найдена в начале XIX века в захоронении неподалеку от Луксора. За долгие годы оригинальная карта, которая при создании имела ширину двести десять сантиметров, распалась на несколько частей. На той из них, что лучше всего сохранилось, изображены четыре дома, храм бога Амона, водохранилище, стела и гора, где находился золотой рудник.
Греческий историк Геродот в своей Истории, написанной в 450–420 годах до н. э., сообщает о египетском царе Сесострисе, который «разделил землю между всеми жителями и дал каждому по квадратному участку равной величины. От этого царь стал получать доходы, повелев взимать ежегодно поземельную подать. Если река отрывала у кого-нибудь часть его участка, то владелец мог прийти и объявить царю о случившемся. А царь посылал людей удостовериться в этом и измерить, насколько уменьшился участок, для того чтобы владелец уплачивал подать соразмерно величине оставшегося надела»[19].
Эпоха фараонов началась в 3100 году до н. э., когда были объединены Верхний и Нижний Египет. Именно тогда появились первые египетские карты. Они представляют собой орнамент на гробницах, где мы видим природные объекты и дома, имеющие вид как сверху, так и сбоку, и расположенные вдоль линий, символизирующих горизонт. Можно сказать, что это упрощенные версии пиктографических карт. Разница между городом и сельской местностью обозначена деревьями.
В одном из экземпляров древнеегипетской Книги мертвых, собрании погребальных текстов, написанных на папирусе около 1400 года до н. э., есть рисунок сада, в котором мог работать умерший. У сада прямоугольная форма, он разделен каналами. Наличие цвета усиливает впечатление, что перед нами действительно карта. Другие карты, связанные с загробным миром, обнаружены на дне некоторых саркофагов, датированных примерно 2000 годом до н. э. Здесь мы видим некую местность с двумя дорогами: одна синяя, проходящая по воде, другая – черная, проходящая по суше. Обе дороги ведут к богу Осирису, владыке загробного мира.
На еще одной карте XIV века до н. э. отмечен завоевательный поход фараона Сети I, проходившего мимо оросительных систем и границ по пустынной дороге в Ханаан (территория современного Израиля, Палестины и Ливана). Его преемник Рамсес II взял приступом крепость в Кадеше, где река Оронт встречается с меньшей рекой недалеко от Хомса в нынешней Сирии. Изображение этой битвы имеет отчетливое сходство с картой: реки огибают город и разделяют две армии.
Около 1150 года до н. э. египетский расписчик усыпальниц, писец Аменнахте, нарисовал одну из самых красивых древних карт, дошедших до наших дней. На ней показан путь к золотым копям и каменоломням в Нубии. Это не только топографическая карта, информирующая о гористой местности, дорогах и руслах рек, но и одна из самых старых в мире геологических карт, содержащая сведения о типах горных пород и металлов, обнаруженных в данной местности. Карта предназначалась для экспедиции, которую Рамсес IV снарядил ради добычи камня на новые фараоновы статуи.
Мы видим две широких дороги, пересекающие красноватую гористую местность. Они тянутся горизонтально через весь папирус почти три метра длиной и соединяются с третьей дорогой, которая идет поперек и выводит к четвертой дороге. Нижняя дорога, покрытая разноцветным коричнево-белым щебнем, обрамлена скудной зеленой растительностью, характерной для пересохших русел рек. Надписи на карте уточняют, куда ведут дороги, а также объясняют красноватый цвет гор: «Горы, где добывают золото, обозначены красным цветом». Рядом с золотым прииском нарисованы четыре дома золотодобытчиков, храм бога Амона, водохранилище и стела.
Уже в наши дни карту сопоставили с изображенной на ней местностью – пятнадцатикилометровым участком вдоль пересохшего русла реки Хаммамат, – и она оказалась точной. Археологические раскопки подтвердили и то, что в давние времена здесь добывали золото. Здесь же проходил и оживленный тракт, тянувшийся от города Кифт на Ниле через восточную пустыню до порта Кусейр на берегу Красного моря. Отсюда египтяне отправлялись по торговым делам в неизвестную нам южную страну, которую они называли Пунт.
Вполне может быть, что эта карта – плод вычислений, проведенных в сугубо логистических целях, которым Аменнахте позднее придал наглядную форму. Однако остается открытым вопрос: единственная ли это карта в своем роде, или же другие египетские картографы тоже создавали самобытные карты, которые впоследствии оказались утраченными и сейчас дожидаются своего часа в глиняных горшках где-нибудь в пустыне?
Доисторические и раннеисторические карты, как и современные, несут на себе отпечаток своей эпохи, они тоже по мере возможностей служили своим создателям. Шумерские и вавилонские карты землевладений, а равно и карта в Бедолине (если она действительно указывает на земельную собственность), предвосхитили наш кадастровый учет на несколько тысячелетий. А визуализация религиозных представлений о мире и вселенной восполняла человеческую потребность понять свое место в общем порядке вещей.
То, как мы трактуем миропонимание наших предков, обусловлено нашим же взглядом на мир и прошлое. Полагаясь на переводы текстов доколумбовой эпохи, мы долгое время верили, что люди тогда считали Землю плоской, хотя это не так. Наша уверенность в том, что рассказы о сотворении мира и космогонические истории следует понимать буквально, тоже привела к любопытным выводам. Мы смотрим на древние карты и тексты сквозь дымку истории. И порой доисторический пейзаж совпадает с картами, которые мы рисуем.
Лягушки вокруг болота
Александрия,
Египет
31º12’32” с. ш.
29º54’33” в. д.
С. 42 Фрагмент карты Египта с указанием Alessandria – Александрии. Карта побережья составлена на основе координат Птолемея. Ее нарисовал в 1561 году Жироламо Рушелли. Это одна из многих итальянских птолемеевских карт, появившихся в эпоху Возрождения.
В античные времена те, кто прибывал в Александрию морским путем, могли видеть ее за шестьдесят километров. На островке Фарос у северной границы города возвышался маяк высотой более ста метров – одно из семи чудес света. Чтобы провести корабли вдоль однообразной береговой линии, где таились коварные отмели и рифы, ночью на маяке зажигали огонь, а днем отражали солнечные лучи с помощью огромного зеркала. Но маяк служил не просто навигационным сооружением, он также давал путешественникам понять, что они прибывают в один из величайших мегаполисов своего времени. Цезарь, посетивший город в 48 году до н. э., был поражен маяком: «Фарос, чудо строительного искусства, – очень высокая башня»[20].
Александрию основал примерно тремястами годами ранее другой строитель империи, Александр Македонский. Он назначил сатрапом Египта одного из своих военачальников, Птолемея, который после коронации в 304 году до н. э. принял имя Птолемея I Сотера и сделал город столицей своего царства. Прошло совсем немного времени, и Александрия стала крупнейшим и самым важным городом Средиземноморья. Расположенная на северном побережье Египта, она находилась на пересечении разных культурных ареалов. В здешний порт заходили индийские, арабские и африканские корабли, пришедшие из Красного моря, здесь встречались Африка и Азия, и было рукой подать до Европы на другой стороне Средиземного моря.
Входя в гавань через узкий пролив, по правую руку от которого находился Фарос, путешественники видели город, где «одно [здание] за другим идет следом»[21], как писал античный историк Страбон, побывавший в Александрии в 44 году до н. э. На приморской стороне у гавани громоздились царские дворцы. На борт каждого пришвартовавшегося судна поднимались чиновники – проверить, нет ли среди грузов рукописных свитков. Все книги, попадавшие в город, на время забирали для того, чтобы писцы сняли с них копии.
Собирать книги всех народов мира посоветовал Птолемею I Сотеру ученик Аристотеля Деметрий Фалерский, которого в свою очередь к этой мысли подтолкнула собственная библиотека. Идея была простая: торговля повышает благосостояние, благосостояние позволяет платить за знания, а знания стимулируют торговлю. Через несколько лет Александрийская библиотека превратилась в важнейший интеллектуальный и образовательный центр всего Средиземноморья.
Книги с кораблей доставляли в Мусей, где находилась библиотека, а возвращали на корабли сделанные списки. Александрийская библиотека – первая в истории попытка собрать, каталогизировать и систематизировать все доступные знания о мире – очень ценила оригиналы.
Александрия не только прибрела крупнейшую в мире книжную коллекцию, насчитывавшую на пике ее славы до 700 000 экземпляров, но и служила местом встречи ученых трех континентов. Египетские цари предоставляли им кров, пищу, жалованье и – самое главное – доступ к библиотеке. Сюда приезжали астрономы, географы, инженеры, филологи, математики и врачи, именно здесь зародилась современная картография.
Около 150 года н. э. астроном и математик Клавдий Птолемей начал собирать в библиотеке источники для своего трактата о географии. В итоге появилась книга Geographike hyphegesis (Руководство по географии), позднее названная просто Географией – труд из восьми томов, где указаны географические координаты более восьми тысячи пунктов в Африке, Азии и Европе, описано, как лучше всего изобразить круглый земной шар на плоском листе и, кроме всего прочего, рассказано о важности астрономических расчетов и других познаний для географии. Никто прежде не писал более основательного труда на эту тему.
Мы легко можем представить себе, как Птолемей идет через древнюю колоннаду, выходящую в музейный парк. Под мышкой у него свиток папируса, взятый с одной из многочисленных книжных полок в Мусее. Он направляется к экседре – полукруглой нише с каменной скамьей, устроенной в обращенной к парку стене, где почти всегда его коллеги что-нибудь читают и обсуждают.
Птолемею уже около пятидесяти лет. Сегодня у него с собой четвертый том Naturalis historia (Естественная история, 77 год н. э.), энциклопедии, написанной римским историком и офицером Плинием Старшим, который с 42 по 52 год служил в Германии, северной провинции Римской империи, и там узнал о больших, недавно открытых островах на неизведанном севере. Птолемей разворачивает свиток:
Там гигантская гора Сево, не ниже, чем Рипейский массив, причем она образует огромный – до самого Кимврского мыса – залив под названием Кодан. Он усеян островами, из них самый известный – Скатинавия. Размеры его не исследованы, а на той части, которая одна только пока изучена, в своих пятистах деревнях живет народ гиллевионов. Они свой остров называют «второй землей» (alterum orbem terrarum). [Остров] Энингия, как считают, размером не меньше Скатинавии. Некоторые [путешественники] сообщают, что в этих [местах] вплоть до реки Вислы обитают сарматы, венеды, скиры, гирры и что [там имеется] залив Кюлипен, а при входе в него – остров Латрис, за ним же поблизости, у границы с [областью обитания] кимвров – залив Лагн. Кимврский мыс выступает в море длинным полуостровом, именуемым Тастрис[22].
Гигантская гора Сево – это, по всей видимости, Норвегия. Кимврский мыс и полуостров Тастрис – континентальная часть Дании. Залив под названием Кодан – это проливы Скагеррак, Каттегат и Балтийское море, а «Скатинавия», по мнению Плиния Старшего, самый известный из тамошних островов. Римляне не знали, что Скандинавия на самом деле полуостров. Гиллевионами Плиний называет всю совокупность скандинавских племен.
Из такого рода текстов Птолемей составляет единую картину мира. Он читает путевые заметки, географические и астрономические трактаты, изучает древние карты – всё это он находит среди множества свитков в огромной библиотеке. Кроме того, он беседует с мореплавателями, побывавших в заморских портах. В Географии он пишет: «А по общему мнению тех, кто плавал от нас в те места и очень долго там путешествовал, а также тех, кто прибыл к нам оттуда, порт этот находится прямо к югу от устья Инда и называется у туземцев Тимула»[23].
К тому времени Птолемей уже написал трактат Альмагест, или Великое построение[24]. Собранные в нем сведения о звездах и планетах ненамного превосходили то, что было известно людям, жившим за триста лет до него. Он считал самой южной из известных земель Шри-Ланку, ничего не знал об Африке южнее Эфиопии, а к востоку от индийского Ганга упоминает только Серика – область в Китае, где заканчивался Великий шелковый путь. В конце трактата он сетует на отсутствие точных координат важнейших городов, «однако изложение этого отдельного предмета мы выпустим в свет особо» – добавляет Птолемей, имея в виду свою будущую Географию, начало которой положил каталог широт и долгот важнейших мировых городов. Постепенно конечной его целью стало изобразить «известную нам землю единой и непрерывной», показав «ее природу и положение в виде самых общих очертаний, отмечая заливы, большие города, народы, реки и остальное, наиболее достопримечательное в каждом роде»[25].
По мере работы над Географией расширялись и познания Птолемея о мире. В итоге рассказанное и показанное им превзошло всё, что мы находим у любого другого античного автора до и после него. Описанный им мир простирается от 16 градусов южной широты, от Агисимбы и мыса Прас (Мозамбик и Танзания) к югу от экватора, на восток до Сины (Китая) и городов Забы и Каттигары (вероятно, нынешняя Камбоджа), далее до Кимврского полуострова (Ютландия) и острова Фуле (предположительно Норвегия) на севере и островов Блаженных где-то в Атлантическом океане на западе. Он описывает мир на восьми свитках, суммируя всё, что древние греки и римляне узнали о Земле за многие века. Птолемей очень скромно оценивает свои заслуги: он не считает себя новатором, но постоянно подчеркивает, что стоит на плечах у тех, кто медленно, кропотливо и методично собирал географические сведения до него. Фундамент заложили семьсот лет назад первые натурфилософы, которые начали сомневаться в мифологических историях об устройстве мира.
Античный город Милет – наглядный пример того, что географические знания суть истины временные. В момент своего основания он находился на самой оконечности мыса, вдававшегося в бухту, но со временем из-за впадавшей в бухту реки берег намывался иловыми отложениями, вследствие чего побережье, а за ним и люди всё дальше отдалялись от Милета. В наши дни, пустынный и заброшенный, он лежит в нескольких километрах от моря.
Когда-то это был прекрасный большой город. В нем имелся театр на 15 000 зрителей, акрополь-цитадель, стадион, два больших рынка, гимнасий и общественные бани – и это несмотря на то, что Милет часто страдал от войн. Около 600 года до н. э. его попыталось завоевать соседнее Лидийское царство. Тогда же была отменена царская власть, что привело к внутренним распрям, продолжавшимся несколько десятилетий.
Всё это время Милет оставался важнейшим культурным центром греческого мира. Город, расположенный на территории нынешней Турции, перенял достижения вавилонской математики и астрономии и сыграл далеко не последнюю роль в подъеме греческой философии и науки, начавшемся именно здесь. Вместе с наукой и философией пришли и новые представления об устройстве Земли. Философов больше не устраивали объяснения, которые предлагали мифы. Они задавались системными вопросами и, не довольствуясь сверхъестественными истолкованиями того, что видят вокруг, пытались описывать сушу и небо, следуя научным принципам.
Основоположником научного подхода позднейшие греческие авторы называли Анаксимандра (610–546 до н. э.). Он отверг вавилонские, египетские и архаичные греческие представления о том, что Земля плавает на воде, и первым предположил, что мы живем на объекте, парящем в пустоте. Согласно его модели, Земля неподвижно покоится в центре «беспредельного», ни на что не опираясь. Она имеет форму цилиндра или столба, на одном конце которого расположена суша, окруженная морем. Мы никогда не узнаем, как ему в голову пришла столь необычная мысль, кардинально отличавшаяся от представлений его современников. Но его модель положила начало современной космологии. Земля, парящая в пустоте, позволяла допустить, что Солнце, звезды и планеты движутся вокруг нас, а не только над нами – и это дало толчок к развитию греческой астрономии. Предположение астронома Анаксагора, сделанное сто лет спустя, о том, что Луна светит, потому что на нее светит Солнце, было бы невозможно, не будь идеи о парящей земле. Анаксимандр также «первый нарисовал очертания земли и моря» и «соорудил небесный глобус [geographikon pinaka]», – писал на рубеже II–III веков н. э. биограф Диоген Лаэртский[26]. Во времена Анаксимандра у греков еще не было слова «карта». Вместо нее они стали употреблять примерно в III веке до н. э. слово pinax, которое означало деревянную, глиняную или металлическую табличку, применявшуюся для письма или рисования.
К сожалению, труды самого Анаксимандра до наших дней не дошли. Тем не менее, исходя из того, что мы знаем о его взглядах и более поздних греческих картах, мы можем предположить, что составленная им карта была круглой, а центром мира был либо Милет, либо оракул в Дельфах. У Эгейского моря, должно быть, располагались три части света – Европа, Азия и Африка, вокруг них – Океан. Европу отделяли от Азии Черное море и река Танаис (Дон), от Африки – Средиземное море, а Африку от Азии – Нил.
Греки называли эти три континента ойкуменой, словом, которое происходит от oikeo («населяю, обитаю») и означает «заселенная земля». Ойкумена простиралась от Гибралтара на западе до Индии на востоке, от Эфиопии на юге до мифической Гипербореи на севере.
Гиперборея буквально означает «за Бореем», а Борей был греческим богом северного ветра – бородатым, лохматым, с обледеневшими волосами, отцом Хионы, богини снега. Он царил на Рипейских горах, расположенных где-то на крайнем севере. За этим горным хребтом и находилась Гиперборея – страна с приятным климатом, где солнце светило круглые сутки, а люди жили вечно и не страдали от голода и болезней.
Один из мифов рассказывает о том, как Каллисто[27] родила от Зевса сына. Ревнивая Гера превратила девушку в медведицу. Когда ее сын вырос, он чуть было не убил во время охоты медведицу-мать, но Зевс предотвратил трагедию: перенес обоих на небо, обратив их в созвездия Большой Медведицы и Волопаса[28].
Греки поместили Рипские горы прямо под созвездиями Волопаса, Большой Медведицы и Малой Медведицы, потому что их всегда видно в северной части небосвода, а Крайний Север назвали Арктикой, поскольку arktos по-гречески означает «медведица». Ярчайшая звезда в Малой Медведице – Полярная.
Гибралтар, самая западная из известных грекам областей, где Средиземное море встречалось с большим и неизвестным океаном, тоже был окутан множеством мифов. Согласно одному из них, могущественному полубогу Гераклу для того, чтобы искупить вину за убийство своих шестерых детей и жены, пришлось совершить двенадцать подвигов. В частности, ему нужно было украсть коров у исполина, жившего на средиземноморском острове Эрифия к западу от Африки. По одной из легенд, Геракл не стал взбираться на Атласские горы (современное Марокко), а пробил сквозь них проход, проложив тем самым пролив между двумя континентами. Северная часть разрушенных гор – это Гибралтарская скала на европейском берегу, южная часть – гора Джебель-Муса на африканской стороне. Греки именовали эти две части Геракловыми cтолпами.
Что находится за великим Океаном, никто не знал. Может быть, неизведанные страны или мифические острова, вроде Эрифии, Гесперид или Островов Блаженных – рай для героев среди смертных.
Принято считать, что карту Анаксимандра усовершенствовал Гекатей (550–476 до н. э.), еще один милетец, когда готовил свое Землеописание, или Путешествие по миру – первый в истории географический трактат. Его труд состоял из двух частей: одна была посвящена Европе, другая – Азии и Африке. Вероятно, это первая попытка представить мир в виде отдельных континентов. Книга была написана в форме путевых заметок. Сначала Гекатей описывает Европу, двигаясь с востока на запад, в основном вдоль побережья Средиземного моря, но с заходом в Скифию, область к северо-востоку от Черного моря. Раздел об Африке и Азии охватывает земли, простирающиеся на запад до Атлантического океана и на восток до Индии. Гекатей повествует о городах, расстояниях, границах, горах и народах, иногда сворачивая по пути к рекам. Его карту тоже пытались позднее реконструировать. В отличие от карты Анаксимандра, она включает в себя Красное море, соединяет Африку и Азию через Суэц и сообщает о реке Инд и Каспийском море.
Трудно сказать, кто первый предположил, что земля круглая. Некоторые исследователи утверждают, что такую идею мог высказать философ и астроном Фалес Милетский (624–545 до н. э.), полагаясь на свои знания о звездах, другие указывают на Анаксимандра, который будто бы на самом деле изображал землю не как цилиндр, а как сферу. Но вероятнее всего, это был математик Пифагор (570–495 до н. э.) и его ученики.
Пифагор родился на острове Самос, одном из заклятых врагов Милета, но жил в Кротоне на юге Италии, где основал школу. Для пифагорейцев круг и сфера были идеальными геометрическими формами. Всё во вселенной, включая звезды, небо и нашу Землю, всё, что движется по кругу, они представляли себе в виде сферы. Их теорию подтверждали наблюдения за звездами, вращавшимися в течение ночи вокруг неподвижной точки. Пифагор утверждал, как свидетельствует Диоген Лаэртский, что «земля тоже шаровидна и населена со всех сторон», что «существуют даже антиподы, и наш низ для них – верх»[29].
В XIX веке были популярны карты мира, основанные на тех или иных воззрениях античных авторов. На них мы видим мир глазами Гекатея Милетского, Геродота, Страбона и Эратосфена, как он представлен во Всемирном атласе Крэма 1901 года.
Один из учеников Пифагора, Парменид (515–460 до н. э.), был, вероятно, первым, кто разделил землю на разные климатические зоны: две необитаемые холодные области на крайнем севере и крайнем юге, одна жаркая и столь же непригодная для жизни зона, опоясывающая центр, и два умеренных пояса между ними.
Историк и писатель Геродот (484–425 до н. э.) с большим скепсисом относился к круглым картам, которые рисовали Анаксимандр, Гекатей и другие, не верил он и в пифагорейскую теорию идеальных кругов. В своей Истории он говорит о бездоказательности того, что суша представляет собой круг, окруженный морем:
Смешно видеть, как многие люди уже начертили карты земли, хотя никто из них даже не может правильно объяснить очертания земли. Они изображают Океан обтекающим землю, которая кругла, словно вычерчена циркулем. И Азию они считают по величине равной Европе[30].
По мнению Геродота, Азия была заселена только до Индии, а дальше на восток простиралась огромная пустыня, «и никто не может сказать, какова она»[31]. Но и о том, «омывается ли Европа морем с востока и с севера, никому достоверно не известно», «что же до самых отдаленных стран Европы, именно на западе, то я не могу сообщить о них ничего определенного»[32]. С другой стороны, Геродот утверждал, что Каспийское море – не залив северной части Океана, как полагал Гекатей, а «замкнутый водоем». Тем самым он «продлил» сушу в неизведанные еще области на северо-востоке. Геродот не пытался составлять карту обитаемого мира, считая, что о его окраинах известно слишком мало. Он критиковал картографов-теоретиков, выводивших свои идеи из геометрии, и выступал за картографию, основанную на опыте, путешествиях и эмпирических знаниях.
В одно время с Геродотом жил Демокрит (460–370 до н. э.). Именно он выдвинул гипотезу о том, что населенная суша имеет не круглую, а продолговатую форму, а потому ее следует изображать овальной. Именно тогда сугубо теоретическое и религиозное представление о земле как идеальном круге с определенным центром, будь то Вавилон или Дельфы, постепенно начало уступать место идее овального мира с нечеткими внешними границами; эту форму мы видим на картах и сегодня.
Хотя греческая картография оставалась большей частью теоретической и предметом спора в основном среди математиков и философов, Геродот показал, что карты получили довольно широкое распространение и начали приобретать практическое значение. В Истории он рассказывает о том, как Аристагор, тиран Милета, около 500 года до н. э. прибыл в Спарту, чтобы убедить ее царя пойти войной против персов: «Вступив с царем в переговоры, Аристагор, по словам лакедемонян, принес с собой медную доску, где была вырезана карта всей земли, а также „всякое море и реки“».
Это довольно важное уточнение, оно подтверждает, что карты в то время могли гравировать на переносных медных табличках, что такие карты имели хождение в Древней Греции и, судя по всему, они были более информативны, чем простая карта Вавилона, созданная примерно в то же время. Этот рассказ – один из самых ранних примеров политического и военного применения карты. С помощью карты Аристагор объяснил спартанцам, как они могут попасть в Персию:
Аристагор показывал земли на карте, вырезанной из меди, которую он принес с собой. «А вот здесь, – продолжал Аристагор, – на востоке с лидийцами граничат фригийцы <…>. Далее после фригийцев идут каппадокийцы, которых мы зовем сирийцами. Их соседи – киликийцы, земля которых вот здесь доходит до [Средиземного] моря, где лежит, как ты видишь, остров Кипр. <…> С киликийцами вот здесь граничат армении (они также богаты скотом), а с армениями – матиены, которые живут вот в этой стране. Затем следует вот эта земля киссиев, а в ней на этой вот реке Хоаспе лежит город Сусы, где пребывает великий царь и находятся его сокровища.
О том, что карты были широко распространены в античном мире, свидетельствует и сцена в комедии Аристофана Облака, написанной в 423 году до н. э. Главный герой, земледелец Стрепсиад, вынужден из-за войны пересе литься в Афины. Там он посещает философскую школу:
- Стрепсиад
- А это, здесь?
- Ученик
- А это – геометрия.
- Стрепсиад
- К чему она?
- Ученик
- Чтоб мерить землю.
- Стрепсиад
- Понял я. Надельную?
- Ученик
- Ничуть, всю землю.
- Стрепсиад
- Очень хорошо, дружок!
- Народная наука и полезная.
- Ученик
- А здесь – изображенье всей вселенной. Вот Афины. Видишь?
- Стрепсиад
- Пустяки, не верю я:
- Присяжных здесь не видно заседателей.
- Ученик
- А дальше, будь уверен, это – Аттика.
- Стрепсиад
- <…> Но где же Лакедемон?
- Ученик
- Где он? Вот он где!
- Стрепсиад
- Бок о бок с нами? Позаботьтесь, милые,
- От наших мест убрать его подалее.
- Ученик
- Никак нельзя!
- Стрепсиад
- Час не ровен, поплатитесь![33]
Из этой сцены явствует, что афинские театралы знали толк в картах. Невежество же Стрепсиада обличает в нем пришельца.
Сократ (470–399 до н. э.) в диалоге Федон Платона (429–347 до н. э.) удивляется тому, как велика и разнообразна земля:
Далее, я уверился, что Земля очень велика и что мы, обитающие от Фасиса до Геракловых Столпов, занимаем лишь малую ее частицу; мы теснимся вокруг нашего моря, словно муравьи или лягушки вокруг болота, и многие другие народы живут во многих иных местах, сходных с нашими. <…> Итак, друг, рассказывают прежде всего, что та Земля, если взглянуть на нее сверху, похожа на мяч, сшитый из двенадцати кусков кожи и пестро расписанный разными цветами. <…> В одном месте она пурпурная и дивно прекрасная, в другом золотистая, в третьем белая – белее снега и алебастра[34].
Где-то между 330 и 320 годами до н. э. грек Пифей, пройдя за Геракловы столпы, совершил путешествие по Атлантическому океану на север, в белые области земли. Он отправился из полиса-государства Массалия (Марсель), чтобы увидеть места, откуда привозили закупаемые им товары: олово из Великобритании и янтарь с берегов Балтийского моря. Вернувшись домой, он написал книгу Об океане, которая не сохранилась. Поэтому о ее содержании и маршруте его путешествия мы знаем от других авторов, писавших о Пифее впоследствии.
Именно Пифей первый нанес на карту Норвегию и самые отдаленные северные территории: тем самым Скандинавия стала частью всемирной географии. В своих рассказах он упоминал остров Thoúle или Туле «в шести днях плавания к северу от Британии, рядом с замерзшим морем». Он уверял, что побывал на краю света.
С тех давних пор не прекращается спор о том, где же он на самом деле побывал и было ли вообще путешествие. Страбон и римский историк Полибий (200–118 до н. э.), два важнейших наших источника, навесили на него ярлык лжеца. Полибий считал, что так далеко на севере, где якобы находится воображаемый Туле, люди попросту не могут жить. Сам он определял северную границу ойкумены 54 градусом северной широты – побережьем Балтийского моря.
Пифей был не только путешественником, но и отличным астрономом, он первым в истории применил астрономические знания для точного определения места на Земле, и сделал это на марсельском рынке. По тени, отбрасываемой солнечными часами, он установил, что его родной город находится на 43 градусах и 13 минутах северной широты – более точные координаты появились лишь в наше время. Эти расчеты послужили отправной точкой для последующих измерений, которые он проводил во время своего путешествия.
Географическая широта определяется высотой Солнца в день равноденствия. На экваторе, который расположен на нулевом градусе, Солнце в день равноденствия стоит у нас над головой, а на Северном полюсе оно на 90 градусов ниже, как раз там, куда указывает наш нос, прямо над горизонтом. Поэтому мы говорим, что Северный полюс находится на 90 градусах северной широты. На маяке Линдеснес в Норвегии Солнце в день равноденствия отклоняется от зенита на 57 градусов, 58 минут и 46 секунд – это и есть широта маяка.
Минуты и секунды необходимы для уточнения координат, ведь расстояние между двумя соседними градусами широты довольно велико – около 111 километров. Минута широты почти равна морской миле, 1852,216 метров, а секунда широты – примерно 14,5 метрам.
Пройдя Геракловы столпы, Пифей поплыл на север вдоль берегов Испании и Франции, затем обогнул Бретань и достиг Корнуолла на юго-западной оконечности Англии. Оттуда он, по всей видимости, проник через Ирландское море к северной окраине Шотландии. Фритьоф Нансен в книге Nord i tåkeheimen (В туманах Севера) высказывает предположение, что дальше Пифей отправился на север к Оркнейским и Шетландским островам, вышел к западному побережью Норвегии и добрался до полярного круга. Он основывался на астрономических наблюдениях Пифея, пересказанных древнегреческим математиком и астрономом Гемином Родосским. Согласно Гемину, Пифей описал места, где ночь длится не более двух часов, следовательно, он должен был дойти до 65 градусов северной широты. Гемин также приводит его слова о том, что «варвары нам показывали, где садится солнце»35. Так что Пифей не просто мог что-то слышать о Туле, как утверждают некоторые, но и сам там побывал. По другим описаниям Пифея, которые цитируют и Страбон, и Эратосфен, и Плиний Старший, Туле простирался до самого полярного круга, и он называл его страной полуночного солнца. Плиний в Естественной истории пишет:
Цит. по: Широкова Н. С. Культура кельтов и нордическая традиция античности. СПб.: Евразия. С. 33.
Последний из [островов, которые источники] приводят [для этих мест], – Туле, на нем в летнее солнцестояние, когда Солнце проходит через созвездие Рака, как мы указывали, нет ночи, а в зимнее солнцестояние нет дня. Некоторые полагают, что такое [состояние] продолжается по шесть месяцев[35].
Считается, что Пифей достиг центральной Норвегии, побережья где-то возле Мёре или Трёнделага. Здесь он встретил народ, который, по пересказам Страбона, питался овсом, овощами, дикими фруктами и кореньями и готовил напиток из злаков и меда, что-то вроде медовухи. Он сообщал, что зерно молотили в больших амбарах, поскольку постоянно лил дождь и не было солнца. Должно быть, то, что кто-то молотит зерно в помещении, а не под открытым небом, как принято в Средиземноморье, Пифею казалось экзотикой.
Почему же многие сочли Пифея лжецом? Если его рассказы достоверны, если он действительно заплыл так далеко, что не только увидел ранее неизвестные острова к северу от Шотландии, но и, отправившись дальше в неизведанное Северное море, открыл новые страны, то это расширило границы мира, известного древним грекам, на целых 16 градусов северной широты – от южного берега Англии до полярного круга. Вероятно, многим это представлялось неправдоподобным.
Нансен, сам побывавший на далеком Севере, не находил ничего необычного в том, что Пифей предпринял столь далекое путешествие: «Само по себе отнюдь не удивительно, что этот необыкновенный путешественник, который был не только выдающимся астрономом, но и умелым мореплавателем, прослышав в северной Шотландии, что еще дальше на север есть обитаемая страна, пожелал увидеть и ее. Следует помнить, что ему, астроному, особенно интересно было выяснить, как далеко на север простирается ойкумена, и собственными глазами увидеть необычайные явления северных широт, в первую очередь полярный день».
Мы не знаем, считал ли Пифей Туле островом. Скорее всего, считал, потому что когда вы путешествуете, как он, от острова к острову, а затем от Шетландского архипелага по морю на север, и вдруг попадаете на некую землю, расположенную далеко на севере, то едва ли вы подумаете, что снова наткнулись на материк. Во всяком случае, на всех позднейших картах Туле изображали островом.
В конце концов эта таинственная северная земля стала частью нашей географии. «Остров Фуле [Туле] находится на той параллели, которая является пределами самой северной части известной нам земли»[36], – сообщает Птолемей, поместив Туле после Оркадских островов[37], на 63 градусе северной широты – возможно, потому что римский историк Тацит в своем сочинении Агрикола (77 н. э.) отождествлял Туле с Шетландскими островами.
Аристотель (384–322 до н. э.) подвел итог классическому периоду греческой географии. На основании простых наблюдений, как то тень Земли на Луне во время лунных затмений имеет круглую форму, а Полярная звезда поднимается тем выше на небосводе, чем дальше наблюдатель идет на север, он установил, что Земля имеет сферическую форму. Он полагал, что Вселенная симметрична и пребывает в равновесии, а земля и вода, будучи по своей природе тяжелыми элементами, естественно тяготеют к центру Вселенной, поэтому и масса Земли везде равноудалена от ее центра. За 1800 лет до путешествия Колумба он был уверен, что в Индию можно попасть, плывя на запад от Геракловых столпов[38].
Аристотель также утверждал, что Земля состоит из пяти климатических зон. В трактате Метеорологика он пишет: «Дело в том, что обитаемая земля делится на две части: одна – у верхнего полюса, где живем мы, другая – у противоположного полюса, к югу»[39]. Длина обитаемой Земли, считал Аристотель, намного превосходит ширину. Расстояние от Гибралтара на западе до Индии на востоке относится к расстоянию от Эфиопии на юге до Азовского моря на севере примерно как пять к трем. Поэтому логично, чтобы карты имели продолговатую форму. «Поэтому существующие ныне описания [или карты] Земли нелепы: ведь обитаемую Землю изображают круглой, а это невозможно, исходить ли из наблюдения или из [общих] рассуждений»[40].
Аристотель был наставником Александра Великого, македонца, который в 334 году до н. э. завоевал Малую Азию и дошел до самой Индии. В поход с ним отправились не только воины, но и ученые, собиравшие сведения о флоре, фауне, культуре, истории и географии, определявшие расстояния между стоянками. Александр в своем отношении к окружающему миру следовал методу Аристотеля, полагаясь больше на наблюдения, нежели на теоремы. Его поход положил начало эпохе картографии, когда карты начали составлять с опорой на опыт, а не теории. Следующие поколения географов при создании карт Азии и более подробных карт мира в значительной мере основывались на описаниях походов Александра.
Завоевания Александра породили эллинистическую культуру, образовав из небольших греческих городов-государств ряд династий, распространившихся по всему Средиземноморью и Азии. Политическая география стала иной. В период эллинизма культура и влияние Греции достигли своего пика. В то же время греческая культура вобрала в себя элементы культур Северной Африки и Передней Азии. Александрийская библиотека была создана не только по образцу афинской школы и библиотеки Аристотеля – она продолжала традицию библиотек фараонов и царей Месопотамии, в частности, библиотеки царя Ашшурбанапала в Ниневии на севере нынешнего Ирака, в которой по преданию побывал Александр Македонский.
Около 250 года до н. э. грек Эратосфен (275–194 до н. э.), уроженец североафриканского города Кирены, был приглашен в Александрию, где возглавил библиотеку. Здесь он написал свою Географию, положив начало географической науке. Он сопоставил все предыдущие попытки описать облик, размеры и историю Земли и ввел само понятие «география», состоящее из двух корней: geo – один из вариантов Гея, названия земли, и grapho – «пишу, описываю».
Кроме того, Эратосфен, прибегнув к простому эксперименту, смог с поразительной точностью вычислить окружность Земли. Прежде всего, он исходил из того, что в Сиене (Асуан)[41]. Солнце в день летнего солнцестояния находится в зените. Кроме того, он предполагал, что Александрия расположена на том же меридиане, что и Сиена. Наконец, он подсчитал, что расстояние между этими двумя городами равно пяти тысячам стадиев. В день летнего солнцестояния он измерил тень от солнечных часов в Александрии. Когда тень покрыла одну пятидесятую часть окружности, он умножил пятьдесят на пять тысяч и таким образом определил, что окружность Земли составляет 250 000 стадиев. Позднее он скорректировал это число до 252 000 стадиев, сделав его кратными шестидесяти, явно отдавая дань уважения шумерской и вавилонской математике.
Но какой длины был стадий, которым измерял Землю Эратосфен? Если он применял египетский стадий, который эквивалентен 157,5 метров, то окружность Земли равняется 39 960 километров, что лишь на 1,6 процента отклоняется от реальной длины экватора в 40 075 километров. Если же он пользовался аттическим стадием, равным 185 метрам, то мы получим 46 620 километров – погрешность увеличится до 16,2 процента. Более того, Эратосфен исходил из неверных предпосылок. В Сиене Солнце не находится в зените во время летнего солнцестояния, и этот город не расположен на том же меридиане, что и Александрия.
Однако ни длина стадия, ни географические неточности не играют большой роли. Сам Эратосфен знал, что расстояние, рассчитанное между Александрией и Сиеной, было приблизительно, оно исчислялось временем, которое требовалось для того, чтобы доехать из одного города в другой на верблюде. Гораздо важнее, что у него появилась некая мера, которой можно было пользоваться для расчетов.
Вычислив окружность Земли, Эратосфен смог определить, какую ее часть покрывает ойкумена. В Географии он описал соотношение между размерами Земли и ойкумены, проиллюстрировав это с помощью первой известной нам карты, где нанесены меридианы и параллели.
Судя по всему, он использовал восемь параллелей. Самая северная проходила в Туле, вторая в устье реки Днепр, третья через Лисимахию (Фракию), четвертая – главная – через Афины и Родос, пятая через Александрию, шестая через Сиену, седьмая через город Мероэ в Северной Африке, а самая южная через остров Шри-Ланка и берег Кинаммонов.
Главный меридиан тянулся от Эфиопии на юге до острова Туле на севере, простираясь через Мероэ в Судане, Сиену, Александрию, Родос и устье Днепра. К востоку от него Эратосфен поместил еще три меридиана – через реку Евфрат, Каспийское море и Инд соответственно. К западу он также провел три меридиана: на одном лежали Рим и Карфаген, на втором Геракловы столпы и на третьем западное побережье Португалии.
Меридианы могут находиться где угодно. В отличие от севера и юга, у которых есть свое начало и конец – их полюса, восток и запад нигде не начинаются. Поэтому размещение 0 градуса восточной и западной долготы, нулевого меридиана – это скорее вопрос личных предпочтений, и картографы разных эпох проводили его через Иерусалим, Александрию, Рим, Париж, Копенгаген, Конгсвингер, Тронхейм, Берген, Кристиансанн и Осло. Лишь в 1884 году после упорных политических переговоров нулевой меридиан окончательно поместили в Гринвиче. Этим решением особенно недовольной осталась Франция, еще долгое время пользовавшаяся собственным Парижским меридианом. Нулевой меридиан – это просто точка, от которой мы начинаем отсчет. Если расстояние между параллелями определяется высотой Солнца над горизонтом, то долготу мы рассчитываем по времени: Земля совершает один оборот вокруг своей оси – 360 градусов – за 24 часа. Делим 360 на 24 и получаем 15, то есть за один час Земля поворачивается на 15 градусов долготы.
Свои семь меридианов Эратосфен провел там, где счел это целесообразным, расстояние между ними были разными, можно сказать, они просто служили чем-то вроде путеводителей, помогавших ему размещать на карте объекты. Они строились на гипотезах, диких догадках, разрозненных астрономических наблюдениях и сведениях из походов Александра Македонского.
Его ойкумена насчитывала 78 000 стадиев в длину с запада на восток и 38 000 стадиев в ширину с севера на юг, укромно помещаясь, таким образом, на четверти всей площади Земли. Эратосфен считал весьма вероятным, что существуют еще три континента, также населенных людьми. Математическими методами он подтвердил гипотезу о том, что грекам была известна лишь малая часть мира.
Вскоре Кратет Малльский, основываясь на расчетах Эратосфена, а именно на его вычислениях размеров Земли и ойкумены, изготовил глобус – первый, о котором сохранились достоверные сведения. На огромном, диаметром около трех метров, шаре была изображена наша ойкумена и три других неизведанных континента. К югу от экватора Кратет поместил Антойкумену («земля по ту сторону»), а на другой половине северного полушария – Периойкумену («земля по соседству»), южнее которой жили антиподы («ходящие вверх ногами»). Все континенты представлялись изолированными, не имеющими никаких контактов друг с другом островами.
Отнюдь не все согласились с расчетами Эратосфена. Гиппарх Никейский (190–126 до н. э.) написал опровержение Против географии Эратосфена в трех книгах. В нем он подверг критике своего предшественника за то, что тот пренебрег астрономическими наблюдениями при составлении своих карт. «Гиппарх в своем сочинении Против Эратосфена, – писал Страбон, – правильно доказывает невозможность для любого человека (будь то невежда или ученый) получить необходимое знание географии, не умея определять небесные явления и вычислять наблюдаемые затмения»[42]. Гиппарх, как никто из греков, был сведущ в вавилонской математике; именно он разработал современную систему географических координат с 360 градусами долготы и 180 градусами широты и доказал, что солнечные и лунные затмения помогают точнее определять долготу. Его главной заслугой считается каталог, в котором он указал точное местоположение восьмисот пятидесяти звезд.
В Александрийской библиотеке Клавдий Птолемей не нашел никого, кто умел бы лучше Гиппарха производить географические расчеты, пользуясь астрономическими наблюдениями. Единственно у него, писал Птолемей, мы находим достоверные координаты, хотя тексту Гиппарха к тому времени уже было триста лет. Птолемей – в первую очередь астроном, поэтому он разделял мнение Гиппарха и Страбона о надежности астрономических наблюдений и неполноте сухопутных или морских рекогносцировок. Но, к сожалению, он не мог строго следовать этому принципу, ибо значительно опередил свое время: астрономических данных тогда попросту было недостаточно. «Если бы те, которые объехали отдельные страны, делали подобного рода [астрономические] наблюдения, можно было бы составить карту земного шара, верность которой не подлежала бы никакому сомнению»[43], – сетовал он в своей Географии.
Птолемей прекрасно понимал, что не обладает знаниями, достаточными для составления полной карты мира. Он пишет: «Время делает всё более точными наши сведения обо всех местностях, которые не были известны целиком то ли из-за их чрезмерной величины, то ли из-за того, что не всегда находились в одном и том же состоянии. Так же обстоит дело и с составлением карт. В самом деле, из самих описаний земли, взятых во временной последовательности, известно, что многие части материков земли, обитаемой в наше время, еще неизвестны из-за недоступности, вызванной их большими размерами; другие не описаны должным образом из-за необразованности тех, кто взял на себя их описание; некоторые же части земли уже не находятся в прежнем состоянии вследствие происшедших в них тех или иных разрушений и перемен»[44].
Поэтому, продолжает он, «необходимо обращать внимание главным образом на самые поздние сведения». Птолемей утверждает, что сам он ничего нового не привнес в знания о мире. Свое призвание он видит прежде всего в том, чтобы, «отличая современные сообщения от сообщений прошлого», актуализировать и исправлять то, что другие сделали до него – и в первую очередь Марин, географ из Тира (нынешний Ливан), который предположительно умер тогда, когда родился Птолемей. Только из его Географии мы о нем и узнаём: «Последним, кто в наше время занимался этим делом, и притом со всяческим старанием, был, как нам кажется, Марин из Тира»[45]. Птолемей не скрывает, что именно у него он почерпнул практически все свои географические сведения.
Вместе с тем Птолемей совершает настоящий прорыв, когда излагает свое ви´дение того, как лучше всего изобразить карту земного шара на плоском листе бумаги. Эта задача, доставляющая и сегодня немало хлопот географам, впервые была поставлена за четыреста пятьдесят лет до него Демокритом, предположившим, что Земля имеет овальную, а не круглую форму, а затем Эратосфеном с его вспомогательными линиями-путеводителями. Несомненно, предпринимались и другие попытки, поскольку Птолемей пишет, что Марин «высказал недовольство всеми решительно методами черчения карт на плоскости»[46], а значит, их было немало, но нам о них ничего не известно.
Птолемей предлагает два варианта картографической проекции земного шара на плоскости. Их сходство в том, что оба имеют изгибы и по-своему имитируют округлую форму Земли.
В первом варианте мы видим на карте абсолютно прямые меридианы, пересекающиеся в воображаемой точке где-то в районе Северного полюса. Поперек них проходят дугообразные параллели, длина которых увеличиваются по мере приближения к экватору. Соотношение размеров между экватором и верхней (самой северной) параллелью, проходящей через остров Туле на 63 градусе северной широты, вполне правдоподобно. Посреди них находится параллель, идущая через Родос. «Всё это необходимо для того, чтобы прежде всего сохранить сходство с самим очертанием и внешним видом сферической поверхности»[47], – пишет Птолемей об этом варианте, которым он тем не менее не очень доволен. Так как в самой структуре данной проекции есть аномалия. Если в реальности параллели, удаляясь от экватора на север или юг, становятся короче, то здесь к югу от экватора они увеличиваются. И Птолемей прибегает к уловке: он делает самую южную параллель, лежащую на 16 градусе южной широты, такой же длины, что и соответствующая северная параллель, из-за чего меридианы преломляются. Он считает это довольно незначительной аномалией, ведь на его карте земли не простираются так далеко на юг, но по мере открытия всё более южных территорий неизбежно возникнут проблемы: эту модель карты невозможно расширять.
Поэтому Птолемей создает альтернативную модель, и она нравится ему куда больше. Здесь и параллели, и меридианы изогнуты, и почти все параллели имеют правильное соотношение длин. «Само собой разумеется, что такой чертеж обеспечивает большее сходство со сферической формой, чем предыдущий»[48], – подытоживает он, признавая, однако, что и чертить его значительно сложнее. Он делает вывод, что необходимы обе модели – как более простая в исполнении, так и более точная.
В течение многих десятилетий специалисты по истории картографии выясняли, сам ли Птолемей начертил карты для первого издания его Географии. Дело в том, что нигде в тексте он не ссылается на какие-либо приложенные карты. Кроме того, очевидно, что в 150 году н. э. практическая потребность в картах мира была невелика – римлян куда больше интересовали карты, которыми они могли пользоваться в военных походах и в своих колониях. Поэтому многие исследователи считают, что карты, включенные в византийский список Географии XIV века, были первыми, составленными на основании подробных записей Птолемея. Другие исследователи возражают, что едва ли он мог обладать столь обширными географическими сведениями и разработать такие сложные модели, не начертив карты самостоятельно.
Основной признак карт, составленных по записям Птолемея, прост: глядя на них, мы можем их понять. Север находится вверху, а Средиземное море, Европа и Северная Африка, Ближний Восток и некоторые части Азии вполне узнаваемы. Америка, Океания, Южная Африка и Восточная Азия на эти карты не нанесены, потому что Птолемей о них ничего не знал. То же относится к Тихому океану и большей части Атлантического океана. Индийский океан – гигантское озеро, потому что южная оконечность Африки простирается далеко на восток и смыкается с Малайским полуостровом.
Ойкумена Птолемея занимает непропорционально большую часть на карте мира, потому что он недооценивал размеры Земли. Он исходил из расчетов сирийского математика Посидония (135–50 до н. э.), утверждавшего, что окружность Земли составляет 180 000 стадиев, тогда как по более точным данным Эратосфена она равнялась 252 000 стадиям. В результате восточная часть Китая, которая оставалась terra incognita, оказалась всего в 40 градусах широты от мест, известных нам сегодня как западное побережье Америки. Возможно, именно здесь мы находим ключ к путешествию Колумба на запад: он тоже думал, что Земля гораздо меньше, чем на самом деле. Полагаясь на Птолемееву карту 1487 года издания, он считал, что от Португалии до Китая всего 2400 морских миль. Знай он, что реальное расстояние десять тысяч морских миль, да к тому же путь перегораживает Америка, он, возможно, отказался бы от своей затеи.
Солнце садится над ливийской пустыней и морем. В Александрийском музее время ужина для всех постояльцев. Птолемей сворачивает свиток энциклопедии Плиния и идет обратно через колоннаду. Вечером в своей комнате при колеблющемся свете свечи он записывает новые названия мест и их координаты:
Восточнее Кимврийского полуострова четыре так называемые Скандии, острова невеликие, координаты в совокупности [в центре] между этими областями 41°30 в. д. 58°00 с. ш.
Слывущая Великой собственно Скандия расположена восточнее напротив устья Вистулы. И ее крайняя западная область 43°00 в. д. 58°00 с. ш.
• восточная – 46°00 в. д. 58°00 с. ш.
• северная – 44°30 в. д. 58°30 с. ш.
• южная – 45°00 в. д. 57°40 с. ш.
И говорят, что там живут на западе хайденои (khaideinoi), на востоке – фавонаи (favonai) и фираисои (firaisoi), на севере – финнои (finnoi), на юге – гойтаи (gutai) и дайкионы (daukiones), в середине – левонои (levonoi)»[49].
В последующие века всё великолепие птолемеевской династии поблекло и потонуло в средиземноморской гавани Александрии. Уже при Клавдии Птолемее город был не тот, что прежде. За сто лет до этого Цезарь, воевавший с Птолемеем XIII, сжег корабли в Александрийской гавани, и в распространившемся на город пожаре сгорело огромное количество книг библиотеки. А когда приемный сын Цезаря, Октавиан Август, в 30 году до н. э. после смерти Клеопатры завладел Египтом, Александрия из египетской столицы превратилась в провинциальный город Римской империи. Библиотека постепенно приходила в упадок.
Птолемей застал самый конец эпохи ее величия. Его книгам посчастливилось оказаться среди тех, что сохранились и продолжают жить в наши дни, но лишь благодаря рассеянным по миру спискам и переводам, которые были сделаны в течение веков. Географией, судя по всему, после его смерти никто не интересовался. Цитаты из нее время от времени появлялись у латинских авторов, арабы переводили ее фрагменты и уточняли некоторые координаты, но лишь около 1300 года н. э. в Константинополе византийскому грамматику Максиму Плануду удалось ценой больших усилий отыскать рукопись Птолемеевой Географии, которая столько лет считалась утраченной.
С. 67 Ptolemeo de gli Astronomi prencipe… – «Птолемей, князь астрономов, прилежно и тщательно наблюдавший небесные тела…» Титульный лист Руководства по географии, опубликованного в 1548 году Джакомо Гастальди. Это первое издание на итальянском языке, первое издание Птолемеева трактата в удобном карманном формате и первое издание Географии, где на картах присутствует американский континент.
В 1323 году, вскоре после того как Птолемей, вновь открытый научному миру, занял подобающее ему место в истории картографии, землетрясение уничтожило то, что осталось от знаменитого маяка, освещавшего дни славы Александрии. География же из Константинополя отправилась дальше в странствие с итальянским монахом, который в 1395 году приехал в город изучать греческий язык: он привез копию трактата во Флоренцию, а десять лет спустя выпустил его первый латинский перевод. Благодаря ему европейцы увидели мир совсем иначе, чем представляли его себе более тысячи лет после появления трактата.
Греческая натурфилософия опиралась на шумерскую и вавилонскую астрономию и математику. Идеи перекочевали на запад, в Милет, там сформировались новые представления о месте Земли во Вселенной, породившие философское учение о воздухе как первоэлементе и подробные карты. Кроме того, греки, пользуясь астрономическими наблюдениями, накинули на мир сеть из меридианов и параллелей, помогавшую более точно определять местоположение объектов. Около 150 года н. э. в Александрии Клавдий Птолемей собрал все эти знания греков по географии и, прибавив к ним сведения, полученные от путешественников, опубликовал свое Руководство по географии, величайшее из античных произведений об ойкумене – континенте, на котором мы живем.
Священная география
Рейкхольт,
Исландия
64º39’54” с. ш.
21º17’32” з. д.
С. 69 Средневековая карта в молитвеннике около 1250 года. Лондон отмечен сусальным золотом как место, где была издана книга, но из религиозных соображений карту развернули востоком кверху, поэтому Европа на ней скромно ютится в нижнем левом углу. Норвегия (Norwegia) – полуостров, присоединенный к Саксонии (Saxonia).
Снорри Стурлусон ходит взад-вперед по земляному полу усадьбы Рейкхольт, продолжая свое повествование. За столом сидит писец, возможно, его друг Стюрме, и скрипит гусиным пером по пергаменту из телячьей кожи. Снорри задумал написать книгу о скандинавской мифологии и скальдическом искусстве. Однако, как добрый христианин Средневековья, он начинает книгу с сотворения мира. Рассказав об Адаме и Еве, Великом потопе и прославив величие Господа, он описывает мир:
Весь мир разделялся на три части. Часть, которая лежит на юге, простираясь к западу и к Средиземному морю, зовется Африкой. На юге Африки жарко, и всё сожжено солнцем. Другая часть лежит на западе и тянется к северу и к океану, она зовется Европой или Энеей. На севере этой части так холодно, что там не растет трава и нельзя там жить. С севера на восток и до самого юга тянется часть, называемая Азией. В этой части мира всё красиво и пышно, там владения земных плодов, золото и драгоценные камни. Там находится и середина земли[50].
Примерно в то же время, когда Снорри пишет свою Эдду, рука художника в Лондоне чертит карту мира в молитвеннике. На ней Христос благословляет поднятой правой рукой Землю, лежащую под ним. В левой руке он держит глобус, знаменуя этим, что он властитель мира. Он стоит на востоке, стороне света, считавшейся священной, поскольку оттуда пришло христианство, тогда как два дракона на западе обозначают врата в ад. Мир разделен на три части: Африку, Европу и Азию, есть и центр мира – Иерусалим.
Снорри вырос в книжной семье, он изучал латынь, богословие и географию. У него, как и у безымянного английского картографа, было, вероятно, немало общих книг, рассказывавших о том, как выглядит мир. В Средние века слово ценилось больше, чем изображение. За восемьсот лет до Снорри один из отцов Церкви написал: «Теперь же пойду с пером по европейским землям, которые известны людям». Ученые мужи предпочитали описания мира его изображениям, которые адресовались неграмотному большинству, и поэтому описание мира Снорри, хоть и несколько скупое, есть в средневековом понимании полноценная карта.
С первого взгляда можно и не понять, что карта в молитвеннике – это на самом деле карта мира. В отличие от карт, которые, возможно, чертил Птолемей, или, по крайней мере, тех, что составлялись на основании его записей, эта карта совсем не похожа на известный нам мир. Это средневековая mappa mundi. Название образовано от латинских слов mappa – «кусок полотна» и mundus – «мир». На этой карте начертан мир, каким он был в глазах европейского христианина середины XIII века; она отражает богословские, космологические, исторические и этнографические представления того времени. Ее предназначение не в том, чтобы по возможности точно описать, как выглядит Земля, а в том, чтобы объяснить: божественное начало пронизывает всё, включая и географию. Здесь переплетены библейские истории, средневековые легенды и географические сведения, дошедшие из античности. Круглая Земля (как на самых ранних греческих картах) окружена океаном, по которому раскиданы острова и полуострова, в том числе Норвегия, помещенная на карте слева, далеко на севере; карту украшают библейские сюжеты – Эдемский сад, Ноев ковчег и Красное море, расступившееся перед Моисеем и израильтянами, спасавшимися от воинов фараона.
Завоевание римлянами Египта и их господство в Средиземноморье привели не только к тому, что Александрия перестала быть интеллектуальным центром, но и к тому, что латынь сменила греческий язык в качестве основного языка общения между европейскими, североафриканскими и западноазиатскими учеными. Кроме того, римляне явно не спешили переводить на латынь мудреные объяснения греческих географов о том, как устроен мир. К картам они подходили сугубо утилитарно. Знаменательно, что единственная римская карта мира, дошедшая до наших дней, Tabula Peutingeriana (Пейтингерова скрижаль), в длину почти восемь с половиной метров, а в высоту всего тридцать четыре сантиметра, поскольку изображаемый на ней мир – это 104 000 километров дорог от Британии, Испании и Марокко на западе до Шри-Ланки и Китая на востоке. Вдоль дорог отмечены станции-перекрестки, бани, мосты, леса, расстояния и названия стран и туземных племен. Сохранилась лишь одна средневековая копия этой карты, но считается, что она была составлена в позднеримский период, между 335 и 366 годами н. э.
Римляне обычно пользовались картами при основании новых колоний, строительстве дорог и акведуков, в судебных тяжбах, в целях просвещения и пропаганды. Популярны были у них и карты городов, к примеру, знаменитый мраморный план Рима, установленный на внутренней стене Храма Мира на 150 мраморных плитах, где были высечены улицы и здания столицы империи. Orbis terrarum, земной шар, как правило, изображали, и то довольно схематично, лишь для того, чтобы подчеркнуть, что римские императоры получили его в дар от богов. На бесчисленных римских монетах отчеканены императоры и боги, либо держащие в руке символический глобус, либо попирающие его ногой.
Известны лишь два географических трактата, написанных на классической латыни. Первый – De situ orbis (О положении земли) Помпония Мелы, довольно небольшой текст, основанный почти полностью на трудах греческих географов, второй – Naturalis historia (Естественная история) Плиния Старшего, который дополнил то, что знали греки, собственными наблюдениями из Северной Европы. Его мир простирался от Иберийского полуострова и Великобритании на западе до Сереры (Китая) на востоке, от скандинавских «островов» на севере до Эфиопии на юге. Мела и Плиний стали важными источниками сведений по географии в эпоху Средневековья.
Цицерон (106–43 до н. э.), юрист, учившийся у греческих философов, представил нетипичный для римлян взгляд на мир в книге О государстве, описав сон, в котором полководец Сципион поднимается к звездам и видит, сколь ничтожно мала Римская империя в большой картине мира. Это видение напоминает о «прыжке веры» Сократа и греческих картах, деливших Землю на пять климатических зон:
Но ты видишь, что эта же Земля охвачена и окружена как бы поясами, два из которых, наиболее удаленные один от другого и с обеих сторон упирающиеся в вершины неба, скованы льдами; средний же и наибольший пояс высушивается жаром Солнца. Два пояса обитаемы; из них южный, жители которого, ступая, обращены к вам подошвами ног, не имеет отношения к вашему народу; что касается другого пояса, обращенного к северу, то смотри, какой узкой полосой он соприкасается с вами. Ведь вся та земля, которую вы населяете, суженная с севера на юг и более широкая в стороны, есть, так сказать, небольшой остров, омываемый морем, которое вы на Земле называете Атлантическим, Большим морем, Океаном; но как он, при своем столь значительном имени, всё же мал, ты видишь[51].
Римский оратор Евмений придерживался более традиционного взгляда на карты, завоевания и пропаганду Рима. В 290 году н. э. он говорил своим ученикам, показывая карту империи: «Как чудесно, не правда ли, то, что мы видим сейчас картину мира, на которой нет ничего, что не принадлежало бы нам». Такие панегирики, произносившиеся как с картой, так и без нее, с перечислением стран, принадлежавших Римской империи, были такой же неотъемлемой частью пропаганды, как демонстрация завоеванных трофеев и пленников. Карта, с которой начинается любой современный комикс об Астериксе и на которой жезл с римским орлом прочно воткнут в центре Галлии, довольно точно передает типично римскую картографию (исключая разве что преувеличенно выпяченную непокорную галльскую деревушку).
Роль карты мира в пропаганде была так велика, что ее разрешалось составлять только с дозволения государства. Карта, изготовленная самочинно, скорее всего, свидетельствовала о замышлявшемся восстании против императора – именно это инкриминировали Меттию Помпузиану, начертившему карту мира на стене своей спальни. Его казнил император Домициан (правил в 81–96 н. э.), решивший, что Помпузиан метил на его место.
У христианства было иное ви´дение географии. Рассказ о творении учит, что земля принадлежит людям, и они должны возделывать ее, а так как Бог пришел в мир в облике Иисуса и повелел апостолам идти и обращать все народы в свою веру, то любой мог воспроизвести маршруты, которыми они следовали, неся народам христианство. Изображение мира больше не было уделом императоров. Однако географию по-прежнему считали не наукой, но лишь инструментом, помогавшим лучше понять творение и историю. Сведения о мире оставались частью scientia, светского знания, которое должно было питать sapientia, мудрость, или сакральное знание.
Около 400 года н. э. Августин, один из отцов североафриканской Церкви, в трактате De genesi ad litteram, или О книге Бытия буквально, писал, что христианин должен знать «о земле, небе и остальных элементах видимого мира» по меньшей мере столько же, сколько и нехристианин, чтобы незнанием сугубо светских вещей не скомпрометировать высшие библейские истины. Землю следует изучать наряду с библейской историей, чтобы лучше понимать божественное творение. В трактате Христианская наука он пишет: «Подобным образом вижу, что люди, имеющие надлежащие сведения, могли бы для пользы собратий решиться на приятный и благой труд – привести в порядок и изложить отдельно всё, что упоминается в Писании о местоположении различных земель, о животных, травах, деревьях, камнях, металлах и проч.»[52].
Совету Августина последовал Иероним Стридонский (360–420 н. э.), опубликовавший в 390 году книгу О положении и названиях еврейских местностей (Liber de situ et nominibus locorum hebraicorum). Этот топографический словарь, который содержит именования более тысячи библейских мест, был написан потому, что «знающий местоположение древних городов и поселений, а также их названия имеет и более ясное представление о Священном Писании».
Однако географические сведения, предоставляемые Библией, и ограничены, и противоречивы. Поэтому Августин предлагал поступать так, как поступили израильтяне, которые «ограбили египтян», прежде чем отправиться в обетованную землю. Иными словами, воспользоваться знаниями, добытыми язычниками – римлянами и греками.
Ответом на этот призыв стала История против язычников (Historiarum adversum paganos) Павла Орозия (385–420 н. э.), в которой он пишет: «Предки наши видели весь круг земной, опоясанный океаном, трехдольным и называли три его части Азией, Европой и Африкой <…>. Азия, окруженная с трех сторон океаном, растянулась наискось через всю область востока; на западе она справа примыкает к Европе, начинающейся близ северного полюса, слева же оставляет Африку…»[53]. Далее он описывает эти три части света, не упоминая Иерусалим, а равно и Вифлеем, Иерихон, Назарет и другие города из библейской истории, подтверждая тем самым, что он опирался на римские источники. Палестина упоминается им лишь мимоходом в числе других сирийских провинций. Несмотря на это, трактатом Орозия широко пользовались в качестве источника на протяжении всего Средневековья.
Чуть более двухсот лет спустя античную и христианскую географию объединил испанский епископ. По преданию, однажды мальчишкой он убежал из дома, не желая терпеть побои от старшего брата, который взялся его воспитывать после смерти родителей и довольно сурово с ним обращался, не скупясь на тычки и наказания. Мальчик укрылся в лесах под Севильей, но, избавившись от побоев, он не перестал чувствовать себя никчемным, глупым и отверженным.
Исидор родился в городе Картахена на юге Испании около 560 года н. э. Времена были неспокойные. Бывшую римскую провинцию за сто лет до этого захватили вестготы. А в 557 году Картахену и всю юго-восточную часть Испании заняли византийцы. Вероятно, из-за этого семья Исидора переехала на запад, в Севилью. Его мать была из вестготов, возможно, знатных, отец происходил из родовитой испано-романской семьи. Оба умерли вскоре после переезда на новое место, поэтому старшему брату пришлось учить уму-разуму младшего. И он старался – вот только Исидор учился не так много и не так быстро, как хотелось старшему.
В лесу Исидор заметил, как на камень поблизости от его укрытия капает вода. Капли казались совершенно бессильными перед твердостью камня и не оказывали на него никакого воздействия. Тем не менее, присмотревшись, Исидор увидел, что с течением времени они проделали в камне углубление. Он подумал, что так и с его учебой: методичная работа принесет большие знания.
Сегодня Исидор считается одним из самых ученых людей своего времени. Он стал первым христианским автором, попытавшимся написать «сумму» – объединить все доступные ему знания. Его главный труд Etymologiarum sive originum (Этимологии, или Начала) – своеобразная смесь словаря и энциклопедии в двадцати книгах, над которыми он работал с 621 года и до самой смерти. В них он охватил практически всё: от грамматики и медицины до земледелия и судоходства. Четырнадцатая книга, De terra et partibus, посвящена Земле и ее различным частям. Исидор подчеркивает, что излагает знания так, как это делали античные авторы, и даже лучше, дополняя их прочитанным у отцов Церкви. Для него Вселенная и все явления природы были выражением божественной деятельности. Он доказывает это, цитируя Иоанна: «Мир чрез Него начал быть» (Ин. 1:10), и сравнивает Солнце с Богом, Луну с Церковью, а семь звезд Большой Медведицы – с христианскими добродетелями.
Исидор описывает мир вполне традиционно, считая, что он разделен на три части: «Одна треть называется Азией, вторая – Европой, третья – Африкой». Однако, когда он пишет об Азии, проступает христианская риторика:
Азия названа по имени некой женщины, которая в древности владела всем государством в Восточной половине мира. <…> В Азии много земель и много государств, названия и перечень которых я собираюсь вскоре передать, начав с ее важнейшей части – рая. Рай – это прославленное место в Восточной половине, название которого передается с греческого на латынь как hortus. Так мы называем сад, а на еврейском языке называется это место Эдем, что означает «великолепие» или «блаженная жизнь». <…> Доступ в это место был закрыт и запрещен людям после грехопадения. Так говорится в Священном Писании, что оно надежно охраняется и защищено огненным мечом, и можно понять, что его со всех сторон окружает огненный жар, столь горячий, что доходит до неба. Назначены там для охраны херувимы – ангелы Бога, чтобы огненное пламя удерживало людей снаружи и вдали, а ангелы Божии отгоняют прочь падших ангелов, чтобы ни человек, ни душа, которые не внимали Богу, не могли войти туда.
Индия получила название от реки Инд. Она простирается от Западной половины до края земли[54].
Исидор никак не обозначил переход от рая к Индии – для него это просто соседствующие области. Зато он выражал сомнения в том, что в южной половине земного шара существуют местности и люди, о которых ничего не было известно.
Еще Пифагор считал, что на другой стороне Земли живут люди, которые ходят вверх ногами. Греки и римляне, в частности, Платон и Цицерон, принимали как данность, что другая сторона Земли тоже населена. Августин, однако, эти представления опровергал, в трактате О граде Божьем он писал: «Тому же, что рассказывают, будто существуют антиподы, т. е. будто на противоположной стороне земли, <…> люди ходят в противоположном нашим ногам направлении, нет никакого основания верить»[55].
Для средневекового христианина вопрос о том, есть ли на другой стороне Земли населенные области, отделенные от нас огромным океаном или палящим зноем, был не только вопросом географическим, но и богословским. Библия учит, что все люди произошли от Адама и Евы. Как же тогда их потомки могли поселиться там, куда невозможно добраться? Почему о них ничего не говорится в Священном Писании? Как апостолы могли исполнить Великое поручение – нести спасительную весть всем народам, – если они не могут попасть туда, где эти народы обитают? Неужели антиподы обречены погибнуть? Или Иисус приходил к ним отдельно? Августин с неохотой допускает, что по ту сторону Земли, может быть, и есть суша, но «из этого отнюдь не следует, что там живут люди. Ибо никоим образом не может обманывать Писание…»[56]
С. 78–79 Два фрагмента вытянутой карты мира Tabula Peutingeriana на гравюре Петруса Бертиуса (1619), который работал с репродукцией, начатой Абрахамом Ортелием за год со своей смерти. На карте внизу слева можно увидеть Константинополь (Стамбул), отмеченный величественной женщиной. На юге видна разветвленная дельта Нила, к востоку от нее – Синайский полуостров, на котором написано, что здесь сорок лет скитались израильтяне, Иерусалим же скромно помещен еще дальше на востоке.
В девятой книге, повествующей о народах и языках Земли, Исидор тоже пишет, что не следует верить в людей, именуемых антиподами. С другой стороны, в конце четырнадцатой книги, рассказав об Азии, Европе и Африке, он пишет: «Помимо этих трех частей света, существует и четвертая, за океаном, далеко на юге, остающаяся неизведанной из-за палящего солнца, и говорят, что в той стране живут легендарные антиподы».
Это противоречие объясняется, скорее всего, тем, что Исидор опирался на труды нескольких отцов Церкви, не во всём согласных друг с другом. Современником Августина, Иеронима и Орозия был Макробий, о котором нам мало что известно, он автор комментария к сновидению Сципиона, описанному Цицероном. Свой комментарий он снабдил картой, на которой был изображен мир с Северным и Южным полюсами, экватором и двумя пригодными для обитания зонами, всё в точности как в сновидении. Макробий трактовал этот сон как напоминание власть имущим о том, что мирская слава неважна – по слову Иисуса: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют» (Мф. 6:19). Его комментарий и карта наглядно показывали, сколь мало человечество. А изображение всего мира вполне сочеталось с религиозной идеей трансцендентного, возможности оставить тело и вознестись над землей в миг духовного прозрения, чтобы убедиться, насколько люди малы в масштабах космоса. Антиподы же заняли свое место на средневековых картах, несмотря на рекомендацию Августина удовлетвориться поиском сынов Адама «в среде тех человеческих народов, которые представляются разделенными на семьдесят два племени и семьдесят два языка»[57].
Августин отсылает нас к родословной в книге Бытия. У Ноя было три сына, Сим, Хам и Иафет, после Великого потопа они стали родоначальниками семидесяти двух народов. Принятое в античности разделение мира на три части легко укладывалось в христианские представления, согласно которым сыновья Ноя расселились по трем частям света: Сим отправился на восток и стал основателем азиатских народов, Хам двинулся на юг, в Африку, а Иафет дал начало народам на западных берегах, в том числе и европейцам. Исидор к этому добавил среди прочего и то, что сын Иафета Магог стал прародителем готов, а значит, и скандинавского племени гётов. Впрочем, это едва ли не единственное упоминание о Скандинавии в его географии. О ней говорится лишь в главе об островах, наряду с Великобританией, Ирландией и Горгадами – архипелагом, где живут крупные, волосатые и крылатые женщины:
Ультима Туле – остров в северо-западной части Океана, за Британией. Он получил свое имя от Солнца, потому что именно там наблюдается летнее солнцестояние, а за этим островом солнечного света больше нет. И потому море там сковано льдами.
Этимологиями пользовались как справочником в последующие девять столетий. В средневековых библиотеках это была одна из самых востребованных книг: до наших дней дошла почти тысяча ее рукописных списков, и мы можем не сомневаться, что Снорри ее наверняка читал. В начале IX века эту книгу можно было найти во всех культурных центрах Европы. На нее ориентировались, когда писали и издавали аналогичные книги в разных странах.
На обложке одного из изданий Этимологий помещена карта, содержащая географические сведения. Книга датируется IX веком, однако карту ряд исследователей относят к концу VII или началу VIII века, и в таком случае это старейшая из известных нам средневековых карт. Картой ее можно назвать весьма условно, она скорее напоминает ученический набросок, сделанный во время урока. Однако по ней видно, в каком направлении развивалась картография. Азия отмечена именем Сима, Африка – Хама, Европа – Иафета; вверху восток, Средиземное море простирается снизу вверх, где разветвляется на реки Нил, текущий на юг, и Дон, устремленный на север, а надо всем восседает Иисус со стигматами на руках, воздетыми над земным шаром в знак того, что он защищает его.
Религиозный поворот еще более очевиден в карте, которую испанский священник Беат Лиебанский начертил для книги о грядущем апокалипсисе: когда он начинал работу, неумолимо приближался 800 год от Рождества Христова. Это был 6000 год от сотворения мира, и богословы того времени ожидали наступления Судного дня. Они исходили из того, что каждое тысячелетие соответствовало одному из шести дней, которые понадобились Богу для творения, следовательно, на приближавшееся седьмое тысячелетие приходился седьмой день, когда Бог победит Сатану, осудит живых и мертвых на ад или рай, и в мире наступит вечное воскресенье.
Беат подсчитал все годы, указанные в Библии, от сотворения мира до Потопа, от Ноя до Авраама, от Авраама до царя Давида, от Давида до Вавилонского пленения, от Вавилона до рождения Иисуса, и пришел к выводу, что наступил 5987 год от сотворения мира. До конца света оставалось тринадцать лет. Его карта должна была иллюстрировать библейскую историю от начала творения до Судного дня. Рай с Адамом и Евой он поместил на востоке, где началась история, а двенадцать апостолов – в тех областях, где они, согласно легендам, проповедовали: Матфея в Македонии, Фому в Индии, Симона в Египте, Иоанна в Испании, показывая этим, что Судный день настанет, когда все народы примут христианство.
Августину и Орозию принадлежит идея истории, движущейся с востока на запад. Творение началось далеко на востоке, но история после грехопадения двигалась всё дальше и дальше на запад – от Вавилонской, Ассирийской и Македонской империй до империи Римской, завоевавшей Испанию, Францию и Британию, самые западные форпосты мира, земли, за которыми солнце садится в море. Дальше двигаться некуда. Поэтому история должна скоро закончиться.
Драконы в дальней, западной, части карты в английском молитвеннике вполне укладываются в эту историческую концепцию. Беат был первым, кто проиллюстрировал ход истории картой. Он взял за основу римскую карту и просто наложил на нее библейскую историю, тем самым положив начало новой картографической традиции, отсылающей нас к Слову Божьему, к Вавилонской башне, Ноеву ковчегу, Красному морю, Тивериадскому озеру, распятию Христа и Судному дню. Начиная с IX века библейская история на картах дополнялась светской информацией о других народах, животном и растительном мире, а также древними легендами. Карты становились иллюстрированными энциклопедиями. Неграмотные люди получали визуальное представление о средневековой науке, рассматривая карты в церквях, молитвенниках и учебниках.
Лишь немногие картографы могли продемонстрировать новые географические познания, обретенные во время странствий. По мере того как приходила в упадок инфраструктура, созданная в Римской империи, европейцам становилось всё труднее путешествовать, рассказы же о плаваниях скандинавов редко доходили до ученых картографов-латинян на континенте. Странниками в то время были главным образом миссионеры, паломники, крестоносцы и немногочисленные купцы. Мало кто решался путешествовать ради самого путешествия. В величайшем литературном памятнике Средневековья Божественной комедии Данте Алигьери (1265–1321), в этом богословском «путеводителе» по аду, чистилищу и раю, мы встречаем греческого мореплавателя Одиссея в аду. Он рассказывает, что в свое последнее путешествие отправился, чтобы исследовать мир. Он поплыл на запад, в неисследованные морские просторы, через Гибралтарский пролив, «где Геркулес воздвиг свои межи, чтобы пловец не преступал запрета», воззвав к своим спутникам: «Подумайте о том, чьи вы сыны: вы созданы не для животной доли, но к доблести и к знанью рождены»[58]. Впрочем, Данте не очень сочувствовал Одиссею и его тяге к знаниям – он видел в ней проявление тщеславного любопытства. Лишь к концу XIII века на европейских картах стали регулярно появляться сведения, почерпнутые из рассказов очевидцев.
С. 84–85 Три части Каталонского атласа 1375 года, отреставрированного в 1959 году. Атлас был, по всей видимости, составлен еврейским картографом Авраамом Крескесом на Майорке. Карта воспроизведена неправильно: ее следует читать с востока на запад. Норвегия – каменная россыпь далеко на севере, то есть внизу.
Оттар из Холугаланда последовал примеру Одиссея: он подался на край света исключительно для того, чтобы посмотреть, каково там. Где-то в конце IX века он отправился в плавание, желая забраться как можно дальше на север. Через несколько лет он рассказал о своем путешествии королю Уэссекса Альфреду Великому. Рассказ королю понравился, он велел записать его и присовокупить к англосаксонскому переводу Истории Павла Орозия, в которой мир описывался только к югу от Альп:
Охтхере[59] сказал своему господину, королю Альфреду, что он живет севернее всех норманнов. <…> Он сказал, однако, что страна эта простирается очень далеко на север оттуда, но она вся необитаема, за исключением нескольких мест, [где] то тут, то там живут финны, охотясь зимой, а летом ловя рыбу в море. Он сказал, что однажды захотел ему узнать, как далеко на север лежит эта земля и живет ли кто-нибудь к северу от этого необитаемого пространства. Тогда он поехал прямо на север вдоль берега, и в течение трех дней на всём пути оставлял он эту необитаемую землю по правую сторону [от корабля], а открытое море – по левую. И вот оказался он на севере так далеко, как заплывают только охотники на китов. Тогда он поплыл дальше прямо на север, сколько мог проплыть [под парусом] за следующие три дня. А там, то ли берег сворачивал на восток, то ли море врезалось в берег – он не знал[60].
Оттар доплыл до Белого моря и вернулся домой. Он говорил Альфреду, что «земля норманнов очень длинная и очень узкая», и «на востоке[61] земля эта шире всего, а чем ближе к северу, тем уже». К югу за ней, по другую сторону гор, лежала земля свеев (Свеоланд), а на севере – земля квенов (Квенланд). Оттар был купцом и часто бывал на юге, в торговом поселении Скирингссаль. Оттуда он плавал в датский порт Хедебю, где обменивал меха на ткани и предметы роскоши:
И из Скирингссаля, он сказал, плыл в течение пяти дней до того порта, который этот человек называл Хэтум (Хедебю), что находится между вендами, саксами и англами и принадлежит данам. Когда он туда плыл из Скирингссаля, тогда была у него по левому борту Дания, а по правому борту открытое море три дня; и потом, за два дня до прибытия в Хэтум, у него по правому борту была Готландия [Ютландия], и Зеландия, и острова многочисленные. По тем землям живут англы, когда-то они сюда пришли. И были у них тогда два дня по левому борту острова, принадлежащие Дании[62].
На этом заканчивается старейшее из сохранившихся описаний северной окраины Европы. В нем мы встречаем и самое древнее из датированных и задокументированных названий Норвегии – Norðweg. Более ста лет спустя неизвестный британец составил карту мира, отчасти сведя в ней воедино географические сведения Орозия и Оттара. Это так называемая Cottoniana, или Англосаксонская карта, с явственно «северным акцентом», где нанесены, хотя и не очень точно, скандинавские земли Neronorweci, Island, Dacia и Gothia.
Приняв христианство, а заодно и латынь, северные страны тесно связали себя с остальной Европой. Первоначально, до того, как были основаны архиепископства в Лунде, Нидаросе и Упсале, Скандинавия находилась в юрисдикции Бремена и Гамбурга, и примерно в 1070 году северогерманский схоластик Адам Бременский написал Деяния архиепископов Гамбургской церкви. Эта книга дает наиболее полное описание ранней скандинавской истории и географии на латыни. О Норвегии, в частности, сообщается следующее:
Поскольку Норманния является крайней провинцией круга земного, то и мы соответственно отводим ей место в самом конце книги. <…> Она берет начало у скалистых мысов того моря, которое обычно называют Балтийским. Затем ее хребты поворачивают на север и ведут свои изгибы вдоль берега ревущего океана, заканчиваясь в Рифейских горах, где и угасает изможденный мир[63].
Архиепископство в Нидаросе было основано в 1154 году. Примерно тогда же появилась Historie Norwegie – анонимный текст на норвежском языке о Норвегии и северных землях. Кратко сообщив, что Норвегия обширна, но большей частью необитаема из-за обширных лесов, гор и сильного холода, автор раскрывает ее местоположение:
Она начинается на востоке у реки Гёта-Эльв и тянется на запад, образуя с северной стороны дугу. Эта земля изобилует бухтами и выдается в море бесчисленными мысами. Она разделена на три пояса, населенных людьми. Первый и самый обширный – прибрежный, второй поуже – горный, он называется Оппланд и простирается вглубь суши, а третий – лесной, в нем живут финны, но землю они не возделывают. На западе и севере ее омывает бурное море, на юге находятся Дания и Балтийское море, а на востоке – Свитьёд, Гаутланд, Онгерманланд и Емтланд.
Приняв христианство, состоятельные скандинавы и исландцы отправляли своих отпрысков на континент учиться. Многие из вернувшихся домой привозили с собой как списки, так и приобретенные книги на латыни, и значительная часть из них переводилась на исландский. С XII века до нас дошла книга Landafræði (География), явно написанная под влиянием Исидора и других латинских авторов: «Рай находится на востоке мира. <…> Потом Ной разделил мир на три части между своими сыновьями и дал названия каждой части в мире, которая до того не имела имени. Он назвал одну часть мира Азией, другую – Африкой, а третью – Европой»[64]. Географические корни этой книги легко прослеживаются по содержащимся в ней сведениям о северных землях: «Норвегией называется [государство], протянувшееся с севера от Вэгистава (там – Финнмарк, это около Гандвика[65]) на юг до реки Гаутэльва. Границы этого государства: Гандвик – на севере, а Гаутэльв – на юге, Эйдаског – на востоке, а пролив Энгуль – на западе. Главные города Норвегии таковы: Каупанг в Трандхейме, там покоится святой конунг Олав, другой – Бьёргине в Хордаланде, там покоится святая Суннива, третий – на востоке в Вике, там покоится святой Халльвард, родич конунга Олава»[66].
Мыс Вэгистав (Вегистафр), по которому проходила северная граница древнего норвежского королевства, это, по всей видимости, мыс Святой Нос на Кольском полуострове на западном побережье Белого моря, а Энгуль (Энгельсёйсунд) – пролив Менай между островом Англси и Уэльсом. Иными словами, предполагалось, что Норвегия простиралась до западного побережья Великобритании. Автором книги был, вероятно, Николас Бергссон, первый аббат бенедиктинского монастыря, основанного в Мункатвера на севере Исландии около 1155 года. Его же перу принадлежат и путевые заметки под заголовком Leiðarvisir (Дорожник), в которых рассказывается о поездке из Исландии в Иерусалим.
Николаc отправился сначала в Норвегию, оттуда в Данию, а затем пересек по суше всю Европу. «Ездившие в Рим сообщают, что от Алаборга два дня езды до Вебьярга (Выборг). <…> Таков другой путь в Рим из Норвегии: через Фризию в Девентар (г. Девентер) или Трект (г. Утрехт), и там они получают посох и суму и благословение на паломничество в Рим»[67]. Из Рима он направился в Бриндизи, оттуда на корабле – в Венецию, Грецию, Турцию и на Кипр, после чего высадился в израильском порту Акко, откуда взял курс на Иерусалим, «самый знаменитый из всех городов мира»[68]. Отправившись в это путешествие, Николаc противопоставил себя остальным бенедиктинцам, которые, поступая в монастырь, давали обет оседлости, или stabilitas loci. Однако чтение путевых заметок о паломничестве в Святую землю позволяло монахам совершать мысленное паломничество – peregrinatio in stabilitate. Для этой цели около 1250 года Матвей Парижский, британский монах-бенедиктинец, составил особую карту. Она занимает несколько страниц в книге, листая которую монах мог «путешествовать» из своего монастыря в Лондон, Дувр, Кале, Париж, Рим, в порт Отранто, где всходил на корабль и отправлялся пилигримом в Святую землю и Иерусалим, не вставая из-за стола.
Книги, подобные Географии и Дорожнику, появились на заре скандинавской письменности и литературной культуры, когда формировался ее носитель – древнеисландский язык, на котором позднее будут написаны саги. Исландская письменность складывалась на стыке скандинавской и европейской культур, взаимно обогащавших друг друга. В такую эпоху и в такой среде возрастал Снорри Стурлусон.
Закончив повествования о скандинавской мифологии и скальдическом искусстве, Снорри приступил к большой работе – книге о норвежских королях. Уже в Эдде он сообщал, что жители Азии, по сравнению с остальными людьми, «выделяются всеми дарованиями: мудростью и силой, красотою и всевозможными знаниями», а вождь Трои (Один) отправился на север и положил начало нынешним королевским династиям. Теперь он более подробно рассказывает их историю и происхождение. Королевские саги начинаются с пространного описания мира:
Круг Земной, где живут люди, очень изрезан заливами. Из океана, окружающего землю, в нее врезаются большие моря. Известно, что море тянется от Нёрвасунда до самого Йорсалаланда. От этого моря отходит на север длинный залив, что зовется Черное море. Он разделяет трети света. Та, что к востоку, зовется Азией, а ту, что к западу, некоторые называют Европой, а некоторые – Энеей. К северу от Черного моря расположена Великая, или Холодная Швеция. Некоторые считают, что Великая Швеция не меньше Великой Страны Сарацин, а некоторые равняют ее с Великой Страной Черных Людей. Северная часть Швеции пустынна из-за мороза и холода, как южная часть Страны Черных Людей пустынна из-за солнечного зноя[69].
Не все топонимы у Снорри понятны современному читателю. Нёрвасунд – это Гибралтар, а море, которое достигает Йорсалаланда, страны, где находится Иерусалим, – Средиземное море. К северу от Черного моря находится Россия, но Снорри прибегает к древнему названию Швеции, Свитьод, вместо Гардарики, как обыкновенно именовали Россию в сагах. Возможно, он перепутал Свитьод с греческой Скифией, царством, которое в античные времена существовало в юго-восточной части России. Великая Страна Сарацин – это земли, простирающиеся от южного Ирака до Марокко, то есть арабские страны, а Великая Страна Черных Людей – остальная Африка, которую древние скандинавы называли Blåland по иссиня-черному (blåsvarte) цвету кожи африканцев.
Вслед за греком Геродотом, римлянином Плинием и отцом Церкви Исидором Снорри проводит границу между Европой и Азией по реке Танаис (Дон), но утверждает, что раньше она называлась Ванаквисль:
Она называлась раньше Танаквисль, или Ванаквисль. Она впадает в Черное море. Местность у ее устья называлась тогда Страной Ванов, или Жилищем Ванов. Эта река разделяет трети света. Та, что к востоку, называется Азией, а та, что к западу, – Европой. Страна в Азии к востоку от Танаквисля называется Страной Асов, или Жилищем Асов, а столица страны называлась Асгард. Правителем там был тот, кто звался Одином. Там было большое капище[70].
В Стране Ванов, пишет Снорри, жили ваны, боги, которые вели первую в мире войну – против Асгарда и асов. Пользуясь сходством между словом «асы», как назывались скандинавские боги, и «Азия», Снорри связывает языческую религию древних скандинавов со священной частью света и тем самым указывает на благородное происхождение норвежских правителей. По его версии, Один во время войны отправился на север, и его сын Сэминг стал прародителем норвежских королей. Снорри подкрепляет королевскую власть в Норвегии с помощью географии: он наносит на карту сведения, подчеркивающие их благородное происхождение.
Примерно в то же время к географии как средству укрепления собственной власти прибегает и английский король Генрих III, против которого в 1258 году восстали бароны. В одном из покоев Вестминстерского дворца, где расположены его спальня и зал для совещаний, он велит начертить на стене позади своего кресла большую mappa mundi как знак его власти и мудрости. Не то чтобы это сработало: пять лет спустя, в разгар войны с баронами, карту уничтожил пожар. Однако Матвей Парижский успел снять копию, и, хотя она тоже пропала, вероятнее всего, именно с нее срисована карта в молитвеннике. Огромное количество сведений на столь небольшой карте свидетельствует о том, что оригинал, с которого она списана, был крупным. На круге диаметром всего 8,5 сантиметров уместилось сто сорок пять надписей: это настоящая энциклопедия средневековых знаний.
Изображение на карте Иисуса – дань античной традиции. Он держит в руке глобус, словно римский бог Юпитер, владыка мира. Глобус разделен на три части, как и Земля под ним. Благословляющий жест, в котором безымянный и большой палец правой руки соединены, – это жест римских ораторов, таким образом показывавших, что начинают свою речь. Двенадцать ветров, овевающие Землю, носят античные имена. Северный ветер, septentrio, назван в честь семи быков (septem triones), как римляне называли семь звезд Большой Медведицы, а север именовался у них septentriones.
Чудовища в южной части мира заимствованы из книги римского писателя Гая Юлия Солина De mirabilius mundi (О чудесах света). Здесь мы видим среди прочего людоедов, обгладывающих человеческие кости, безголовых с глазами, носом и ртом на груди, одноногих с громадной ступней, людей с крошечным отверстием вместо рта, всасывающих пищу через стебель, змееедов, шестипалых и четырехглазых. К северу от Норвегии изображен остров гипербореев – народа, жившего, по представлениям греков, там, где рождается северный ветер, еще севернее от него – остров Арамфе, который греческие мифы тоже помещали далеко на севере.
В верхней части карты, то есть далеко на востоке, находится Эдемский сад. Неприступная горная цепь образует круг, внутри которого мы видим Адама, Еву и древо жизни. С горного хребта стекают четыре райских реки, а также индийский Ганг – самый восточный из известных картографу географических объектов, не считая Эдемского сада. Треть Азии предстает ареной библейских событий. К югу от Иерусалима отмечен Вифлеем, восточнее его расположено Тивериадское озеро с большой рыбой в центре – напоминание о том, что именно здесь Иисус накормил пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами. В Армении мы видим гору Арарат, где остановился Ноев ковчег, а на юго-востоке – увеличенную версию того места Красного моря, где его форсировали Моисей с израильтянами.
Перелистнув последнюю страницу карты в молитвеннике, мы обнаруживаем новую карту – круглую текстовую карту, разделенную на три континента, с названиями всех основных королевств и городов Африки, Азии и Европы. Эти две карты дополняют друг друга и помогают любознательному читателю изучать географию. Рисованная карта дает упрощенное представление о нашем месте во Вселенной, в мире и библейской истории, тогда как текстовая карта содержит топонимы, которые следует запомнить.
Традиция mappa mundi достигла своего расцвета в английской Херефордской карте, созданной около 1300 года. На ней, как и на карте в молитвеннике, тоже круглая Земля с Иерусалимом в центре и странными существами, обитающими по окраинам, включая людей с собачьими головами неподалеку от Noreya (Норвегия), где мы видим первое в мире изображение лыжника – но она и гораздо крупнее, и намного содержательнее. Херефордская карта мира начертана на большом куске телячьей кожи размером 159×133 сантиметра, и на ней запечатлены Эдем, Ноев ковчег, Вавилонская башня, Моисей на Синайской горе, получающий десять заповедей, Красное море, Мертвое море, Иордан, Иерихон, Содом и Гоморра, Лотова жена, превращенная в соляной столб, Масличная гора, распятие и – надо всем – воскресший Иисус, знаменующий наступление Судного дня. Два ряда людей слева и справа от Иисуса символизируют тех, кому вынесен приговор. Херефордская карта – это театр мира, в котором разворачивается вся история от начала до конца.
Одна из самых красивых карт мира – карта Мауро, датированная 1460 годом. Во многих отношениях она символизирует конец эпохи средневековой библейской картографии и начало современной научной картографической традиции. Так, Фра Мауро, автор карты, не поместил Эдем где-то на востоке, поскольку точно знал, что его там нет – он читал Путешествие Марко Поло. Поэтому рай остался за пределами карты.
Параллельно с mappa mundi, обыкновенно украшавшими стены дворцов и соборов, молитвенники, учебники и географические труды, в европейском Средневековье распространялись и карты другого типа – морские карты, или портулáны, на которых с поразительной точностью изображались береговые линии Средиземного, Черного морей и Атлантического океана к северу и к югу от Гибралтара. Их составителей мало интересовала суша, почти все нанесенные на карты топонимы – это прибрежные города, а реки обозначены только в их устьях. Здесь также отсутствуют характерные для карт мира религиозные мотивы, сведения из истории, этнографии и зоологии. На морских картах географическая информация сугубо утилитарна. Самый древний из сохранившихся портуланов – прямоугольная Пизанская карта, датируемая приблизительно 1275 годом. Она, как и две другие карты того же времени, настолько искусна, что естественно предположить: до них существовало множество им подобных. Но морские карты подвергаются всевозможным превратностям – они пропитываются соленой водой, падают за борт.
На Пизанской карте отмечено девятьсот двадцать семь географических объектов от Ливана на востоке до Марокко на юге и Англии на западе. Западнее Сардинии изображена роза ветров, к югу от Родоса – еще одна, от них прочерчено множество линий, указывающих направления ветров и маршруты плаваний. Кроме того, на карте задан масштаб, помогающий определять расстояния. Карты не имели какой-то конкретной ориентации: все топонимы нанесены под прямым углом к берегу, и, чтобы читать карту, штурману по мере продвижения по маршруту приходилось ее поворачивать.
Пизанская карта была, скорее всего, создана не в Пизе, а в Генуе, поскольку там жили многие картографы, и именно с генуэзскими кораблями связано первое упоминание о морской карте. Не вполне понятно, кто и как мог ее начертить. Кто исследовал все эти берега, какими пользовался инструментами, и как удалось собрать всю эту информацию на одной карте? По одной из версий картограф объединил несколько региональных карт, что объясняет, почему масштаб некоторых участков Средиземного и Черного моря на более поздних картах заметно отличается. В начале XIV века кому-то пришла в голову мысль соединить разные морские карты, и так появился первый морской атлас. Он гораздо удобнее в пользовании, чем длинная карта, которую приходилось всякий раз сворачивать и разворачивать, к тому же атлас лучше сохраняется и долговечнее. Кроме того, он позволяет сделать карты более подробными.
Постепенно морские карты стали оказывать существенное влияние на карты мира: не помогли даже жалобы итальянского духовенства на то, что на них не показано самое важное в мире. Купеческое сословие, которое в Средневековье презирали, поскольку купцы не работали, не воевали и не служили Господу, численно возросло, особенно в северных итальянских городах-государствах, и не жалело денег на составление светских карт для своих насущных потребностей. Под воздействием морских карт и mappa mundia становятся более подробными и менее схематичными.
Но и карты мира в свою очередь влияли на портуланы: их улучшали и расширяли по мере того как итальянцы, испанцы и португальцы путешествовали всё дальше и всё чаще; в конце концов на морских картах появились удаленные от побережья города, горы и реки. На карте 1339 года есть изображения африканского царя, правительницы Аравии царицы Савской, значительной части Африки на юге и Азии на востоке, есть и пояснительные тексты, как на картах мира. Судя по декоративным элементам, морские карты перестали служить чисто утилитарным целям, они также получили статус символов образованности и власти.
Самым роскошным из атласов считается Каталонский 1385 года – дар арагонского короля французскому королю, состоящий из шести листов пергамента, разрезанных пополам и натянутых на деревянные щиты. Первые два содержат географические и астрономические пояснения и диаграммы, а сама карта разверстана на последних четырех листах, представляя известный и малоисследованный мир от Канарских островов на западе до Суматры и Китая на востоке, от Норвегии на севере до Сахары на юге. Карта щедро украшена сусальным золотом и рисунками городов, животных, королей и флагов. Норвегия (Regió de Nuruega) соседствует с Швецией (Suessia) и Данией (Dasia), со всех сторон окружена горами, здесь мы читаем: «Норвегия очень суровая, очень холодная, гористая, дикая и лесистая страна. Жители ее питаются больше рыбой и мясом, чем хлебом; из-за постоянных холодов зерно здесь растет плохо. Животные водятся в изобилии: олени, белые медведи и охотничьи соколы».
В середине XV века в Венеции монах Фра Мауро как-то разговорился с капитаном корабля, некогда потерпевшим крушение у норвежского побережья. В начале лета 1431 года Пьетро Кверини отплыл с Крита, направляясь в Брюгге, город на территории нынешней Бельгии. Его трехмачтовое судно было загружено вином и пряностями. В Атлантическом океане корабль попал в жестокий шторм и потерял управление. Спасаясь на шлюпке, экипаж несколько недель боролся с бурей, холодом и голодом, пока в самом начале нового 1432 года шлюпку, в которой находился Кверини и еще одиннадцать выживших, не прибило к берегу близ Рёста, одного из островов Лофотенского архипелага. Три месяца их выхаживали местные жители. Вернувшись домой, Кверини написал книгу I paradisets første krets (В первом круге рая), в ней он в полной мере воздал должное гостеприимству северонорвежских рыбаков. Теперь он слыл опытнейшим мореходом – i marinari experti – и был среди тех, с кем Фра Мауро беседовал, работая над большой картой мира.
Фра Мауро обитал и трудился в монастыре Сан-Микеле на одном из многочисленных венецианских островов. Он был картографом, и монастырь оплачивал все расходы на материалы и краски. Ранее он нанес на карту территорию нынешней Хорватии, а в 1449 году по заказу венецианских властей составил карту мира.
Будучи благочестивым монахом, Фра Мауро хорошо разбирался в символике средневековых карт, кроме того, он жил в городе, куда постоянно стекались новые сведения о мире. Открытия ставили под сомнение вечные, священные истины.
Тем не менее Фра Мауро в полном соответствии с традицией начал с того, что начертил на большом листе пергамента круг. Внутри него он изобразил три континента – Африку, Азию и Европу, – но гораздо более подробно, чем на mappa mundi. Он срисовывал береговые линии в точности так, как они нанесены на новейших морских картах и, вероятно, ориентируясь на арабских картографов, поместил вверху карты юг, а не восток.
За пределами карты он добавил рисунки и комментарии, которые проясняют некоторые особенности космографии. В верхнем левом углу изображены небесные сферы вокруг Земли, среди них Солнце, Луна, пять планет и звезды. В правом верхнем углу мы видим орбиту, по которой Луна вращается вокруг Земли, в правом нижнем углу – круглую карту с тремя климатическими зонами, а внизу слева – Эдемский сад.
По мере того как всё дальше открывался восток, не в последнюю очередь благодаря выходу в свет около 1300 года книги о путешествиях Марко Поло, местоположение райского сада становилось для картографов всё более затруднительным. Некоторые переместили Эдем в Южную Африку, где еще оставалось много неисследованных земель, Фра Мауро предпочел вынести его за пределы карты. В сопроводительном тексте рядом с рисунком он называет его paradiso terrestrio, земным раем, отсылая к Августину, который, как и Исидор, верил, что рай находится где-то на земле. Однако Фра Мауро не помещает Эдем там, где, насколько ему известно, его нет. «Изгнание» рая с карты он сочетает с ортодоксальным текстом, связывая новую географию со старыми истинами.
С подобной же проблемой он сталкивается и при определении местоположения Иерусалима. Новые знания о восточных землях и тут портят картину: известный его современникам Восток простирается так далеко, что Иерусалим оказывается гораздо западнее центра мира. Фра Мауро решает эту проблему, объясняя, что Иерусалим не находится в центре мира, если ориентироваться по долготе, но если исходить из плотности населения и того, что Европа населена намного гуще, чем Азия, то, несомненно, Иерусалим есть центр обитаемого мира.
Святая Земля в Азии у Мауро выглядит куда мельче, чем на предыдущих mappa mundi. Он поясняет это на карте: «Знающие люди сами разместят здесь, в Иудее – Палестине и Галилее, – то, что я не показываю, например, реку Иордан, Тивериадское озеро, Мертвое море и многое другое, для чего мне не хватило места».
Фра Мауро отдает предпочтение географии всякий раз, когда она расходится со старыми истинами. По поводу реки Танаис он замечает, что ее нельзя и далее принимать за границу между Европой и Азией, поскольку она течет большей частью по Европе, «о чем я знаю от надежных людей, видевших это воочию». То же и в отношении диковинных существ на краю света. Фра Мауро признаёт, что «многие космографы и ученые мужи пишут, будто в Африке <…> есть много дивных людей и животных», но сам он еще не встретил «ни одного человека, который подтвердил бы написанное», и поэтому он предоставляет разобраться в этом другим.
Карта мира Фра Мауро отражает географическую сумятицу той эпохи. Вина за это лежит не только на Марко Поло. В начале XV века европейцы наконец получили доступ к птолемеевой Географии, переведенной на латынь. На титульном листе атласа, содержащего три карты, надписано: «Andrea Biancho de Veneciis med fecit, M CCCC XXXVI» («Создано мной, Андреа Бьянко из Венеции, в 1436 году»). Первая из карт составлена по птолемеевым координатам, вторая – классическая mappa mundi с изображением Адама и Евы, людей с песьими головами и царей, а третья – морская карта, охватывающая пространство от Канарских островов на западе до Черного моря на востоке, от Нила на юге до Норвегии на севере. Бьянко, моряк и капитан корабля, ничего не написал об этих картах, но уже то, что он поместил их рядом под одной обложкой, указывает на великий вопрос картографии XV века: как изображать мир на карте? Фра Мауро попытался совместить птолемеевы координаты, mappa mundi и портулан. Он честно признаёт, что могут быть недовольные тем, как он недостаточно строго следовал Птолемею – ни в отношении формы карты, ни в отношении рассчитанных широт и долгот, – но добавляет, что Птолемей не говорит ничего определенного о тех частях света, до которых редко добирались путешественники.
Зато теперь в поисках товаров европейцы бороздили вдоль и поперек Азию на востоке, Атлантический океан на западе и Африку на юге, на карты наносились новые земли и береговые линии, и северные страны обретали более четкие очертания. На карте Фра Мауро они уже вполне узнаваемы. Дания отделена от континента и стала островом, сохранив, однако, правильную форму, тогда как Норвегия и Швеция – полуостров, вытянутый с юга на север. «В этой части Норвегии, как всем известно, Пьетро Кверини сошел на берег», – такой комментарий поместил он у норвежского побережья.
Фра Мауро не раз менял свое мнение за те несколько лет, что работал над картой: многие из более чем двухсот пояснительных текстов записаны на кусочках пергамента, наклеенных поверх прежних записей. Возможно, он приклеивал их уже после того, как закончил карту, когда получал новые сведения от путешественников, с которыми постоянно общался; а может быть, карта так и не была закончена, потому что она датирована 1460 годом, спустя год после смерти Фра Мауро. Вот его последнее напутствие тем, кто будет смотреть карту:
В этой работе <…> я не достиг всего, к чему стремился, ибо человеческому уму без божественной помощи не под силу проверить всё в космографии или мировой картографии, посему собранные здесь сведения скорее пробудят аппетит, нежели утолят голод.
Фра Мауро и не смог бы закончить свою карту, ведь он имел дело с устаревшей ее формой, а она трещит по всем швам. Новые географические открытия на востоке и западе привели к тому, что уместить земной шар на круглой карте стало невозможно, не уменьшив масштабы уже исследованного мира. Почти через две тысячи лет после того, как Демокрит раскритиковал круглые карты мира, до европейцев тоже начало доходить, что карты должны иметь продолговатую форму. А тридцать три года спустя после смерти Фра Мауро были открыты новые земли – на сей раз далеко-далеко на западе.
Средневековье часто представляют как разрыв с античностью. Однако история картографии свидетельствует о том, что оно хранило древние знания и так или иначе опиралось на них. Отцы Церкви последовали призыву Августина «ограбить египтян», то есть пользоваться открытиями греков и римлян, в том числе и для того, чтобы составлять карты, соответствовавшие их мировоззрению, в центре которого должно было находиться священное. В итоге появились карты с огромным количеством географических, богословских, исторических и этнографических сведений, но в путешествии практически бесполезных. В отличие от научно-умозрительных греческих и сугубо практических римских карт, средневековые европейские карты были в основном богословскими, назидательными и нарративными. Позднее насущные потребности подтолкнули европейцев к созданию нового типа карт – портуланов, изобретенных итальянскими купцами-путешественниками и подхваченных португальцами, испанцами и голландцами, когда развитие кораблестроения и жажда обогащения положили начало эпохе великих географических открытий.
Первый атлас
Антверпен,
Бельгия
51º13’6” с. ш.
4º23’53” в. д.
С. 99 Фрагмент карты герцогства Брабант, в которое входили территории современной Бельгии и Нидерландов, в том числе Антверпен – родина Абрахама Ортелия. Карта опубликована в его книге Театр мира, изданной в 1570 году.
Анна Ортель проводит кистью светло-зеленую полосу по лесной чаще. Затем раскрашивает в светло– и темно-коричневые цвета равнинные области Брабанта, Фландрии, Голландии. Двумя оттенками синего обозначена вода: светлым – бескрайний океан, более темным – реки, озера и прибрежная акватория. Корабли она рисует коричневым и темно-желтым. Затем обмакивает кисть в красную краску, чтобы расцветить один за другим города: Брюссель, Утрехт, Лёвен, Остервейк, Амстердам, Делфт, Эйндховен и наконец ее родной Антверпен, который в 1570 году стал самым богатым городом в мире благодаря судоходной реке Шельде. Важность этого торгового водного пути отмечена на пятиметровой карте, составленной в 1486 году. В Антверпене испанцы и португальцы закупали медь и серебро, добытое в южно-немецких шахтах, и перевозили в Индию и Африку, где обменивали на специи, рабов и слоновую кость. Сюда привозили ткани из Англии, вышивку из Фландрии и скорняжные изделия из Германии, а сам город экспортировал предметы роскоши – стекло, ювелирные украшения и гобелены.
Антверпен во времена Анны Ортель – космополитичный город, на его улицах и в гавани, где ежегодно причаливало более двух с половиной тысяч торговых судов со всего света, звучали нидерландский, английский, французский, итальянский, идиш, португальский, испанский и немецкий, а также африканские и восточные языки. Товарооборот был настолько велик, а погрузочные краны в порту так многочисленны, что в Антверпене образовалась собственная гильдия крановщиков. От гавани расходилась сеть каналов, которые вели к многочисленным городским складам, а оттуда – ко всем поселениям брабантского герцогства. Сходство с Александрией, какой она была 1500 лет назад, поразительное. Оба города – средоточия торговли, проявлявшие огромный интерес к географии и окружающему миру. Антверпен не мог похвастаться крупной библиотекой или знаменитыми интеллектуалами, но это компенсировалось большим количеством типографий, книжных магазинов и издательств. С тех пор как Иоганн Гутенберг начал печать книги в 1450-х годах, книжный рынок развивался так стремительно, что потребность в библиотеках была невелика. «Князь гуманистов» Эразм Роттердамский говорил о своем друге-печатнике, что тот создает библиотеку, границы которой – весь мир. Типографии тогда сочетали в себе библиотеки, книжные магазины, издательства, мастерские и места встреч ученых всевозможных профилей. Большинство антверпенских типографий сосредоточилось на улице Камменстраат, в том числе De gulden passer (Золотой циркуль), крупнейшая и одна из самых известных типографий в Европе, которая занимала семь соседних домов – настолько масштабной была ее деятельность.
Анну Ортель назвали в честь матери, которая и научила ее раскрашивать карты. Ее дед приехал в Брабант из немецкого Аугсбурга, прослышав об открывающихся в Антверпене многочисленных возможностях. И преуспел: семья Ортель заслужила уважение горожан. Отец Анны, Леонард, торговал антиквариатом и унаследовал от своего отца склонность к богословствованию. Родители Анны формально находились в лоне католической церкви, как и Антверпен, в то время подчинявшийся испанской короне; тем не менее они, как и многие горожане, сочувствовали протестантам. В 1535 году Леонарду пришлось бежать из города, поскольку он способствовал публикации английского перевода Библии реформатора Майлса Ковердейла.
Карл V, король испанский и император Священной Римской империи, протестантов не жаловал. Инквизиция усердно сжигала и книги, и еретиков. Пока Леонард был в бегах, его жена и дети оставались в Антверпене; однажды к ним в дом нагрянули с обыском, надеясь найти запрещенные еретические книги, но так и не нашли. Старшему брату Анны, Абрахаму, исполнилось восемь лет.
Его отец умер через четыре года. Мать продолжала, и довольно успешно, распоряжаться антикварной лавкой; она же учила Анну, Абрахама и их младшую сестру Элизабет раскрашивать карты, которыми среди прочего торговал некогда их отец. К тому же у юного Абрахама обнаружился изрядный интерес к географии. Спрос на карты в Нидерландах в то время был огромный, и он рос вместе с бурной международной торговлей, даже устаревшие карты раскупались мгновенно. Цены удовлетворяли самым разным запросам. В интерьере картин многих художников той эпохи мы видим карты на стенах как у богатых бюргеров, так и у сапожников. Голландцы всё больше жаждали цветных карт.
Абрахам и его сестры покупали черно-белые карты, наклеивали их на льняную ткань, которую натягивали на деревянную раму, чтобы можно было повесить на стену. Затем они раскрашивали их и продавали книготорговцам, издателям и другим частным лицам. Цветная карта обычно стоила дороже черно-белой на треть. При этом учитывались пожелания заказчика: если он хотел, чтобы его родной город был окрашен розовым, что ж, таким он и становился. Чаще, однако, цветом передавали определенную информацию. Уже в 1500 году немецкий картограф Эрхард Эцлауб рекомендовал обозначать разными цветами языки, на которых говорили в тех иных землях. Впрочем, сам Абрахам с годами явно стал отдавать предпочтение нераскрашенным картам. Своему племяннику Якобу в письме, датированном 1595 годом, он писал: «Ты просишь у меня цветную копию; на мой вкус, нецветная куда лучше, но решай сам».
Вероятно, из-за того, что Абрахам вынужден был с детских лет работать, он так и не получил образования. Несомненно, Леонард готовил его к университету и свою лепту внес, научив сына латыни и греческому, но Абрахаму, по словам его друга, вспоминавшем о нем в письме после его смерти, «помешали обстоятельства, ему пришлось заботиться об овдовевшей матери и обеих сестрах». Должно быть, Лёвенский университет, находившийся менее чем в тридцати километрах, один из двух университетов во всей Европе, где обучали картографии, представлялся одновременно и близкой, и недостижимой мечтой. Еще один друг Ортелия писал, что Абрахам «занимался [математикой] самостоятельно, без учителей или наставников, и усвоил ее исключительно благодаря своему упорству и прилежанию, вызывая восхищение у окружающих, а со временем постиг и величайшие тайны этой науки».
Какие книги он мог читать? В то время картографию в Лёвенском университете преподавал профессор Фризиус Реньер Гемма. Он был сиротой и калекой, которого воспитала в крайней нужде мачеха. По счастью, его приняли в университет на место, предназначенное для талантливых, но бедных учеников. И свой шанс он не упустил – стал астрономом, математиком, кроме того, врачевал и мастерил астрономические инструменты, а в 1530 году изготовил глобус. В качестве приложения к глобусу Фризиус издал книгу De principiis astronomiae et cosmographiae (Основы астрономии и космографии). Три года спустя он написал небольшую книжку о геодезии. Обе книги печатались в Антверпене – европейской столице картографии, где выходило множество работ по географии, и вполне возможно, что молодой Абрахам прочитывал их от корки до корки.
Читал он и путевые заметки, труды по истории Геродота, Страбона, книгу о путешествиях Марко Поло, а также Руководство по географии Птолемея. Скорее всего, это было одно из изданий, выпущенных Себастианом Мюнстером в 1540, 1542 и 1545 годах – последних в длинной серии книг, вышедших после первого перевода Географии на латынь более века назад.
Эпоха Возрождения началась в 1397 году, когда византийский грек Мануил Хрисолор прибыл во Флоренцию учить греческому языку флорентийских монахов. В течение семи столетий этот язык был практически неведом европейским ученым. Хрисолора пригласил монах Якопо д’Анджело, с которым он познакомился в Константинополе, где тот изучал греческий; именно Якопо привез во Флоренцию греческие рукописи, в том числе и Птолемееву Географию. Когда Хрисолор приступил к переводу этого труда, городских гуманитариев охватило радостное предвкушение: до сих пор до них доходили только слухи о нем и разрозненные фрагменты. Этот перевод завершил д’Анджело, пока Хрисолор путешествовал по другим городам.
В предисловии к переводу д’Анджело сообщает, что Птолемей показал нам, как выглядит мир (orbis situm … exhibuit). Он также подчеркивает, что греки дали то, чего не хватало латинской картографии – научили европейцев переносить земную сферу на плоский лист бумаги. Однако д’Анджело не обладал достаточными математическими познаниями для того, чтобы перевести довольно сложные указания Птолемея о том, как составлять проекции карт, поэтому читатели эпохи Возрождения едва ли их понимали.
Д’Анджело изменил название трактата: География стала Космографией. В Средневековье у европейцев еще не было термина, обозначавшего географию, это понятие приходилось объяснять каждый раз, когда оно встречалось в переводе: обычно его трактовали как «то, что связано с описанием мира». Некоторые римские авторы нередко употребляли в качестве синонима «географии» слово cosmographia, хотя космография описывает не только землю, но и небо. Читатель не должен забывать, замечает д’Анджело, что книга посвящена прежде всего небесным телам, ибо Птолемей определял долготы и широты, основываясь на наблюдениях за Солнцем, Луной, звездами и планетами, тем самым демонстрируя их влияние на Землю. Таким образом, д’Анджело поместил географию в традицию, в которой астрология и астрономия были двумя сторонами одной медали. Это важно для понимания того, как читали Птолемея в эпоху раннего Возрождения: его География отнюдь не в одночасье заставила европейцев по-новому взглянуть на мир. Они далеко не сразу увидели в ней новаторский научный подход к составлению карт. Они пользовались этой книгой привычным для себя образом, корректируя с помощью Птолемеевых карт и астрономических наблюдений свои представления о мире, восходящие к сочинениям Плиния и средневековым травелогам.
Мы точно не знаем, когда флорентийцы начали чертить карты, основанные на Птолемеевом списке координат. В недатированном письме начала XV века говорится, что одним из первых, кто составил такую карту, был некий Франческо ди Лапачино. «Он изготовил ее на греческом – с греческими названиями, и на латыни – с латинскими названиями, и никто прежде этого не делал». В 1423 году Поджио Браччолини купил у некоего флорентийского чиновника «несколько карт из Птолемеевой Географии».
Птолемей вернулся, когда мир начали осваивать южные европейцы. Португальцы в поисках золота отправлялись в экспедиции вдоль африканского побережья, заменив старые громоздкие корабли более легкими и маневренными каравеллами, которые могли плавать также по мелководью и руслам рек. В 1418 году два португальских корабля достигли Мадейры в Атлантическом океане, в 1427 году открыли Азорские острова, в 1434 обогнули мыс Бохадор в Западной Сахаре, известный туманами и непогодой: долгое время считалось, что южнее этого места нет обитаемых земель. Добравшись до реки Гамбии на другой стороне Сахары, португальцы нашли замену арабскому торговому пути, пролегавшему через пустыню, и получили возможность доставлять золото и рабов непосредственно в европейские порты.
Европейцы пробились в ту часть света, которую античные источники считали необитаемой из-за палящего зноя. В 1439 году во Флоренцию на церковный собор[71] прибыли делегаты из Эфиопии, и их засыпали вопросами о том, далеко ли на юг простирается их страна. Тогда же итальянец Флавио Бьондо записал: «Птолемей, которому была знакома лишь небольшая часть Эфиопии, та, что относилась к Египту, мог и не знать о землях и царствах, находящихся за ней».
На севере карта мира Птолемея не простиралась дальше мифического острова Туле на 63 градусе северной широты. В 1427 году его География добралась до ученого сообщества в Париже, и переиздавший ее кардинал Гийом Фийатр (Филластр) включил в нее карту Севера. Об этой карте Фийатр сообщал следующее: «За пределами того, что поместил здесь Птолемей, лежат Норвегия, Швеция, Россия и Балтийское море, отделяющее Германию от Норвегии и Швеции. Это же море, протянувшееся далеко на север, треть года покрывают льды. Еще далее к востоку за этим морем находится Гренландия и остров Туле. Таковы северные области вплоть до неисследованных земель. Птолемей не упоминает об этих местах, и, судя по всему, он о них не знал. Вот почему, чтобы восполнить восьмую карту, некий Клаудиус Клавус описал северные территории и изготовил их новую карту в дополнение к остальным картам Европы, и в итоге получилось вместо десяти карт одиннадцать». Карта Клавуса расширила птолемеевский мир, включив в него земли до 74 градуса северной широты.
Создателем карты Севера был Клаудиус Клавус Сварт Датчанин – Cymbricus. В 1424 году в Риме он познакомился с Птолемеевым атласом. Вероятно, здесь же он повстречал Фийатра, папского легата, отвечавшего за связи с христианскими церквами на севере, и, похоже, оба пришли к выводу, что необходимо создать карту северных земель.
Карта Клавуса изображает Скандинавский полуостров, вытянутый не с юга на север, а с запада на восток. На западе у него находится Nidrosia (Нидарос), на востоке проходит дорога из Стокгольма в Вадстенский монастырь. Таким образом, на карту нанесены два важнейших места паломничества в Скандинавии. Северное побережье Шотландии на этой карте чуть южнее Ставангера, Оркнейские острова помещены в воды между ними, а Исландия в виде полумесяца – дальше в открытом море. На западной окраине мы видим самое древнее картографическое изображение Гренландии. Однако по представлениям той эпохи она была не островом, а частью северного полярного континента, который тянется на восток, а затем отклоняется к югу, сближаясь с Россией в районе Новой Земли, которая зимой, будучи скованной льдами, могла служить перемычкой между двумя континентами.
Влияние Клавуса заметно на первой печатной карте Севера. Она вошла в издание Географии, подготовленное Николаем Германцем в Ульме в 1482 году. Правда, здесь Гренландия (Engronelant) сместилась настолько, что оказалась севернее Скандинавского полуострова. Она связана с Россией перешейком Pilappelanth, который в свою очередь соединяется с северной частью Швеции перешейком Gottia orientalis (Восточная Готия). Название Engronelant появляется вновь к северу от Норвегии, обозначенной ниже как Norbegia.
На старейшем из дошедших до нас европейских глобусов, изготовленном немцем Мартином Бехаймом в 1492 году, Гренландия тоже находится над Норвегией. Бехайм писал, что глобус сделан в полном соответствии с Географией Птолемея, но «отдаленные полуночные области (Трамонтана), лежащие за пределами описанных Птолемеем земель, а именно Исландия, Норвегия и Россия теперь нам известны, и туда ежегодно ходят суда, поэтому пусть никто не сомневается в том, что мир обозрим и прост и до каждого его уголка можно добраться на корабле, как вы можете здесь видеть».
Глядя на глобус, и вправду можно поверить, что до Азии легко доплыть из Европы. Однако Бехайм недооценивал размеры Земли и поместил Японию примерно там, где сегодня на карте мы видим Мексику. От острова Антилия[72], который, как утверждалось, находится далеко на западе в океане и населен португальцами, бежавшими туда несколько столетий назад, до побережья Японии было всего пятьдесят градусов долготы.
Христофор Колумб, в конце того же 1492 года отправившийся на запад искать морской путь в Азию, ориентировался по глобусу Бехайма. Заплыв далеко в океан на запад от Старого света, он искал Антилию там, где она должна была быть, в районе 28 градуса северной широты. В журнале он записал, что никакой Антилии не видит. Однако двенадцатого октября в два часа ночи в нескольких километрах от корабля показался освещенный лунным светом берег, и матрос Родриго де Триана закричал: «Земля!»[73]
Пятнадцать лет спустя немецкий картограф Мартин Вальдземюллер взялся за издание новой Географии. В его первоначальный замысел не входило расширять птолемеевскую картину мира, однако в руки ему попала новая морская карта генуэзца Николо Кавери, где были нанесены недавно открытые далеко на западе обширные земли, а вместе с картой и книга флорентийца Америго Веспуччи Mundus novus (Новый свет), ставшая книжной сенсацией того времени.
Веспуччи описал свои путешествия к восточному побережью Южной Америки, где «мы открыли много континентальных земель и бесчисленные острова; большая их часть была необитаемой, и о них ничего не сообщали древние писатели»[74]. Впервые утверждалось, что земли на западе – это отдельный континент, а не восточное побережье Азии, как всю жизнь полагал Колумб.
Карта Кавери и книга Веспуччи задели тщеславие Вальдземюллера. Теперь ему захотелось сделать что-то большее, чем просто переиздать Географию. Он вознамерился составить карту мира, сочетавшую данные Птолемея с последними географическими открытиями, изготовить столь же амбициозный глобус и написать книгу, объяснив в ней, почему потребовалось нечто иное, чем География.
Весной 1507 года вышла книга Cosmographiae introductio (Введение в космографию). В седьмой главе среди сухих теоретических выкладок о принципах геометрии, астрономии и географии мелькает предложение, которое навсегда изменило географию нашего мира: «Поскольку эту четвертую часть света нашел Америго, ее следовало бы с этого дня называть Землей Америго, или Америкой». В девятой главе, описав Европу, Африку и Азию, Вальдземюллер разворачивает это предложение в целый абзац:
…а четвертая часть света открыта Америго Веспутием. И так как Европа и Азия названы именами женщин, то я не вижу препятствий к тому, чтобы назвать эту новую область Америгой, Землей Америго, или Америкой, по имени мудрого мужа, открывшего ее. <…>
Итак, теперь известно, что Земля разделена на четыре части: первые три – континенты, а четвертая – «остров», поскольку установлено, что она со всех сторон окружена океаном[75].
Этот текст прозвучал необычно, как пророчество. В 1507 году никто еще не установил, что Америка окружена со всех сторон океаном. Пройдет шесть лет, прежде чем первый европеец, испанец Васко де Бальбоа, пересечет Панамский перешеек и увидит Тихий океан, и тринадцать лет – прежде чем португалец Фердинанд Магеллан обогнет южную оконечность Америки.
Карта мира Вальдземюллера появилась следом, в том же году. Она была большой, 240×120 сантиметров, и помещалась на двенадцати листах: вызывающая демонстрация того, как далеко продвинулась географическая наука, сочетающая в себе классику и современность. Достаточно посмотреть на верхнюю часть карты. Там, где сто лет назад изобразили бы Иисуса, взирающего на мир, теперь восседали двое представителей человечества, представляющих разные эпохи и разные части света, вооруженные научными инструментами, квадрантом и циркулем: Птолемей – в Старом свете, где Африка, Азия и Европа, а Веспуччи – в Новом свете. Полностью карта называлась Universalis cosmographia secundum Ptholomaei traditionem er Americi Vespucii aliorumque lustrationes (Всеобщая космография, выполненная по традиции Птолемея и дальним странствиям Америчи Веспуччи).
На этой карте много от Птолемея, включая несоразмерно большой остров Тапробана (Шри-Ланка) в Индийском океане, а средневековые элементы присутствуют в виде африканских каннибалов. Изображение северных областей напоминает карту Николая Германца: Nodrosia помещена на крайнем западе, Engronelant к северу от Norbegia, остров Thule южнее Бергена, и к западу от него Оркнейские острова, Финляндии же нет вовсе.
Разрыв с традицией Птолемея выражается главным образом в появлении четвертой части света далеко на западе. Это не только первая карта, где Америка изображена как автономный континент, но и первая карта, на которой используется топоним Америка. Контуры южной части этого континента нанесены настолько точно, что встает вопрос, не прибегал ли Вальдземюллер к иным источникам, кроме писем Веспуччи, испанских и португальских корабельных журналов. Если и прибегал, сам он об этом не обмолвился ни словом. Вдоль побережья отмечены устья нескольких рек и названия поселений, но в глубине континента нет ни одного топонима, а западная его часть остается Terra ultra incognita. На десятом градусе северной широты южная часть континента отделена от северной. Таким образом, Америка представлялась двумя большими островами. Угадываются очертания Мексиканского залива и Флориды, которая тянется к острову Isabella (Куба). Здесь вдоль побережья тоже отмечено несколько поселений, но дальше на запад снова неведомые земли. На севере континент заканчивается прямой линией и еще одной Terra ultra incognita.
Эту карту вместе с топонимом «Америка» стали копировать другие картографы, в том числе Петер Апиан (1520) и Себастиан Мюнстер (1532), однако Вальдземюллер со временем усомнился и в названии, и в самом континенте. В 1513 году, закончив карту мира для своей Географии, он довольствовался подписью Terra incognita, а на морской карте 1516 года пошел еще дальше, назвав Южную Америку Terra papagallis (Страна попугаев) и Terra nova (Новая страна), а Северную Америку – Terra de Cuba. Asie partis (Земля Куба. Часть Азии).
Первая типографская карта Скандинавии, вошедшая в Географию Николая Германца 1482 года. Описанные Птолемеем Скандинавские острова увеличились в размерах и прилепились к материку, хотя и в довольно причудливом месте; Финляндии на карте нет, зато в Норвегии мы видим населенные пункты: Nodrosia, Begensis и Stavangerensis. Мифический остров Туле обосновался юго-западнее норвежского побережья, а Engronelant (Гренландия) – прямо над Норвегией. Mare congelatum означает «Замерзшее море». Карта начертана под углом в знак того, что Земля имеет форму шара.
История в нашем случае, как и во многих других случаях до и после, полна мрачной иронии. Америго Веспуччи умер в 1512 году, даже не узнав, что его именем назван целый континент. А тот, кто назвал континент в его честь, умер в 1520 году, изверившись и в его названии, и в том, что это действительно континент.
Впрочем, история имела продолжение, после того как летом 1527 года шведский архиепископ Олаф Магнус приехал в Антверпен и увидел морскую карту Вальдземюллера. И хотя картограф ошибался, считая Америку частью Азии, его карта была гораздо более точной, чем теоретически сконструированная карта мира, на которой изображены все 360 градусов долготы и все земли до 90 градусов северной широты, но при этом о трети территорий на западе и востоке, а также о большинстве земель к северу от 70 градуса никто ничего не знал. Морская карта 1516 года ограничивалась 232 градусами долготы – бóльшая часть американского континента и Тихого океана в нее не входила. На севере карты Вальдземюллер сделал пометку, признаваясь в том, что четкого представления о северных областях у него нет, «ибо путевые заметки об этой части света противоречивы».
Олаф Магнус не мог с этим не согласиться: северные области на последней карте Вальдземюллера представляют собой бесформенную массу, украшенную изображениями моржеподобных четвероногих животных. В том же году Олаф начал составлять собственную карту той части света, откуда был родом.
Для своего времени он получил хорошее образование. Еще подростком совершил первую поездку за границу, правда, всего лишь в Осло, а с 1510 по 1517 годы учился в Германии. Весной 1518 года, будучи уже каноником в Уппсале, он по поручению папы римского отправился на север торговать индульгенциями, доходы от которых должны были пойти на строительство собора Святого Петра. Олаф проехал вдоль восточного побережья Швеции в Онгерманландию, оттуда двинулся на запад в Емтланд и, перейдя горы, достиг Тронхейма, где, скорее всего, встретился с Эриком Валькендорфом, архиепископом Нидароса, весьма опытным географом, который составил через два года описание Финнмарка[76], дававшее папской церкви представление о том, как жили люди на севере.
Неизвестно, куда отправился Олаф дальше. Провел ли он зиму в Нурланне, Трумсё и Финнмарке, путешествуя по побережью, или же сведения о них он почерпнул из рассказов Валькендорфа. Действительно ли он наблюдал жизнь рыбаков на Лофотенских островах и в Бергене? И видел ли своими глазами знаменитый водоворот Мальстрём? Или же он сидел перед теплым камином, внимая епископу? Мы знаем только, что возвращался он через Емтланд и летом 1519 года оказался в приполярном городе Торнио, на границе Финляндии и Швеции, куда по торговым делам приезжали «белые руссы[77], лаппонцы, биармийцы, ботнийцы, финны, тавасты и хельсингландцы». Неизвестно, как далеко на север проникал Олаф, однако он, очевидно, посетил часовню в Сэркилаксе (Särkilax), самом северном форпосте Уппсальской епархии, а оттуда, возможно, добрался до общины Пелло за Полярным кругом, где заканчивались постоянные поселения. Осенью 1519 года он прибыл в Стокгольм.
Швеция переживала неспокойные времена. Кристиан II, король Дании и Норвегии, при поддержке шведского архиепископа в 1520 году захватил Швецию, однако в 1523 его сверг Густав Васа, сторонник Реформации. Хотя Олаф сохранил приверженность католической церкви, Васа доверил ему вести переговоры с купцами из Любека и Нидерландов о доступе к шведским портам – вероятно, потому что он хорошо знал береговую линию Швеции и мог защитить интересы своей страны. Так или иначе, но летом 1527 года Олаф был уже в Антверпене (где чуть раньше, четырнадцатого апреля, появился на свет Абрахам Ортелий), а оттуда направился в Гданьск и там приступил к составлению карты, которая должна была представить более точные очертания европейского континента на севере.
В Польше Олаф Магнус встретил своего старого друга, картографа Бернарда Ваповского, и познакомился с Николаем Коперником, который через шестнадцать лет выпустит книгу О вращениях небесных сфер, где докажет, что Земля обращается вокруг Солнца, а не наоборот. Гданьск был наводнен мореплавателями и известными на Балтике купцами. Ваповский раздобыл карту со всеми торговыми путями, проходящими между Балтикой, Финляндией и Швецией, и благодарил в письме друга за одолженную ему карту Дании, Швеции и Норвегии. Олаф засел за работу: он сопоставлял собранную в Гданьске информацию с собственными наблюдениями и опытом путешествий – и чертил.
В 1537 году Олаф Магнус уехал из Польши в Италию. Два года спустя в Венеции, заняв 440 дукатов, он напечатал карту. Однако его Carta marina et descriptio septemtrionalium terrarum ac mirabilium (Морская карта и изображение Северных Земель и их чудес) – не просто карта. Составленная в традиции средневековых mappa mundi, она представляла собой рисованную энциклопедию, содержавшую сведения о народах, королях, фауне, религии и природных богатствах северных стран; более того, в 1555 году в качестве комментария к ней появился объемный труд об истории и обычаях скандинавских народов. В нем истолковывались и многие рисунки, нанесенные на карту. Вот как объясняет Олаф Магнус изображение двух мужчин и женщины-охотницы в Финнмаркии (Финмарке): «На этой карте изображена метающая стрелы женщина с развевающими волосами. И это неудивительно: ведь в обширных лесах, окружающих полюс, водится такое множество плодовитых диких зверей, что одни мужчины не справляются, а потому вместе с ними ходят на охоту и женщины, показывающие себя прекрасными охотницами, иногда даже более ловкими, чем мужчины»[78]. В Хельгеланне, пишет Олаф, рыбу бросают в костер, словно дрова: «Horum pisciu capitibus utitur loco lignorum» («Эти головы рыб употребляют вместо дров»); иными словами, рыбы в тех краях такое изобилие, что рыбьи головы идут на растопку.
Часть Балтийского моря покрыта льдами, включая Финский залив, где мы видим, как две армии, одна из них из Московии (Moscovie pars), собираются сразиться на льду. Вероятно, это отсылка к сражению 1495 года, когда русские попытались отбить у шведов Выборг, подойдя к нему по льду.
В Норвежском море мы находим намеки на Реформацию: у южной оконечности Фарерских островов Олаф поместил безопасную гавань рядом со скалой, имеющей форму монаха в капюшоне. К западу от нее плавает грозное чудище с кабаньей головой, острыми клыками, драконьими лапами и множеством глаз на боку – протестантская «морская свинья». Под чудовищем Олаф написал: «Видел в 1537 году» – в том же году в датско-норвежском королевстве была проведена и Реформация. О морской свинье Олаф Магнус узнал из итальянского памфлета Monstrum in Oсeano, в котором говорилось, что ее обнаружили в море у берегов Германии, «где обитает много и других чудищ, установивших новые законы христианской веры и религии».
Столь же «говорящие» и библейские тексты, сопровождающие портреты монархов на карте. Католическим королям достались хвалебные цитаты, протестантским – осуждающие, исключение составляет Норвегия, и то лишь потому, что своего короля у Норвегии тогда не было. Тем не менее цитата, посвященная норвежскому государю, есть: Nemo accipiat coronam tuam – «Дабы кто не восхитил венца твоего» (Откр. 3:11). И она, очевидно, означала, что Олаф Магнус считал Норвегию независимым государством.
Carta marina, без сомнения, была лучшей картой Скандинавии в 1539 году. За пять лет до нее немецкий гуманист Якоб Циглер издал карту, которая была заметно лучше своих предшественниц. Он расположил Скандинавский полуостров правильно относительно сторон света, более или менее верно отобразил расстояния между Vvardhus (Вардё) и Asloia (Осло), расположенными на 70 и 60 градусах северной широты, и даже сделал Финляндию отдельной страной, а не придатком Швеции. Однако сама Финляндия совсем не была на себя похожа, Дания доходила аж до Ставангера и Бергена, а Фюн и Зеландия распались на множество мелких островков, Копенгаген куда-то исчез, Исландия тянулась с север на юг, Гренландия прилепилась к Северной Норвегии. По сравнению с картой Олафа Магнуса карта Циглера довольно примитивна.
На carta marina Дания помещена как положено: с Норвегией на севере, Швецией – на востоке; острова Балтийского моря тоже на своем месте, очертания Финляндии узнаваемы, на севере Скандинавский полуостров изгибается к востоку, не примыкая к Гренландии – между ними виден морской проход, и Исландия обрела надлежащую форму, вытянувшись с запада на восток. К сожалению, у оригинальной карты Магнуса век был недолгий – возможно, потому что она вышла небольшим тиражом. Возможно, огромная, 170×125 сантиметров, карта Севера не вызвала особого интереса. Компактная версия, изданная итальянцем Антонио Лафрери в 1572 году, оказалась намного популярней, именно она получила наибольшую известность. И уменьшенный книжный формат карты Олафа в его историческом сочинении тоже был более востребован, нежели оригинал. Книга имела колоссальный успех, ее перевели на многие языки, она вышла в том числе и на нидерландском языке в Антверпене. Карты в этом издании были тщательно исследованы известным картографом, который сделал всё, чтобы как можно точнее перечертить северные земли для первого в мире современного атласа.
Абраму Ортелю исполнилось двенадцать лет, когда была напечатана Carta marina – в том же году умер его отец. Отрок был не по годам серьезен, и серьезнее всего он относился к учебе. Спокойный, дружелюбный и рассудительный, он обладал мягким характером и таким оставался для всех всю жизнь; только одно могло вывести его из себя – если его отвлекали от чтения. Происходило это оттого, что он дорожил теми редкими мгновениями, когда не нужно было работать и хлопотать о деньгах. Уже подростком (когда именно, точно неизвестно) он стал подмастерьем у гравера, рисовавшего карты.
Первый печатный станок появился в Антверпене в 1481 году. Когда Абрам подвизался учеником, в городе насчитывалось шестьдесят восемь типографий, сорок семь книжных лавок и двести двадцать четыре печатника и издателя.
В то время типографии начали заменять деревянные печатные формы медными. Медь позволяла воспроизводить максимально четко детали, это был более прочный материал, но вместе с тем и более дорогой и сложный в обработке. Владение гравировальной иглой, острием которой наносили узор на медной пластине, требовало твердой и опытной руки. В 1537 году Абрама приняли в гильдию Святого Луки, цеховое объединение художников, граверов и печатников, но не в качестве гравера. Его включили как художника-иллюминатора – afsetter van carten. Свои карты он никогда сам не гравировал.
Будучи членом гильдии, Абрам Ортель получил право не только латинизировать свое имя (он стал Абрахамом Ортелием), но и вести собственное дело. Он пошел по стопам отца, открыл лавку, торговал антиквариатом, книгами, монетами, произведениями искусства, гравюрами и всякими диковинками. Однако его коньком были карты, география и история, то, к чему лежало его сердце.
Дважды в год во Франкфурте проходила книжная ярмарка. Со всей Европы, из Базеля, Лондона, Праги и Рима сюда съезжались печатники и книготорговцы, авторы, искавшие своих издателей, и издатели, искавшие своих авторов, а также те, кого интересовали новейшие карты, основанные на самых последних сведениях о самых дальних странах. Весь этот люд устремлялся к городскому району между церковью Святого Леонарда и рекой и прежде всего к Бюхгассе – Книжной улице с длинными рядами лотков, где торговали картами и книгами. Среди торговавших был и Абрахам Ортелий.
Именно во Франкфурте в 1554 году он познакомился и сдружился с выдающимся картографом того времени – Герардом Меркатором. Ортелий уже давно восхищался этим человеком. Ему самому было двадцать восемь лет, и о нем пока мало кто знал, тогда как сорокатрехлетний Меркатор уже пользовался славой ученого, знаменитого картографа и изготовителя глобусов, за новыми публикациями которого следила вся Европа. Ортелий называл Меркатора «Птолемеем нашего времени». Их встреча положила начало долгой дружбе. Они переписывались и обменивались географическими сведениями до конца жизни.
Меркатор родился в городке Рупельмонде, тоже на реке Шельде, но чуть ниже по течению, в двадцати километрах к югу от Антверпена. Когда они с Ортелием познакомились, он делил жизнь между немецким Дуйсбургом, куда переехал после того, как его, заподозрив в ереси, заключили в Рупельмондский замок, и Лёвеном, где он преподавал в университете. Его отец был бедным сапожником и умер рано; мать ненадолго пережила отца. Его настоящее имя Герард Кремер – фамилию Меркатор он взял себе лишь в университете, куда поступил по той же квоте для бедных, по которой учился Гемма Фризиус. Фризиус и стал его учителем, когда Кремер начал изучать математику, астрономию и космографию, а в 1536 году по заказу испанского короля они вместе изготовили глобус.
Еще в античные времена Страбон считал, что глобус – лучший способ изобразить Землю, ведь она имеет форму шара. Всякая же попытка воспроизвести земной шар на плоском листе бумаги неизбежно ведет к искажению некоторых географических реалий. Однако на глобус не нанесешь детали, которые нужны для плавания вдоль берегов или следования из одного порта в другой. Кроме того, его изготовление обходится гораздо дороже бумажной карты.
На протяжении многих лет глобусы делали из металла, дерева и бумаги, а карту рисовали или гравировали непосредственно на шаре. В XVI веке шар впервые изготовили из папье-маше. Его покрывали сначала гипсом, затем лаком. На высохший лак аккуратно наклеивали полоски бумаги, на которых уже был нарисован весь мир.
Эти полоски – самая трудоемкая часть работы. Требовалось изготовить двенадцать вогнутых полосок бумаги, которые при наклеивании на шар должны были точно совпасть и составить карту мира. Поскольку горные хребты, береговые линии, реки и страны неизбежно пересекали несколько полосок, то при нанесении рисунка могли возникать искажения. Названия должны были умещаться на одной полоске. Наклеивая их, следовало быть предельно аккуратным, чтобы не допустить перекосов, складок и зазоров.
Прежде чем приступить к изготовлению глобуса, Меркатор и Фризиус ознакомились с известными им новейшими картами. Карта Олафа Магнуса появится лишь через год, поэтому северные области они наносили, полагаясь на карту Циглера – так на глобусе впервые появилась Финляндия.
В предшествующие годы стало очевидно, что Средиземное море на поверхности Земли выглядит гораздо скромнее, чем представлял Птолемей, растянувший его до шестидесятого градуса долготы. Однако, уменьшив Средиземноморье, пришлось бы уменьшить и Испанию, что едва ли понравилось бы заказчику, испанскому королю. Карл V как раз рассчитывал на то, что этот глобус покажет его империю во всём ее могуществе. Парижский картограф Оронций Финеус на своей карте мира, составленной им в 1531 году, уменьшил птолемеевскую Испанию вдвое. Однако Фризиус и Меркатор решили не рисковать и последовали за Птолемеем.
Азия, как всегда, преподносила сюрпризы. Восточные земли этого континента перерисовывали каждый год. В 1522 году оставшиеся в живых участники экспедиции Фердинанда Магеллана вернулись в Испанию, они рассказали, что не обнаружили никаких следов самого крупного в мире острова Тапробана там, где он, согласно путевым заметкам времен Александра Македонского, должен был находиться (и где сегодня расположена небольшая Шри-Ланка), поэтому его подвинули еще дальше на восток.
Южная Америка прочно обрела форму треугольного континента с вершиной в Магеллановом проливе на юге. Чуть севернее экватора, примерно в районе современной Центральной Америки, у картографов начинались трудности. О том, что находится севернее этих мест, наверняка никто ничего не знал. Как не знали, каковы размеры североамериканских территорий и являются ли они частью азиатского континента. Финеус на своей карте объединил Северную Америку с Азией, а над ними написал «Азия». Фризиус и Меркатор предпочли на своем глобусе представить Америку отдельным континентом, но сильно уменьшили размеры северной его части: всего 30 градусов долготы в ширину – на 83 градуса меньше, чем на самом деле.
Меркатор, как и Ортелий, обучался искусству гравировки. По своему опыту он знал, что латинские буквы гораздо легче читать на карте, чем готические, которые были приняты в то время в Северной Европе. Глобус Фризиуса – первый образец нидерландской картографии, где мы видим латинские буквы и подпись Меркатора: «Gerardus Mercator Rupelmundanus».
Первую собственную карту Меркатор сделал по заказу одного коллекционера карт, лютеранина, которому хотелось повесить у себя на стене большую карту Святой земли – Terrae sanctae, – карту безупречную, точную, изящную, какую только можно было получить на современных печатных формах из меди.
Карта Святой земли, помещенная в книге Лукаса Брандиса, опубликованной в 1475 году в немецком Любеке, стала первой печатной картой современного типа. Современного в том смысле, что она основывалась на свидетельствах очевидцев, а не только на античных и библейских источниках. В частности, Брандис во время работы над картой читал Descriptio terrae sanctae (Описание Святой земли) немецкого монаха Бурхарда Сионского, паломника, путешествовавшего в тех краях с 1274 по 1284 годы.
Нидерландские читатели Библии во времена Меркатора были знакомы с картой из лютеранской Библии, издававшейся в Антверпене с 1526 года. Эту карту начертил Лукас Кранах, друг Мартина Лютера, ее главный мотив – исход израильтян из Египта в Святую землю. Карта шла вразрез с католической традицией, в которой отдельные библейские сюжеты служили лишь иллюстрациями к тексту. Лютеранам карта нравилась, потому что исход израильтян символизировал переход от рабства к свободе, от невежества к богопознанию, Египет же для них олицетворял коррумпированную папскую церковь, от которой они стремились освободиться.
Эту карту Майлс Ковердейл заимствовал для своей «английской Библии» – той самой, чьим изданием занимался отец Абрахама, Леонард, за что и вынужден был бежать из Антверпена, спасаясь от инквизиции.
Меркатор вырос на карте Кранаха. Кроме того, он приобрел карту Святой земли, составленную Якобом Циглером. Позднее он писал: «Карту Палестины и путь евреев из Египта через каменистые земли Аравии мы рисовали по Циглеру, самому скрупулезному картографу этих мест». И хотя Меркатор не вполне был доволен своей картой, она всё же значительно лучше карты Циглера, так и оставшейся незавершенной.
Карта Вальдземюллера 1507 года, выкупленная в 2001 году за десять миллионов долларов для Библиотеки Конгресса США как «свидетельство о рождении» Америки. Это первая карта, на которой новооткрытые земли на западе названы «Америкой». Тем не менее споры о том, отдельный ли это континент или восточная часть Азии, продолжались еще несколько лет и после того, как Вальдземюллер составил свою карту.
В 1538 году Меркатор определился с делом всей своей жизни. Он набросал карту мира, а поверх нее надписал: «Это – части света в общих чертах, затем последуют карты каждой из этих частей». Коротко, но ясно: карта мира, дающая общее представление о мире, должна быть дополнена более подробными картами отдельных регионов. Меркатор, которому исполнилось двадцать шесть лет, решил посвятить свою жизнь исследованию и описанию мира посредством карт. Он не бывал в море и не видел гор – и никогда не увидит, потому что прославленный географ ни разу не уезжал из родного города дальше Франкфурта. Его миром была Фландрия с ее полями, каналами и церковными шпилями, именно ее он и показал на карте в первую очередь.
Фландрия же была охвачена восстанием. В 1537 году ее столица – Гент – отказалась платить военный налог, введенный испанским королем, воевавшим против Франции. Горожане взялись за оружие и забаррикадировали ворота, часть городских властей бежала, город готовился к масштабным празднествам в честь славной истории Гента[79]. К этому событию некто Пьер ван дер Беке составил карту Фландрии, проникнутую откровенно националистическими настроениями. Это необходимо, писал он, потому что «до сих пор у нас нет ни одного описания, отражающего положение, в котором оказалась наша страна». Карта подчеркивала стратегическое значение Фландрии, находящейся между Брюсселем и морем, и была испещрена судоходными каналами, украшенными множеством каравелл и галер с флагами всех стран, ведущих здесь торговлю. Карл V, узнавший о празднествах, отправил из Испании двух гонцов, сообщивших, что он намерен посетить Гент.
Испанский король был неравнодушен к географии и мог видеть карту ван дер Беке. Пьер де Кейзер, напечатавший эту карту, предпочел не рисковать, посчитав, что его дела и сама жизнь будут в большей безопасности, если он как можно скорее опубликует карту, на которой Фландрия вновь предстанет лояльной провинцией. Согласившийся с ним Меркатор (равно как и многие купцы, картографы и брюссельские власти) тут же взялся за работу. На его карте флаги не развивались, вверху и внизу ее украшали портреты властителей Фландрии до Карла V, карту также отличало весьма экстравагантное посвящение королю.
Неизвестно, увидел ли король карту Меркатора. Но Гентом он был недоволен. Он явился со свитой, которой потребовалось пять часов на то, чтобы пройти через городские ворота[80]. Тринадцать вожаков повстанцев обезглавили. Судей, советников, по шесть представителей от каждой гильдии и пятьдесят знатных горожан заставили пройти босиком, в черной одежде, с петлей на шее от здания суда до крепости, где на коленях они просили у короля прощения. Гент потерял все политические свободы. Целый квартал был стерт с лица земли ради строительства новой крепости. Наконец, король забрал с собой и большой городской колокол. Славный Гент, который ван дер Беке изобразил на своей карте, был разорен.
Меркатор продолжал трудиться над картами различных областей мира. До него никто не публиковал современные региональные карты, ибо мир теперь был значительно больше, чем представлялся Птолемею, и работа картографа отнимала много времени. А его у Меркатора не было. Ему постоянно приходилось браться за новые заказы, чтобы прокормить растущую семью. Его жена Барбара растила двух дочек и двух сыновей, в 1541 году на свет появился еще один ребенок (всего же их будет семеро), и Меркатор с утра до ночи вынужден был крутиться. Когда какой-нибудь важный чиновник просил его сделать новый глобус, а издатель – написать книгу об изготовлении карт с печатных форм, он никому не отказывал, а карты откладывал на потом. В 1543 году его обвинили в заигрывании с протестантизмом и заключили на семь месяцев в темницу. Дом его тем временем обыскивала инквизиция, но ничего не нашла[81]. В 1552 году он уехал за Рейн, в немецкий городок Дуйсбург, и здесь наконец-то закончил карту Европы, над которой трудился четырнадцать лет.
Рисуя Северную Европу, он в последний раз обратился к карте Циглера, сопоставив ее с Carta marina Олафа Магнуса и нидерландскими морскими картами, которые, по его мнению, передавали точнее, чем карта Олафа, очертания норвежского побережья. Карта Европы, писал один известный гуманист того времени, «удостоилась больше похвал от ученых ближних и дальних стран, чем любое другое известное географическое исследование», и Меркатор понял, что ему наконец удалось создать то, на чем можно заработать.
В приподнятом настроении он отправился вверх по реке на Франкфуртскую ярмарку, где и встретил двадцативосьмилетнего художника-иллюминатора карт из Антверпена – сероглазого, с пшеничными волосами и небывалой идеей поместить весь мир под одной обложкой.
В 1554 году один из друзей Ортелия, Ян Радермахер, устроился на работу к Гиллису Хоофтману – «известному купцу из Антверпена». Суда Хоофтмана привозили товары со всего мира. Он покупал все карты, какие удавалось найти, они помогали ему не только рассчитать самый короткий и безопасный путь от одного места назначения к другому, но и следить за европейскими войнами по картам. «А поскольку это время было богато тревожными событиями, он покупал карты всех мыслимых частей света», – вспоминал Радермахер в одном из писем на склоне лет.
Предприимчивый Хоофтман, не тративший время попусту, часто просматривал карты за едой или во время переговоров, намечая маршруты, и неоднократно сетовал на то, что громоздким картам место разве что на стене, но только не на столе, заставленном снедью. Радермахер и предложил ему собрать несколько карт небольшого размера в виде книги. Хоофтману идея понравилась, осуществить ее он поручил Радермахеру, а тот подрядил Ортелия, заказав ему свести воедино как можно больше одинаковых по размеру малоформатных карт. В результате получилась книжица из тридцати восьми карт, оказавшаяся весьма удобной. Теперь Хоофтман мог листать карты и за обеденным столом, и даже в постели. Так Ортелий пришел к тому, что стало делом всей его жизни: первому в мире современному атласу.
Четыре года спустя Абрахам Ортелий, которому перевалило за тридцать, пришел в издательский дом De gulden passer («Золотой циркуль») книготорговца и печатника Кристофа Плантена. Плантен, француз по происхождению, начинал переплетчиком, а в печатники и издатели переквалифицировался после того, как на него напал пьяный с мечом и ранил в руку – больше переплетать книги он не мог. После ухода Ортелия он сделал пометку: «Le 13 Janvier 1558. A Abraham paintre des cartes 1 Virgilius Latin rel. en parchemin» («13 января 1558 года. Для Абрахама, художника карт, 1 Вергилий на латыни в пергаментном переплете»).
Плантен, как и Меркатор, стал другом Ортелия на всю жизнь. Вскоре после их первой встречи он поручил Ортелию раскрасить тридцать шесть копий карты одной области на севере Франции. Начиная с 1560-х он издавал оригинальные карты, изготовленные Ортелием.
Самая старая из известных карт, подписанных Ортелием, датируется 1564 годом. Это большая карта мира размером 148×87 сантиметров, напечатанная на восьми листах. Образцами для нее послужили карты немца Каспара Вопеллия и итальянца Джакомо Гастальди, вышедшие в 1545 и 1561 годах. Кроме того, он основывался на письмах Марко Поло, классических источниках, в том числе Птолемея, а также испанских и португальских картах. Ортелий очень тщательно изучал работы своих предшественников-картографов и уточнял информацию, насколько это было возможно. В результате получилась карта, содержавшая самые свежие и достоверные сведения, какие были доступны тогда.
Эта карта подробней и лучше представляла северные области – на крайнем севере мы видим Вардёхюс, Норморию, Анденес, Нидарос (Тронхейм), Гельголанд, остров Святой Бригитты, Берген, Ставангер, Телемарк, Ансло (Осло) и Хамар.
Первая карта Ортелия осталась практически незамеченной другими картографами, как и две следующие карты – Египта и Святой земли. Однако в 1567 году Ортелий показал Плантену настенную карту Азии, и тот почуял наживу – он купил сто экземпляров по гульдену за штуку. Именно эта карта имела успех, благодаря которому Ортелий приобрел известность среди картографов той эпохи.
Карте предпослано обращение к читателю, в котором Ортелий сообщал, что «Джакомо Гастальди, почтенный географ, недавно опубликовал карту Азии, основанную на данных арабского космографа Исмаила Абу-ль-Фиды <…>, не упоминая его имени». Ортелий не скрывал, что опирается на сведения Гастальди, при этом пенял ему за то, что он не указал на источник, Абу-ль-Фиду, о чем сам Ортелий узнал от своего друга. Сам он не повторил этой ошибки, собирая карты для задуманной им книги – дополненного и переработанного издания сборника карт, который он выпустил в 1554 году. Он скрупулезно записывал имена авторов всех карт, которые отбирал для своего атласа.
«Посему отправляю вам мою карту Уэльса, хотя она еще не до конца готова, но нарисована с большим прилежанием», – сообщал Ортелию валлийский картограф Хамфри Луйд в 1568 году. Ортелий посылал ему экземпляр карты Азии и просил разрешить использовать его карту Уэльса в будущем атласе, так как знал, что лучшей карты ему не найти. Луйд писал далее: «Вы также получите карту Англии с древними и современными названиями, и еще одну карту Англии, вполне точную».
Ортелий поддерживал обширные связи с картографами и географами, благодаря им он получал лучшие карты. Историк Ян Панноний прислал ему карту Трансильвании, английский путешественник и дипломат Энтони Дженкинсон подарил карту Московии, и так многие, пока у него не скопилась изрядная кипа карт, которые он обрабатывал.
Все полученные карты Ортелий перерисовывал в нужном для книги формате, редактируя и улучшая их по мере возможности. Тем самым он придавал всем картам единый вид. До него никто этого не делал. У итальянцев была традиция картографических книг, они собирали карты в одну стопку и сшивали их, беря в переплет, однако все эти карты отличались размером, масштабом, шрифтами, условными обозначениями и цветовым оформлением. Атлас Ортелия потому и называют первым в истории, что он с самого начала стремился представить под одной обложкой целостную картину мира. Он очень много работал: в июле 1568 года в письме другу-медику жаловался на аритмию.
Карта северных областей, созданная Абрахамом Ортелием в 1570 году. Северные земли на латыни назывались Septentrionalium – семь быков, так римляне именовали созвездие Большой Медведицы. Поскольку это созвездие находится в северной части неба, то и северная часть света получили то же название. Обратите внимание, что Гренландия на карте – это остров. Строго говоря, Ортелий этого знать не мог, потому что так далеко на север европейцы в то время еще не проникали.
Срисовав карты, Ортелий отдал их гравировать своему близкому другу, Францу Хогенбергу, одному из лучших граверов по меди того времени. Порядок, которому должны были следовать карты в атласе, определил еще «Птолемей, принц географии», советовавший начинать с карты мира, а затем представлять страны, двигаясь с северо-запада на юго-восток. В сентябре 1569 года Ортелий купил у Плантена сорок семь рулонов бумаги. Он оплачивал издание атласа из своего кармана.
Плантен был занят изданием Библии в восьми томах на пяти языках и потому, вероятно, не нашел возможным напечатать первый тираж атласа своего друга. Ортелий обратился к Гиллису Коппенсу ван Дисту – опытному мастеру-печатнику, более тридцати лет работавшему с картами и книгами по космографии. Именно ван Дист зафиксировал день публикации Theatrum orbis terrarum (Театра мира): 20 мая 1570 года.
«Абрахам Ортелий из Антверпена – благосклонному читателю, – так начинается предисловие в его атласе. – Я убежден, что нет такого человека, мой дорогой читатель, который не признавал бы пользы от изучения истории, и также я убежден, что никто, соприкоснувшийся с историей или хотя бы прочитавший первую ее страницу, не станет отрицать, что для истинного понимания истории необходимо и сколько-нибудь быть знакомым с географией. Недаром ее называют глазами истории».
Связь между историей и географией очевидна. В Средние века некоторые отцы Церкви подчеркивали, что знание географии Святой земли углубляет понимание Священного Писания. В эпоху Возрождения из этой связи возникло научное мировоззрение, которое описывало мир куда лучше и подробней, чем раньше; благодаря этому, считал Ортелий, «где бы и что бы ни делалось, всё можно было видеть так, как если бы это происходило у нас на глазах» – словно мы наблюдаем за всем в театре.
Впервые любой человек мог позволить себе купить весь мир, заключенный в одной книге. На обложке атласа мы видим аллегорические женские фигуры, представляющие четыре с половиной части света. Вверху изображена Европа с короной на голове. По краям, справа и слева от нее, два глобуса, а рядом с ней – третий глобус, который она подпирает крестом, поскольку на нее возложена ответственность за распространение в мире христианства.
Азия тоже облачена в богатые одежды. Однако на ней нет короны, только – тиара, что свидетельствует о ее подчинении европейской царице. Также на обложке мы видим Африку, едва одетую, зато с ореолом, символизирующим солнце и постоянную жару. Внизу помещена их американская сестра – в ней нет и намека на высокую культуру инков, майя и ацтеков, с которыми столкнулись испанцы. Перед нами примитивная Америка каннибалов, в руке у нее голова европейца, это обнаженная, вооруженная femme fatale, которая соблазняет и пожирает европейских мужчин. Рядом с ней бюст, олицетворяющий исследованный лишь наполовину южный континент: Terra australis nondum cognita – Неведомая Южная земля.
В первое издание Театра мира вошло шестьдесят девять карт. Составляя их, Ортелий опирался на работы восьмидесяти шести картографов, и он позаботился о том, чтобы указать имя каждого. Этот список – настоящий справочник Кто есть кто в европейской картографии конца XVI века. В нем, разумеется, мы находим Меркатора, представленного, среди прочего, картами Палестины и Фландрии (Palæstinæ, siue Terræ Sanctæ и Item Flandriæ), Хамфри Луйда с картой Англии (Angliæ Regni Tabulam), Энтони Дженкинсона с картой России (Rußiam) и Олафа Магнуса Гота с его картой северных земель (Regionum Septentrionalium Tabulam).
На карте мира – Typus orbis terrarum – есть цитата из Цицерона, намек на более глубокий смысл, который Ортелий видел в картографии: «Quid ei potest videri magnum in rebus humanis, cui aeternitas omnis, totiusque mundi nota sit magnitudo» («Что может ему показаться великим в делах человеческих – ему, кому ведома вечность и весь простор мира?»)[82].
За картой мира следуют континенты: Americae Sive Novi Orbis, Nova Descriptio, Asiae Nova Descriptio, Africae Tabula Nova и, конечно, Europae. Англия, Шотландия и Ирландия удостоились быть первыми отдельно представленными странами, поскольку в первом издании у Ортелия еще не было карт самых западных – американских – земель. Общий план и отбор стран такой же древний, как у Птолемея, этому порядку следуют и современные географические атласы, изданные в нашей части света.
«Поговорим немного об обратной стороне карт. Поскольку читателю вряд ли было бы приятно лицезреть совершенно пустую изнанку карт, то мы и решили поместить там краткую историческую справку с описанием каждой карты», – пишет Ортелий в предисловии. Процитируем, что говорится в атласе о севере и Норвегии, в частности:
На этой карте изображены почти все северные земли в исследованной части света, в том числе полуостров, который был известен древним писателям под именами Скандии, Скандинавии, Балтии и Базилии, хотя собственно о нем они знали крайне мало. Из-за обширной территории они называли его «второй землей» <…>. В наше время на полуострове находятся три королевства: Норвегия, Швеция, Готия, часть датского королевства и области, именуемые Ботнией, Финмаркией и Финляндией, которые мы здесь описываем так же, как это сделал Якоб Циглер.
Норвегия означает «северный путь». Некогда это было процветающее королевство, включавшее в себя также Данию, Фризию и близлежащие острова, вплоть до того времени, когда власть в нем стала передаваться по наследству внутри одной правящей династии. Тогда королевство начало приходить в упадок, и когда наследовать его оказалось некому, знать решила, что отныне король будет избираться.
В наши дни страна находится под властью Дании, которая не только распоряжается всеми доходами и налогами, по праву причитающимися короне, но и ценным сырьем, присваивая себе все ее богатства. Норвежский флот подчинен датскому королю, и без его дозволения ни одно судно не может выйти в море или вывезти товары на продажу в другие страны.
Благодаря климату, хорошей земле и морскому промыслу это королевство отнюдь не бедное. В разные уголки Европы оно экспортирует особый вид трески, которую разделывают и вялят на деревянных балках, а затем сушат на холоде. Немцы называют ее Stockfisch. Лучшая пора для ловли трески – январь, когда стоят сильные морозы, подходящие для ее сушки. Рыба, выловленная в более теплое время, не годится для экспорта, потому что она начинает гнить. На всём побережье Норвегии климат весьма умеренный, и море не замерзает. Снег лежит недолго.
Здесь явно слышится отголосок Олафа Магнуса. О том, что Скандинавия обширна, а древние писатели называли ее «второй землей», мы можем прочесть в центре его Carta marina с отсылкой к римлянину Плинию Старшему и византийцу Прокопию Кесарийскому: «SCANDIA. PENINSVLA QVAM PLINIVS L1:4:CA13: ALTERUM ORBEM VOCAT. PROCOPIVS SUB NOMINE TULE ASSERIT DECIES MAIOREM TOTA BRITANNIA ET XIII REGNA IN SE CONTINERE» («Скандия. Полуостров, который Плиний в книге 4, главе 13 называет «второй землей». Прокопий полагает, что он в десять раз больше Британии, и на нем обитает тринадцать племен»[83]).
Топонимия на карте Норвегии у Ортелия охватывает широкий круг географических названий, от Линдеснеса на юге – через Стад, Хедмарк, Гриллефьорд и Бумганг – до Вардёхюса на севере. Нурдмур и Сюдмур помещены далеко от моря, зато Валдрес находится на самом берегу, а Тронхейм на восточном берегу одноименного фьорда, тянущегося к северу вглубь страны. На континенте севернее Норвегии написано: «Pigmei hic habitant» («Здесь живут пигмеи»). Любопытно, что здесь география заметно отличается от той версии Норвегии, которую мы видим на карте Европы в начале атласа, где, к примеру, Тронхейм и Тронхеймс-фьорд нанесены более точно. Другие северные страны тоже разнятся от карты к карте.
В предисловии Ортелий винит себя за то, что многие не найдут в его атласе карты своей страны. Он заверяет, что эти карты отсутствуют вовсе не потому, что он пренебрег ими или пожалел на них денег, а потому, что он не нашел достаточно хороших карт. Поэтому он просит тех читателей, у которых есть карты, присылать их ему, чтобы «они вошли в новую книгу».
Это был обычный прием у картографов того времени. Например, Меркатор, публикуя свою карту Европы, обратился к «другу-читателю» с просьбой поделиться с ним эскизами карт и астрономическими координатами, которые он мог бы использовать в будущих работах. Такие призывы способствовали плодотворному сотрудничеству между картографом и публикой. Друг и коллега Ортелия прислал ему карту Моравии, а однажды он получил письмо с картой Сиены и ее окрестностей от некоего итальянца, предлагавшего включить ее в следующий тираж Театра; автор письма добавлял: «Думаю, что твой труд следует спешно напечатать еще раз, так как все экземпляры, которые прибывают сюда, сразу же раскупаются, несмотря на то, что книготорговцы каждый день повышают цены, и Франциск Трамеццин недавно продал экземпляр за десять золотых крон, хотя четыре месяца назад он стоил всего восемь»[84].
Атлас хорошо продавался. За первым тиражом в триста двадцать пять экземпляров всего через три месяца последовал второй. На следующий год атлас вышел на нидерландском языке, а в 1572 году появились французское и немецкое издания. Некий Петр Бизар восторженно писал Ортелию: «…все превозносят твой Театр до небес и желают тебе благ за него». Меркатор в 1570 году прислал Ортелию письмо, в котором хвалил «за тщательность и элегантность, с которыми ты украсил работы авторов»[85].
Покупали книгу в основном ученые и состоятельные люди. Первоначально атлас был неколорированный, но тот, кто желал иметь цветные карты и мог заплатить за их раскраску, обращался к Анне Ортель или другому колористу. В мае 1571 года Плантен записал, что его сотрудник Минкен Лифринк получил шесть гульденов пятнадцать стюверов за иллюминирование всего атласа – примерно столько стоила и сама книга. Несколько лет спустя Лифринк запросил с испанского двора за великолепный атлас, иллюминированный серебром и золотом, тридцать шесть гульденов. Менее состоятельные горожане могли купить атлас без переплета, просто стопку разложенных по порядку карт, либо отдельные карты интересовавших их областей, это стоило им всего два стювера за черно-белый лист или пять за цветной.
По мере того как Ортелий добавлял новые карты, заменяя ими устаревшие, дополнялся и улучшался и Театр мира. Издание 1573 года содержало семьдесят карт, на семнадцать больше, чем первоначально, а в 1579 году, когда печатью атласа наконец-то занялся Плантен, в книге насчитывалось уже девяносто три карты. Ортелий постоянно переписывался с лучшими картографами мира, в том числе с Меркатором, который в 1580 году писал ему, что слышал о новой и прекрасно составленной карте Франции, и что у него самого появилась новая карта мира, на которой превосходно нанесен Дальний Восток. Ортелий в ответном письме с восторгом отзывался об англичанине Фрэнсисе Дрейке и его новой экспедиции, а Меркатор в свою очередь сообщал о капитане Артуре Пэте, отправившемся исследовать северные районы Азии, и о том, что домой он, скорее всего, вернется через северную часть американского континента. Так они делились друг с другом последними новостями, а Театр тем временем пополнялся новыми картами. В 1591 году вышла самая полная версия атласа, включавшая в себя сто пятьдесят одну карту.
Голландец Гемма Фризиус в 1553 году издал небольшую книгу о геодезии. На рисунке показано, как он выстраивает сеть треугольников вокруг исходной точки – Антверпена – и с помощью простейшей геометрии высчитывает расстояние до соседних городов Брюсселя, Мидделбурга, Лёвена и других. Этим методом пользовались вплоть до появления спутниковых систем навигации.
Три года спустя в декабре Ортелий получил письмо: «Герард Меркатор умер второго числа, около полудня, дремля в кресле перед камином».
В январе 1598 года Ортелий написал племяннику: «Прощай, больше не напишу, ибо со дня на день умру». В июле один из друзей Ортелия уведомил того же племянника: «Настоящим сообщаю тебе, что раб божий Абрахам Ортелий скончался и обрел покой в Господе 28 июня, и был достойно погребен в аббатстве Святого Михаила, где многие добрые люди оплакали его, желая, чтобы он был жив, однако его путь окончен. <…> Он почил, а мы идем дальше». Анна прожила еще два года.
Ортелий умер бездетным, так и не женившись. При его жизни было продано 7500 экземпляров Театра мира. Последнее издание выпустили уже наследники Плантена в 1612 году.
В 1630 году один из внуков Плантена сообщил, что новых изданий атласа больше не будет – «пусть Ортелий оста нется Птолемеем наших дней». Старый географ, будь он жив, прослезился бы от такого сравнения, ведь столь высокой похвалы он удостоил некогда Меркатора.
Посвятивший всю свою жизнь тому, чтобы сделать Птолемея ненужным, теперь и сам стал памятником ушедшей эпохи. Птолемей оставался незыблемым почти полторы тысячи лет, потому что время вокруг него, казалось, застыло. Ортелий продержался тридцать лет после смерти. Скорее всего, он к этому и стремился, ибо неустанно обновлял карты, отбрасывая те, что устарели или были недостаточно точны, будь то даже его собственные. Он знал, что карты не вечны. На медных пластинах стирали неверно указанные названия городов и гравировали заново, удаляли горные хребты, нанесенные слишком далеко на севере, и добавляли на карту новые сведения, привезенные кораблями из дальних краев. Мир постоянно менялся. Ортелий поднял занавес в театре мира. После него в нем играли другие. Атлас очень скоро стал привычным и востребованным картографическим инструментом.
Карты эпохи Возрождения продолжали традицию позднесредневековых морских карт. Как правило, они изготавливались для практических, а не религиозных целей, так как всё более активное освоение мира европейцами находило в них свое отражение. Перевод Географии Птолемея на латынь в начале XV века привел к тому, что постепенно к составлению карт стали подходить научно, полагаясь на опыт очевидцев. Появилась профессия картографа: Абрахам Ортелий и Герард Меркатор были одними из первых, кто зарабатывал на жизнь картами. Благодаря книгопечатанию карты получили широкое хождение, что было немыслимо в те времена, когда каждый экземпляр приходилось рисовать от руки. Богатые купцы, дипломаты, профессора, знать и многие другие не жалели денег на изготовление более точных современных карт. В Средневековье карта, составленная в 800 году, вполне могла появиться в книге, изданной 400 лет спустя. Жизнь карт в эпоху Возрождения стала значительно короче.
Открытие мира
Хардангерфьорд,
Норвегия
59º36’18” с. ш.
5º12’41” в. д.
С. 133 Фрагмент карты Ставангерской епархии Яна Янссона, издание 1644 года. К югу от острова Финдаас (Бёмлу) мы читаем, что здесь начинается путь епископа Ставангерского через Бергенскую епархию.
Здесь начинается путь через Бергенскую епархию в Халлингдал и Валдрес. Епископ Ставангерский, Лауридс Клаусен Скавениус, входит в Хардангерфьорд между Рюварденом и Бёмлу в западной Норвегии, минует старый монастырь на острове Халснёйя – он намерен посетить самые отдаленные уголки своей епархии. В глубине фьорда, в деревне Эйдфьорд, епископа дожидается экипаж, чтобы перевезти его через горный хребет в долины на востоке. В пути он делает заметки для задуманной им карты.
Скавениус управлял географически сложной и разбросанной епархией. Ставангерский епископ с 1125 года нес ответственность за области Халлингдал и Валдрес, которые граничат с епархиями Тронхейма на севере, Бергена на западе и Осло на юге. Поэтому, чтобы попасть туда, Скавениусу приходится ехать через Бергенскую епархию. Он вырос в Копенгагене, учился на севере Германии и до своего посвящения в епископа на Троицу в 1605 году никогда не видел ни фьордов, ни гор. При входе в Эйдфьорд по обе стороны от него вздымаются прямо из моря, поднимаясь в небо на 1240 метров, скалы Оксен и Торальдснутен, а углубляясь в горы, при ясной погоде, он увидит и ледник Хардангерйокулен.
Скавениус отмечает расстояния, называет мосты, реки, горы, деревни, озера: Ватнедал, Лиабру, Бруммен, Бьёрдалсванн, Фьеллефьелль, Маррете Стюэн. Еще раньше, прибыв в Ставангер, он сразу же начал изучать свою епархию, составляя списки доходов каждого прихода и внося их в земельную книгу Грогос. Вернувшись из Халлингдала и Валдреса в епископскую резиденцию, он воспользовался своими заметками для заполнения карты, над которой работал уже давно.
К сожалению, оригинал карты Скавениуса утерян, но мы знаем о нем из сообщения некоего датского историка о том, что эта карта была создана в 1618 году, а кроме того, голландские картографы Йоан и Корнелис Блау в 1638 году напечатали карту с заголовком Dioecesis Stavangriensis & partes aliquot vicinae, opera L. Scavenii, S. S. (Ставангерская епархия с прилегающими территориями, составленная Л. Скавениусом).
До нас не дошло никаких епархиальных документов или личных архивов Скавениуса, которые бы подсказали нам, как создавалась карта. Известно лишь, что Педер Клауссон Фриис, викарий в Ундале и провост в Листере, написавший Правдивое описание Норвегии и близлежащих островов, также был автором Описания Ставангерской епархии, которое он подарил Скавениусу примерно в 1608 году. Фриис хорошо знал, главным образом, южную часть епархии. О Халлингдале и Валдресе он мог сказать только то, что горы «между Сетесдалом и Халлингдалом называются Халнефьелль», а «между Халлингдалом и Хардангером – Хардангервидд».
Источником сведений о побережье к северу от епархии, то есть той части Бергенской епархии, через которую Скавениусу пришлось проехать, чтобы добраться до Эйдфьорда, была карта западной Норвегии, составленная несколькими годами ранее Бергенским епископом, датчанином Андерсом Фоссом. И она сохранилась. Это старейшая карта данной области Норвегии, созданная человеком, который там жил.
На карте мы видим западную Норвегию от Тронхеймсфьорда на севере до районов несколько южнее Ставангера. И хотя это всего лишь набросок, он гораздо подробнее представляет норвежское побережье, чем голландские морские карты, лучшие на то время, и очевидно, что в него вложено много труда. Все фьорды и острова в пределах епархии нанесены очень тщательно. Отмечено около семисот топонимов и ста двадцати церквей. Однако к северу и к югу от Бергенской епархии, то есть севернее полуострова Стад и южнее острова Кармёй, местности изображены весьма приблизительно, что лишь подчеркивает – это епархиальная карта.
В Бергенскую епархию входила также область Нурфьорд в Согн-ог-Фьордане – земельное владение, подаренное королем датскому астроному Тихо Браге, которое покрывало треть его расходов на большую обсерваторию. Местные фермеры платили налоги вяленой рыбой, звериными шкурами, смолой, сыром, сливочным маслом и немного деньгами. Доход Браге от этого мена составлял около тысячи далеров в год.
Фосс дружил с Браге, часто бывал у него в обсерватории и в 1595 году подарил астроному карту западной Норвегии. Браге написал на ней: «Descriptiones littorum Noruagiae & quedem alia» («Описание норвежских берегов и некоторых других областей»), упаковал ее, а через несколько лет забрал с собой, уехав из Дании, когда лишился поддержки короля. Карту обнаружили среди оставшихся бумаг Браге лишь триста лет спустя.
Таким образом, карта Фосса стала частью географии XVII века благодаря копии, снятой Скавениусом. Ставангерский епископ наверняка обсуждал географию с Бергенским епископом при встречах, неслучайно участок побережья от Бёмлу до острова Кармёй на юге, который он нанес на свою карту, – это именно тот участок Бергенской епархии, по которому должны были проезжать ставангерские епископы, отправляясь в горы на восток. Это подтверждает и надпись, нанесенная Скавениусом рядом с устьем Хардангерфьорда: «Здесь начинается путь в Халлингдал и Валдрес через Бергенскую епархию».
Эту надпись мы видим на карте, перерисованной и изданной в 1638 году голландскими картографами братьями Йоаном и Корнелисом Блау. Откуда взялась у них карта Скавениуса, неизвестно. Впрочем, карты, оказывавшиеся в карманах купцов, моряков и военных, часто путешествовали по тем местам, которые на них изображены, а иногда и гораздо дальше.
Йоан и Корнелис Блау – второе поколение династии картографов, основанной их отцом Виллемом. Он родился в 1572 году, его настоящее имя Виллем Янсзон, однако позже он взял себе прозвище деда «Виллем Блау», сделав его своей фамилией. Янсзоны были рыбаками, торговали сельдью, однако Виллем страстно увлекся математикой, поэтому оказался в обсерватории Тихо Браге в 1595 году[86], в том самом году, когда епископ Фосс навестил Браге и подарил ему свою карту западной Норвегии. Но что если бы Блау тогда увез домой копию этой карты? Скорее всего, она была бы включена в один из многочисленных атласов, изданных семьей Блау задолго до 1638 года.
В 1605 году Блау присоединились к сонму амстердамских книготорговцев и печатников. Амстердам потеснил Антверпен, заняв его место после того, как двадцать лет назад испанцы велели протестантскому населению покинуть город в течение четырех лет. Республика Семи Объединенных Нижних (нидерландских) земель, завоевавшая независимость в 1579 году, с выгодой для себя воспользовалась притоком талантливых людей, бежавших на север от испанского владычества. Блау купили дом в районе Op het water («У воды») Амстердама, который облюбовали не только моряки, но и многие книгопродавцы и издатели. Открытый Блау магазин украшала вывеска с золотыми солнечными часами, подтверждавшими его название – De vergulde sonnewijser.
За три года до переезда Блау в Амстердаме была основана Объединенная Ост-Индская компания. Она стала голландским ответом испанским и португальским конкурентам, возившим пряности с индонезийских островов. Компания не могла состязаться с иберийцами ни в ресурсах, ни в кораблях, зато она располагала печатниками, гравировщиками и картографами, которые владели новейшими географическими сведениями и могли переносить их на карты, глобусы и в атласы. Ортелий, Меркатор, Вальдземюллер и другие доказали, что составлением карт можно неплохо зарабатывать на жизнь, поэтому в конце XVI века в Амстердаме нашлось немало картографов, соревновавшихся в изготовлении лучших карт для торговых компаний. Испанцы и португальцы пользовались рисованными картами, тщетно пытаясь таким образом сохранить в тайне информацию о своих торговых маршрутах.
В течение XVI века производство морских карт, лоцманских книг и морских атласов превратилось в отдельную отрасль картографии, и поскольку североевропейские водные пути стали столь же значимы для торговли, как и средиземноморские, то эти районы были тоже подробно нанесены на карты. Первые лоцманские книги представляли собой рукописную смесь из описаний судоходных рек, портов, приливов и отливов, схематичных карт и зарисованных вдоль побережья вех. Такие книги создавали не картографы, а опытные мореплаватели.
Первая печатная лоция De kaert vader zee (Морская карта) была опубликована Яном Сёйерсзоном в 1532 году, где в главе 36 «даются объяснения, как доплыть до Норвегии». Впрочем, глава затрагивала лишь отрезок пути от Линдеснеса до Лингёра.
Лукас Янсзон Вагенер предложил новый образец книг-лоций, издав в 1584 году Зеркало мореплавания (Spieghel der zeevaerdt)[87]. Этот двухтомный атлас, который был того же формата, что и Театр Ортелия, к тому же напечатанный Кристофом Плантеном в Антверпене[88], возвестил миру о том, что голландцы устремились ко всё более далеким горизонтам. В предисловии Вагенер сообщал, что он проплыл от испанского Кадиса до западного побережья Норвегии. Навигационная карта охватывала территории от мыса Нордкапп до Канарских островов и от Исландии до Финского залива, тогда как более подробные карты Норвегии не простирались дальше Тронхеймсфьорда. Не совпадали и некоторые детали: Лангесундфьорд, в частности, был примерно того же размера, что и Ослофьорд. Во второй свой атлас – Сокровище мореплавания (Thresoor der zeevaert) – Вагенер включил карты всего норвежского побережья вплоть до Финнмарка и даже Архангельска. Примечательно, что на голландских картах Норвегии отмечено большое количество лесопилок – zaghe и zaghen. Для голландцев Норвегия была прежде всего поставщиком леса на корабельные верфи. По этой причине они называли Ослофьорд Zoenwater (Сунватер), по названию городка Сун в губернии Акерсхус, где находился важнейший порт, откуда экспортировали древесину.
Этим путем пошел и Виллем Блау: в 1608 году он выпустил лоцию Свет мореплавания (Het licht der zeevart), ставшую в карьере картографа настоящим прорывом. Она следовала образцу, созданному Вагенером: тот же прямоугольный формат, разбивка на главы с текстом и очерченными контурами береговой линии. С одной стороны, книга была новаторской, потому что Блау применил знания по астрономии, которой учился у Браге, для более точной навигации, с другой стороны, она бессовестно копировала содержание Вагенерова атласа. Тем не менее Блау громко протестовал, когда сам стал жертвой плагиата. Он просил у властей защиты от стервятников, которые пиратски перерисовывали его карты вскоре после выхода лоции. Он писал, что «сможет, по милости Божьей, поддерживать свою семью честными средствами, если некоторые лица перестанут копировать его новейшие карты еще до того, как на них просохнут чернила»[89].
Блау далеко не единственный среди картографов, кто жаловался на «стервятников». В XVI–XVII веках плагиат был широко распространен. Часто один картограф называл другого вором, обнаружив, что тот присвоил какую-то ценную подробность, которую он вызнал от недавно вернувшегося домой мореплавателя. Некоторые даже намеренно вносили в свои карты незначительные географические ошибки – несуществующий город или озеро, – чтобы проверить, скопирует их кто-то или нет. Картографы могли сотрудничать, а потом разругаться в пух и прах, осыпая друг друга оскорблениями и судебными исками, после чего снова затевали новые совместные проекты. Картографы тоже люди.
В 1618 году в соседний с Блау дом въехал картограф Ян Янссон[90]. Они уже были знакомы и даже успели поссориться, когда в 1611 году Янссон выпустил карту мира, подозрительно похожую на карту Блау трехлетней давности, и это соседство лишь усилило их долгую и плодотворную вражду. Всего через два года, как только истек срок авторских прав на Свет мореплавания, Янссон напечатал ее копию под тем же названием и с той же обложкой, даже не потрудившись убрать с нее имя Блау. В ответ Блау издал новую и лучшую лоцию – Зеркало моря (Zeespiegel).
Янссон был женат на Элизабет, дочери Йодокуса Хондиуса, картографа, покинувшего Фландрию в 1584 году из-за религиозных распрей. В 1593 году Хондиус обосновался в Амстердаме. Четыре года спустя он составил карту Скандинавии, сыгравшую важную роль в датско-норвежской истории.
В 1597 году датскому королю Кристиану IV его советники преподнесли карту Хондиуса. Изображенная на ней Швеция простиралась до полуострова Варангер и имела выход к морю на севере. Северная Норвегия была рассечена надвое: Вардё и окрестности оказались отрезанными от основной части Датско-норвежского королевства.
Благодаря карте король осознал всю серьезность положения, его древним потомственным землям угрожала экспансия шведов и русских. Один из секретарей короля записал: «Еще не так давно Кольский полуостров принадлежал Норвегии, но по нерадивости датских и норвежских военачальников русским удалось завладеть этим районом». К тому же через датско-норвежские проливы – per fretum nostrum Norvagicum – свободно проходили англичане, голландцы, шотландцы и французы, которые вели торговлю на Кольском полуострове, и большинство из них не платили в Вардё пошлину, установленную королем.
Кристиан IV начал выяснять, каким образом «злокозненному соседу» – Швеции – удалось получить выход к морю. Затем решил лично посетить своих подданных на севере. В апреле 1599 года королевский флагман в сопровождении семи кораблей вышел из Копенгагена, взяв курс на крайний север. Чтобы показать свое превосходство, король прошел весь путь до Кольского полуострова с поднятым датским флагом. Это плавание стало демонстрацией силы и права датско-норвежского королевства на северные земли.
Но шведы не собирались уступать. Для короля Карла IX составление карты Финнмарка имело первостепенное значение, и в 1603 году он поручил математику и картографу Андерсу Буре начертить карту северных стран. О его особом интересе к крайнему северу свидетельствует карта, которую он послал в 1610 году голландцам, когда попросил их о помощи в войне против Дании в обмен на право ловить рыбу между Тюсфьордом в Нурлане и Малангеном в Трумсё. Карта не скрывала шведских амбиций: весь Финнмарк, а также бо´льшая часть губерний Трумсё и Нурланн закрашены зеленым цветом – как территории, принадлежащие Швеции. Область от Малангена до Тюсфьорда была помечена оранжевым цветом: поступления от налогов с этих земель Карл собирался поделить поровну между шведами и датчанами. Дании он милостиво оставлял острова, отмеченные красным цветом.
Два года спустя, в 1612, Буре представил королю Густаву II Адольфу карту Лаппония – прелюдию к большой карте Скандинавии, которая еще не была закончена. Путешествуя по заданию, Буре записывал свои наблюдения, проводил топографическую съемку, собирал информацию о скандинавских странах – и в этих поисках наткнулся на копию карты Ставангерской епархии, составленную Скавениусом. Откуда он ее взял, неизвестно, но, скорее всего, Иоханнес Рудбекиус, епископ из шведского Вестероса, так же, как и Скавениус, начертил карту своей епархии, а карту Скавениуса, вероятно, получил от своего норвежского коллеги, ее-то он и мог позволить Буре скопировать. Так или иначе, но Ставангерская епархия на изданной Буре в 1626 году Orbis arctoi nova et accurata delineatio (Новое и точное изображение северного мира), несомненно, воспроизведена по карте Скавениуса.
Шведский король остался доволен Orbis arctoi, на которой Швеции отводилось гораздо больше земель на севере, чем у нее было на самом деле. Он решил, что ее следует напечатать и разослать всем европейским правителям. Так карта Буре стала образцом для картографического изображения Северной Европы в XVII веке. Йодокус Хондиус-младший, шурин Яна Янссона, приобрел экземпляр этой карты, как только ее опубликовали, и на его карте Европы 1632 года Швеция всё еще имеет выход к морю на севере.
Йодокус Хондиус-младший, как и братья Блау, представлял династию картографов, основанную его отцом, во второго поколении, что явствует из его имени. Клан Хондиусов царил на голландском рынке атласов. Начало было положено в 1604 году, когда Хондиус-старший заплатил на аукционе «немалые деньги» за медные доски, с которых печатался атлас Меркатора. Всего два года спустя он подготовил новое его издание, значительно расшив коллекцию Меркаторовых карт[91]. Кроме того, он поместил портрет Меркатора и свой собственный на титульном листе, где они вместе трудятся над парой глобусов, хотя Меркатор к тому времени уже десять лет как умер.
Меркатор так и не закончил труд своей жизни – составление карт всех стран мира. После встречи с Ортелием в 1554 году он оставил профессорскую кафедру, провел тщательную и весьма тягостную съемку в Лотарингии, едва его не убившую, гравировал для новых заказчиков карты и задумал книгу о всемирной истории. Однако для того чтобы надлежащим образом представить историю, необходимо было надлежащим образом представить мир, поэтому он сел рисовать новую карту мира. В 1569 году он опубликовал Nova et aucta orbis terrae descriptio ad usum navigantium emendate accommodata (Новое и наиболее полное изображение Земного шара, проверенное и приспособленное для применения в навигации) – карту мира, составленную в совершенно новой проекции Меркатора, которая определяет западный взгляд на мир вплоть до наших дней.
Судя по названию карты, она предназначалась в первую очередь для того, чтобы облегчить навигацию. Мореплавателям было трудно следовать прямым курсом в открытом море, ориентируясь по карте, на которой меридианы и параллели изгибались, имитируя шарообразную форму Земли. Меркатор же решил их выпрямить. Дугообразные меридианы, сходящиеся у полюсов, он заменил параллельными прямыми, и точно так же поступил с широтами, отказавшись от традиции изображать их короче по мере приближения к полюсам. В результате линии, указывающие направление север-юг и запад-восток, стали прямыми, по которым проще ориентироваться. Даже если требовалось плыть по диагонали на северо-запад или юго-восток, с помощью линейки легко было проложить курс в нужный порт.
Однако в этой проекции заложена погрешность: если области в районе экватора отображались корректно, то северные и южные земли «растягивались» вместе с меридианами, которые должны были сходиться у полюсов, но представляли собой бесконечные параллели. Вот почему Гренландия получилась одного размера с Африкой.
Чтобы компенсировать этот недостаток, Меркатор поместил в нижнем левом углу своей карты первую в истории карту мира с Северным полюсом в центре и сопроводил ее текстом: «…мы сочли нужным повторить здесь окраины нашей карты, приложив к ним полярные области, которые еще не показаны».
У полярной карты Меркатора довольно причудливая география, Северный полюс на ней окружен четырьмя симметрично расположенными большими островами. В одном из писем Меркатор сообщал, что это изображение основано на рассказе очевидца, английского монаха, побывавшего на севере в 1360 году. Свое путешествие монах описал в книге Inventio fortunata (Удачное открытие), которую он подарил королю Англии, однако рукопись исчезла без следа. Источником Меркатору послужила другая книга – Itinerarium (Итинерарий) Якоба Кнойена, где рассказ монаха записан со слов некоего скандинавского священника, посетившего короля Магнуса в Бергене в 1364 году. Меркатор пишет:
Этот священник рассказал королю Норвегии о том, что в 1360 году на островах побывал монах-францисканец из Оксфорда, хороший астроном. Оставив своих спутников, прибывших с ним на эти острова, монах отправился дальше, пройдя всю полярную область, и обо всех увиденных им чудесах написал в книге, которую назвал Inventio fortunata. Повествование охватывает последнюю климатическую зону до самого полюса, начиная с 54 градуса северной широты.
Inventio fortunata давала довольно пестрое описание Крайнего Севера. По словам монаха, северная Норвегия граничила с горным хребтом, тянувшимся по четырем островам и кольцом окружавшим Северный полюс в районе 78 градуса северной широты. Обтекавшие острова широкие реки устремлялись в полярное море навстречу огромному водовороту. На самом полюсе возвышалась гигантская черная магнитная скала. Один из островов, примыкавший к Норвегии, ближайший к Европе, населяли пигмеи ростом не больше четырех футов. Меркатор писал, что такое путешествие монах мог предпринять, лишь прибегнув к магии.
В наши дни большинство исследователей сходятся во мнении, что даже если монах и не добрался до Северного полюса, он, несомненно, побывал в юго-западной части Гренландии, а затем доплыл до Канады, поскольку описывал густые обширные леса. Четыре острова и сильные приливы – это вполне точное описание мест, которые сегодня мы называем морем Бáффина. Здесь расположен Северный магнитный полюс. Священника, повстречавшего монаха, а затем гостившего у норвежского короля Магнуса, скорее всего, звали Ивар Бордсон, он был епископом Гренландии и несколько лет возглавлял Гардарскую епархию. Известно, что в 1364 году он посетил Берген.
Таким образом, Меркатор, придерживавшийся в целом научного подхода, составляя карту полярной области, использовал изложенный Кнойеном рассказ Бордсона о том, что увидел английский монах двести лет назад. Карта точно воспроизводит его описания. Есть лишь редкие исключения. Меркатор не соединил Норвегию с приполярными островами, так как знал, что можно проплыть мимо Вардё дальше в Россию, это отмечено уже на его карте Европы 1554 года.
Однако во всей этой ошибочной полярной географии есть загадка – Гренландия изображена на удивление верно. Составляя карту мира тридцатью годами ранее, Меркатор представил Гренландию полуостровом огромного полярного континента, следуя традиции, восходящей к Клавусу Клаудиусу. А на карте 1569 года Гренландия уже остров, хотя Меркатор этого просто не мог знать, потому что тогда (как и сейчас) северная ее часть была скована льдами. Более того, никто из мореходов той эпохи не заплывал так далеко на север. Еще в 1924 году датский полярный исследователь Лауге Кох считал, что до 1852 года пределом географических познаний европейцев о Гренландии были 78 градусов 20 минут северной широты. Тем не менее следует признать, что карта Меркатора передает очертания Гренландии гораздо точнее, чем карты XIX века.
Почему следующие поколения картографов игнорировали его карту? Возможно, потому что Меркатор не указал источник своих сведений. И они просто не могли поверить, что он составил точную карту Гренландии, считая ее всего лишь плодом его фантазии.
Поэтому большинство картографов продолжали изображать Гренландию частью северного континента. Даже в 1865 году выдающийся немецкий географ Август Петерманн утверждал, что Гренландия соединена с Сибирью. Только в 1891 году полярные исследователи американец Роберт Пири и норвежец Эйвин Аструп, отправившиеся в экспедицию, чтобы раз и навсегда выяснить, остров или полуостров Гренландия, установили, что они на острове, ибо увидели с горы Нэви-клифф, что фьорд Индепенденс вдается в море Ванделя. Гренландия Меркатора на карте 1569 года остается одной из неразгаданных тайн картографии.
Новая карта мира не сразу завоевала популярность, по крайней мере, у моряков. Не в последнюю очередь потому, что ее ширина превышала два метра. Лишь в 1599 году Меркаторову проекцию кто-то применил для создания новой карты. Прошло еще пятьдесят лет, прежде чем ею стали пользоваться для составления морского атласа. Для большинства мореплавателей карта имела непривычный вид, им не нравились растянутые области суши на севере, но постепенно они смирились с тем, что это цена, которую нужно платить за удобство прокладывания и удержания курса.
Когда Меркатору было двадцать шесть лет, он поклялся начертить карты всех стран и областей мира. Через сорок лет у него были готовы лишь карты Фландрии и Европы. В 1578 году он считал, что для проекта, к которому ему так не терпится приступить, потребуется сто карт. Время поджимало: ему стукнуло шестьдесят шесть лет, зрение уже подводило.
Осенью 1585 года он привез на Франкфуртскую книжную ярмарку пятьдесят одну карту Франции, Нидерландов, Швейцарии и Германии[92]. Ожидания были велики, всем не терпелось увидеть новые шедевры Меркатора. Но столь же велико оказалось и разочарование. Публика привыкла к картам, украшенным парусниками, розами ветров, экстравагантными картушами, мифическими существами, затейливыми рамками, яркими красками, а увидела серые, скучные карты, без всяких ухищрений. Меркатор опередил свое время. Его новые карты воплощали идею «новой географии», ориентированной на простоту, практичность и точность – эта идея гораздо более распространена сегодня, чем четыреста лет назад.
Однако Меркатор не собирался идти на уступки публике. На картах Балкан, Греции и Италии, представленных им четыре года спустя, украшательств было еще меньше – всего один монстр и два корабля на двадцать одну карту. Тогда же Меркатор пишет в предисловии к своему opus magnum: «Я решился подражать Атласу, известному столь же своей ученостью, сколь добротой и мудростью». Атлас, или Атлант – титан, обреченный нести на своих плечах западный край небесного свода после того как восставшие боги-олимпийцы победили титанов. Его именем названы Атласские горы в Марокко и Атлантический океан. В позднейших преданиях Атласом именовали мудрого короля Мавритании, знавшего всё о звездном небе, и именно в честь этого Атласа, «философа, математика и астронома», Меркатор назвал свой труд Atlas, sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura (Атлас, или Космографические соображения об устройстве мира и получении изображения). На титульном листе бородатый Атлас в свободных одеждах осматривает два глобуса – глобус Земли и глобус звездного неба.
Представив центральную и южную Европу, кроме Испании и Португалии, Меркатор принялся за северную. На карте Европы 1554 года Исландия передана совершенно неверно, но теперь ему удалось достать карту 1585 года, составленную, предположительно, исландским епископом, в итоге получилась впечатляющая карта Исландии с вулканом Гекла в языках пламени. К северу от острова даже нарисовано извергающее воду чудовище. Норвегии и Швеции пришлось довольствоваться одной картой, тогда как Дании уделено четыре карты, поскольку Меркатора усердно снабжал сведениями вице-король Дании.
Вскоре после завершения карт скандинавских стран Меркатор перенес инсульт. Всю левую половину его тела парализовало. Он был крайне подавлен тем, что не мог работать: ему шел уже семьдесят восьмой год, а для того, чтобы закончить начатое, потребовалась бы еще одна, такая же долгая жизнь. Текст о сотворении мира – последняя работа, которую он успел закончить перед смертью в конце 1594 года.
Его сын Румольд и трое внуков собрали в один том его неизданные труды, и всего через четыре месяца после смерти Меркатора издали Атлас, давший миру имя нового жанра книг. Первооткрывателем этого жанра был Ортелий, однако Меркатор пользовался большей известностью как географ, возможно, поэтому сегодня мы говорим «атлас», а не «театр мира». Между тем продажи шли не слишком хорошо. В отличие от Театра новый Атлас был не закончен, в нем не хватало карт Испании и Португалии, а мир за пределами Европы представляли только три карты, да и то начертанные не Меркатором, а его сыном и внуками.
Семья, разочарованная отсутствием успеха и терзаемая нуждой после смерти последнего сына Меркатора, оставившего иждивенцев, жену и детей, вынуждена была продать печатные медные доски Йодокусу Хондиусу-старшему, а уж он знал, как из них сделать машину для добывания денег.
Хондиус-старший прекрасно понимал, что карты покупают не для того, чтобы узнать, где находится Берген или Венеция. Гораздо больше привлекал их импозантный вид и всякая всячина, а не только географическая информация. Поэтому на печатные доски Меркатора он добавил изящные барочные иллюстрации – людей в национальных костюмах, миниатюрные карты городов, корабли и картуши в изобилии. Меркатор перевернулся бы в гробу, увидев это, но тираж раскупили. После первой публикации в 1606 году Атлас Меркатора – Хондиуса выдержал еще двадцать девять изданий на латыни, нидерландском, французском, немецком и английском языках.
Йодокус Хондиус-старший умер в 1612 году. Двое его сыновей, Йодокус-младший и Хенрик, продолжили его дело, но из-за разногласий их пути разошлись. Хенрик объединился со своим шурином, Яном Янссоном, соседом и плагиатором Блау, а Йодокус начал готовить карты для нового атласа. Однако вскоре он неожиданно умер в возрасте всего тридцати шести лет, так и не успев опубликовать атлас. И кому же достались его медные печатные формы? Виллему Блау – заклятому врагу Яна Янссона и Хенрика.
Блау ликовал: теперь он мог противостоять конкурентам на рынке атласов. Уже на следующий год он издал Appendix Theatri A.Ortelii et Atlantis G.Mercatoris (Дополнение к «Театру» А. Ортелия и «Атласу» Г. Меркатора). Из шестидесяти опубликованных в нем карт тридцать семь были изготовлены Хондиусом-младшим, но Блау поставил свое имя и даже не упомянул покойного Йодокуса в предисловии. Хотя новый атлас был небезупречен в том, что касалось качества печати и географического охвата, он пользовался спросом у состоятельных горожан, желавших приобрести альтернативу атласу Хондиуса. Хенрик и Ян немедленно нанесли ответный удар, выпустив дополнение к собственному атласу. Три года спустя они издали дополненное французское издание Атласа Меркатора – Хондиуса, в котором критиковали Блау и называли его атлас «стряпней из старых карт». Так началось соперничество атласов: каждая сторона постоянно пыталась превзойти другую, публикуя новые расширенные и всё более роскошные издания.
Карта Йоана и Корнелиса Блау Dioecesis Stavangriensis & partes aliquot vicinae, opera L. Scavenii, S. S. (Ставангерская епархия с прилегающими территориями, составленная Л. Скавениусом). Теллемарк – большое пустое пространство, о нем голландцы ничего не знали. Надпись «Mare Germanicum Vulgo De Noord Zee» означает: «Северное море – обычное именование этих вод».
Блау в 1632 году стал официальным картографом Ост-Индской компании, и это давало ему большое преимущество. Ведь благодаря должности он не только хорошо зарабатывал, но и был в курсе всех последних географических новостей, которые приходили вместе с кораблями компании.
В феврале 1634 года он поместил в газете объявление: «В настоящее время Виллем Янсзон Блау готовит к печати в Амстердаме большую книгу карт, Атлас, на четырех языках: латинском, французском, немецком и голландском. Немецкое издание выйдет к Пасхе, голландское и французское – в мае, самое позднее в начале июня, а вскоре за ними последует и на латыни. Все издания полностью обновленные, печатаются на качественной бумаге с новых выгравированных медных форм и содержат последние, исчерпывающие географические описания». Выход новых атласов немного запоздал, они увидели свет лишь в следующем году, зато составили два тома, включавших в себя двести семь карт.
Карта Скандинавии, изданная Блау в 1635 году, составлена явно под влиянием упрощенной карты Ставангерской епархии Андерса Буре. Очевидно, что карта Скавениуса какими-то неисповедимыми путями попала в Амстердам вскоре после выхода атласа в версии Блау: всего через год Янссон и Хондиус впервые опубликовали Nova et accurata tabula episcopatuum Stavangriensis, Bergensis et Asloiensis vicinarumque aliquot territorium (Новую и точную карту епархий Ставангера, Бергена и Осло и некоторых соседних территорий). Ни разу не упомянув имя Скавениуса.
Напротив, Йоан и Корнелис Блау отдали должное Скавениусу, назвав изданную ими в 1638 году карту Dioecesis Stavangriensis & partes aliquot vicinae, opera L. Scavenii, S. S. Карту украшала фигура типичного, с точки зрения голландцев, норвежца с топором и деревом (в знак того, что Норвегия поставляла Голландии корабельный лес), в окружении типичных норвежских животных – двух горных козлов.
Виллем умер в том же году, и братья Блау унаследовали помимо крупнейшей в Европе типографии с девятью печатными станками, шесть из которых печатали исключительно карты, также должность официального картографа Ост-Индской компании, доставшуюся Йоану. В то же самое время оставил картографию и Хенрик Хондиус. Теперь друг с другом соперничали лишь Блау и Янссон.
В 1640 году голландский торговый флот насчитывал две тысячи судов, гораздо больше, чем у любой другой страны мира. На одну только Ост-Индскую компанию работало около тридцати тысяч моряков. Кроме того, была еще Вест-Индская компания, отправлявшая корабли в Южную и Западную Африку, а также в Америку, где в 1614 году голландцы основали Новый Амстердам на острове, который индейцы называли Маннахата. Прибыль от торговли перцем, имбирем и мускатным орехом – товарами, высоко ценившимися в Европе, весьма приохотившейся к пряностям, – была баснословная.
Всем судам для навигации требовались лоции. Капитанов и штурманов, отправлявшихся на Острова пряностей, обычно снабжали набором из девяти карт: первая указывала путь от голландского острова Тексел до Мыса Доброй Надежды, на второй был изображен Индийский океан от Африки до Зондского пролива между Явой и Суматрой, следующие три представляли Индонезийский архипелаг, а четыре последних – это отдельные карты Суматры, Явы, Джакарты и проливов между островами.
Все эти карты составил Йоан Блау и его помощники. Жалование картографа было невелико, пятьсот гульденов в год, но Блау мог продавать компании новые карты: в результате только в 1668 году он заработал астрономические 21 135 гульденов. Эти доходы, а также близость к источникам информации – вернувшимся из плавания морякам – поставили Блау в привилегированное положение: он «пек» новые многотомные атласы, как пирожки. Однако Янссон был сильным конкурентом. Они схлестнулись в борьбе за издание лучшего атласа эпохи. Они удваивали и утраивали усилия, печатая в 1640–1650-х годах всё более объемные, амбициозные и дорогостоящие атласы. Их соперничество можно представить как серию футбольных матчей, где голами были изданные тома:
1640: Блау 3 – Янссон 3
1645: Блау 4 – Янссон 3
1646: Блау 4 – Янссон 4
1650: Блау 4 – Янссон 5
1654: Блау 5 – Янссон 5
1655: Блау 6 – Янссон 5
1658: Блау 6 – Янссон 6
Ничья. Блау задался целью создать атлас, который раз и навсегда возвысил бы его над соперником – блистательный труд, охватывающий весь мир: Atlas maior, sive cosmographia Blaviana, qua solum, salum, coelum, accuratissime describuntur (Большой атлас, или Космография Блау, в которой земля, море и небо изображены самым точным образом). На завершение этого труда он бросил все средства. Одержимый мыслью об атласе, он в 1662 году даже провел распродажу в своем книжном магазине. Когда в том же году атлас наконец увидел свет, стало понятно, почему на него уходили все деньги и время Блау. Atlas maior был гигантским. Ничего подобного никто и никогда не издавал. Рядом с его одиннадцатью томами объемом 4608 страниц и 594 картами все предыдущие атласы выглядели лилипутами. Цена была под стать творению: четыреста тридцать гульденов за цветное издание – почти годовое жалование Блау, в пересчете на сегодняшние деньги более двадцати тысяч евро. Другими словами, оно предназначалось не для широкой публики, а скорее для аристократов, дипломатов и богатых купцов.
Atlas maior, безусловно, самый внушительный и красивый атлас в мире. Но вместе с тем это колосс на глиняных ногах, динозавр. Блау и Янссон гнались за количеством, а не качеством, за вычурностью, а не точностью. Их стратегия заключалась в том, чтобы впихнуть под обложку как можно больше карт. Некоторым из карт в Большом атласе было более тридцати лет. Недостаток новизны, возможно, обусловлен чисто коммерческими причинами: Блау вложил в проект столько денег, что не хотел рисковать, включая новые, незнакомые карты. Вероятно, он извлек урок из фиаско Меркатора, представившего восемьдесят лет назад новые, точные, но совсем не зрелищные карты. Блау на недостаток успеха жаловаться не приходилось: Большой атлас расходился хорошо и завоевал репутацию самого роскошного издания – шедевра экстравагантной барочной картографии.
Пока Блау и Янссон сводили счеты друг с другом, голландцы вступили в большую войну. Конфликт с Испанией продолжался и после неофициального провозглашения независимости Нидерландов в 1579 году. В то время как картографы в основном занимались атласами, глобусами, картами мира и городов, военные нуждались в стратегических картах приграничных районов и крепостных сооружений. В 1600 году в Лейденском университете начали читать курсы по математике, инженерному делу и геодезии, в том же году вышли соответствующие учебники, в частности, Землемерная практика (Practijck des lantmetens). Голландские инженеры вскоре завоевали репутацию новаторов, они обеспечили победу над испанскими войсками, разрушив плотины в стратегически важных местах и затопив врага. Многим предложили работу за границей. Одного из них даже занесло далеко на север, в датскую провинцию.
Исаак ван Геелкерк, сын картографа, начертил свою первую карту, будучи еще подростком шестнадцати лет, так что к 1644 году, когда его, двадцатидевятилетнего картографа и инженера крепостных сооружений, наняли в датско-норвежскую армию, он уже обладал солидным опытом. Два года спустя он составил карту Бергена с проектом новых укреплений. Это старейшая из известных карт города. Позже он создал карты приграничных районов, Мердё под Арендалом, морских подступов к Гётеборгу, Тронхеймской епархии и городу Фредрикстад. В 1650 году его отозвали из отпуска, торопя с завершением карты Норвегии, которую он начал составлять. Вероятно, он ее так и не закончил, но всего через несколько лет появилась карта Дании и Норвегии – Daniæ et Norvægie tabula, «ex Is. Geelkerckij», составленная частично Исааком Геелкерком. Видимо, он всё же продвинулся довольно далеко, прежде чем покинул Норвегию в 1657 году.
На одной из его пограничных карт, Abris der Smaa Lehnen (Эстфолд), в состав Норвегии включена область Бохуслен, перешедшая к Швеции на следующий год после отъезда Геелкерка. Тогда же был подписан договор о демаркации и делимитации новой государственной границы.
Граница между Норвегией и Швецией постоянно куда-нибудь перемещалась. Даже после того как в 1645 году Норвегии пришлось уступить «Емтланд с Херьедаленом включительно, ибо упомянутый Херьедален находится на шведской стороне горного хребта», окончательная граница так и не была проведена. Летом-осенью 1661 года границу провели и нанесли на официальную карту только от Иддефьорда до острова Хисёйя в Нурдре-Корнсьё. Здесь и сегодня стоит пограничный столб номер 1. Дальше к северу границу установили лишь девяносто лет спустя.
Однажды в зимний полдень 1688 года преподаватель гимназии в Тронхейме написал королю письмо, в котором обещал составить карту всей Норвегии в обмен на доходы от округа Фусен. Через девять дней он отправил вдогонку другое письмо, прося заменить Фусен на Стьёрдален.
Преподавателя звали Мельхиор Рамус, он был сыном священника из Эукры в губернии Ромсдал. О нем известно слишком мало, чтобы понять, почему он решил взяться за карту Норвегии. По образованию он был богослов, а не математик, не астроном и не инженер, и ничто в его биографии не указывает на то, каким образом он собирался выполнить свое обещание. Рамус писал королю, что готов составить карту каждой норвежской епархии – «пять больших карт Акерсхуса, Бергена, Кристиансанна, Тронхейма и Нурланна», а также приграничных областей между Норвегией и Швецией, всех шахт, всего побережья с выходом к торговым портам, словом, полную карту Норвегии.
Кристиану V инициатива пришлась по душе. Он гарантировал Рамусу пожизненную ренту. Однако король, известный своим интересом к картографии, совершенно не представлял себе масштаба работы: он решил, что Рамус закончит карты «inden tvende Aars forløb» – «в течение двух лет».
Нет никаких записей о том, как он работал. Единственное, что можно сказать с уверенностью: с мая по сентябрь 1689 года Рамус ездил по Нурланну, Трумсё и Финнмарку, поскольку сохранился эскиз карты, где его рукой записаны уточненные координаты некоторых мест в Нурланне. Кроме того, сохранились наброски южной и западной Норвегии, которые могли принадлежать только Рамусу, хотя он никогда не подписывал ничего своим именем.
В 1692 году он передал королевскому секретарю большую карту Норвегии. Оригинал утрачен, но в датских архивах имеются карты Норвегии, скопированные в 1774 году с «карты времен Кристиана V». Скорее всего, это копии карты Рамуса. Кроме общей карты, он создал несколько карт норвежских епархий. Самая полная и красивая из них – Præfectura Nidrosiensis vulgo Trundhiems Ampt.
Рамус умер в ночь на двадцать пятое февраля 1693 года. «У него открылось кровотечение, которое нельзя было остановить, и он умер от потери крови», – записал в приходской книге старший пастор Мельдалского прихода. Один из основоположников норвежской картографии ушел из жизни, так и не увидев, как на медных формах выгравируют и напечатают созданные им карты. Всего за три с половиной года он сумел завершить огромный труд, который по достоинству оценили его последователи. В начале XVIII века его карты начали копировать другие авторы, ставя на них свои автографы.
Споры о границе Финнмарка не утихли и после того, как датский король Кристиан IV совершил вояж до Северного Калотта, чтобы показать свою силу. В 1709 году очередная война датско-норвежского королевства против Швеции началась, как обычно, с претензии к границам. Лишь после того как в 1734 году между двумя странами нормализовались отношения, они подписали договор, обязавший их урегулировать конфликты «во всех местах, где имелись разногласия по поводу норвежской границы». Но одно дело урегулировать пограничный спор и совсем другое – провести государственную границу. Один из меморандумов Кристиана VI предусматривал «создание полноценной карты с начертанием линии границы и приграничных территорий между Норвегией и Швецией с обеих сторон». Возник вопрос: следует ли проводить границу «геометрически, со всеми линиями, углами и изгибами, фиксируя их реальную длину и ширину», или же просто «географически», полагаясь на свидетельства местных жителей? Король, стремившийся к максимальной точности в пограничном вопросе, предпочел первый способ.
Межевание границы началось первого августа 1738 года на острове Хисёйя. Закончив съемку первого участка – до пограничных столбов, где коммуны Аремарк и Маркер граничат со Швецией, – норвежские землемеры начертили карту, отметив на ней жирной линией правильную, с их точки зрения, границу Норвегии. Границу по версии шведов обозначили линией потоньше. А область между этими двумя границами закрасили отдельным цветом. Спорные территории здесь оказались совсем небольшими. Однако, когда в 1741 году землемеры добрались до коммуны Идре к востоку от Эльверума, они очутились на землях, оккупированных Швецией почти сто лет назад. Издавна граница между приходом Идре и коммуной Рендал проходила с юга на север через озеро Фемунн, исходя из этого, шведы представили карту, на которой государственная граница прочерчена как раз по этой линии. Норвегия же хотела вернуть себе хотя бы часть Идре, но еще важнее для нее было, чтобы медеплавильный завод в Рёрусе имел свободный доступ к лесу, необходимому для бесперебойной работы плавилен. Поэтому Датско-норвежское королевство предложило компромисс: провести границу на двадцать-двадцать пять километров восточнее озера Фемунн, а взамен Дания-Норвегия отказывалась от претензий на коммуну Идре. Обосновать это предложение поручили майору Петеру Шнитлеру.
Шнитлер был и военный картограф, и юрист. Подготовленный им отчет о границе, проходящей между Норвегией и Швецией в указанном районе, сыграл на руку Норвегии: в наши дни граница проходит примерно в десяти километрах восточнее озера Фемунн. Его следующим заданием стало исследование всего участка границы от Рёруса до Варангера, где он проводил опросы среди местных жителей, уточняя у них, где, по их мнению, проходит фактическая граница. Во время этих поездок Шнитлер показал себя талантливым картографом. В октябре 1742 года он «из-за непогоды» задержался на острове Индерёй и провел это время, нанося на карту границы тех мест, которые он посетил: Индерёй, Тамдал, Хельгеланн и Сальтен. Позднее он составил карты остальных областей – Нурланна, Сенья, Трумсё и Финнмарка. В начале 1746 года он записал в своем дневнике: «С 16 января по 16 ферваля работал над географическими картами норвежской Лапландии, тех ее областей, что относятся к округам Сенья и Трумсё, отправил их тамошним сановникам».
Шнитлер переслал свои рабочие карты и записи норвежским военным инженерам, с которыми те продолжили работать. Они тщательно измерили всё, что он зарисовал на глаз, использовали сведения, полученные им от местного населения, в переговорах со шведами и нанесли на свои итоговые карты пограничные вехи, местонахождение которых ему удалось зафиксировать. Трудно переоценить роль Шнитлера в определении северной границы между Норвегией и Швецией, которой эти страны по сей день придерживаются.
Второго октября 1751 года был подписан договор о самой длинной границе между двумя европейскими странами. Он устанавливал границу протяженностью около 2200 километров – от острова Хисёйя до южной части Варангер-фьорда, за которым начинались общие норвежско-российские территории. В следующие пятнадцать лет граница была отмечена пограничными вехами и исследована землемерами обеих стран.
В это же время, когда обустраивалась граница, в Норвегии открылась первая школа геодезистов. Это совпадение скорее случайное. Главной причиной было вопиющее невежество офицеров в датско-норвежской армии: их продвижение по службе, как правило, зависело не от их образования, а от благородного происхождения, связей либо денег, позволявших купить титул, и это отнюдь не способствовало повышению боевых качеств и компетентности военных. Тогда и обратили внимание на жившего в Тронхейме немца Георга Михаэля Дёдерлейна, о котором говорили, что он «обучает офицеров и офицерских детей математическим наукам», и несколько его учеников стали хорошими инженерами. Королю предложили воспользоваться талантами Дёдерлейна, для того чтобы искоренить невежество в армии, и в декабре 1750 года он стал первым руководителем Свободной математической школы в Осло. Среди предметов, которые изучали ее студенты, были «сферическая тригонометрия и землемерное дело». Так в Норвегии появилось первое учебное заведение, где учили составлять карты. Оно положило начало военной академии и национальному картографическому управлению.
В 1756 году норвежский офицер Ове Андреас Вангенстеен получил назначение в датский город Рендсборг, находившийся на границе с Германией. В Европе снова разразилась война, однако на этот раз датско-норвежскому королевству удалось остаться в стороне. Поэтому у Вангенстеена было время заняться картографией. Его Карта королевства Норвегия, составленная О. А. Вангстееном в Рендсборге в 1759 году, стала наброском более масштабной карты, которую он завершил два года спустя. Полное ее название: Королевство Норвегия, разделенное на четыре епархии, как то Акерсхус, Кристиансанн, Берген и Тронхейм, с относящимися к ним приходами. Составлено с любезного разрешения и санкции Его Величества Короля в 1761 году О. А. Вангстееном, капитаном норвежского артиллерийского корпуса.
С. 156–157 Центральная часть трехчастной Карты Нурланна, на которой пунктирной линией показан морской маршрут из Трумсё в Трёнделаг, а точнее – от Андснеса до Леки и Гутвика. На этой части карты мы видим небольшое судно между островами Тьельдёйя, Хиннёйя и Хамарёй, большой корабль с датским флагом около Вестфьорда и еще одно судно возле Рёста, кроме того, два мелких кораблика плывут вдоль пунктирной линии мимо Энгельвэра и Бриксвэра. Карта не датирована и не подписана, но предположительно была составлена около 1750 года. Ее размеры 215×48 сантиметров. Рамка с золотым орнаментом – это, по всей видимости, кайма для обоев.
Норвегию, имевшую какую угодно, только не прямоугольную и не круглую форму, всегда было трудно воспроизвести на листе бумаги. Эту проблему разрешил в 1680 году голландский картограф Фредерик де Вит, который разделил страну на две части и поместил южные и северные ее области рядом. Вангенстеен последовал его примеру, в результате Нурланн и Финнмарк, входящие в Тронхеймскую епархию, предстали в невыгодном для себя, изрядно уменьшенном виде. Зато карта дает полное представление о норвежской промышленности того времени, которую олицетворяют рыбаки, охотники, лесорубы и мореплаватели. Торговые порты, серебряные рудники и шахты, медеплавильные и металлургические заводы отмечены специальными символами, а в Хурдале и Эйдсволле мы видим стеклодува и золотой рудник.
Вангенстеен явно рассчитывал на то, что его карту будут продавать в Германии. В картуше он написал по-немецки: «Обращаем внимание немецких читателей на то, что букву «v» в названиях следует читать как «w»; а сочетание «aa» следует произносить не как долгий звук «а», но почти как «о». Так, топоним Vaage в Нурланне произносится не Fage, а Woge; соответственно Vaaler в Солёре – не Faler, а Woler и так далее».
Эта карта – плод многолетнего труда. Восемью годами ранее Вангенстеен снял копию с карты Норвегии, составленной Юнасом и Юакимом Фредриком Рамусом, братом и сыном Мельхиора Рамуса. Они продолжили его дело после его смерти, нашли новые источники и начертили более точную карту, которую Вангенстеен сопоставил с местными картами, обнаруженными в норвежских и датских военных архивах.
Карта Вангенстеена стала первой картой Норвегии, составленной и изданной норвежским картографом. Она была намного точнее, чем любая из опубликованных за границей карт. Через два года после ее выхода норвежский историк Герхард Шёнинг писал: «До сих пор нам недоставало правильных и подробных географических описаний королевства Норвегия <…>. Всё, что в этой связи сделали иностранцы, никуда не годится и скорее сбивает с толку, чем вносит ясность; их карты нам говорят о регионах Норвегии, протяженности, местоположении и названиях городов столько же, сколько обычные карты – о подлинной природе великой Тартарии или стран, находящихся в глубине Африки и Америки».
Тем не менее первое издание карты содержало серьезную ошибку: граница между Норвегией и Швецией проходила через озеро Фемунн – как раз там, где ее изначально установили шведы. Вангенстеен не знал о последних результатах переговоров о границе. Во втором издании он начертил границу уже правильно, выделив ее цветом, потому что полностью стереть старую линию с печатной формы так и не удалось.
Во время работы над своей картой Вангенстеен безуспешно пытался разыскать карты, которые, как он знал, двадцать лет назад были созданы Генеральным лесничеством (Generalforstamtet). Эти карты – первая попытка взять под контроль государственные и частные лесозаготовки в Норвегии. В XVII и XVIII веках власти серьезно опасались обезлесения. В 1688 году половину лесопилен в южной и восточной Норвегии закрыли, потому что «леса во многих местностях были уничтожены».
Одним из самых крупных лесовладельцев считался серебряный рудник в Конгсберге. Именно сюда в 1737 году отправились братья Иоганн Георг и Франц Филип фон Лангены, чтобы нанести на карты не только принадлежавшие руднику леса, но и все лесные угодья страны, будь то королевские или чьи-либо еще. Они приступили к делу сразу же по приезде, начав с наброска округа Акер, затем перешли к Нумедалу, Сандсверу, графству Братсберг (Телемарк) и Кристиансаннской епархии. Летом 1742 года они начали составлять карту Бергенской епархии.
Создание карт береговой линии – «по мере обнаружения лесов на побережье» – поручили моряку и картографу Андреасу Хейтманну. Весной 1743 года он отправился составлять карту побережья к северу от Тронхейма. Ему предоставили судно и средства, чтобы нанять матросов. Из-за встречного ветра и изыскательских работ, задержавших его между островом Кармёй и Бергеном, он прибыл в Тронхейм только в августе, когда начинать топографическую сьемку северных областей было уже поздно. Однако следующим летом он добрался до Трена в Нурланне и увенчал свою работу тем, что нанес на карту побережье вплоть до Анденеса, граничащего с графством Финнмарк.
Пару лет спустя у карты Хейтманна объявился анонимный двойник, так называемая Карта Нурланна. Она представляла собой любительскую, но красочную и в чем-то улучшенную репродукцию оригинала, созданную с определенной целью: подробно воспроизвести морской путь (Nordfahrleden) для легких судов через проливы между островами и шхерами. От пролива между Лекой и Гутвиком на юге проложена пунктирная линия, по которой следует небольшой одномачтовый парусник, плывущий вдоль побережья мимо Алсты, Рёдёй, Хиннёйя, Сенья и Трумсё до Анденеса в графстве Финнмарк на севере.
Генеральному лесничеству так и не удалось нанести на карту всю страну. Кристиан VI хотел, чтобы «начатая карта охватила всё Датско-норвежское королевство», но это намерение отнюдь не разделяли лесовладельцы и лесоторговцы, которым не нравились ограничения, налагаемые на их деятельность, поэтому со смертью короля в 1746 году почила и его идея.
С самого начала «лесные карты» были окутаны тайной. Некий губернский сановник в 1743 году обратился было в Генеральное лесничество с просьбой выдать ему копию карты Кристиансаннской епархии, но ему ответили, что без санкции короля никому не может быть предоставлена ни одна копия. А после ликвидации лесничества все карты немедленно упрятали в архив в Копенгагене. Только в 1772 году, когда стал назревать очередной военный конфликт со шведами, генерал Генрих Вильгельм фон Хут, которого направили в Норвегию укреплять границу, прихватил эти карты с собой. С них-то и началось современное, научное картографирование страны.
Из истории карты Скавениуса видно, как европейские карты в XVI–XVII веках кочевали по континенту и как ими пользовались те, кто охотился за самыми свежими и точными географическими сведениями. Картографы соперничали друг с другом, каждый стремился первым заполучить последнюю информацию, которую можно было превратить в звонкую монету. В то же время разные типы карт всё более отличались друг от друга. Религиозно мотивированные карты, унаследованные от Средневековья и частично модернизированные в протестантских странах, по-прежнему играли важную роль; купеческое сословие нуждалось в большом количестве карт для своей деятельности, тогда как правительства и военные требовали карт, которые помогали бы в управлении и ведении войн. Эта тенденция лишь усилится в последующие годы, когда будет проведено более тщательное картирование Дании, Франции и Норвегии.
Масштабные геодезические измерения
Крепость Конгсвингер,
Норвегия
60°11’57” с. ш.
12°00’40” в. д.
С. 160 Фрагмент Ситуационной карты крепости Конгсвингер 1750 года, выполненной неизвестным картографом. Карта была составлена во время строительства новых валов: «CCC endnu ikke ferdig» означает «ССС еще не закончена». Флагшток, которым был обозначен норвежский нулевой меридиан в 1779 году, здесь, к сожалению, не отмечен.
История современной норвежской картографии началась с того, что два лейтенанта стояли друг против друга на соседних холмах севернее Конгсвингера и обменивались дымовыми сигналами. Шел 1779 год. Один офицер находился на вершине Браттбергета, другой – Эспербергета, и, разведя огонь и сжигая на нем порох, они пытались по дыму измерить расстояние между холмами. Их целью было определить базисную линию и с ее помощью приступить к картографированию этой стратегически важной местности близ границы со Швецией. Однако в этом же районе жгли листву и мусор, что создавало серьезные помехи картографам.
Поэтому они снова и снова возобновляли свои попытки. У обоих лейтенантов были маятниковые часы, точно настроенные под движение солнца. Когда часы одного показывали, что солнце над ним находится в зените, он давал залп. Второй делал то же самое, но чуть позже, когда солнце достигало пика над его холмом. Разница во времени между выстрелами – около минуты и семнадцати секунд – и составляла примерное расстояние между двумя высотами.
Лейтенанты соотнесли результаты, полученные ими в наиболее удачные четыре дня, с астрономическими наблюдениями и установили, что расстояние между холмами равно 62 322 датским футам или 19 555 метрам. Однако погрешность достигала приблизительно ста метров. Поэтому в феврале следующего года, взяв с собой четыре четырехметровых сосновых шеста, они отправились на замерзшее озеро, самое ровное место, какое возможно в этой стране фьордов, чтобы провести контрольные замеры. Выбор пал на озеро Стуршён, расположенное в нескольких милях к северо-западу от Конгсвингера. Там посредством сосновых шестов лейтенанты провели еще одну базисную линию, а затем сопоставили ее с первой при помощи землемерных инструментов и, наконец, точно рассчитали расстояние между Браттбергетом и Эспербергетом: 19 498 метров. Впервые столь протяженный участок местности в Норвегии был измерен научными методами. Пришло время современной картографии.
Толчком к картографированию страны послужил coup d’état, государственный переворот в Швеции, совершенный семью годами ранее королем Густавом III, желавшим получить абсолютную власть. В ответ Датско-норвежское королевство стало готовиться к возможному нападению. Глава инженерного корпуса генерал Генрих Вильгельм фон Хут принял меры для укрепления обороны в приграничных районах: усилил крепости и обновил артиллерию. А 14 декабря 1773 года появилось первое государственное картографическое учреждение: Norges Grændsers Opmaaling (Межевая служба Норвегии), которую позже переименовали в Объединенную королевскую картографическую службу, Норвежскую картографическую службу, Картографическую службу Норвегии и наконец в Национальное картографическое агентство Норвегии. Первостепенной задачей новой службы было создание карт районов, где обычно происходили военные столкновения со Швецией: между Халденом и Тронхеймом. Фон Хут писал: «Эти карты будут в основном охватывать территорию от реки Гломмы до границы. Работы начаты с Ингедалена и продолжатся вплоть до бастионов Стене близ Тронхейма».
На самом деле крепость Стене находится в коммуне Вердал. А под «Ингедаленом» фон Хут, скорее всего, подразумевал спорную приграничную область Эннингдален к юго-востоку от Халдена. Будучи немцем, генерал часто путал норвежские топонимы.
Межевая служба разместилась в том же здании, что и Свободная математическая школа. Первым делом новое ведомство принялось собирать всю доступную информацию с ранее составленных карт – включая карты районов, управляемых фогтами[93], морские лоции, карты Рамуса, Вангенстена, фон Лангена и другие, какие удалось найти, – с тем, чтобы составить одну большую карту в двух частях, около трех метров шириной и четырех высотой. Затем землемеры отправились проверять на местности, насколько точна их карта, фиксируя на ней расхождения и несовпадения со старыми картами. После этого они взялись чертить новые карты.
В большинстве своем они покрывали одну квадратную норвежскую милю. В 1773 году норвежская миля была не такой, как сегодня, она равнялась 18 000 локтей (аленов), что соответствует нынешним 11 295 километрам. На карты наносились церкви и приходы, уезды и коммуны, дороги, реки, фермы, усадьбы и военные склады. Но более всего эти карты отвечали потребностям военных в сведениях о доступности дорог и о возможностях расквартирования перемещаемых войск.
Межевой службе выделили бюджет в размере 1500 риксдалеров в год – весьма скромную сумму, которой едва хватало на то, чтобы оплатить шестимесячную командировку двух-четырех картографов. Картографирование начали с южной части провинции Эстфолл близ Эннингдалена и крепости Фредрикстен, продвигаясь далее на север между Осло-фьордом и границей со Швецией. Самым распространенным в Норвегии методом геодезических измерений в то время была мензульная съемка. Осуществляли ее посредством планшета, квадратной доски, установленной на штативе. Землемер закреплял на планшете картографическую бумагу, обычно при помощи зажимов, а также линейку со зрительной трубой. Наводил объектив на хорошо известный ориентир, например, церковный шпиль или вершину горы, а затем начинал наносить на карту детали, используя вершину выбранного объекта в качестве исходной точки.
Однако перед началом работы картографы не смогли установить общую точку отсчета, нулевой меридиан, из-за чего мелкие погрешности становились всё заметнее и заметнее, кочуя из карты в карту. Иногда приходилось перемещать с карты на карту по два-три километра, и к 1777 году картографы настолько сбились с курса, что необходимо было принимать решительные меры. Один из профессоров Свободной математической школы предложил фон Хуту обучить его офицеров новым, более точным методам картографии. Но из-за скудного бюджета генерал не мог принять это предложение, хотя и признавал, что такое обучение для его сотрудников крайне желательно.
По мере продвижения картографов на север, в труднодоступные, лесистые и малонаселенные районы, недостатки самого дешевого метода всё сильнее бросались в глаза, поскольку приходилось снова и снова проводить повторные замеры и перерисовывать карты. В 1778 году генерал фон Хут обратился в Копенгаген к Томасу Бугге с просьбой разработать современный план геодезических работ.
Томас Бугге был профессором астрономии и директором обсерватории «Круглая башня» в Копенгагене. Летом 1763 года, после того как Датская королевская академия наук и литературы приняла решение о составлении карты Дании, двадцатитрехлетний Бугге стал одним из двух первых геодезистов, отправленных на топографическую съемку. Королевский указ запрещал препятствовать работе геодезистов или удалять любые установленные ими метки. Указом, в частности, предусматривалось, что с первого мая и до конца сентября «или позже, когда позволяют погодные условия», землемеры имели право рекрутировать «от четырех до шести крестьян или батраков, не слишком старых, но и не моложе шестнадцати лет; среди них должен быть также старожил, хорошо знающий окрестности, в том числе и границы графств, сельских уездов, приходов и т. д.».
С. 165 Тригонометрическая карта Зеландии, составленная Томасом Бугге, 1779 год. Здесь четко видны все треугольники, которые геодезисты тщательно измерили и использовали, составляя карту острова. «Меридиан копенгагенской обсерватории» – две линии: одна с севера на юг, другая с востока на запад, пересекаются в точке, где находится «Круглая башня» – обсерватория, расположенная в центре Копенгагена.
Указ тем не менее не ограждал геодезистов от проблем, с которыми им довелось столкнуться. Один из них жаловался на воровство, «нерадивость и медлительность подлых крестьян во всём, о чем бы их ни просили <…> Несколько таких неприятных случаев если и не обескуражили меня, то, по крайней мере, существенно затормозили работы, к тому же и геодезическая съемка здесь чрезвычайно сложная и трудоемкая».
Датский картографический проект оказался амбициозным и по размаху, и основательности: он превратил крошечную Данию в одну из ведущих европейских стран в области землеустройства. Остров Зеландия разделили с севера на юг на пятнадцать основных линий, расстояние между ними составляло десять тысяч локтей (аленов) или 6,3 километра. Деление производилось путем многократного растягивания мерной цепи из стальной проволоки длиной пятьдесят футов (пятнадцать метров). Другими словами, чтобы измерить Зеландию, землемеры прошли остров пятнадцать раз с севера на юг. Потом столько же с запада на восток. На полученную таким образом картографическую сетку они нанесли деревни, замки, церкви, отдельные фермы и дома, а также все озера, болота, леса, реки, проселочные дороги и границы графств и уездов.
В 1767 году геодезиста Томаса Бугге в Зеландии сменил норвежец Оле Кристофер Вессель из Вестбю. У Весселя было два брата: Юхан Герман и Каспар, первый стал известным поэтом, второй – земельным инспектором. Каспар составил карту северной части острова Фюн и четыре карты Зеландии, а кроме того, главную карту этого острова в соавторстве с еще одним норвежцем. Между делами он блестяще сдал экзамен по римскому праву. Его трудолюбие увековечил брат Юхан Герман в строках:
- Чертит он карты и учит закон.
- Сколь я ленив, столь прилежен он.
Осенью 1778 года генерал фон Хут направил лейтенантов Юхана Якоба Рика и Дитлева Вибе к Томасу Бугге в Копенгаген для обучения новому способу картографирования – триангуляции, которую датчане освоили в Европе одними из первых.
Еще древние египтяне и шумеры пользовались методом триангуляции, когда измеряли свои земли и составляли карты. Однако, как выявило картографирование приграничных областей, старый способ был непригоден для больших территорий. Современный метод триангуляции предложил голландский математик Гемма Фризиус. В 1553 году он опубликовал небольшое сочинение, в котором объяснил, как сеть треугольников позволяет измерить сколь угодно большую площадь. Фризиус поднялся со своим инструментами на самую высокую колокольню в Антверпене, откуда мог видеть шпили башен соседних городов Берген-оп-Зом, Брюсселя, Гента, Лёвена, Лира и Мехелена, и нанес их на геометрическую карту. Он писал также, что те же города видны с башни в Брюсселе, и если известно расстояние между Брюсселем и Антверпеном, то можно рассчитать и расстояния между другими башнями. Чтобы избежать неточностей в вычислениях, Фризиус советовал сначала определять местоположение выбранных контрольных пунктов, таких как башни в Антверпене и Брюсселе, с помощью астрономических расчетов.
Этот эпохальный метод первым стал применять датский астроном Тихо Браге. В 1579 году в своей обсерватории Ураниборг на острове Вен в проливе Эресунн он закончил измерение углов и расстояний по воде до Копенгагена, Мальме, Лунда, Ландскруна, Хельсингборга, Хельсингера и замка Кронборг. Отправной точкой ему послужили астрономические наблюдения за местоположением Вена и базовая линия длинной 1287,90 метров от обсерватории до восточной башни церкви Святого Иакова. На основе этих измерений он составил карту острова – первую в мире карту, построенную методом тригонометрической триангуляции.
Измерения Браге были первым шагом к масштабному проекту, предусматривавшему публикацию улучшенной карты Дании и Норвегии. Король Фредерик II поддержал этот проект и в 1585 году в письме своему библиотекарю распорядился предоставить Тихо Браге все имеющиеся во дворце карты обоих государств.
Первым из известных нам ученых, кто определил географическое положение Норвегии, прибегнув к астрономическим измерениям, был помощник Браге, Педер Якобсен Фремлёсе. Сделал он это в августе 1590 года в Бергене, вычислив высоту Солнца над горизонтом при помощи Посоха Якова[94] и поместив Берген на 60 градусов и 27 минут северной широты. Погрешность составила всего три минуты по отношению к фактическому местоположению Бергенской крепости, где он, по всей видимости, проводил измерения. Столь же точные расчеты позднее он повторил в городах Шиен, Хамар и крепости Акерсхус. Крупномасштабный же проект Тихо Браге по картографированию королевства так и не был завершен, возможно, потому что у его друга созрел похожий план.
Браге покинул остров Вен в 1597 году. Кристиан IV, взошедший на престол годом ранее, не собирался тратить деньги на обсерваторию Ураниборг, поэтому в 1600 году Тихо Браге оставил Датско-норвежское королевство и переехал в Прагу, где получил должность имперского астронома при дворе Рудольфа II, правителя Священной Римской империи.
Там Браге познакомился с голландским математиком Виллебрордом Снеллом ван Ройеном, которого тоже интересовала триангуляция. В 1616 году Снелл применил метод Геммы Фризиуса на практике: при помощи мерной цепи – новейшего изобретения, обеспечивавшего более точную геодезическую съемку, – он сначала проложил с севера на юг базисную линию длиной 327,80 метров (из точки А в точку B). Затем, используя триангуляцию, определил расстояние между двумя точками к востоку и западу от базисной линии (С и D) – 1229 метров. Переместившись в точку С, он вычислил от нее углы к башне ратуши в Лейдене и башне церкви в Зутервауде, после чего повторил те же действия из точки D. Получив таким образом еще два треугольника, Снелл рассчитал расстояние между Лейденом и Зутервауде, которое составило 4118 метров. И так далее.
Проложив первую короткую базисную линию, он мог измерять всё более протяженные участки местности, пока при помощи тридцати трех треугольников не рассчитал расстояние между городами Алкмар и Берген-оп-Зом – сто тридцать километров.
Строя систему треугольников, Снелл попытался повторить эксперимент, который провел почти две тысячи лет назад греческий математик Эратосфен: вычислить окружность Земли. Как и его предшественник, голландец выбрал своей точкой отсчета расстояние между двумя городами, расположенными примерно на одной долготе. Эратосфен использовал Александрию и Асуан, Снелл – Алкмар и Берген-оп-Зом, и преимущество было явно на его стороне, поскольку применяемый им метод измерения расстояний намного точнее, чем метод грека, ориентировавшегося на время, необходимое для того, чтобы добраться от одного места до другого на верблюде. В своей книге Eratosthenes Batavus (Голландский Эратосфен) Снелл рассказал как о методе триангуляции, так и о результате: 38 639 километров. Он ошибся менее чем на четыре процента.
Франция – первая страна, которая начала широко применять современный метод триангуляции. Здесь этот метод усовершенствовал итальянский астроном Джованни Доменико Кассини, прибывший в 1668 году ко двору Людовика XIV, «короля-солнце». Кассини, профессор Болонского университета, согласился участвовать в создании новой обсерватории близ Парижа, получив благословение папы римского, своего работодателя. Ни папа, ни сам Кассини не предполагали, что его пребывание во Франции будет продолжительным, поэтому он сначала даже не пытался выучить французский. Однако Людовик XIV предложил ему солидное жалование, и в конце концов итальянец настолько увлекся работой в недавно открытой Французской академии наук, что передумал возвращаться на родину[95]. Через три года его уже называли Жаном-Домиником Кассини, и он был директором Парижской обсерватории.
Там он работал вместе с Жаном Пикаром, аббатом, астрономом и математиком, который в 1669 году, как и Снелл, желая вычислить окружность Земли, воспользовался его методом триангуляции при измерении расстояния между городами Мальвуазен и Сурдон. Позднее Пикар применил этот же метод при составлении карты Парижа и его окрестностей – Carte particulière des environs de Paris, – ставшей образцом для крупномасштабного картографирования Франции, которое уже назрело.
Причины учреждения Французской академии наук исключительно утилитарные. Еще до ее основания министр финансов Кольбер распорядился обновить карту Франции с тем, чтобы выяснить, где и какими ресурсами располагает страна, какие регионы лучше подходят «для сельского хозяйства, торговли или производства, а также каково состояние дорог и водных путей, особенно рек, и можно ли их улучшить».
В то же время в Академии проводилось немало свободных исследований, и ее деятельность мало чем отличалась от той, какой занималась в свое время Александрийская библиотека. Гарантированно щедрое вознаграждение академиков свидетельствовало о том, что они были весьма высокопоставленными государственными служащими. Академия стала местом, куда стекалась научная информация и где ученые из разных стран проводили исследования, делились знаниями и опытом.
В 1679 году Людовик XIV поручил Академии «составить предельно точную карту Франции». Пикара назначили руководить первым этапом работ: нанесением на карту прибрежных территорий. Все предыдущие карты Франции «плясали» от нулевого меридиана, который проходил через Канарские острова и достался в наследство от греков, использовавших эти острова в качестве самой дальней известной им точки. Однако расстояние от французского берега до Канарских островов никто точно не измерял. Пикар использовал им же установленный нулевой меридиан, проходивший через Парижскую обсерваторию, когда вместе со своим помощником в течение трех лет рассчитывал широту и долготу французского побережья от Фландрии на северо-западе до Прованса на юго-востоке.
Его Carte de France corrigée (Карта Франции, исправленная), увидевшая свет в 1682 году, очень удивила равно Академию и короля. Пикар представил результаты своей работы поверх того, что считалось официальной картой Франции, прочертив на ней новые границы толстой линией, чтобы подчеркнуть различия. К большому изумлению всех, кто увидел карту, территория Франции оказалась процентов на двадцать меньше, чем они предполагали. Атлантическое побережье пролегало гораздо восточнее, средиземноморское – севернее, а такие важные портовые города, как Марсель и Шербур, совсем не так далеко выступали в море, как их изображали предыдущие картографы. Всмотревшись в новую карту, Людовик XIV якобы воскликнул: «Академия наук лишила Францию большей территории, чем все ее враги, вместе взятые». Пикар, видимо, прекрасно понимал, что его карту вряд ли примут на ура, поэтому он предусмотрительно приписал к названию: «…corrigée par ordre du Roy» – «…исправленная по велению короля».
С появлением карты Пикара всем в Академии стало ясно, что старые карты можно спокойно порвать и выбросить в корзину. Были составлены планы геодезических исследований по всей Франции с применением триангуляции Пикара и нового способа определения долготы путем наблюдений за спутниками Юпитера, разработанного Кассини.
Метод Кассини стал возможен благодаря новейшим телескопам, которые позволяли четко рассмотреть все спутники Юпитера, и более точным маятниковым часам. Отметив время, когда попавший в поле зрения спутник исчезал за Юпитером, а потом снова появлялся, и сопоставляя это время со временем, зафиксированным из другого места наблюдения, можно было установить разницу в долготе между этими двумя местами. И тем не менее великий картографический проект был отложен после смерти Пикара в 1682 году, а через год Франция вступила в войну с Испанскими Нидерландами.
Однако, отложив картографирование, Академия продолжала трудиться над продлением Парижского меридиана с севера на юг через всю страну, чтобы получить ответ на один из главных вопросов XVII века: каковы же окончательные размеры и форма Земли? Согласно теории всемирного тяготения Ньютона, гравитация на полюсах и экваторе неодинакова, поэтому Земля слегка приплюснута у полюсов. Французские академики с Ньютоном не соглашались, они отдавали предпочтение теории Декарта, считавшего, что Земля скорее имеет форму яйца. Разрешить этот спор в конце концов стало делом национальной чести по обеим сторонам Ла-Манша.
Академия попросила короля поддержать экспедиции на крайний север и экватор, где следовало измерить расстояние между широтами. Если расстояние между широтами на севере короче, чем на юге, то Земля имеет форму яйца; если длиннее, прав Ньютон.
Первая экспедиция отправилась в 1735 году в Перу, в Южную Америку. Вторая, снаряженная через год, направилась в земли саамов, граничившие с Швецией и Финляндией. Перуанская экспедиция обернулась катастрофой. Местность, куда прибыл корабль, кишела комарами, и многие члены экспедиции заразились малярией. Они передвигались на мулах через джунгли, прорубая себе путь сквозь заросли при помощи мачете, спали в хижинах на сваях во время ливней, взбирались на горы и ночевали в пещерах, промерзавших за ночь, а спустя два года, когда наконец приступили к топографической съемке, поняли, что допустили ошибку, и пришлось всё начинать заново. Пройдет десять лет, прежде чем первый участник экспедиции вернется домой.
Путешествие в Лапландию прошло более гладко. На покрытой льдом реке Турнеэльвен ученые вычислили длину базисной линии от шпиля церкви в Торнио до вершины горы Киттис – 14,3 км. Результаты экспедиции, полученные в 1737 году, ошеломили Академию: полярные широты оказались немного длиннее, а значит, Земля – сплюснутая, и, что хуже всего, Ньютон и англичане были правы. Примененный Академией наук метод опроверг ее теорию, однако из конфуза французы вышли победителями, ведь они показали, насколько хорош их метод. Он поддавался проверке и был нейтральным, подлинно научным, дававшим объективное представление о мире, и им мог пользоваться каждый, независимо от веры и идеологии.
В 1730 году во Франции возобновилась регулярная картографическая деятельность. Нового министра финансов Филибера Орри не привлекали философские дискуссии о размере и форме Земли. Его больше беспокоило то, что службам, ведавшим общественными работами, не хватало точных карт для обновления инфраструктуры страны. В 1733 году он поручил главному картографу и члену Академии наук Жаку Кассини, сыну Джованни Доменико, начать триангуляцию всей Франции.
Орри также инициировал государственное обучение инженеров и геодезистов и создание унифицированных карт, которые служили бы надежными лоциями для флота на море, а на суше помогали бы армии укреплять границу. Позднее Орри распорядился о подготовке геодезистами стандартных планов дорог для всего королевства. Радикально менялось назначение карт, как и слов, употребляемых для их описания. Роль государства, общественное благо и стандартизация становились гораздо важнее королевских милостей, выгоды купцов и ожиданий ученых. Географы превращались в госслужащих.
Геодезистам пришлось отправиться в незнакомые и труднопроходимые места. Прежде триангуляция в основном применялась в Нидерландах, Дании и на севере Франции, где местность относительно несложная, теперь же картографам предстояло подняться в горы на юге и востоке. К тому же местные жители отнюдь не всегда были настроены к ним дружелюбно: в горах Вогезы, в пограничных с Германией и Швейцарией районах, загадочные люди, сновавшие туда-сюда с диковинными инструментами, вызывали подозрение. Одного из них забили до смерти, приняв за колдуна, который своими приборами насылает на поле проклятие. У них постоянно воровали инструменты, им отказывались предоставлять транспорт и провожатых, бросали вдогонку камни.
Несмотря на это, к 1744 году картографы свою задачу выполнили: намерили восемьсот треугольников и девятнадцать базисных линий. В том же году увидела свет напечатанная на восемнадцати листах Nouvelle carte qui comprend les principaux triangles qui servent de fondement à la description géométrique de la France (Новая карта, которая содержит главные треугольники, служащие основой для геометрического описания Франции). Однако работа картографов на этом не закончилась: такие большие районы, как Пиренеи, Юра и Альпы, были лишь намечены; кроме того, карта не отражала топографию страны. Она представляла собой сеть из треугольников – геометрический скелет, – длинную вереницу точек, тянувшихся вдоль берегов, рек и дорог. Но желание министра финансов получить контурную карту, пригодную для планирования будущей топографической съемки, было удовлетворено.
В дальнейшем руководство и ответственность за проект взял на себя уже представитель третьего поколения семьи Кассини – Цезарь Франсуа Кассини де Тури. Он успешно довел триангуляцию до конца, хотя и признал, что геодезисты посетили далеко не каждую ферму и нанесли на карту отнюдь не все изгибы рек. Зато теперь государственные и частные организации сами могли добавлять детали в региональные карты.
Но планам Кассини помешала история. Франция ввязалась в войну с Австрией, не успев закончить масштабный проект картографирования. В 1746 году боевые действия велись на территории Австрийских Нидерландов. Кассини отправился помогать военным инженерам составлять карту полей сражений. После победы Франции Людовик XV посетил Нидерланды и встретился с инженерами. Сверив карту Кассини с местностью, король был впечатлен: «Хочу, чтобы карту нашего королевства составили таким же образом, и мы поручаем это сделать тебе [Кассини]…»
С. 174–175 Лист карты Марселя и его окрестностей из масштабного проекта Цезаря Франсуа Кассини Карта Франции, начатого в 1748 году. В 1784 году его продолжил сын Цезаря Жан-Доминик, а в 1793 году после Великой французской революции передали военному министру. Проект имел огромный успех, но технически так и не был завершен.
И король, и Кассини прекрасно понимали, что подробное картографирование Франции – небывалый проект. Хотя Кассини и сомневался в его осуществимости, он не смог отказаться от предложения провести столь крупные исследования и на этот раз нанести на карту все речушки, деревни, горные вершины и рощи. Он подсчитал, что для того, чтобы покрыть всю страну, ему потребуется восемнадцать лет и сто восемьдесят карт – положенные рядом, они составят карту Франции размером 12×11 метров. Ежегодно следовало изготавливать по десять карт, каждая из которых обходилась бюджету в четыре тысячи ливров, включая затраты на оборудование, триангуляцию и печать. Планировалось выпустить карты тиражом две с половиной тысячи экземпляров, по цене четыре ливра за карту, что было намного дороже стоимости обычной карты того времени. И если бы удалось продать все сто восемьдесят карт, французская казна, изрядно истощенная последней войной, пополнилась бы на 1 800 000 ливров. Министру финансов идея показалась блестящей.
Однако осуществить идею, как водится, оказалось сложнее, чем предполагалось. Кассини был невероятно дотошным человеком, помешанным на деталях и точности. Он контролировал все работы: от съемки на местности до печати, всё проверяя и перепроверяя. К тому же теперь, когда следовало нанести на карту едва ли не каждый ручеек и географическое название, совершенно в ином свете предстала и роль местного населения. Скелет карты, разработанной в 1744 году, должен был обрести мышцы, артерии и кожу. Она станет телом Марианны, богини свободы, символа Франции[96].
По прошествии восьми из восемнадцати намеченных лет были готовы лишь две карты. Летом 1756 года во время аудиенции у Людовика XV, на которой Кассини показал вторую законченную карту, грянул гром. «Мой бедный Кассини! – сказал король, – мне очень жаль, но у меня плохие вести. Наш министр финансов говорит, что у нас нет денег на следующую карту. Работы придется свернуть»[97]. Король по-своему был прав: в таком темпе карту пришлось бы ждать до следующего столетия. Но Кассини ответил: «Карта будет».
Кассини сменил тактику. С разрешения короля он основал Société de la carte de France – товарищество по финансированию карты Франции, в которое вошли пятьдесят акционеров. Каждый обязывался вносить 1600 лир ежегодно. Таким образом, бюджет «карты Кассини» удвоился, что позволяло завершить проект в течение десяти лет. Взамен акционеры получали часть прибыли от продаж и по два экземпляра каждой карты. Это был гениальный ход – акции разлетались как горячие пирожки. Их держателями стали многие аристократы, видные политики, в том числе фаворитка Людовика XV маркиза де Помпадур. Кассини собрал денег даже больше, чем рассчитывал, поэтому смог нанять и больше топографов, чертежников, гравировщиков.
В течение следующих трех лет вышло тридцать девять карт, каждая тиражом пятьсот экземпляров, и они прекрасно расходились. К 1760 году в общей сложности продали восемь тысяч экземпляров первых сорока пяти карт. Карты Кассини обрели такую популярность, что стали для многих символом французской нации. Зажиточные крестьяне и буржуа тоже заинтересовались проектом, желая инвестировать в маленький кусочек Франции. Тогда Кассини открыл публичную подписку, по которой акции можно было купить за треть цены Société.
Успех и популярность картам Кассини принесла его педантичность, то, из-за чего проект едва не сорвался. Беглого взгляда достаточно было, чтобы заметить, насколько новые карты красивее и доскональнее всех предыдущих. Они печатались лучшими чернилами на лучшей бумаге, отличались простотой, ясностью и обилием подробностей, воспроизведенных с помощью современной типографики и унифицированных символов для всего, от монастырей до рудников.
Тем временем всё более политически окрашенным становился вопрос: что есть французская нация? Во Франции провинции пользовались широкой автономией, а ее жители говорили на самых разных языках – итальянском, немецком, бретонском и каталонском, и тем не менее Кассини представил на карте все провинции однообразно, как департаменты, и все географические названия написал на парижском французском, способствуя в равной мере стандартизации и сплочению нации. Картографирование королевства совпало с волной демократизации в конце XVIII века. Всё больше французов считало, что политическая власть должна принадлежать не королю и не аристократии, а нации.
После суровой зимы 1788–1789 годов и последовавшей за ней засухи, из-за которой цены на продовольствие взлетели до небес, старый режим был свергнут французской революцией.
Кассини III скончался пятью годами ранее. Проект перешел к представителю четвертого поколения Кассини, Жану-Доминику, и он был близок к его завершению. Все геодезические работы выполнили, оставалось только напечатать последние пятнадцать карт. Однако революционеров заботило другое. Молодой французской республике угрожали соседние страны, и, хотя потребность в картах была велика, глава инженерного корпуса армии опасался, что карты Кассини, а вместе с ними и секретная информация попадут в руки врага. «Его карта может быть хорошей или плохой, – говорил он. – Если она хороша, ее нужно изъять, если плоха, то вряд ли стоит тратить на нее время». Национальное собрание постановило карту конфисковать и передать в военное министерство. Кассини пришел в отчаяние. «Они отняли у меня карту, прежде чем я успел ее закончить и внести последние штрихи», – жаловался он в своих мемуарах. В 1794 году его заключили в тюрьму и едва не гильотинировали, но через несколько месяцев освободили.
С технической точки зрения карта осталась незавершенной. Военное министерство вспомнило о ней лишь в 1804 году, когда Наполеон Бонапарт, воевавший тогда почти со всей Европой, написал своему начальнику генштаба: «Если бы мы продолжали масштабное картографирование Кассини, вся граница по Рейну была бы уже наша. <…> Всё, о чем я прошу, – это довести карту Кассини до ума». Военное министерство назначило двенадцать гравировщиков для обновления старых медных пластин и печати недостающих карт. В 1815 году вышли последние карты Бретани. Но к тому времени, то есть спустя шестьдесят семь лет после того как начали составлять карту Кассини, она устарела. Ее отправили в архив не по велению нового короля и не потому, что она не отвечала идеологии новой республики. Просто современная нация отчаянно нуждалась в более свежих картографических данных.
Город Конгсвингер стоит на одной из немногих проторенных дорог между Норвегией и Швецией, той, что ведет из Осло в приграничный городок Магнор, а оттуда в шведскую Эду и далее к пологим холмам Вермланда. Возводить укрепления в Конгсвингере начали в 1673 году, чтобы защитить от шведского вторжения паромную переправу через реку Гломма и окрестные земли. Летом 1779 года для составления карты города в крепость прибыли лейтенанты Юхан Якоб Рик и Дитлев Вибе. Генерал фон Хут записал: «Данные геодезической съемки должны подтверждаться астрономическими расчетами <…>. Этим займутся лейтенанты Рик и Вибе, подготовленные профессором Бугге в Копенгагене».
Произведя астрономические расчеты с помощью привезенных из Копенгагена новейших инструментов – двух пантометров для измерения углов, двух маятниковых часов и двух семифутовых телескопов, – лейтенанты определили точные координаты своего местоположения. Флагшток крепости удостоился чести венчать нулевой меридиан Норвегии. Светлые летние ночи затрудняли наблюдение за звездами, но по самым ярким звездам и движению Солнца картографы вычислили широту, на которой находился флагшток, – 60 градусов 12 минут и 11 секунд северной широты. А четырнадцатого июня, в день солнечного затмения, зафиксировав его время, они определили и долготу. Однако осенью им совершенно не везло с погодой, они не смогли наблюдать ни лунное затмение, ни затмение спутников Юпитера, поэтому установить астрономически выверенный нулевой меридиан не удалось из-за недостатка данных. Однако летние наблюдения и базисная линия, которую картографы вычислили при помощи дымовых сигналов и измерений на льду, стали хорошим подспорьем для дальнейших исследований страны. И они двинулись на север.
Оснастившись вместительной офицерской палаткой и двумя палатками поменьше для помощников, четырьмя полевыми флягами и четырьмя полевыми котелками, двумя топорами, четырьмя баулами с оборудованием и получив пропуск, обеспечивавший им всюду бесплатный проезд с помощниками-крестьянами, лейтенанты отправились на север через долины Одален, Гломдален, Эстердален, Гаулдален и горный массив Силан. В летние месяцы с 1779 по 1784 годы Рик и Вибе вычислили координаты изрядного числа горных вершин и церковных шпилей, выстроив широкую сеть треугольников вдоль границы. Там, где не было подходящих условий для пользования оборудованием, они сами обустраивали небольшие обсерватории.
Зимние месяцы лейтенанты провели в Халдене, Осло, Кристиансанне и Копенгагене, где определяли широты и долготы, а также рассчитывали новые базисные линии на замерзших озерах, чтобы минимизировать ошибки в вычислениях. Так, в январе 1781 года они проложили шестикилометровую линию на озере Осеншёэн, в марте того же года – семикилометровую на озере Мьёса, еще через год – семикилометровую линию на озере Фемунн, а в 1785 году – последнюю линию на озере Йонсватнет к юго-востоку от Тронхейма. Задачу свою картографы выполнили: стратегически важная часть Норвегии была нанесена на карту в соответствии с самыми точными и новейшими геодезическими методами того времени.
В том же году, когда Рик и Вибе закончили свою миссию, датский картограф Кристиан Йокум Понтоппидан первым воспользовался их информацией, издав новую карту южной Норвегии. В предисловии к книге Geographisk Oplysning til Cartet over det sydlige Norge i trende Afdeelinger (Географический комментарий к карте южной Норвегии в трех частях) Понтоппидан пишет, что «измерения, проведенные капитаном Риком и лейтенантом Вибе в 1780, 81, 82, 83 и 84 годах с помощью триангуляции на территории от Конгсвингера до церкви Эгге в районе Иннерёй», были «наилучшими материалами», с какими он работал. Кроме того, он использовал карту лесов фон Лангена и карту границ королевства в 1752–1759 годы. В результате получилась добротная и точная карта, которая стала новым образцом для карт Южной Норвегии. Наконец карта Андерса Буре 1626 года, а заодно и картографирование Норвегии иностранцами, уходят в прошлое.
Рик и Вибе предложили профессору Бугге сделать следующий шаг – составить карту норвежского побережья от Тронхейма вниз на юг. Их инициативу поддержали Датский королевский архив морских карт, созданный в 1784 году, и Адмиралтейство, посчитавшее, что это пойдет на пользу судоходству, поэтому в 1785 году назначили комиссию. Королевским указом предписывалось «исследовать норвежское побережье со всеми островами и шхерами от острова Халтен – крайней точки в северной части Тронхейма – вплоть до Фредриксхальда ввиду острой нужды в хороших морских картах». Эта нужда возникла вследствие того, что судоходство королевства стремительно развивалось, чему немало способствовал датско-норвежский нейтралитет в войне американских штатов за независимость, в которую были втянуты Франция, Нидерланды, Испания и Священная Римская империя германской нации.
Бугге подробно инструктировал геодезистов: «Поскольку меридиан Тронхейма становится главным меридианом для всего норвежского побережья, к коему следует отнести долготы всех пунктов вдоль него, крайне важно точно определить протяженность Тронхейма, которая всё еще не определена».
Бугге прекрасно знал, о чем говорил. Двадцать четыре года назад он специально прибыл в Тронхейм, чтобы наблюдать прохождение Венеры по диску Солнца – разновидность астрономического транзита, когда Венера находится точно между Солнцем и Землей, закрывая собой часть солнечного диска. Еще в 1716 году британский астроном Эдмунд Галлей рассчитал, что ближайшие транзиты можно будет наблюдать в 1761[98] и 1769 годах, а следующий повторится только через сто с лишним лет. Так как в те времена довольно смутно представляли себе, как далеко отстоит Земля от Солнца и, следовательно, насколько велика в действительности Солнечная система, Галлей советовал наблюдать за транзитом Венеры из разных точек земного шара. Данные о времени ее прохождения по солнечному диску позволили бы вычислить расстояние от Земли до Солнца, а также определить долготу. В день первого транзита, шестого июня 1761 года, двести астрономов из разных стран, настроив свои приборы, наблюдали за прохождением Венеры в самых отдаленных уголках мира, в том числе в Сибири[99], на Мадагаскаре и острове Святой Елены. Это наблюдение стало и первым случаем международного научного сотрудничества.
Однако Венера повела себя странно: она не перемещалась по солнечному диску плавно. Наблюдатели видели, как планета вытянулась, а когда снова обрела привычный круглый вид, уже переместилась далеко к центру солнечного диска, поэтому точно определить начало транзита было трудно. Это отразилось и на результатах измерений в Тронхейме: разница во времени вхождения Венеры в солнечный диск, отмеченное Бугге и его коллегой, который проводил те же наблюдения в Тронхейме, составила две минуты. Тогда многие посчитали, что отмеченное явление доказывает наличие атмосферы у Венеры. Сегодня это явление связывают с возмущениями земной атмосферы.
Следующее прохождение Венеры ожидалось через восемь лет – третьего июня 1769 года. Копенгаген решил заручиться помощью выдающихся ученых. В частости, было отправлено письмо венгру Максимилиану Хеллу, королевскому астроному в Вене, с просьбой приехать в Вардё для наблюдения за транзитом Венеры. Хеллу как иезуиту путь в Датско-норвежское королевство был заказан, но престиж проекта заставил отступить от закона, и Кристиан VII даже взялся оплатить все расходы.
Хелл с помощником выехали из Вены двадцать восьмого апреля 1768 года. Дорога до Вардё заняла почти семь месяцев. По прибытии они оборудовали обсерваторию в пристройке к дому судьи. В решающий день Хеллу улыбнулась невиданная удача: небо прояснилось как раз перед вхождением Венеры в солнечный диск, затем в течение шести часов было облачно, а перед самым выходом Венеры из солнечного диска облака снова рассеялись.
Сопоставив результаты своих наблюдений с данными, полученными британским капитаном Джеймсом Куком на острове Таити в южных водах Тихого океана, и с измерениями, проведенными шотландским математиком Уильямом Уоллесом у Гудзонова залива в Канаде, Хелл определил, что расстояние между Землей и Солнцем равно 151,7 миллионов километров. Это не так уж далеко от истинных 149,6 миллионов километров.
По возвращении домой в Вену Хелл составил четыре карты: южной Норвегии, северной Норвегии, графства Финнмарк и муниципалитета Вардё. Карту Вардё отправили в печать и опубликовали, но с карт Финнмарка и южной Норвегии сделали только пробные оттиски, карту же северной Норвегии и вовсе не выгравировали из-за смерти гравировщика, с которым работал Хелл. Норвежско-датский историк Герхард Шёнинг подготовил список топонимов, в которых обнаружил ошибки, когда просматривал пробные оттиски. Тем не менее он утверждал, что карта южной Норвегии, основанная на карте Вангенстеена, существенно лучше, также и карта Финнмарка выгодно отличалась от прежних образцов. «Несомненно, местоположение многих объектов здесь описано более верно, чем прежде, – писал Шёнинг, – Хелл превзошел сам себя». До наших дней пробные оттиски этих карт не дошли, сохранилась только карта Вардё, поэтому затруднительно сказать, помог ли Хелл улучшить позднейшие карты Норвегии.
Рик и Вибе обосновались в Тронхейме, чтобы измерить долготу, на которой находится этот город. Небольшое здание к югу от архиепископского дворца они переоборудовали в астрономическую обсерваторию. Летом 1785 года они получили пассажный инструмент – большой телескоп, созданный специально для наблюдения за прохождением звезд, – и установили его на сосновой колонне, вкопанной на два метра в землю. Однако из-за суровых зимних морозов опора покосилась, и наблюдателям пришлось смириться с тем, что визир стабилизировался с небольшим отклонением от меридиана, который они прокладывали через собор.
Началась съемка побережья. Рик и Вибе провели триангуляцию местности от Тронхеймс-фьорда, достигнув к началу осени Кристиансанна. Брат Вибе, Нильс Андреас, следуя за ними, осуществлял съемку в море. Он наносил на карту маяки, вехи и другие навигационные знаки, а также фиксировал приливы и отливы, описывал гавани и отмечал, «с каким ветром в них можно войти, а с каким выйти».
В 1786 году Рик женился и переехал в Осло, Вибе продолжил триангуляцию самостоятельно, доведя ее до города Молде, а генерал фон Хут вновь озаботился бюджетом. Он предпочел бы более подробную съемку участка Конгсвингер – Вердал, чем картографирование береговой линии, поэтому в 1787 году приостановил работу. Через год Адмиралтейство всё же нашло средства для ее возобновления. Братья Вибе продолжили наносить треугольники, продвигаясь на юг к Суннмёре от горы к горе, от Эрвфьеллет на острове Фьертофта и Голдет на острове Лепсёйя до Стуре Крукхорнет в коммуне Ванюльвен, в то время как датский лейтенант Карл Фредерик Груве взялся за морскую съемку от Молде вниз к югу.
В 1791 году они вычислили нулевой меридиан в Бергене, которым пользовались до тех пор, пока четыре года спустя не добрались до Кристиансанна. Здесь в форте Оддерёйя они построили обсерваторию и измерили еще один новый меридиан, на который опирались по мере продвижения на север к Агдеру, Телемарку, Вестфоллу и Осло и на юг к Эстфоллу, до Иддефьорда и шведской границы. После завершения тригонометрической и морской съемки Груве приступил к составлению карт. В 1791 году была готова первая – Карта земель Тронхейма с островами и шхерами от острова Халтен до Кристиансанна. В общей сложности с 1791 по 1803 годы были опубликованы семь выгравированных на меди и напечатанных в Дании карт, которые сегодня известны как «чертежи Груве». Король выразил «высочайшее удовлетворение» представленными ему картами.
В 1805 году, к большому неудовольствию фон Хута, было принято решение о проведении совместной военной и экономической съемки. Фон Хут опасался, что выиграют от этого отнюдь не военные, ибо управление проектом взяло на себя казначейство, то есть министерство финансов, хотя работы велись так же, как и прежде. Картографическое ведомство переименовали в Объединенное военно-экономическое картографическое агентство. Экономическая часть проекта предусматривала нанесение на карту границ всех поместий, полей и пастбищ, а также обмер площади каждого владения. Но не все владельцы хотели, чтобы их земли обмеряли. В 1814 году крестьяне губернии Хедмарк отправили в Учредительное собрание, созванное в Эйдсволле для подготовки норвежской конституции, коллективную просьбу: «Просим покорнейше не измерять наши хозяйства, законно унаследованные нами от наших предков, ибо, если кто-то чужой вправе провести межевание моей собственности, мое право на собственность прекращается». Крестьяне подозревали, что составленными картами воспользуются для увеличения налогов. Как бы то ни было, экономическую съемку в том же году отменили по финансовым соображениям.
Параллельно с картографированием берега землемеры шли по стопам Рика и Вибе вдоль шведской границы, дополняя их тригонометрическую сеть топографическими подробностями. Попутно они отмечали пригодные для вспашки земли, род занятий местных жителей (земледельцы, скотоводы, торговцы древесиной или рыбаки), состояние дорог и присутствие в здешних горных породах руды. Иногда эти записи чересчур подробны, например, к карте 26D-1, изображающей участок в одну квадратную милю к востоку от коммуны Эльверум, прилагался комментарий на шести с половиной плотно исписанных страницах.
Кроме того, картографы триангулировали районы, простиравшиеся от Конгсвингера на юг к Эннингдалену. Сеть треугольников от Конгсвингера соединили с прибрежной съемкой через триангуляцию в районах внешнего Эстфолла и Румерике. Затем съемку продолжили на территориях к западу от реки Гломма – в 1806 году продвигаясь вдоль озера Мьёса от Эйдсволла до Осло, Хаделанна, Рингерике, Модума и Эйкера к Рингсакеру, Вардалу и Тотену, а в 1807 году спустившись по западной стороне озера Мьёса обратно к Эйдсволлу и направившись в долины Гудбраннсдален, Валдрес, Ярлсберг и Ларвик. Однако очередная война со Швецией не только прервала эти работы, но и погрузила картографирование в хаос. Оригиналы карт офицеры забрали с собой на фронт, где на полях сражений карты терялись и гибли вместе с теми, кто их создал, а чертежные мастерские военное командование перепрофилировало в гарнизонные школы[100]. По окончании войны уже никто не имел ясного представления о том, что же успели сделать картографы.
После заключения в 1814 году мирного договора Норвегия отошла к Швеции, заодно с ней были переданы и все норвежские карты, хранившиеся в Дании. Шведский кронпринц Карл Юхан затребовал общую для двух стран карту. В 1818 году по обе стороны границы землемеры начали готовить такую карту, связывая норвежскую и шведскую сети треугольников.
Одновременно планировалось приступить к картографированию самых северных территорий Норвегии. Это связывалось не только с интересами судоходства, но и с необходимостью установить норвежско-русскую границу. Однако из-за стесненности в средствах парламент – стортинг – смог выделить деньги для этой цели лишь в 1824 году. Через четыре года картографам предоставили три небольших судна, имевших «довольно жалкий вид», два из которых раньше служили в почтовом ведомстве. Съемку начали с самой дальней отметки, от горы Коппарен в коммуне Бьюгн, и до наступления зимы продвинулись вверх до Намсен-фьорда. В следующем году добрались до Северного полярного круга и острова Хестманнен, а затем Несны, Йильдескола, Энгельвара, Лёдингена, Вестеролена, Сеньи и Лоппы. В 1837 году судна обогнули мыс Нордкап, но лишь спустя десять лет после начала экспедиции достигли границы с Россией.
Две карты в формате «квадратной мили»: крепость Эннингдален в Эстфолле (1775) и озеро Эйерен в Акерсхусе (1802). На карте Эннингдалена белым отмечена Швеция, красная и желтая линии – национальная граница. Это первая карта в квадратных милях из составленных двухсот десяти карт. Серия охватывает бóльшую часть Эстфолла, а также части Акерсхуса и Хедмарка вплоть до Южного Трёнделага. Сегодня остров Релинг, отмель Эльвер, острова Кваэ и Раас на севере Эйерена выглядят совершенно иначе, поскольку это дельта реки, вид которой постоянно изменяется.
Потребность в картах северной Норвегии свидетельствовала о том, что «чертежи Груве» 1803 года больше не отвечали требованиям бурно развивавшегося судоходства и современной картографии. В 1847 году было решено повторно картировать побережье между Тронхеймом и Осло, а четыре года спустя Ассоциация моряков (Sømandsforeningen[101]) города Порсгрунн потребовала составить более подробную карту Осло-фьорда.
Новые методы картографирования Норвегии становятся всё более точными: геодезисты перепроверяют расчеты своих предшественников, выявляют ошибки и недочеты, проводят повторную съемку и триангуляцию, наносят на карту новые и новые детали и даже иногда изыскивают средства на покупку более совершенных инструментов. Однако сочетать скудную государственную казну со сложной географией страны – задача не из легких. По сравнению с Норвегией, картографирование Дании с ее относительным благополучием и равнинным ландшафтом представляло собой для топографов идиллическую прогулку. Норвежцам ничего другого не оставалось, как превратить свои недостатки в достоинства. Карта, на которую нанесены все опорные триангуляционные пункты, рассчитанные с 1779 по 1877 годы, показывает, что большинство из них расположено на горных вершинах, таких как Спотин, Кнутсхеа, Игельфьелль, а от Гаустатоппена, откуда открывается вид на шестую часть норвежской территории, во все стороны расходятся двадцать три базисные линии.
Высокой точностью новые карты обязаны прежде всего математику, профессору Кристоферу Ханстену, возглавившему в 1817 году картографический проект и отвечавшему за гражданскую и научную его части. Благодаря ему топографы получили подробные инструкции и было закуплено новое оборудование. Он мечтал о современной обсерватории. С 1815 года картографы располагали крохотной, напоминавшей скорее хижину, восьмиугольной обсерваторией неподалеку от крепости Акерсхус, поэтому Ханстен предпочитал вести наблюдения у себя дома, в собственном саду.
В 1830 году норвежский парламент выделил средства на строительство обсерватории в городке Солли близ столицы. На закладном камне написано: «Et nos petimus astra» – «Мы тоже стремимся к звездам». И Ханстен успешно пользовался звездами в своем стремлении нанести Норвегию на карту, вычислив с их помощью точную долготу и широту обсерватории. В 1848 году, проведя более тысячи наблюдений за звездами, он наконец удовлетворился результатом, а именно 59°54’43,7” северной широты.
Основой для сравнения полученных измерений при вычислении долготы обсерватории стала «Круглая башня» в Копенгагене. Летом 1847 года для того чтобы определить разницу во времени между астрономическими наблюдениями, пароходом Осло-Копенгаген отправили двадцать один высокоточный хронометр. По итогам ста девятнадцати сравнений рассчитали, что ханстеновская обсерватория находится на 7 минутах 25 секундах к западу от «Круглой башни». Этот нулевой меридиан служил исходной точкой для расчетов долготы на всех картах Норвегии вплоть до 1884 года, когда был установлен международный нулевой меридиан в Гринвиче.
В 1832 году Ханстен стал первым директором норвежской картографической службы, не будучи кадровым военным. Изменилось не только назначение карт, но и их аудитория. Они перестали быть привилегией государства, военных, моряков и торговых компаний. Постепенно они становились частью повседневной жизни большинства населения. Этому способствовало повышение общего образовательного уровня и благосостояния, позволявшего многим путешествовать.
В 1758 году было основано первое в мире турагентство – британская компания Cox & Kings. Через два года Я. Г. Шнайдер опубликовал первый атлас для детей: Atlas des enfants (Детский атлас), включавший в себя простые карты с текстами в форме вопросов и ответов, из которых дети узнавали о климате разных стран, их государственном строе, религии, традиционной одежде, городах и многом другом.
В Норвегии география вошла в школьную программу в 1810 году, когда Людвиг Стауд Плату издал школьный атлас Краткие сведения о географии для начинающих. В 1824 году появилась Карта Норвегии для школьников, составленная Карлом Бонапартом Рузеном, а в 1836 году Георг Прал опубликовал Карту южной части Королевства Норвегия в качестве приложения к учебнику географии Плату. Официально этот предмет был закреплен законом о школьном образовании в 1860 году. Согласно закону, задача школы виделась не только в том, чтобы дать учащимся начатки христианского образования и подготовить их к конфирмации, но и привить им «знания и навыки, необходимые каждому члену общества». В пятом параграфе второй статьи подчеркивалось, что учащиеся должны освоить «в первую очередь те отрасли знания, что связаны с описанием Земли, естественными науками и историей».
В 1863 году бергенский священник и писатель Петер Андреас Енсен издал Учебник для народной школы, где о Земле сказано следующее:
Если бы мы могли охватить взглядом всю Землю, то обнаружили бы, что она круглая, словно шар, а не плоская, словно камень для выпечки, как многие, возможно, всё еще думают. Причина, по которой Земля нам кажется плоской, в том, что в поле нашего зрения попадает лишь ничтожная часть ее поверхности. <…> Чтобы показать форму Земли и всю ее поверхность целиком, ее сушу и воды нанесли на шар, который назвали глобусом. Если разрезать его пополам от Северного до Южного полюса, мы получаем два полушария – восточное и западное. Эти полушария можно также нанести на бумагу, и мы получим карту полушарий, или физическую карту мира. Такую карту можно найти в любой мало-мальски оборудованной школе, и на ней учитель покажет вам большие участки суши и моря, о которых вам пора узнать.
Отрывок заканчивается примечанием: «Все разделы рекомендуем изучать в школе, сверяя рассказ учителя с настенной картой». Так учащиеся могли наглядно видеть разницу между материками, полуостровами и островами, Старым и Новым светом. Среди важнейших стран, которые следовало изучать, перечислены Швеция, Дания, Великобритания, Бельгия и Нидерланды, Франция, Испания и Португалия, Италия, Швейцария, Германия и Королевство Пруссия, Австрия, Турция, Греция и Россия. Азии, Африке, Америке и Австралии посвящены отдельные главы. О Нью-Йорке в книге сказано: «Также и многие наши соотечественники приезжают сюда в поисках нового дома в этой части света».
С появлением новых видов транспорта люди стали путешествовать чаще. Нехватку хороших карт им компенсировали путеводители, в которых указывались расстояния между населенными пунктами и местоположение постоялых дворов. Еще в 1774 году датский журналист Ханс Хольк издал Путеводитель по Норвегии, однако расстояния и стоимость проезда по основным дорогам между Бергеном, Осло, Ставангером и Тронхеймом в нем были представлены весьма неточно.
Ситуация несколько улучшилась в 1816 году, когда издательство Якоба Леманна выпустило Карту дорог между норвежскими городами. В том же году начали измерять протяженность дорог. Землевладельцы запротестовали, и не беспочвенно: топографическая съемка выявила куда меньшую протяженность дорог, а это означало, что меньшими становились и выплаты землевладельцам за транзит. При этом многие из них ссылались на указанные в местных путеводителях расстояния: «Нам не хватает надежной дорожной карты Норвегии», – сокрушался в 1822 году журнал Hermoder. Семь лет спустя этим мольбам внял лейтенант Лунд, опубликовавший Дорожную карту Норвегии – правда, только ее южной части. В 1840 году анонимный автор издал Карманный путеводитель, в котором описал маршруты из Осло в Тронхейм через Гудбранндсдален и Эстердален. Среди прочего читатель узнавал, что у хозяина постоялого двора в Конгсволле есть две «прелестные дочери». Второе издание включало маршруты в южную и западную части страны.
Летом 1842 и 1843 годов историк и картограф Петер Андреас Мунк путешествовал в горах южной Норвегии. Он отправился фактически в неизведанную местность с целью исследовать места и дороги, о которых читал в сагах и других средневековых памятниках. Для своей рукописи, описывающей его горные походы, он начертил Карту горных троп между Хардангером, Воссевагеном, Халлингдалом, Нумедалом, Телемарком и Рюфюльке. Это первая точная горная карта. В преамбуле к ней он критикует карту Понтоппидана (1785), «лучшую и самую полную из всех созданных до сих пор карт Норвегии», за то, что она охватывает только «самые доступные и заселенные районы <…>. Он [Понтоппидан] не нанес и не отметил горные хребты, а лишь намекнул на них» линией, которая на деле оказалась «воображаемой». В письме своему другу Мунк признался, что составление карты пошло ему на пользу. «Только после того, как я взялся за картографию, мне стало ясно, насколько важно, безмерно важно изучение топографии для нашей истории».
Вскоре, в 1845 году, Мунк опубликовал Карту Норвегии для начальной школы. Через год он подготовил список наиболее исхоженных дорог и туристических маршрутов между городами и сельскими районами Норвегии, с указанием постоялых дворов и расстояний между ними. Его карта Норвегии, созданная для практических целей, содержала полезную информацию и таблицы. Она состояла из двух частей: карты южной Норвегии, напечатанной в 1847 году, и карты северной Норвегии, изданной в 1852 году. Один из картографов о ней писал: «Карта насыщена деталями, причем это касается не только той части страны, для которой уже составлены точные и подробные карты, но и менее изученных ее областей».
Карта южной Норвегии Мунка насчитывала почти сорок тысяч топонимов. Но поскольку картографированием страны в течение многих лет занимались датчане и норвежцы, писавшие на датском, большинство карт переполняли датские названия. Поэтому одной из важных задач, стоявших перед Мунком, было ввести как можно больше норвежских форм топонимов. Карта южной Норвегии стала настолько востребованной, что ее переиздавали четыре раза, а в книге британского автора Томаса Форестера Норвегия и ее пейзажи, вышедшей в 1853 году, она представлена как незаменимый путеводитель для всех, кто желает посетить страну.
В 1868 году была основана Норвежская ассоциация пеших туристов, которая активно выступала за улучшение картографирования наиболее посещаемых туристических районов. Некоторые ее члены сами чертили карты и публиковали их в ежегоднике ассоциации, в том числе карты горного массива Хаукелид (1868), Галдхёпигген (1873), нагорья Ютунхеймен с окрестностями (составлена совместно с Агентством частных земельных измерений и картографии) и ледника Юстедалсбреен (1890). Кроме того, Ассоциация постоянно напоминала туристам о том, «что для картографической службы Норвегии крайне важно получить любую информацию, которая может оказаться полезной для обновления старых карт. Поэтому, если вы во время своего путешествия обнаружите какие-либо неточности в опубликованных картах, пожалуйста, сообщите о них либо непосредственно, либо через секретаря Ассоциации». Кристофер Рандерс в изданном им в 1890 году карманном путеводителе по Сённмёре счел необходимым предупредить путешественников: «Сразу же оговоримся, карты – причем не только относящиеся к округу Кристиансанн, датируемые 1851 годом, но отчасти и другие, опубликованные в 80-е годы, – изобилуют ошибками, которые затрудняют их использование. На самые серьезные огрехи мы укажем, когда перейдем к описанию маршрутов».
Ошибки на картах горных районов могли появляться из-за многочисленных трудностей, с которыми пришлось сталкиваться топографам. Некоторое представление о них дают дневниковые записи, сделанные в Ютунхеймене в августе 1873 года:
4 августа. Прибыли на озеро Гьенде. В Ютунхеймене туман.
6 августа. Метель; палатку занесло снегом. Естественно, никаких работ.
9 августа. Поднялись на Семмельтинн; подъем невероятно трудный из-за последних снежных заносов. Вели наблюдения у пирамиды из камней, нанесли несколько объектов, но в три часа снова налетела метель, такая же, как накануне, так что больше ничего сделать было нельзя.
10 августа. Погода паршивая: буран, метет непрерывно; терпеть уже нет сил, одеяла и верхняя одежда насквозь промокли. Сбежали вниз, на туристическую базу в Гьенде.
Инфраструктура страны неотвратимо менялась. Лошадей и повозки вытесняли механические средства передвижения. На составленной Мунком дорожной карте, изданной в 1867 году после его смерти, уже намечены планировавшиеся железные дороги. Через восемнадцать лет, во втором издании карты, появилось двести железнодорожных станций на восьми ветках. Еженедельник Fedraheimen сообщал, что вышедшая в 1881 году в издательстве Альберта Каммермейера карта путешествий, составленная Пером Ниссеном, включала в себя «названия всех постоялых дворов, пристаней, почтово-телеграфных контор и железнодорожных станций; все дороги, равно главные и проселочные, а также основные горные маршруты, нанесены очень точно». Газета высоко оценила и Карманную карту Норвегии для путешественников Каммермейера: «Эта карманная карта покрывает бо´льшую часть Ютунхеймена и порадует всех туристов и альпинистов. Лично мне, не понаслышке знающему о горах, карта понравилась; все дороги обозначены четко, и всё прочее тоже понятно и зримо: голубые водоемы на фоне коричневых гор, заснеженные горы вздымают вершины, словно белые воротнички».
Карта Нурмаркена и Сёркедалена для лыжников и туристов, опубликованная в 1890 году инженером Эрнстом Бьеркнесом, стала первой в мире лыжной картой. На ней отмечены как «обычные лыжные трассы и зимники», так и «высокогорные лыжные трассы с крутыми склонами и поворотами», вдобавок ко всему указано, что «на фермах, названия которых выделены красным, можно найти еду и ночлег».
Пришло время и велотуристов. В 1894 году Николай С. Редер составил для Норвежского общества велосипедистов Карту для велопутешествий по южной Норвегии, тщательно отметив на ней уклоны всех дорог. К карте прилагался справочник с информацией о достопримечательностях, которые можно было увидеть, следуя по тридцать одному маршруту.
Постепенно велосипедная карта превращалась в автомобильную. В 1908 году, когда в Норвегии насчитывалось уже около ста автомобилей и пятьдесят мотоциклов, справочник пополнился краткой Памяткой для автомобилиста – полезным привеском к правилам дорожного движения, которые предстояло еще сформулировать. Через девять лет норвежский Королевский клуб автомобилистов обнародовал первую Автомобильную карту южной Норвегии.
В 1902–1903 учебном году школьники открыли атлас, который для многих поколений норвежских детей стал первой встречей с большим миром. Речь идет об Атласе для дома и школы Ивара Рефсдала. Постоянно переиздаваемый, он был непременным атрибутом школьных классов вплоть до 1960-х годов. Хотя география стала отдельным предметом согласно новому закону об образовании 1889 года, Рефсдал считал, что ей уделяется недостаточно внимания и что «большинство учителей вынуждено довольствоваться минимумом учебных материалов, а то немногое, им доступное, часто настолько убого, что проку от него почти никакого». Поэтому Рефсдал начал чертить собственные карты, простые, понятные и легко усваиваемые, которые получили высокую оценку и учителей, и географов. Он также составлял настенные карты для учебных классов.
Глядя на карту мира Рефсдала 1910 года издания, мы видим вчерашний мир. Азия и Африка колонизированы; Польша не существует как самостоятельное государство, она поделена между Германией и Россией; Финляндия – часть России; Ирландия принадлежит Великобритании, а Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, Румыния, Молдова и Болгария входят в состав Австро-Венгрии, господствующей в южной части Центральной Европы.
Над картой мира Рефсдала помещена еще одна – небольшая карта западной Арктики, или Североамериканских арктических островов, где «земли, открытые Отто Свердрупом, отмечены красным цветом». Эта карта – предмет гордости недавно обретшей независимость Норвегии. Она символизирует время рассвета норвежского «арктического империализма», который олицетворяют Фритьоф Нансен, пересекающий на лыжах Гренландию, шхуна «Фрам», дрейфующая во льдах Северного Ледовитого океана, Руаль Амундсен, достигающий Южного полюса, экспедиции на Шпицберген, Ян-Майен, остров Медвежий и Буве. Норвегия утверждала себя на карте, нанося на нее другие страны.
Белые пятна на Севере
Исаксен,
Канада
78°46’59” с. ш.
103°29’59” з. д.
С. 194 Маршрут первой экспедиции «Фрама», состоявшейся в 1893–1896 годах. Карта нарисована художником Кнудом Бергслином в 1896 году в честь этого события. Фритьоф Нансен был немало удивлен, не обнаружив новых земель в водах, через которые он прошел. Первая экспедиция «Фрама» описана на страницах 261–263.
Однажды сентябрьским утром 1896 года, всего через несколько дней после возвращения «Фрама» из первой экспедиции в Северный Ледовитый океан, когда капитан Отто Свердруп разгружал шхуну в бухте Люсакер, на ее борт взошел Фритьоф Нансен. Он поинтересовался, не желает ли капитан отправиться на север снова. Дело в том, что и консул Аксель Хейберг, и владельцы пивоваренного завода братья Амунд и Эллеф Рингнесы были готовы снарядить новую полярную экспедицию.
Семь лет спустя в своих путевых очерках Новая земля. Четыре года в Арктике Свердруп напишет: «Могу сказать только, что я был благодарен за это лестное предложение. На карте севера оставалось еще много белых пятен, которые я с удовольствием бы окрасил в цвета норвежского флага». Первая экспедиция «Фрама» на Северный полюс не обнаружила континент, во всяком случае, в тех восточных районах, по которым шел корабль. Но в отношении западных областей по-прежнему было много неясного. На карте 1896 года, где показан маршрут «Фрама» по Северному Ледовитому океану, часть северной Гренландии и район к западу от нее, а также полярная область вплоть до Новосибирских островов закрашены белым. Исследована была только часть восточного побережья острова Элсмир. Свердруп считал, что Норвегия может претендовать на территории, которые он нанес на карту.
Двадцать четвертого июня 1898 года путешественники покинули родную гавань. Первоначальной целью экспедиции было нанести на карту северные и неизученные части Гренландии. Экипаж «Фрама» должен был проплыть как можно дальше на север вдоль западного побережья, там перезимовать, а затем отправиться на санях еще дальше на север и восток, но этот путь оказался закрыт дрейфующими льдами, поэтому вместо Гренландии решили исследовать арктические острова в северной Канаде. За четыре года пребывания в этих водах они изучили и нанесли на карту территорию размером с южную Норвегию – больше, чем все предыдущие экспедиции, когда-либо достигавшие арктического региона.
Картографом экспедиции был Гуннар Исаксен. Свердруп писал о нем: «Он родился в 1868 году в Дрёбаке, в 1891 году стал лейтенантом кавалерии. Позднее учился в Центральной школе гимнастики». Первым делом Исаксен определил место зимовки «Фрама», выбор пал на лагуну Хейса на острове Элсмир. Наблюдая за Луной и Солнцем, он вычислил широту и долготу места их стоянки. В распоряжении экспедиции находились три теодолита, три секстанта, компас, телескоп, три больших и шесть карманных хронометров. На борту шхуны изготовили мензулу и маркеры, которые требовались для проведения триангуляции на местности. Сани оборудовали одометрами – маленькими колесиками, измеряющими пройденное расстояние.
Четырнадцатого сентября 1888 года в половине пятого утра Исаксен вместе со Свердрупом и мастером на все руки Иваром Фосхеймом из Валдреса отправился в первую картографическую экспедицию. Свердрупу не терпелось узнать, был ли Хейс действительно проливом или это лишь большой фьорд.
Путь был тяжелый и долгий, по крутым склонам и торосам. Никто из них раньше не управлял собачьей упряжкой, и, когда собаки брали с места в карьер и неслись как угорелые с откосов, Свердруп ожидал, что «они свернут себе шеи, и мы заодно с ними». Исаксен и Фосхейм никогда прежде не спали в палатках и «с тревогой гадали, что из этого выйдет». Фосхейм едва не задохнулся, когда полез с головой в спальный мешок. Свердруп вспоминал, что он то и дело выныривал из мешка, высовывал нос, но всякий раз ненадолго. Температура была под тридцать градусов мороза.
В то время картографирование полярных районов представляло собой «букет» самых разных проблем. Топографическую съемку затруднял не только мороз, от которого коченели пальцы рук и ног и замерзали уши, но и ураганы, снежные заносы, густой туман. Однажды в особенно плохую погоду после очередной неудачной съемки Свердруп записал: «В такие дни опускаются руки, и можно впасть в отчаяние». Когда они добрались до ледника, оказалось, что нельзя различить горизонт, а значит, и проводить измерения, и на компас полагаться тоже было нельзя, так как местоположение магнитного Северного полюса и географического Северного полюса не совпадают. Кроме того, заканчивался провиант, и им пришлось вернуться на шхуну, не завершив работы.
По этим причинам во время первой экспедиции Свердрупу так и не удалось выяснить, что такое Хейс – фьорд или пролив? «Мы должны были, конечно, всё это разведать, – записал он после того, как Исаксен, забравшийся высоко в горы, разглядел далеко на севере фьорд, прорезавший сушу, – но у нас кончился корм для собак, и на следующий день мы вынуждены были вернуться на корабль».
Впрочем, через несколько дней они вернулись, но уже с группой из одиннадцати человек, на шестидесяти собаках, с большим запасом провианта, и на этот раз они разбили лагерь, чтобы тщательней изучить местность. «Нашей первоочередной задачей было проложить базисную линию для создания карты», – отметил Свердруп. С этой целью Исаксен прихватил двадцатиметровую стальную рулетку. Ею отмерили необходимую для триангуляции базисную линию длиной тысяча сто метров. Следующей весной немного севернее рассчитали новую исходную линию в полторы тысячи метров и для полной уверенности в правильности расчетов проложили еще две базисные линии дальше на восток вдоль залива Хейса, который после проведения исследований переименовали в Хейсфьорд. В глубине залив раздваивается, и названия, данные Свердрупом самому южному рукаву и месту, где фьорд заканчивается – Бейтстадфьорд и Стенкьер, места его молодости, – свидетельствует о том, что капитан сильно тосковал по родине.
Всю первую осень и зиму они наносили на карту близлежащие территории. Во вторник двадцать третьего мая 1899 года, в самом начале короткого арктического лета, Исаксен и Уве Браскеруд, кочегар и разнорабочий из Солёра, отправились в дальнее путешествие с целью исследовать западные районы острова Элсмир. В отчете Исаксен отметил: «Приказ, который я получил, порадовал меня своей краткостью: следовало двигаться с помощником на двух собачьих упряжках, по шесть собак в каждой, с провизией на тридцать дней к ледникам Элсмира. Так как направление мне предоставили выбирать самому, я выбрал запад, решив добраться до побережья и затем идти как можно дальше на юг».
Исаксен и Браскеруд поднялись на ледник, а оттуда двинулись на юго-запад. Собаки вдоволь отдыхали «во время наших разведок, довольно частых и продолжительных». Второго июня в полночь они обнаружили фьорд на западном побережье. Однако не стали спускаться к нему – Исаксен предпочел забраться выше в горы, чтобы обеспечить лучший обзор местности. «С прекрасной обзорной точки мы увидели горную цепь, бесснежную, простиравшуюся, насколько хватало глаз, на юго-восток. В то же время она закрывала вид на запад и юго-запад». Однако им не удалось продолжить наблюдения: «К сожалению, точно измерить горные высоты помешала непогода». Из-за метели и тумана они вернулись на шхуну, опоздав на десять дней. «Досаднее всего, что у нас закончился табак, целых три дня его заменяли нам карманы жилетки Браскеруда, в которых когда-то был табак».
В ледяной пустыне экипаж «Фрама» был не одинок. Гавань, где члены экспедиции в первый раз зимовали, находилась посреди охотничьих угодий инуитов. Восторженный Свердруп считал, что полярные исследователи должны «учиться выживанию у двух коренных народов – финнов и эскимосов», то есть у саамов и инуитов, лучше других приспособленных к суровым условиям севера. Той весной «Фрам» впервые посетил инуит, выглядевший, по мнению Свердрупа, «слишком интеллигентно для так называемого дикаря». Ему показали книгу полярного исследователя Эйвина Аструпа Среди соседей Северного полюса, изданную в 1895 году, и выяснилось, что этот человек был компаньоном Аструпа. «С картой он обращался как профессор географии <…>, и мы наконец узнали от него, что он родом с острова Карна в заливе Инглфилд».
Естественно, осваивать северные регионы начали те, кто первым сюда проник и решил здесь обосноваться. Инуиты, живущие в Гренландии, северной Канаде и на Аляске, – это потомки сибиряков, около 1000 года пересекших Берингов пролив. В свою очередь инуиты рассказывают легенды о народе, которого они, придя в Гренландию, вытеснили. Археологические раскопки подтверждают, что более двух с половиной тысяч лет назад в Арктике обитали туниит, или сивуллирмиут – «первые жители», – и что еще до них, около пяти тысяч лет назад, на этих территориях проживали другие народы.
В Скандинавии по меньшей мере две тысячи лет живут саамы, и множество коренных народов проживает по всей Сибири. Однако в отличие от первых норвежцев они не оставили после себя никаких письменных памятников, на которые мы могли бы сослаться. Саги – самые ранние источники, предоставляющие нам информацию из первых рук.
Исландец Эрик Рыжий, совершивший набег на Гренландию в 982 году, обнаружил на восточном и западном побережье следы поселений, лодок, каменные артефакты, «из чего следовало, что здесь уже бывали гости из Винланда или, как их называли гренландцы, скрелинги», – писал в 1130 году Аре Фроде в Исландской книге. «Скрелинги» – скандинавское прозвище североамериканцев.
Именно сын Эрика Рыжего Лейф Эрикссон удостоился чести прослыть норвежским первооткрывателем Винланда, Америки, хотя Сага о гренландцах повествует, что первым, кто увидел Америку, был Бьярни Херьюльфссон, который проплывал мимо. Однако он не сходил на берег.
Викинги преодолевали огромные расстояния от Норвегии, Швеции и Дании до Исландии, Гренландии, Америки, Фарерских островов, Ирландии, Шотландии и Англии, России, Франции, Италии и Турции. Сигурд I Крестоносец даже добрался до Иерусалима, а в Книге о заселении Исландии упоминаются земли, по описанию похожие на Шпицберген. В свете сказанного удивительно, что викинги не составили ни одной карты, не начертили ни одной береговой линии, не нанесли ни одну группу островов. Единственное объяснение: они прекрасно обходились устными картами. Археолог и писатель Хельге Ингстад так это себе представил:
Кормчие, моряки, владельцы усадеб собирались вместе и делились опытом дальних плаваний. Со знанием дела говорили они о ветрах, течениях, льдах, о далеких водах и голубеющих берегах. Знания копились, принимали характер определенных указаний, складывалась традиция[102].
Пример такой устной карты дает Книга Хаука 1308 года:
Ученые люди утверждают, что от полуострова Стад в Норвегии семь дней пути до мыса Хорн на востоке Исландии. От полуострова Снэфельснес надо плыть на запад четыре дня, чтобы попасть в Гренландию. Это самый короткий путь. <…> C островов Хернар в Норвегии к Хварву в Гренландии надо плыть прямо на запад, при этом южнее останутся Шетландские острова, которые можно увидеть лишь в ясную погоду, потом севернее – Фареры, от которых видны лишь горы, наполовину выступающие из моря, и Исландия. Саму землю нельзя заметить, но можно видеть исландских птиц и китов[103].
Когда мореплаватели приближались к суше, они направляли судно по ориентирам и вспоминали устную карту. На море путь прокладывали по Солнцу и звездам. В дальние путешествия викинги брали с собой кормчего, который определял стороны света. Сага о гренландцах повествует о том, что Лейф и его спутники зимовали в Америке, строили там дома и наблюдали за Солнцем: «Дни здесь не так различались по длине, как в Гренландии или Исландии. В самое темное время года солнце стояло в небе в четверть дня после полудня и за четверть дня до него[104]».
Вблизи берега можно было ориентироваться по вехам и уточнять направление у местных жителей. В море путь прокладывали по солнцу и звездам. В дальние путешествия викинги брали с собой кормчего – leidsagnarmadr, умевшего deila ættir, определять стороны света. Сага о гренландцах повествует о том, как Лейф и его спутники зимовали в Америке, строили там дома и наблюдали за солнцем: «Здесь было больше jamndogr, чем в Гренландии или Исландии, а в skamdagen солнце светило и в eyktarstad, и в dagmålastad».
Слово jamndogr означает равноденствие, когда день практически равен ночи. Skamdagen – это зимнее солнцестояние, самый короткий день в году, двадцать первого декабря. Eyktarstad и dagmålastad – положение солнца во время eykt и dagmåla, завтрака и «дневной еды». В южной Исландии солнце начинает заходить к моменту «дневной еды» между пятнадцатым и двадцать первым октября, тогда как в Винланде [то есть в Америке] оно в день зимнего солнцестояния стоит в зените и в eyktarstad, и в dagmålastad.
На основе этой информации историк Густав Сторм и астроном Ханс Гельмюйден определили, что Винланд находился на 49 градусах 55 минутах северной широты – в Северном Ньюфаундленде. Найденные здесь Ингстадом руины домов тысячелетней давности подтвердили эти расчеты.
«Мыс Винланд» (Winlandiæ Promontorium), где расположен нынешний Ньюфаундленд, изображен также на исландской карте 1590 года, известной как Сколхолтская карта. Есть он и на еще одной карте, начертанной датчанином Хансом Поульсеном Ресеном в 1605 году и очень похожей на Сколхолтскую карту, хотя Ресен утверждал, что основанием ему послужила некая карта столетней давности («antiqua quadam mappa, rudi modo delineata, ante aliquot centenos annos…» – «древняя карта, грубо нарисованная несколько сотен лет назад…»). Ингстад считал, что и Сколхолтская карта, и карта Ресена составлялись по образцу одной и той же карты, созданной еще в доколумбовую эпоху.
Третью карту, Карту Винланда, где Америка изображена в виде большого острова – Vinlandia Insula – опубликовали в 1965 году. Ряд ведущих мировых экспертов в области картографии из Йельского университета и Британского музея подтвердили, что эта карта была нанесена примерно в 1440 году, за пятьдесят лет до того, как Колумб пересек Атлантический океан. Таким образом, это самая старая из известных карт, изображающих Америку. Тем не менее часть экспертов усомнилась в ее достоверности. Во-первых, мы не знаем ни одного источника, датированного 1440 годом или более поздним периодом, где упоминалась бы Карта Винланда. Во-вторых, Гренландия воспроизведена с подозрительной точностью. Вдобавок ко всему, в тексте на карте использована латинизированная форма имени Лейфа Эрикссона, «Эриссониус». Такая практика утвердилась только в XVII веке. Сегодня, после тщательных исследований, эта карта признана подделкой более поздних времен.
Однако нельзя исключить и того, что всё же кто-то около 1440 года мог нарисовать такую карту, ведь путешествия в Америку, Гренландию и Исландию и обратно продолжались. В 1075 году Адам Бременский в своих Деяниях архиепископов Гамбургской церкви писал: «Кроме того, он [король данов] упоминал и еще об одном острове, открытом многими в этом океане; он называется Винланд, потому что там сам по себе растет виноград <…>, что известно нам не из выдуманных басен, а из достоверных сообщений данов»[105]. Исландская летопись, датируемая 1121 годом, сухо сообщает: «Эйрик, епископ Гренландии, отправился на поиски Винланда»[106]. В летописи 1347 года отмечено: «И пришел также корабль из Гренландии. <…> На нем находилось семнадцать человек, они направлялись в Маркланд, но были занесены сюда [в Исландию] сильным штормом». Маркландом Лейф Эрикссон назвал земли к северу от Винланда. В описании мира, возможно, принадлежащем перу аббата из Твера Николаса Бергссона, умершего в 1159 году, говорится: «К югу от Гренландии находится Хеллуланд, затем Маркланд, а там недалеко до Винланда Доброго, до которого некоторые люди думают добраться из Африки. И если это так, то внешнее море должно отделять Винланд и Маркланд»[107]. В Книге Хаука рассказывается о путешественнике Ари, который достиг морем Страны белых людей: «Так некоторые называют Великую Ирландию. Эта страна расположена в море к западу возле Винланда Доброго. Говорят, что туда плыть шесть суток на запад от Ирландии»[108].
Много ли из того, что скандинавы узнали о Севере, заимствовали картографы континента? Ничтожно мало. Ни на одной из авторитетных средневековых карт мира, и в частности на Херефордской и Эбсторфской картах, мы не видим и намека на попытку показать земли к северу от острова Туле и за Полярным кругом. Но есть одно исключение – карта в английском молитвеннике середины XIII века, на которой севернее Норвегии изображены два острова, Ипбория и Арамфе, названных в честь двух легендарных народов, гиперборейцев и арамфейцев, живших, по мнению греков, на крайнем севере. Возможно, эти два острова нанесли на карту, потому что контакты норвежцев с кочевыми инуитами вносили географическую путаницу в Европе. Пожалуй, это один из первых картографических следов, указывавший на обитателей за пределами Гренландии.
В 77 году Плиний Старший писал в Естественной истории об Амальхийском океане: «Это слово на языке того народа обозначает „замерзшее море“». Сообщал он также об островах, «где люди, так называемые гипподы, рождаются с лошадиными ногами, и еще об одних, Панотийских островах, где люди закрывают совсем голые тела своими собственными ушами»[109]. Адам Бременский писал, что «за Норвегией, которая является самой крайней северной страной, ты не найдешь ни единого человеческого поселения, но лишь устрашающий взор беспредельный океан, что обнимает весь мир»[110]. В 1410 году епископ Петр д’Альи в своем Tractatus de imagine mundi (Трактате об образе мира) рассказывал: «За Туле, последним островом в океане, в одном дне плавания море замерзает и застывает. На полюсах живут огромные призраки и ужасные чудовища».
Карта Северного Ледовитого океана, составленная на основе записей голландского исследователя Виллема Баренца незадолго до его смерти на Новой Земле в 1597 году. Карта с впечатляющей точностью воспроизводит океан и прибрежные участки на севере. Позднее именем Баренца назвали море к северу от Норвегии. Het neuwe land – это архипелаг Шпицберген, впервые представленный на карте.
Систематическое картографирование полярных областей началось лишь тогда, когда европейцы озаботились поиском морского пути в Азию, который не пролегал бы к югу от Африки или Америки, а именно – Северо-западного прохода к северу от Америки или Северо-восточного прохода к северу от Евразии. По мере того как всё больше людей верило, что Америка – это не часть Азии, как считал Колумб, активизировались и попытки найти путь вокруг этого нового континента или через него, чтобы подобраться к богатствам Востока. В 1497 году Джон Кабот, итальянец на английской службе, открыл Северо-западный проход, попытавшись пройти севернее американского континента – за двадцать три года до того, как португалец Фернан Магеллан обогнул его южную оконечность. Кабот, таким образом, стал первым, кто отправился в арктический лабиринт, который очень медленно наносили на карту в течение последующих четырехсот лет, пока наконец норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен и его команда на судне «Йоа» не достигли в 1906 году Тихого океана. Кабот не прошел и половины пути, он добрался только до Ньюфаундленда, где наткнулся на льды. Во время второй своей экспедиции в 1498 году он и четыре его корабля бесследно исчезли – зловещее предзнаменование того, что ожидало любого исследователя, рискнувшего плыть в этих водах.
Карты Кабота, к сожалению, утеряны. Но о том, что ими в свое время широко пользовались, свидетельствует карта восточного побережья Америки, составленная в 1500 году испанским картографом Хуаном де ла Коса, где на 52 градусе северной широты нарисовано пять английских морских флагов, а рядом указано: «Mar descubierta ynglesie in» («Море, открытое англичанами»). Португальцы тоже искали путь на восток через запад. Исследователь Гашпар Корте-Реал побывал в Гренландии, Лабрадоре и Ньюфаундленде в 1500 и 1501 годах, на анонимной карте 1502 года эти районы усеяны португальскими морскими флагами. Легенда на карте рядом с Гренландией гласит: «Эта земля была открыта по велению светлейшего государя дона Мануэла, короля Португалии, и принята за оконечность Азии». Экспедиция Корте-Реала также бесследно исчезла.
Но и англичане не оставляли надежды найти проход через северные земли. В 1541 году Роджер Барлоу, купец из Бристоля, представил Генриху VIII краткий географический обзор Suma de geographia. В нем говорилось, что поскольку испанцы и португальцы основали свои заморские колонии на востоке, юге и западе, то осталось только одно направление, где можно что-то открыть – «северное». В 1553 году британская экспедиция отправилась вдоль норвежского побережья с тем чтобы открыть Северо-восточный проход через еще тогда не изведанное северное побережье России. И экспедиция своего добилась благодаря Carta marina Олафа Магнуса (1539), на которой к северу от Скандинавии простирается открытое море. Обогнув Книсканес, северную оконечность Норвегии, один из капитанов, Ричард Чанселлор, окрестил скалистый мыс Северным (Нордкап), и этим именем мы пользуемся по сей день. Однако вскоре корабли экспедиции потерпели крушение. Оба экипажа, все шестьдесят три человека, не пережили зимовку на Кольском полуострове и умерли от голода и болезней.
Картографы того времени отнюдь не были уверены в том, что вообще существуют северные проходы в Азию, будь то на востоке или на западе. Многие считали, что Америка и Азия – это один континент, следовательно, проходы и не нужны, а если плыть вдоль северной стороны континента на запад, просто вернешься в Атлантический океан. На португальской карте 1502 года восточное побережье Азии уходит за край карты, это может означать, что дальше за пергаментом оно соединяется с Америкой. Ту же картину мы наблюдаем на двух итальянских картах, появившихся несколькими годами позднее.
Йоханнес Руйш, голландский исследователь, который, возможно, участвовал в первой экспедиции Кабота, составил в 1507 году карту мира, где отчетливо видно, что Гренландия соединена с самой восточной частью азиатско-американского континента. Он также связал Норвегию с береговой косой Вентелант, которая, в свою очередь, примыкала к Филапелату и Пилапеланту (Лапландии), что простирались дальше на север к острову на Северном полюсе, именуемому Гиперборейской Европой. Чуть севернее Пилапеланта указана церковь Святого Одульфа – правда, неясно, имел ли в виду Руйш церковь в Вардё или церковь Святого Олафа (Нидаросский собор) в Тронхейме.
На глобусе, датируемом примерно 1505 годом, Северная Америка растворена в россыпи небольших островов, не представляющих никакого препятствия для тех, кто пожелал бы добраться до восточной части Азии. Эти же острова мы находим на глобусе 1515 года немца Иоганна Шёнера, но на его более поздних глобусах 1520, 1523 и 1533 годов североамериканский континент разрастался всё больше и больше, пока не слился с Азией.
Отсутствие достоверной информации о районах Атлантического океана к северу от 55 градуса северной широты не только создавало для картографов проблему, но и предоставляло им полную свободу действий. Не все из них были столь же консервативны, как венецианец Джакомо Гастальди, который, составляя в 1556 году карту, оставил северные районы незакрашенными, но и он потом поддался общему веянию. На карте 1562 года он начертил проход между Америкой и Азией и назвал его Streti di Anian – Анианским проливом. Это имя, вероятно, он позаимствовал из рассказов Марко Поло, где Анией названа одна из китайских провинций, но сам пролив Аниан был лишь плодом его воображения. Тем более поразительно, что он поместил его именно там, где Азию и Северную Америку действительно разделяет Берингов пролив.
Пролив Аниан прожил долгую жизнь на европейских картах. Мы снова видим его на карте, включенной в книгу английского летописца Джорджа Беста Правдивый рассказ (True Discourse), вышедшей в 1578 году[111]. Двумя годами ранее Бест в составе экспедиции капитана Мартина Фробишера отправился на поиски Северо-западного прохода. На борту имелась карта мира Меркатора 1569 года и атлас Ортелия 1570 года. На обеих картах был проложен судоходный путь к Тихому океану через северную часть американского континента. Когда в конце июля они вошли в залив (потом названный в честь Фробишера), что врезался в юго-восточную часть острова Баффин, Фробишер принял его за пролив, думая, что справа от него Азия, слева – Америка, а впереди – Тихий океан. На самом деле, чтобы добраться до самой восточной точки Азии, экспедиции пришлось бы преодолеть еще 4390 километров. Однако из-за сильного снегопада и потери спасательной шлюпки Фробишер повернул обратно, не дойдя до конца залива тридцати двух километров, уверенный в том, что открыл Северо-западный проход. Он назвал его проливом Фробишера, подчеркивая этим его статус северного аналога Магелланова пролива. На карте, помещенной в Правдивый рассказ, область, которой достигла экспедиция Фробишера, представлена как островное королевство, откуда широкий и привольный «пролив Фробишера» ведет к Тихому океану через пролив Аниан. Вернувшись в Лондон, Фробишер сообщил о своем путешествии Меркатору и Ортелию. Ортелий тут же отправился в Англию, чтобы узнать о новых открытиях из первых рук.
Тем временем голландец Виллем Баренц искал Северо-восточный проход. В 1596 году он в третий раз попытался пройти до Новой Земли и дальше на восток. Четвертого июня его экспедиция достигла мыса Нордкап. Однако отсюда своенравный шкипер направил ее значительно западнее, чем хотел Баренц. На следующий день они столкнулись с дрейфующими льдами, и Геррит де Веер, один из членов экипажа, записал в своем дневнике: «8 июня мы добрались до такого нагромождения льда, что не могли пробиться из-за чрезмерной его сплоченности, повернули на SWtW и шли так в течение двух склянок [одного часа]; затем в течение трех склянок мы двигались на SSW и в течение еще трех склянок на S, чтобы пристать к острову, который мы видели, и в особенности для того, чтобы избежать льда. 9 июня мы нашли остров, расположенный на 74°30’, величиной, по нашему предположению, в 5 миль»[112]. Остров они назвали Медвежьим (Beyren Eylandt) – после сражения с белым медведем: «…накинув ему петлю на шею, думали, что можем его поймать; однако, подплыв к нему, заметили в нем такую силу, что не рискнули напасть на него. Тогда мы вернулись на корабль, чтобы напасть на него в большем количестве и с оружием. Затем мы опять преследовали его с ружьями, римскими секирами, называемыми в общежитии алебардами, и с обыкновенными топорами», – писал де Веер. Из его дневника мы узнаём, что они сражались с медведем почти два часа, «так как едва задевали его нашим оружием», прежде чем убили его.
Через десять дней они заметили гряду остроконечных горных вершин на 80 градусах северной широты. Баренц назвал этот архипелаг Шпицбергеном. Несмотря на то, что они плыли к северу от этих гор и дальше путешествовали вдоль западной стороны, по пути нанося на карту побережье с севера на юг, а затем, достигнув южной оконечности острова, снова повернули на восток, они считали этот район частью Гренландии.
Баренц и еще шесть участников экспедиции домой так и не вернулись. Они погибли на северной оконечности Новой Земли, где мореходам пришлось зимовать после того, как корабль застрял в паковых льдах. Тем не менее за зиму Баренц закончил карту Крайнего Севера, которую опубликовали посмертно в 1598 году. Это первая карта, изображающая Медвежий остров и Шпицберген, и именно начиная с нее мы больше не увидим на картах островов вокруг полюса, а только бескрайний Северный Ледовитый океан.
В 1610 году английский мореплаватель Генри Гудзон открыл пролив, который мы называем Гудзоновым, и таким образом стал первым европейцем, вошедшим в просторные воды Гудзонова залива на севере Канады. Этот залив настолько велик, почти в десять раз больше Балтийского моря, что неудивительно, если Гудзон поверил: он достиг Тихого океана и доберется до Калифорнии, просто следуя вдоль побережья на юго-запад. Однако экспедиции пришлось зазимовать в заливе Джеймса. И всё закончилось мятежом. Гудзон и еще восемь членов его команды отплыли на спасательной шлюпке. Больше о них никто ничего не слышал.
Должно быть, мятежники прихватили с собой судовой журнал Гудзона. Во всяком случае, похоже на то, что голландский гравер Гессель Герритс пользовался им как источником при составлении карты для своей книги Detectio Freti Hudsoni (Открытие Гудзонова пролива) в 1612 году. На карте мы видим простирающееся далеко на запад Mare Magnum – Великое море, которое собирался открыть Гудзон, плывя дальше на север.
Поэтому англичане вернулись в Гудзонов залив, чтобы продолжить поиски северо-западного прохода. В 1615 году английский мореплаватель и картограф Уильям Баффин заметил, что самые сильные приливы, которые, как он считал, зарождались в северо-западных морях, шли вдоль Гренландии из северного пролива Дэвиса, а не из западного Гудзонова пролива. Поэтому Баффин с экспедицией отправился на север. Они забрались невероятно далеко, до пролива Смита на 78 градусах северной широты – всего полградуса широты отделяет этот пролив от гавани, куда через двести восемьдесят два года зайдет на зимовку «Фрам». По пути они открыли несколько морских путей, ведущих на запад. Двенадцатого июня в судовом журнале Баффин отметил, что они находятся «рядом с еще одним большим проливом, на 74°20’ северной широты, и мы назвали его проливом сэра Джеймса Ланкастера». Баффин и не догадывался, как близко его корабль подошел к тому месту, которое в XIX веке станет входом в Северо-западный проход. Более того, встречая на своем пути огромные массы льда, он писал, что его надежды найти проход через север таяли с каждым днем. Ко всему прочему члены экипажа страдали от цинги и других болезней. По возвращении в Англию он смиренно подытожил: «Прохода нет».
Карта экспедиции Йенса Мунка, отправившейся в 1619 году на поиски Северо-западного прохода. На западе в дальнем правом углу указано место зимовки Мунка, во время которой умерли шестьдесят два из шестидесяти пяти членов экипажа. В дневнике Мунк записал: «4 июня, в Троицын день, в живых, не считая меня, осталось только трое, и все мы лежали пластом, не в силах оказать помощь друг другу»[113]. В конце концов Мунк и двое его товарищей вернулись домой, в Норвегию, где он написал свой путевой очерк и нарисовал эту карту.
Пессимизм Баффина пришелся не по душе Самюэлю Перчесу, издателю его путевых заметок, страстно желавшему, чтобы Великобритания утверждалась на морях. Поэтому Перчес решил опубликовать только судовой журнал Баффина, а его картами пренебрег, и они были утеряны. И это печально, ведь Баффин – возможно, самый выдающийся мореплаватель своего времени, – был одним из первых, кто стал определять долготу с помощью наблюдений за Луной и, скорее всего, он вкладывал больше труда в составление карт, чем в ведение журнала. Вместо его карт Перчес включил в издание Северную часть Америки математика Генри Бриггса. На этой карте тихоокеанский берег простирается на северо-запад к Гудзонову заливу, который описывается как «удобный вход в ближайший и самый спокойный проход в Японию и Китай». Желание Перчеса найти проход было так велико, что он предпочел умозрительную карту, составленную кабинетным географом, карте того, кто побывал в тех широтах.
В 1619 году, три года спустя после путешествия Баффина, в Гудзонов залив вошла датско-норвежская экспедиция во главе с Йенсом Мунком. Король Кристиан IV, вдохновленный скандинавскими сагами о поселениях викингов на новооткрытых землях, мечтал о воссоздании северной империи, и поэтому снарядил в далекое плавание фрегат «Уникорн» и шлюп «Лампрей» с командой общей численностью шестьдесят пять человек на борту. Но экспедиция обернулась катастрофой. Запертые льдами, Мунк с людьми вынуждены были высадиться на западном побережье залива, во время суровой зимовки от цинги умерло шестьдесят два человека. Троим выжившим, в том числе Мунку, чудом удалось доплыть на Лампрее до Бергена, где их бросили в тюрьму за потерю королевского фрегата. Однако их помиловали. В 1624 году Мунк написал книгу Navigatio, septentrionalis. Deter: Relation Eller Bescriffuelse om Seiglads oc Reyse paa denne Nordvestiske Passagie, somnu kaldis Nova Dania – Путешествие на север, или Описание путешествия к Северо-западному проходу, отныне называемому Новой Данией, куда включил три карты. Учитывая ужасную судьбу экспедиции, которая не основала ни одного постоянного поселения, поразительно, что название Новая Дания прижилось на многих картах. Его мы находим и в карманном атласе голландского картографа Тобиаса Конрада Лоттера, вышедшем в 1762 году.
В 1717 году, спустя почти сто лет после экспедиции Мунка, британский исследователь Джеймс Найт достиг места его зимовки, где обнаружил неглубокие могилы и разбросанные повсюду кости – «откровение о том, что нас ждет, если мы не позаботимся о запасах до наступления зимы <…> Я молюсь, чтобы Господь сохранил и защитил нас». Позднее, во время очередной экспедиции на дальний север, Найт бесследно исчез.
Русские исследовали покорили территории на севере и востоке Евразии. В 1648 году экспедиция, возглавляемая казаком Семёном Дежнёвым, вышла к северной части Тихого океана, которую через 128 лет назовут Беринговым проливом, оказавшимся подлинным проливом Аниан между Азией и Америкой.
Витус Беринг, датчанин, был капитаном первого ранга русского флота. После того как в конце 1720-х годов он достиг Дальнего Востока, вплоть до Камчатки и северной части Тихого океана, императрица Анна Иоанновна в 1731 году поручила ему нанести на карту всё северное побережье России. Три года спустя четыре группы исследователей начали картографирование назначенных им участков. Выполнение этой масштабной задачи было сопряжено с преодолением тяжелейших испытаний ледовыми торосами, морозом, цингой, непроходимыми дорогами. Множество офицеров было разжаловано в рядовые, прежде чем работы завершились в 1741 году.
Четвертого июня того же года Беринг отбыл с Камчатки на двух кораблях, отправившись на восток исследовать просторы океана. Экспедиция добралась до северо-западного побережья Америки – территории, совершенно неизвестной в то время европейцам, причем до такой степени, что, когда Джонатан Свифт в своих воображаемых Путешествиях Гулливера, написанных в 1726 году, поместил там огромный полуостров Бробдингнег, никто в нем не усомнился. Беринг и его спутники нанесли на карту острова к югу и западу от побережья Аляски.
Российские власти решили держать данные экспедиции Беринга в тайне. Но удалось это лишь отчасти. В 1747 году французский картограф Жозеф-Николя Делиль, работавший в Санкт-Петербургской академии наук, вернулся на родину, забрав с собой карты и документы экспедиции Беринга. Он поделился добытыми сведениями с Филиппом Бюашем, известнейшим картографом Франции, и вместе они издали в 1752 году карту Северной Америки. На эту карту, однако, они нанесли ряд довольно сомнительных «открытий», сделанных в 1640 году испанцем Бартоломе де Фуэнте. По его словам, он добрался до 53 градуса северной широты, продвигаясь вдоль западного побережья Америки, и проник внутрь континента по реке, которую назвал Лос-Рейес, так далеко на восток, что в конце встретил корабль, шедший с восточного побережья. Очевидно, что внимание Делиля и Бюаша больше привлекла несуществующая система озер и рек, ведущих к Гудзонову заливу на востоке, нежели российские открытия на севере. Британские газеты приветствовали появление карты, показывавшей «кратчайший путь в Ост-Индию». В действительности же ни один европеец до Беринга ничего не знал о западном побережье Америки севернее 43 параллели.
В 1758 году Герхард Фридрих Миллер наконец-то издал в Санкт-Петербурге официальную карту, основанную на открытиях Беринга. Миллер также опубликовал открытое письмо, в котором критиковал Делиля и Бюаша, саркастично заметив, что «лучше опустить то, что еще неясно, и оставить белое пятно, пока будущие открытия не разрешат спор». На его карте северо-западная Америка почти полностью окрашена в белый цвет.
Джеймс Кук, английский капитан, который ходил по морям там, где картографы рисовали сушу, и находил сушу там, где они рисовали море, в 1774 году заинтересовался Северо-западным проходом, к которому его приманила карта северного района Тихого океана, на поверку оказавшаяся сугубо умозрительной. Карта нового северного архипелага, изданная профессором Санкт-Петербургской академии наук Якобом Штелиным, якобы основывалась на открытиях некоего лейтенанта российского флота. На этой карте Аляска представала не полуостровом, а островом, и между нею и американским континентом лежал пролив, выводивший прямо в Северный Ледовитый океан на 65 градусе северной широты.
На пути к этому проливу капитан Кук и его команда убедились, что американское побережье не уходит прямо на север, как на карте Штелина, а отклоняется на запад. В письме, датированном октябрем 1778 года, Кук сообщал: «Мы оказались у побережья, где приходилось обдумывать каждый шаг, где невозможно было положиться ни на одну из карт, ни современную, ни старую». В судовом журнале он помянул карту Штелина как «карту, на которой самый бестолковый из его бестолковых моряков постыдился бы поставить свое имя». Именно Кук дал название Берингову проливу, когда добрался до него. И там же он встретился с русским офицером, которого карта Штелина озадачила не менее, чем англичан.
Команда Кука сделала всё возможное, чтобы исправить ее недостатки. Благодаря хронометрам, секстантам и наблюдениям за положением Луны они произвели множество вычислений, для того чтобы установить координаты береговой линии. Карты, опубликованные в 1784 году, стали первыми, дававшими достаточно точное представление о северо-западе Америке. Но Северо-западный проход Кук так и не обнаружил. Корабли экспедиции наткнулись на непроходимые льды у Ледяного мыса к северо-востоку от Берингова пролива.
В это же время англичане хлопотали по другую сторону прохода. В 1747 году исследователь Генри Эллис писал: «Гудзонов залив я воспринимаю как своеобразный лабиринт, в который мы входим через Гудзонов пролив, и наша задача – выбраться из него с другой стороны…» Однако вышедшая в 1757 году Карта Гудзонова залива и пролива французского картографа Жака-Николя Беллена изрядно охладила пыл англичан. На ней в левом верхнем углу Беллен написал: «Англичане ищут проход в этих местах, но его там нет».
Британия приостановила экспедиции почти на двадцать лет, пока вела войну с Францией. Через три года после Ватерлоо и низложения Наполеона английское Адмиралтейство снарядило новые корабли на поиски прохода. Капитаны Джон Росс и Уильям Эдвард Парри получили наказ найти морской путь к западу от залива Баффина. Двадцать первого августа 1818 года они вошли в пролив Ланкастера – преддверие Северо-западного прохода, которое двести лет назад открыл, но не исследовал Баффин.
Настрой двух руководителей экспедиции разительно отличался: Росс был угрюм, в то время как Парри светился надеждой; Росс считал, что пролив Ланкастера на самом деле всего лишь залив, а Парри уже видел себя на западном побережье Америки. К сожалению, самым быстроходным кораблем командовал Росс. Во второй половине дня Тридцать первого августа, когда корабль Парри безнадежно отстал, а туман рассеялся, Росс вышел на палубу, чтобы осмотреться, и увидел «землю в конце залива, представлявшую собой длинную горную цепь». Он приказал обоим кораблям разворачиваться. И снова британцам не удалось найти Северо-западный проход.
Многих из его спутников это удивило: как мог Росс увидеть горную цепь там, где не было ничего, кроме водной глади? Не привиделась ли она ему, не был ли то арктический мираж? И почему он не посоветовался с другими офицерами? Парри так и не понял, почему они повернули обратно.
Россу пришлось объясняться перед публикой и Адмиралтейством. А Парри поручили возглавить новую экспедицию на север. Он подготовился к тому, что им придется зимовать во льдах, а значит, и столкнуться с цингой, поэтому запасся лимонным соком, солодовым экстрактом, квашеной капустой, уксусом – в дополнение к мясным консервам и супам. Консервы, которые позднее станут неотъемлемой частью полярного рациона, в 1819 году были в новинку, и консервной открывалки еще никто не придумал, вскрывали банки топорами и тесаками. Двадцать восьмого июля Парри отметил в судовом журнале «почти полное безмолвие» на борту, когда они вошли в пролив Ланкастер. Неужели и они наткнутся на горы? На мачтах матросы висели гроздьями, высматривая землю. Но корабль, медленно плывя на запад, уже миновал точку, в которой Росс повернул назад, а они не встретили даже ни одного рифа. Четвертого сентября достигли полуострова Мелвилл на 110 градусах западной долготы. Через двадцать дней вошли на зимовку в гавань, там обустроили обсерваторию. В лютый мороз, чтобы не содрать с лица кожу, они догадались прикладывать к визиру прибора кусок ткани. Это было их ноу-хау.
Европа узнала об успехе экспедиции через китобоев. Четырнадцатого октября 1819 года норвежская газета Morgenbladet сообщила: «С китобоями, недавно вернувшимися из пролива Дэвиса, к нам пришла и большая надежда на то, что Северо-западный проход наконец будет открыт». Парри излучал оптимизм. Позднее выяснилось, что в 1819 году льда было аномально мало.
Лето 1820 года выдалось необычайно холодным, корабли освободились ото льдов только в августе. Однако дальше на западе воды оказались забиты льдом настолько, что за неделю экспедиция продвинулась меньше чем на десять миль. Она достигла 113 градусов западной долготы, а до Ледяного мыса, где Кук повернул на восток, предстояло плыть еще почти сто тридцать миль (двести девять километров). Теперь и Парри отправился восвояси – второй зимовки его команда уже не пережила бы.
Экспедиция одновременно и удалась, и потерпела фиаско. Никто прежде не заплывал в море так далеко на запад. В то же время скопление льда за полуостровом Мелвилл было таким огромным, что Парри пришел к выводу: поиски Северо-западного прохода «столь же неопределенны, как и двести лет назад».
Тем не менее он отправился в новую экспедицию. После безуспешных поисков вокруг Гудзонова залива прохода на запад летом 1821 года, во время зимней стоянки в гавани он встретил инуитку Илиглиук, имевшую особый талант к рисованию карт. Ей дали бумагу, и она набросала контур побережья. Парри более всего заинтересовало на ее рисунке то, что побережье изгибалось на западе к северу от полуострова Мелвилл, на южной стороне которого они находились. «Вот же проход», – подумал Парри, и в июле поплыл на север. Карта Илиглиук оказалась верной, но пролив был заперт льдами и этим, и следующим летом. Вновь они вернулись домой несолоно хлебавши.
Параллельно с морскими экспедициями для картографирования северного побережья Канады предпринимались и пешие. В нескольких местах им открывался океан. Вопрос лишь в том, как проникнуть туда на корабле. В 1819 году Парри достиг пролива Принс-Риджент, который отходит в южном направлении от пролива Ланкастер, однако повернул обратно, предпочтя идти на запад. Но, может быть, Принс-Риджент и есть путь к побережью?
В мае 1824 года Парри сделал последнюю попытку отыскать проход. Пролив Принс-Риджент, к которому они добрались, покрывал сплошной толстый лед. Они снова зимовали в бухте, снова строили обсерваторию и стали первыми, кто обнаружил, что Северный магнитный полюс перемещается. С тех пор как они побывали здесь пять лет назад, расстояние между магнитным и географическим Северным полюсом увеличилось на девять градусов.
В конце июля 1825 года им удалось отодрать корабли ото льда и выйти в пролив. Когда же они почти достигли вод, где можно было свободно плыть, разразился свирепый шторм. Огромные глыбы льда налетали на корабли, камни срывались со скал, один из кораблей получил серьезное повреждение и сел на мель. Команда в отчаянии глядела на открывшиеся вдали пролива воды, не имея, однако, возможности продолжить свой путь. Один из членов экипажа говорил «…Еще никогда не видели мы так близко чаемый Северо-западный проход». Но он принимал желаемое за действительное. Пролив Принс-Риджент не был частью прохода.
«Я замечаю, что кое-кто в Адмиралтействе устал от полярной философии, – писал географ Джеймс Реннел после фиаско Парри. – Посмотрите на карты исследованных районов, от них веет безнадежностью: Repulse Bay (Отказ), Ne Ultra (Дальше некуда), Point Turnagain (Вернемся снова), Hopes Checked (Разбитые надежды), Frozen Strait (Замерзший пролив) и так далее и тому подобное».
Однако британцы не собирались мириться с поражением. В 1844 году первый лорд Адмиралтейства заявил, что глупо прекращать поиски «после того, как сделано так много, и так мало осталось сделать». Через год капитан Джон Франклин возглавил экспедицию, которая должна была стать триумфом, но обернулась катастрофой – и всё из-за неточной карты.
Бывшие бомбардирские корабли Королевского флота «Террор» и «Эребус» представляли собой два трехмачтовых барка, переоборудованных в исследовательские суда и оснащенных паровыми машинами, водоизмещением 325 и 372 тонны соответственно. Стальной корпус и носовая часть кораблей, укрепленная толстыми балками и обшитая стальными листами, могли разбивать, отбрасывать со своего пути, крошить и преодолеть любой лед.
Белое пятно, оставшееся на карте к юго-западу от пролива Принс-Риджент, было размером с Великобританию. За проливом чуть левее мыса Уокера пролегал неисследованный проход, за ним на юг простирались неизученные области. Франклин надеялся, что этот проход и есть пролив, ведущий к свободным ото льда водам, которые открывались с побережья материка. Утром девятнадцатого мая 1845 года два корабля с двадцатью четырьмя офицерами и ста десятью моряками на борту вышли в море. В Гренландии ссадили на берег и отправили домой пятерых моряков-дебоширов – Франклин не терпел пьянства и сквернословия. Эти пятеро станут единственными, кто останется в живых из экспедиции. Последними европейцами, видевшими экспедицию Франклина, была команда китобойного судна в заливе Баффина. Только через сто пятьдесят лет откроется правда о том, что произошло с людьми, находившимися на борту «Террора» и «Эребуса».
До марта 1848 года от Франклина и его экипажа не было никаких вестей. За ними снарядили три спасательных экспедиции. Первая направилась в Берингов пролив, вторая продвигалась пешком вдоль берега, а третья отплыла туда, где Франклина видели в последний раз. Ни одна экспедиция не напала на след пропавших путешественников, зато все три нанесли на карту обширные ранее не исследованные районы.
По иронии судьбы из трагического финала экипажа Франклина мы извлекли больше географических знаний, чем если бы ему удалось благополучно пройти через проход. Три спасательные экспедиции были лишь первыми из многих, обследовавших эти края в поисках двух бесследно исчезнувших кораблей. В 1850 году снарядили восемь новых экспедиций. Тем же летом обнаружили и первые следы людей Франклина – остатки его зимовки в 1846 году на острове Бичи в проливе Ланкастер. Но куда он направился потом? На север? На запад? На восток? Спасательные экспедиции искали во всех направлениях, они передвигались как по воде, так пешком и на санях, нанося на карту всё более обширные территории и проходя всё дальше на запад и север, куда еще не ступала нога британца.
Шотландский врач Джон Рэй сосредоточился на поисках в южном направлении. В апреле 1854 года он встретил инуита, рассказавшего ему о тридцати или сорока белолицых, которые «умерли от голода к западу от широкой реки далеко отсюда». Позднее ему повстречались другие инуиты, которые видели, как несколько истощенных белых людей направлялись на юг, тащили лодку и несколько саней и охотились на тюленей на острове Кинг-Уильям.
С. 218–219 Карта полярной экспедиции 1898–1902 года, составленная Гуннаром Исаксеном. Экспедиция обследовала и нанесла на карту восточную часть острова Элсмир, острова Аксель-Хейберг, Амунд-Рингнес, Эллеф-Рингнес и Кинг-Кристиан. А проливы Хасселя и Хендриксена, полуостров Фосхейм, остров Схея, полуостров Свендсена, Бауман-фьорд, Бай-фьорд, мыс Исаксена были названы в честь членов экспедиции.
Пятнадцатью годами ранее эти воды проходили Джон Росс и его племянник Джеймс. Для своего Рассказа о втором путешествии в поисках Северо-западного прохода, изданном в 1835 году, Росс нарисовал карту, утверждая в ней, что обогнуть остров Кинг-Уильям с востока нельзя – его племянник считал, что это полуостров. Они даже дали имена нескольким мысам внутри того, что называли заливом. Однако именно к востоку от острова Кинг-Уильям семьдесят три года спустя проплыл Руаль Амундсен. Джон Росс вторично ошибся, решив, что проход закрыт.
Судя по карте Росса, экспедиция Франклина продвигалась к западу от острова. Хотя проход здесь намного шире, чем с другой стороны, но именно сюда постоянно дрейфуют с севера льды и именно здесь вмерзли в лед оба корабля. В сообщении, найденном одной из экспедиций на острове Кинг-Уильям в 1859 году, указывалось: «25 апреля 1848 года. Корабли Ее Величества «Террор» и «Эребус», затертые льдом с двенадцатого сентября 1846 года, были оставлены двадцать второго апреля в двадцати четырех километрах к северо-западу отсюда». В сообщении говорилось также, что выжившие члены экипажа отправились на юг к материку. Все они или умерли от голода, или замерзли.
Судьба экспедиции Франклина и понимание того, что открытие Северо-западного прохода не будет иметь большого практическое значение ввиду трудных, подчас непредсказуемых условий севера, заставили британцев изменить свои планы в отношении этого региона. Северные экспедиции прекратились. В 1880 году Лондон передал северные воды в сферу компетенции канадских местных властей.
Фрэнсис Мак-Клинток, руководитель экспедиции, который нашел последнее сообщение об экипаже Франклина, вернувшись на корабль, записал следующее: «Мы прошли более 64 000 километров на санях, тщательно обследовали 13 000 километров береговой линии. <…> Санные партии отправлялись каждый месяц, кроме самой темной поры, декабря и января, нередко при температуре, опускавшейся ниже сорока градусов». В 1859 году английская карта этого района выглядела совершенно иначе, чем в то утро, когда Франклин отправился в путь четырнадцать лет назад. Исследователи обнаружили новые острова к северу и востоку от пролива Ланкастер, Барроу, Мелвилл и Мак-Клур, на западе английские экспедиции дошли до островов Принца Патрика и Банкс. Однако севернее 78 градуса северной широты карты всё еще оставались белыми.
В конце августа 1898 года «Фрам» пришвартовался для зимовки на 79 градусе северной широты. Шестнадцатого октября Свердруп записал:
Мы вступили в долгую. Что принесут нам эти четыре месяца тьмы? Здесь в полярную ночь происходили до того ужасные вещи, что любой человек невольно задумается. Франклин пришел сюда со 138 людьми. Полярная ночь поглотила его – никто не вернулся.
В августе следующего года из-за льдов им пришлось отказаться от похода вокруг Гренландии. Вместо этого Свердруп и его команда повернули на юг, к «пику Сэра Роберта Инглиса, крайней точке, которой в 1852 году достиг адмирал Эдуард Август Инглфилд» во время поисков экспедиции Франклина; там, на южной стороне острова Элсмир, они укрылись еще на одну зиму. Исаксен и штурман Сверре Хассель воспользовались остатками осени для того, чтобы нанести на карту участок береговой линии к востоку и западу от места их стоянки.
После нескольких весенних разведывательных походов исследователи решили отправиться в большую санную экспедицию вглубь острова. «Вторник, 20 марта 1900 года был великим днем отъезда». Свердруп, Фосхейм, Исаксен, Хассель и двое других членов экспедиции пересекли узкий залив, и это стоило им таких трудов, что они прозвали его Адовыми воротами. Но и дальше продвижение на север не становилось легче; «лед местами было настолько плох, что я, честно говоря, начал сомневаться, есть ли смысл продолжать наш путь», записал Свердруп. В какой-то момент «три человека, восемнадцать собак и трое груженых саней» свалились в прорубь и едва не ушли под лед. Но ничто не могло испортить им настроение: «Теперь перед нами снова открывался путь, и мы могли ожидать относительного успеха».
Несколько дней спустя они заметили «внушительную гору» на западе и двинулись по льду, «веря, что перед нами новая земля». Действительно, это был неизвестный остров, которому они дали название Аксель-Хейберг в честь одного из спонсоров экспедиции. Еще через несколько дней они разбили лагерь под двумя горными вершинами, которым никак не могли придумать название:
Ранним утром кто-то предложил название, скорее описательное, чем привлекательное, а именно Паттефьельдене. Фосхейм, который являл собой образчик скромности во время экспедиции, молчал, но лицо его не предвещало ничего хорошего. Так, в раздумьях, он провел весь день, а когда вечером снова вернулись к прежнему названию, он с возмущением сказал, что оно никуда не годится; просто уродливо. Нет, их следует назвать Двумя кратерами, и так они именуются по сей день. Добродетель была вознаграждена.
Открытые ближе к Пасхе места получили соответствующие названия: остров Пасхи, мыс Великого четверга, залив Страстной пятницы. Экспедиция неуклонно продвигалась на север. Но вот суша, по которой они передвигались, начала поворачивать к востоку, и они провели ряд наблюдений, чтобы вычислить крайнюю западную точку. «Когда я вернулся к Исаксену, он уже закончил расчеты долготы, и поскольку ему уже посчастливилось вычислить высоту меридиана, мы таким образом определили и широту, и долготу этого места», – записал Свердруп.
Однажды он поднялся на высокий холм, чтобы осмотреть «лед» и заметил «что-то черное или сероватое далеко на западе. Что бы это могло быть? Должно быть, новая земля». Исаксена и Хасселя отправили «на запад разведать новую землю». Они добрались до острова, который назвали Амунд-Рингнес, но не стали там задерживаться, а пустились в обратный путь, торопясь исследовать южный и восточный берег острова Аксель-Хейберг, а также пролив между ним и Элсмиром.
Только в апреле следующего, 1901 года Исаксен и Хассель вернулись на Амунд-Рингнес. Они пробрались на юг острова, устремляясь к высокой горе, которая оказалось на соседнем острове, уже названном англичанами Северным Корнуоллом, поэтому довольствовались тем, что пролив между этими двумя островами назвали проливом Хасселя. Вскоре после этого они обнаружили поблизости еще один остров, который окрестили Эллеф-Рингнес, именем брата Амунда. С южной оконечности Эллеф-Рингнеса они открыли очередной остров, который нарекли в честь датского короля островом Короля Кристиана, крайней северной точкой которого стал мыс Скаген. Пролив рядом с новым островом назвали Датским. А в самой северо-западной точке, которой они достигли, наконец и Исаксен обзавелся островом – унылым, плоским, усыпанным гравием участком земли, названным в его честь Землей Исаксена с мысом Исаксена в качестве форпоста.
Было совершено еще несколько походов. Самую северную точку, достигнутую экспедицией, покорили Свердруп и геолог Пер Схей, которые отправились на Грелифьорд между Элсмиром и Аксель-Хейбергом и не останавливались, пока не добрались до 81 градуса 40 минут северной широты. Исаксен же отправился обратно к Северному Девону, на юг от острова Амунд-Рингнес, чтобы картографировать его северную часть. В среду, тридцатого июля 1902 года, экспедиция отбыла в Норвегию.
В апреле следующего года Свердруп был в Лондоне, где представил результаты экспедиции Королевскому географическому обществу. За свои достижения он получил золотую медаль. После его доклада один из организаторов заседания сказал: «Мы считали эту часть Арктики своей настолько, что говорили о ней так, будто приказ королевы мог беспрепятственно проходить до Северного полюса. Но мы больше не можем этим похвастаться; капитан Свердруп побывал там и открыл дальше к северу бо´льшую часть земель, так что в ближайшее время не стоит ожидать расширения Британской империи в этом направлении».
Свердруп считал, что Норвегия имеет полное право владеть открытыми им и его командой островами. Канада же, которая не притязала на этот регион, не проводила в нем никаких исследований и не селила своих граждан, в соответствии с законами того времени и не могла рассчитывать на эти острова. К большому разочарованию Свердрупа, шведский король Оскар II не заинтересовался бесплодными землями Арктики и, в свою очередь, не предъявил на них никаких претензий.
«Когда мы смотрим на карту и вспоминаем, чем когда-то было королевство Норвегия, приходится признать, что наша страна с течением времени была нещадно урезана, часть ее земель отданы, заложены, забыты», – сетовал Исаксен в статье о полярных экспедициях. Он имел в виду арктические территории, остров Медвежий, Гренландию, Ян-Майен и Свальбард, которыми, по его мнению, в прежние времена владели норвежцы. И он был не одинок. К концу XIX века всё больше историков утверждало, что Норвегия обладает «законным правом суверена считать арктические острова своей собственностью». Они апеллировали к морским путешествиям норвежцев, их поселениям, а также к исландским летописям, где упоминается открытая в 1194 году новая земля – Свальбард, что в переводе означает «холодные берега» и которая идентична, как полагают историки, группе островов, обнаруженных Виллемом Баренцом четыреста лет спустя. Исаксен, разделявший эту точку зрения, подытожил: «Все норвежцы почувствовали бы себя униженными, если бы увидели, что над Шпицбергеном развевается чей-то чужой флаг».
После того как «Фрам» благополучно пришвартовался в родной гавани, Исаксен прослужил два года во французской армии. Но по мере того как в нем росло желание нанести на карту еще неизведанные районы Арктики, он остановил свой выбор на архипелаге Шпицберген и в 1906 и 1907 годах снарядил туда две частные экспедиции.
Исаксен с командой направился на северо-запад Шпицбергена, к мысу Митра, Конгсфьорд и Земле принца Карла, где они перетащили двухсот восьмидесятикилограммовые сани с оборудованием через ледники на вершины гор и приступили к топографической съемке. За два коротких летних месяца они исследовали семь тысяч квадратных километров практически неизведанной местности. Они нанесли на карту в этом районе сорок девять новых норвежских топонимов. Началась норвегизация Шпицбергена.
По возвращении из экспедиций Исаксена и Нансена пригласили в Министерство иностранных дел для обсуждения перспектив перехода архипелага в норвежское владение. Все осторожничали, однако в 1909 году норвежское правительство выделило Исаксену средства на новые экспедиции, так как Норвегия проявляла интерес к северу, прежде всего к развитию там китобойного промысла, рыболовства, туризма и добычи угля. По мнению Исаксена, появление точных морских, топографических и геологических карт позволило бы более эффективно пользоваться природными ресурсами, а экспедиции сами по себе укрепили бы положение Норвегии в этом районе.
Следующим этапом норвегизации архипелага стала карта Исаксена, составленная в 1910 году. Английский географический журнал согласился напечатать карту, но издателей возмутило то, что Исаксен дал новые скандинавские имена местам, уже названным в честь англичан и голландцев. Они опубликовали карту с пояснением, что многие названия отличаются от топонимов на английских картах. Других покоробило переименование моря между Норвегией, Исландией и Шпицбергеном в Норвежское, и они высмеивали «то, что Исаксен и некоторые норвежцы решили называть Норвежским морем».
Первая мировая война поставила под вопрос все европейские границы. Весной 1919 года Исаксена попросили отправиться в Париж, чтобы помочь норвежской делегации на мирных переговорах. В 1925 в исполнение Шпицбергенского трактата 1920 года архипелаг был передан Норвегии. Первое, что сделали норвежцы – переименовали Шпицберген в Свальбард, тем самым признав историческую теорию, по которой архипелаг идентичен Свальбарду, открытому 731 годом ранее. Норвегизация завершилась – голландцы и Баренц оказались в тени.
Эту часть норвежской истории обычно называют периодом «арктического империализма». Чтобы утвердить свои позиции, Норвегия снаряжала экспедиции на север и на юг – в Гренландию, на Землю Франца Иосифа, острова Ян-Майен, Медвежий и даже в Антарктику: «Во время норвежских экспедиций в антарктические и субантарктические районы несколько земельных владений были захвачены от имени норвежского короля <…>. Остров Буве был оккупирован 1 декабря 1927 года и взят под юрисдикцию Норвегии королевским указом 23 января 1928 года, а остров Петра Первого, занятый 2 февраля 1929 года, был переподчинен Норвегии королевским указом 1 мая 1931 года», – писал Исаксен в книге Путешествие «Норвегии» вокруг Южного полюса. Экспедиции 1930–1931 годов. Экспедиции отправлялись в антарктические воды для проведения метеорологических и океанографических исследований, для составления китобойных карт и поиска островов Трульс, Нимрод и Догерти – все они были отмечены на картах, но не обязательно существовали.
В 1905 году Норвегия начала китобойный промысел в Южном океане. «Однако промысел осложняло не только то, что карт было мало, но и то, что те немногие карты, которые имелись у китобоев, были неполными и неточными», – считал Исаксен. Только после многочисленных несчастных случаев и кораблекрушений Страховое общество китобойного промысла озаботилось картами Южных Шетландских островов, Южной Георгии, Южных Оркнейских островов, Южных Сандвичевых островов и моря Росса. Потом появились и промысловые карты. «На этих картах, покрывающих всё водное пространство вокруг Южного полюса, китобои могут наносить и собственную информацию о морских течениях, границах льда, отмелях и берегах. <…> Весной, когда китобои возвращаются домой, собранные ими сведения отправляются картографам, и те учитывают их при составлении новых карт, которые китобои возьмут с собой в конце лета, вновь отправляясь на юг», – писал Исаксен.
В это время англичане решили оспорить право Норвегии на остров Ян-Майен. Они утверждали, что этот остров в свое время открыл их соотечественник Генри Гудзон. Свердруп, который был разочарован тем, что Норвегия не заинтересовалась островами, открытыми им во второй экспедиции «Фрама», незадолго до своей смерти с отрадой увидел, как норвежские власти спорят с британцами, ссылаясь на то, что в таком случае Норвегия может претендовать на острова Свердрупа, как она теперь их называет. В 1930 году Великобритания всё же признала право Норвегии на остров Ян-Майен – правда, лишь через четырнадцать дней после того, как Норвегия признала право Канады на острова Свердрупа.
С высоты птичьего полета
Нёв-Шапель,
Франция
50°35’4” с. ш.
2°46’52” в. д.
С. 226 Реконструкция первой в мире карты, составленной по фотографиям, сделанным с аэроплана. Карта подготовлена английскими военными перед наступлением на немецкие позиции у французской деревни Нёв-Шапель в 1915 году. Эту карту высоко оценили, несмотря на то, что атака на Нёв-Шапель прошла не совсем по плану. Она положила начало применению аэрофотосъемки в картографии.
Битва закончилась, более двадцати тысяч солдат были убиты, ранены, взяты в плен или пропали без вести, а от деревни Нёв-Шапель осталось только название на карте. В среду десятого марта 1915 года с утра слегка мело, а затем снег превратился в сырой туман. Тем не менее английские аэропланы поднялись в небо, пролетели над позициями противника, сбросили бомбы на железнодорожные пути и укрепления, которые выдвигались на передовую. В это же время артиллеристы наводили орудия на немецкие цели. В 7:30 англичане начали самую массированную в истории артподготовку. Немецкие окопы сравняли с землей. Британский офицер Герберт Стюарт записал в дневнике: «Земля дрожала, воздух наполнял оглушительный рев разрывающихся снарядов. Глазам многих тысяч очевидцев предстало ужасное зрелище: сквозь клубы дыма и пыли видны были трупы людей среди груд земли и камней, обломков разрушенных домов и брустверов окопов». За тридцать пять минут артиллеристы выпустили больше боеприпасов, чем пятьсот тысяч британских солдат за три года англо-бурской войны в Южной Африке пятнадцатью годами ранее.
Первая мировая война кардинально отличалась от всех предыдущих войн. Индустриализация породила новые, более мощные виды оружия: пулеметы, гранаты, слезоточивый газ, а также новую технику, в том числе танки, подводные лодки и самолеты. Накануне сражения авиаторы Королевского летного корпуса английской армии вопреки непогоде сделали большое количество аэрофотоснимков немецких позиций. За несколько дней до наступления бригадный генерал Джон Чартерис говорил: «Мой стол завален снимками, сделанными с самолетов. Мы только начали осваивать этот метод разведки, но я считаю его самым многообещающим».
Фотографии положили рядом друг с другом, получилось мозаичное изображение местности. Авиаторы обратились за поддержкой к армии, в частности, к картографическому отделу Королевских инженеров, которые и составили по фотографиям карту, где красными и синими линиями были обозначены направления главных ударов и артиллерийские цели. Это была первая в мире карта, созданная на основе аэрофотоснимков.
День семнадцатого декабря 1903 года выдался холодный, по длинному отлогому берегу городка Килл-Девил-Хиллс, что в Северной Каролине США, дул легкий бриз. Четверо мужчин и подросток наблюдали за тем, как группка изобретателей пыталась заставить взлететь хлипкую этажерку. И она взлетела. Орвилл Райт пролетел тридцать семь метров за двенадцать секунд, совершив первый в истории полет на моторном самолете.
Понимали ли братья Орвилл и Уилбер Райт, что их полет – начало пути, который поведет человечество всё выше и выше, пока в конце концов мы не прорвемся сквозь земную атмосферу и не выйдем в космос? Или они были просто изобретателями, которым в голову пришла хорошая идея? Скорее всего, и то и другое. Самолет, поднявшийся в воздух в тот четверг, подвел итог их работе, начатой еще в 1878 году, когда они были детьми. В тот год братья получили в подарок от отца занятную игрушку – своего рода вертолет, сделанный из бумаги, бамбука и пробки, приводимый в движение при помощи резинки. Наигравшись им, они его раскурочили и построили собственный.
В то время мысль о том, что человеку пора научиться летать, витала в воздухе. Многие экспериментировали с различными механизмами. К тому времени аэростаты уже никого не удивляли – первые успешные полеты на них совершили еще в 1783 году. Через одиннадцать лет французские военные отправили разведчика на воздушном шаре с заданием собрать сведения о дислокации противника. В 1859 году французский топограф, инженер-майор Эме Лосседа изготовил первую фотокамеру, предназначенную для картографирования местности. В Париже он забирался на крыши домов и церковные башни, оттуда фотографировал (дважды с разных ракурсов, по меньшей мере) достопримечательности, а полученные снимки использовал для составления довольно точных карт. Лосседа заложил основы фотограмметрии – отрасли знания о том, как определить по снимкам размеры объектов и расстояние между ними. Во время гражданской войны в США северные штаты создали Корпус воздухоплавателей армии Союза. В 1861 году начальник корпуса продемонстрировал возможности фотограмметрии президенту Аврааму Линкольну, паря в воздухе над лужайкой Белого дома на высоте ста пятьдесяти метров. Корпус инженеров-топографов северян применял полученными с воздушных шаров разведданные для составления карт.
Во время первых экспериментов с различными летательными аппаратами погибло немало испытателей. Братья Райт пришли к выводу, что ключ к успешному полету – надежный рулевой механизм. Уилбер изучал птиц и обратил внимание на то, что угол наклона их кончиков крыльев меняется всякий раз, когда птица поворачивает направо или налево. Этот же принцип братья решили применить и к самолетам. Экспериментируя с планерами, они разработали систему тяг, позволявшую направлять летательный аппарат вправо и влево, вверх и вниз, крениться на бок – эта система применяется до сих пор. Следующим шагом стали попытки поднять в воздух самолет с двигателем.
В 1908 году братья пересекли на корабле Атлантику с целью показать свое изобретение скептически настроенным европейцам. Показывая самолет итальянскому королю, они впервые установили на него пленочную кинокамеру. В двухминутном фильме они показали то, чего никто прежде не видел: мир – в данном случае итальянская деревня с коровами, человек верхом на лошади и руины римского акведука – с высоты птичьего полета.
Итальянцы первыми задействовали авиацию в боевых действиях. В октябре 1911 года, через месяц после объявления войны Османской империи, они совершили разведывательный облет оборонительной линии противника, а в ноябре первые сбросили бомбы с самолета. В следующем году они осуществили первую аэрофотосъемку. Летчик сделал только один снимок, так как не мог одновременно управлять самолетом и менять стеклянную пластинку (пленку того времени).
Но первыми приспособили самолет для фотосъемки французы. В 1913 году британский журнал Flight в репортаже с париж ского Авиасалона сообщил, что один из самолетов на выставке называется «Parasol» («Зонт») из-за крыльев, которые были установлены на нем выше, чем на других самолетах: «Преимущество такой конструкции в том, что она обеспечивает пилоту великолепный обзор местности внизу, поскольку крылья находятся над его головой и, таким образом, не ограничивают вид на открывающийся ландшафт. <…> За местом наблюдателя установлена специальная камера, направленная строго вниз, что позволяет делать снимки во время полета. Управляет камерой наблюдатель с помощью троса, который служит двойной цели: приводит в действие затвор объектива и механизм, сменяющий пластины».
Первая мировая война началась с успешного наступления немецких войск. Пройдя Бельгию и Люксембург и отбив контратаки французов, они стремительно продвигались к Парижу и остановились всего в семидесяти километрах от городских окраин. Однако английская и французская авиация обнаружила брешь в позиции немецких войск. В эту брешь и ударили союзники, вынудив противника отступить на север к реке Эна, где немцы прочно окопались, и таким образом возник Западный фронт и началась позиционная война. Каждая сторона оказалась заперта на своих позициях, которые тянулись на сотни километров от Северного моря и Бельгии через Францию до Швейцарии.
Британские войска, прибывшие во Францию в 1914 году, располагали тремя картами, основанными на данных съемки, проведенной еще во времена наполеоновских войн сто лет назад: карты Бельгии и северо-восточной Франции и одна карта Франции. Планировалось обновлять карты традиционным способом. Один кавалерийский генерал говорил: «Надеюсь, все присутствующие здесь джентльмены не настолько глупы, чтобы поверить, будто аэропланы годятся для разведки на войне»[114].
Как правило, армейскими разведчиками были кавалеристы, они проникали в тыл врага и сообщали о его перемещениях и укреплениях, однако позиционная война в окопах лишила кавалерию свободы маневра. Поэтому именно аэропланы дали ответ на вопрос: как держать противника в поле зрения?
Не сказать чтобы это было легко. Первые английские самолеты-разведчики заблудились: погода выдалась пасмурная, а пилоты не знали местности. Один из них поинтересовался: «Не будет ли моветоном, если он посадит самолет и спросит у местных дорогу?» В конце концов ему пришлось это сделать. Другой пилот пролетел над Брюсселем, даже не заметив его. Часто единственное, о чем летчики могли с уверенностью доложить по возвращении из разведки, – где немцев нет. Авиаторы могли полдня искать врага, а потом еще полдня – путь назад. Но постепенно воздушная разведка оседлала-таки коня. В сентябре 1914 года британский генерал высоко оценил «великолепные донесения воздушной разведки», отследившей передвижения немецких частей. Информация, собранная авиаторами, переносилась на карты. Французский пилот записал: «Я обнаружил позицию двадцати четырех орудий на линии к западу от Витри. Отметил ее на карте в масштабе 1:80 000 и доложил дальше по инстанции».
Стратегическая аэрофотосъемка появилась совершенно случайно. Первые снимки пилоты делали собственными камерами и исключительно для того, чтобы похвастаться перед родными или возлюбленной. Они снимали города, достопримечательности, красивые пейзажи. И никому не приходило в голову, что систематическое фотографирование можно использовать для картографирования. Когда французский капитан Жорж Белленджер сформировал подразделение аэрофотосъемки и показал командованию снимки, которые, по его мнению, могли пригодиться для составления карт, ему ответили, что «уже есть карта». Тем не менее Белленджер разработал технику картографирования по фотографиям. Для этого требовалось хорошее знание ландшафта и умение интерпретировать черно-белые снимки, сделанные дрожащими руками с трясущегося самолета.
Зима 1914–1915 годов ознаменовалась промозглым затишьем на фронте и сидением в мокрых, стылых окопах. Земля была буквально перепахана бомбами, уже это одно затрудняло продвижение вперед. Однако за линией фронта делали всё, чтобы авиаторы – единственное, что еще было в состоянии двигаться – могли снимать как можно больше и качественнее. С наступлением первой военной весны появились и признаки движения на фронте.
Нёв-Шапель расположена на французской равнине недалеко от бельгийской границы. Эта небольшая и ничем не примечательная деревня по воле случая оказалась на северном участке Западного фронта и стала стратегическим объектом. Если бы союзникам удалось пройти через нее, они вышли бы к крупному городу Лиллю и перекрыли бы железнодорожные линии, дороги и каналы, по которым передвигались немцы.
Накануне запланированного наступления английские самолеты активно вели аэрофотосъемку Нёв-Шапель и ее окрестностей. По сделанным снимкам составили карту, ее напечатали в полутора тысячах экземплярах и раздали боевым подразделениям, которым предстояло идти в бой. Полученная информация была бесценна. Теперь союзники могли заранее изучить поле сражения и выявить наиболее вероятные направления немецких контратак. Впервые в военной истории Великобритании армия начинала наступление, имея четкое представление об обороне противника, его позициях и укрытиях.
Норвежский пилот Вигго Видерёэ участвовал в антарктической экспедиции 1936–1937 годов, имевшей целью нанести на карту Южный полюс и окружающие его воды. Серьезный экономический интерес для Норвегии представлял китобойный промысел и охота на тюленей в этом районе, а кроме того, она претендовала на островные территории в Южном море, нанося их на карту и присваивая им названия. Бросается в глаза преобладание на карте норвежских топонимов. Впоследствии море Короля Хокона VII, горы Короля Хокона VII и берег Ингрид Кристенсен изменили свои названия, а Земля Ларса Кристенсена стала берегом Ларса Кристенсена.
Бригадный генерал Джон Чартерис вспоминал: «Полученные нами разведданные себя в высшей степени оправдали, мы обнаружили немцев именно там, где и предполагали их найти, и подкрепление к ним прибыло точно в тот час, какой мы ожидали». То, что битва не увенчалась полным успехом, поскольку благодаря резервам немцы смогли остановить наступление союзников, вынудив британцев вновь рыть траншеи неподалеку от места, где они начали атаку, не так уж важно – сама подготовка к операции знаменовала огромный прогресс. Отныне карты, основанные на аэрофотоснимке, стали неотъемлемой частью стратегии союзников. Установилась система, согласно которой дневные аэрофотоснимки передавались каждый вечер в 20:30 картографам, с тем чтобы они в течение ночи подготовили новую карту и к шести утра распечатали сто экземпляров для войск.
До войны никого не обучали фотосъемке с самолета. Когда потребность в аэроснимках возросла, в армии начали выискивать всех, кто умел обращаться с камерой – не только фотографировал, но и знал, что представляет собой фотография. Вот как описал свою вербовку один из очевидцев: «В детстве у меня был фотоаппарат, и я сделал им несколько любительских снимков, которые проявил и напечатал. Узнав об этом, меня назначили аэрофотосъемщиком эскадрильи». Для подготовки таких специалистов англичане открыли Школу фотографии, картографии и разведки.
Аэрофотосъемка была взыскательна. Как и пилот, фотограф зачастую сидел в холодной, мокрой, продуваемой ледяным ветром кабине, в то время как их пытались убить. Чтобы фотографы могли вести систематическую аэросъемку, пилоты должны были постоянно летать по одному и тому же курсу, на одной той же высоте. Такой предсказуемый маршрут превращал самолеты-разведчики в легкую ми шень для тех, кто охотился за ними с земли. «Снова аэросъемка, – писал один из пилотов. – Я ею уже сыт по горло. Это самая трудная и опасная работа, какую могут поручить пилоту». Другой был лаконичнее: «Аэросъемка – хорошее дело, пока тебя не подстрелили».
Фотографам, в свою очередь, приходилось управляться с громоздкой камерой в маленьком пространстве. Они должны были вычислить момент (просто считая в уме), когда нужно сделать следующий снимок, чтобы изображения частично совпадали друг с другом, а потом сменить стеклянную пластину окоченевшими от холода пальцами. Добавим к этому еще и турбулентность. Однако, несмотря на все тяготы, игра стоила свеч. Один из фотографов признавался: «Было что-то поистине упоительное <…> в том, что ты пересекаешь линию фронта и смотришь сверху вниз на самое ценное и сокровенное у врага, сознавая, что в твоей власти сделать так, чтобы оно было либо уничтожено, либо завоевано. Да, овчинка стоила выделки».
На земле аэроснимки ожидали те, кто по ним составлял карты. Джеймс Барнс, имевший неофициальный титул дешифратора аэрофотоснимков, писал в автобиографии:
Для прочтения и расшифровки фотографий, сделанных с самолета, требуется особый тип ума, способного решать шахматные задачи или головоломки. Человеку непосвященному линии окопов и множество воронок на снимке ничего не говорят, но специалисту по головоломкам, изучающему фотографию с лупой, все эти линии, тени и возможные уклоны расскажут о многом. Целую историю. Часто его воображение воспламеняется какой-нибудь странной мелочью, понять которую он пока не может, а через мгновение его озаряет, и всё становится на свои места. Эти странные маленькие точки – железные столбы, соединенные крепкими металлическими тросами. Большая воронка – это скрытая пулеметная точка, к которой пробрались, не оставив следов, идя по нижнему тросу, как перемещается матрос по канату на рее парусного корабля. А заметная тропинка в сотне метров далее, ведущая к еще одной воронке, – военная уловка: пулеметного расчета там нет. Это была война между камерой и камуфляжем, очень похожая на игру в покер с тузом в рукаве.
На пустырях Первой мировой войны родился новый тип картографа: он сидел в темной комнате, вооружившись современными оптическими приборами, и разгадывал изображения, а не отправлялся в мир, чтобы исследовать его географию.
Растущая потребность в аэрофотосъемке заставила промышленность производить более совершенные фотоаппараты со всё более совершенными объективами, которые можно было использовать в картографических целях. Конечно, чем выше мог подняться самолет, получая при этом четкий снимок, тем меньше он рисковал быть сбитым. В конце концов разработали камеру, способную с высоты шести тысяч метров четко и с хорошим разрешением воспроизводить местность. В 1918 году, в последний год войны, воздушное картографирование стало настолько важной частью стратегии, что союзники сделали более десяти миллионов аэроснимков. Карты Западного фронта обновляли дважды в день с учетом новой информации, полученной воздушной разведкой. Немцы подсчитали, что снимками, которые они сделали во время войны, можно было бы покрыть всю Германию шесть раз.
«Именно мировая война с ее бессмысленными человеческими жертвами и неограниченным расходом денег, возможными только на войне, проложила путь воздушной картографии – составлению на основе аэрофотосъемки современных высокоточных карт с отмеченными на них линиями высот, – писал в 1933 году топограф и капитан Торолф Веен. – Развитие шло так стремительно, как того требовала война. А затем наступил мир. И всем этим изобретениям и новым отраслям промышленности нужно было найти применение».
Межвоенный период был временем, когда у веры в планирование и действенность рациональных методов имелись ярые сторонники. Научные открытия способствовали созданию более рационально устроенного образа жизни. Экономисты, архитекторы, инженеры и картографы были среди тех, кто выступал за новую реальность, основанную на знаниях и общем представлении о мире.
«Мы облетели всю Норвегию, видели красоту этой земли, ее несметные богатства и думали, что вместе с сокровищами, которые даются нам в управление, должна приходить и ответственность. Но никто не хочет взять на себя ответственность за общее достояние, поэтому, как часто бывает, красота может быть растоптана, а возможности – упущены», – писал Хельге Скаппель, пионер норвежской авиации межвоенного времени. С воздуха он рассмотрел то, что вынуждало многих норвежцев бросать деревни: «Некому было навести порядок в хозяйственном укладе деревни и помочь создать каждому достойные условия жизни». Скаппель считал, что невозможно «построить общество без карт и планов, где всё предстает в правильной форме и соразмерным. Таким образом, картографирование становится основой здорового и рационального общественного развития».
В юности Скаппель вместе с братьями Видерёэ – Арильдом и Вигго, – будущими основателями одноименной авиакомпании, ездил в Берлин на авиационную выставку. «Выставка стала для нас храмом». В комнате, которую они снимали у «ворот Шульца» в Осло, зародились грандиозные планы, которые вскоре пришлось умерить – юная компания довольствовалась двумя самолетами и планером. Первые деньги они заработали на демонстрациях фигур высшего пилотажа и воздушной рекламе. Затем они занялись пассажирскими перевозками, давали уроки полетов, предлагали услуги аэрофотосъемки. За два года полетов они собрали шесть тысяч фотографий. Однако их амбиции простирались дальше продажи красивых открыток.
«Мы хотели отснять с воздуха всю Норвегию и составить экономические карты, а затем на их основе получить полное представление о норвежской промышленности и ее потенциале, – писал Скаппель. – Фотографии и карты должны были лечь на столы ученых, чтобы те начали научно-исследовательскую работу. Организация и развитие нашего нового общества виделись общим делом социологов, экономистов, географов, специалистов-аграриев, инженеров и архитекторов». Скаппель и братья Видерёэ предложили выбрать несколько районов, где можно было бы попробовать решить многие проблемы, общие для всего региона. В восточной Норвегии они наметили «сельские муниципалитеты Рингсакер, Нес, Фурнес и Ванг, граничащие с городами Хамар и Лиллехаммер. <…> В этих районах мы можем подготовить подробный план местности».
Первая попытка составить экономическую карту Норвегии была предпринята в 1814 году, однако в казне не хватило денег, и проект свернули. После этого к нему возвращались регулярно, но также безуспешно. «Военные победы требуют военных карт. Экономические победы требуют экономических карт. Если мы хотим пролить свет на положение в экономике и иметь ясное представление о богатствах нашей страны, экономическая карта – просто одно из необходимейших условий», – писал в 1910 году госчиновник Юнас Эндресен Муссиге. Но для составления экономичских карт нужны были немалые средства, поэтому проект вновь и вновь откладывался.
Министерство обороны в официальном письме в 1931 году сообщало: «Экономическое картографирование начато пока только в одной коммуне (Рингсакер), а рассчитывать на новые инициативы такого рода в условиях нынешней экономической депрессии не представляется возможным».
История норвежской аэрокартографии началась с частной оккупации. Двадцать седьмого июня 1931 года над заливом Мюг (Myggbukta) в Восточной Гренландии взвился норвежский флаг. Китобой Халлвард Деволд отправил телеграмму, в которой объявил, что «именем Его Величества короля Хокона земля между Карлсберг-фьордом на юге и Бессель-фьордом на севере аннексирована. Мы назвали ее Землей Эрика Рыжего».
Аннексия стала возможна, потому что многие считали Гренландию исторически норвежской территорией. Эта древняя норвежская земля, как Исландия и Фарерские острова, входила в Датско-норвежскую унию, но после передачи Норвегии Швеции в 1814 году осталась в составе датского королевства. Спор разгорелся в 1921 году, когда Дания заявила, что вся Гренландия и прилегающие воды принадлежат ей. Норвегия считала, что это нарушает права норвежских охотников на тюленей и китобоев, которые промышляли в Восточной Гренландии с конца XIX века, поэтому норвежское правительство поддержало частную оккупацию залива Мюг Деволдом.
Летом 1932 года из норвежского Олесунна в Восточную Гренландию отрядили экспедицию. В ее распоряжении имелись самолет, карты, компас, чертежные принадлежности, две фотокамеры и 550 метров пленки, которой должно было хватить на 2850 фотографий. Целью экспедиции было продолжить картографирование, которое Норвегия проводила в этом районе уже в течение трех лет. Самолет одолжил Ларс Кристенсен, консул и китобойный магнат, чьи суда охотились в этих водах на китов и тюленей, а табачная фабрика Юхана Людвига Тидеманна выделила на аэрофотосъемку двадцать тысяч крон. Всего за месяц экспедиция сфотографировала тридцать тысяч квадратных километров – половина этих территорий прежде не была изучена. Другими словами, норвежцы сделали то, что делает большинство империалистов и оккупантов после захвата новых территорий: они нанесли их на карту, чтобы иметь стратегические сведения о местности и ее ресурсах. Однако оккупация длилась недолго. В апреле 1933 года Норвегия проиграла Дании дело в международном суде.
Двадцать первого июня того же года из города Хортен вылетел самолет норвежских ВМС F300. Из-за плохой погоды пришлось лететь четыре часа вдоль побережья до самого Бергена. На следующий день экипаж взял курс на север и через девять часов, включая дозаправку в Брённёйсунне, прибыл в деревеньку Рамсунн в Нурланне. Целью экипажа было провести первое картографирование Норвегии с воздуха. Район площадью сто квадратных километров к югу от Харстада еще не измеряли современными методами, поэтому его и выбрали в качестве пробного. Годом раньше топографы провели триангуляцию местности и отметили большое количество объектов, хорошо видных с воздуха (по одному объекту на один квадратный километр).
В первый день погода была великолепная. Фотографировал топограф и капитан Торолф Веен. «Аппаратура работала отлично, и всё шло вроде бы гладко, но вдруг, уже под конец нашего полета, что-то брызнуло мне в лицо, и тогда я увидел, что вся фотокамера в масляных капельках…» Веен вытер камеру и вскоре закончил съемку, а когда вернулся в Харстад, проявил пленку: «Я сразу же понял, что придется повторить съемку», – на снимках были следы от масляных пятен. Самолет нуждался в ремонте. «К счастью, как сказал бы картограф, вынужденный бездельничать, погода в следующие три дня выдалась отвратительная». К четвертому дню распогодилось, лишь парочка облаков виднелась над горами на высоте 1500 метров, поэтому картирование начали в 10:20 и завершили в 12:55. «Итак, мы управились с аэрофотосъемкой, а результатом будут обычные географические карты», – уверенно записал Веен.
Но всё вышло не так. Снимки показали, что слишком гористый ландшафт Норвегии невозможно нанести на карту с помощью аэросъемки одной камерой. На обычных фотографиях, сделанных с воздуха, самые высокие участки получаются меньшего масштаба, чем самые низкие, в силу того, что они находятся ближе к объективу. Требовалось применить метод стереоскопической съемки. Этот метод работает так же, как пара наших глаз – две камеры, размещенные рядом друг с другом, делают снимок одновременно; небольшое различие в ракурсе на снимках позволяет точнее вычислить высоты и подошвы гор.
Когда пришло время опробовать новый метод аэрофотосъемки в коммуне Сёр-Варангер, картографическое ведомство предпочло сотрудничать с Видерёэ, а не с норвежскими ВМС, которые на первое место всегда ставили, конечно, военные интересы, а потом уже гражданские.
Видерёэ получили свой первый картографический заказ в 1935 году. Тогда компания Det Norske Myrselskap проводила масштабную разведку торфяных болот в западной Норвегии с целью получить сведения о запасах топлива. На основании этих сведений планировалось разработать проект по восстановлению лесов и решению топливной проблемы этого региона.
В 1936 году Хельге Скаппель вместе с Арильдом Видерёэ отправились фотографировать Сёр-Варангер. «Побережье Финнмарка встретило нас холодно и неприветливо, над нами низко проплывали дождевые облака. Мы думали срезать здесь путь и лететь прямо на Киркенес; теперь же пришлось огибать побережье у мыса Нордкап». Они посадили самолет в Сванвике, где река Патсойоки образует большое озеро, и стали ждать ясной погоды. «Для того, кто любит природу, бродить по лесам, забираться в горы и жить жизнью свободного человека, аэрофотосъемка – благословенный труд. Особенно в такой красивой, девственной местности, как Сёр-Варангер».
Когда распогодилось, Скаппель и Видерёэ последовали тщательно составленному ими плану, ориентируясь по специальной карте с отмеченными на ней линиями, по которым им предстояло лететь. «Теперь мы летали по этим линям на разных высотах, вооружившись картографической аппаратурой. Когда заканчивался бензин или затягивало небо, мы снижались и ждали новой возможности поснимать».
В том же году Вигго Видерёэ получил заказ на другой стороне земного шара: облететь неизученные прибрежные территории Антарктиды от 80 градусов восточной долготы, до 10 градусов западной. Предстояло отснять береговую линию и по полученным аэрофотоснимкам составить карту этого региона. Заказчиком Видерёэ снова стал консул и китобойный магнат Ларс Кристенсен.
«Многие равнодушны к исследованиям области, столь далекой от нашей страны, и даже считают их пустой тратой времени», – писал Видерёэ. Но именно «благодаря исследовательской работе Ларса Кристенсена Норвегия прочно закрепилась в антарктическом регионе. Картами норвежской Китобойной ассоциации сегодня пользуются все страны, промышляющие китами, а карты, которые составят в скором времени по нашим аэрофотоснимкам, обеспечат судам безопасный путь к побережью».
На Южном полюсе, как и в Сёр-Варангере, ясная погода – гость нечастый. После череды «промозглых, серых» дней с «ледяной изморозью», «снегопадами и резкими ветрами» Вигго увидел «закат, который можно наблюдать только в полярных широтах. <…> На следующий день времени на подробные записи не было, мы вылетели на рассвете, вернулись уже после заката солнца. В моем дневнике лишь отрывочные сведения: Стартовали в 7:30 с полными баками… Нанес на карту береговую линию к востоку до Западного шельфа… Сели для дозаправки… Разведывательный полет вглубь материка с госпожой Ингрид Кристенсен… Посадка… Снова взлет с полными баками и новой катушкой пленки… Съемка побережья к западу до залива Торсхавн, 800 км туда и обратно <…>. Это то, что можно успеть сделать здесь в те редкие дни, когда случается хорошая погода. Всего в течение дня мы пролетели 1700 км и сфотографировали береговую линию протяженностью 430 км».
Из записей Вигго Видерёэ мы узнаём о том, как были обретены новые территории в этом регионе: «Госпожа Кристенсен тоже отправилась со мной в этот полет. Не прошло и часа, как она нетерпеливо указала пальцем на что-то впереди. Она заметила черное пятнышко на белом снежном покрове. Вскоре оно выросло с горную вершину, а мы пролетели над землей, которую никто раньше не видел. Госпожа Кристенсен сбросила норвежский флаг». Эта территория была названа берегом Принца Харальда. Через несколько дней выяснилось, что острова Торсхаммер, который, как уверяли, видели многие, не существует, и его пришлось убрать с карты. Во время последнего вылета они нанесли на карту еще одну неизвестную территорию: «Это горы или облака? <…> Впереди с ледяного щита поднимаются горные пики, вершина за вершиной, насколько хватало глаз. Горная страна, никем раньше не виденная, Рóндане [национальный парк в Норвегии] в глубине белоснежных просторов Антарктиды. В меркнущем свете вечернего солнца мы летим вдоль гор и не мешаем камере выполнять ее работу…»
Компания «Видерёэ» получала всё больше заказов. Медеплавильному заводу в Рёрусе нужны были аэрофотоснимки для поиска новых месторождений руды, также в них нуждалась и компания «Оркла» в окрестностях Леккен-Верк. Для Государственного управления картографии «Видерёэ» провели съемку Лиллехаммера, Ставангера, Шиена и Порсгрюнна, в то же время городам Тёнсбергу, Нёттерёю, Хьеме, Аскеру, Бэруму и Стринде требовались аэроснимки для составления планов застройки и проектирования дорог. Весной 1938 года Видерёэ приобрели оборудование, с помощью которого могли изготовливать собственные карты, и первым их заданием на этом поприще стало создание туристических и экономических карт Ставангера и его окрестностей.
Тем не менее перспективы аэрокартографии оказалось не такими светлыми, как рассчитывали Видерёэ. «Важность этой новой отрасли очевидна, и специалисты во всех областях стали нашими союзниками, они лоббировали финансирование картографических работ. Но власти реагировали вяло <…> и мы были вынуждены искать заказы за границей», – жаловался Скаппель. Компания участвовала в тендере на топографическое и экономическое картирование Сальвадора в Центральной Америке, однако дело прогорело из-за политических дрязг. Пытались проникнуть и в Иран, который был заинтересован в поиске нефтяных и минеральных месторождений, но и от этих планов тоже пришлось отказаться, когда политическая ситуация в Европе предельно накалилась.
С. 242–243 Карта вымышленной местности, составленная Норвежским картографическим управлением в 1959 году для экспериментирования с новыми обозначениями, цветами и типографикой. За основу взяты окрестности Санднеса, который на карте назван Сторесандом, но реальные Ютунхеймен, Лиллесанн, Рюгге и Свельвик не имеют к карте никакого отношения.
Осенью 1939 года, выполняя поручение в южной Швеции, Скаппель летел над морем чуть севернее Польши, только что подвергшейся нападению. «На горизонте над морем поднимались столбы дыма. Это были военные корабли. Мы вдруг почувствовали, что война совсем рядом».
В 1938 году Вернер фон Фрич, генерал-полковник и главнокомандующий немецкой армией, предсказал, что «следующую войну выиграет военная оргнизация с лучшей воздушной разведкой». Многие тогда считали, что у Германии больше самолетов и лучших в мире фотокамер, тогда как победители Первой мировой войны не внесли сколько-нибудь заметного вклада в развитие аэрокартографирования. В 1949 году военный американский журнал Infantry писал: «После войны интерес к фоторазведке упал почти до нуля. В итоге к началу Второй мировой войны вооруженные силы остались с устаревшими фотокамерами, без организации, техподдержки и опытных специалистов, способных работать с тем, что должно было стать основным источником разведданных». Королевские ВВС Великобритании не располагали даже собственными самолетами-разведчиками.
Однако в Королевских ВВС имелось особое подразделение – Центральный пункт дешифрования аэрофотоснимков, – располагавшееся в старом особняке в английской глубинке. Сначала в нем числилось сто четырнадцать офицеров и сто семнадцать штатских сотрудников; к концу войны было задействовано уже пятьсот пятьдесят офицеров и три тысячи сотрудников, занимавшихся составлением различных типов карт. Среди них были географы, археологи, журналисты, геодезисты, геологи и художники. Все они проходили двухнедельный курс фотоинтерпретации, учились определять масштаб изображения, понимать, что означают линии на фотографии (железную дорогу или шоссе, взлетно-посадочную полосу для истребителей или для бомбардировщиков), различать объекты военного и гражданского назначения. Разные отделы специализировались на аэродромах, маскировке, железных и автомобильных дорогах, реках, каналах, промышленных и военные объектах.
Маршрут каждого самолета наносился на карту, с тем чтобы знать, где проводилась съемка и (довольно часто) какие участки нужно сфотографировать повторно. Особо важные объекты отмечали на основной карте, а для стратегических районов составляли отдельные трехмерные модели-карты. В их создании участвовали столяры, скульпторы, художники и ювелиры, поскольку эти модели были крупными, почти два метра в поперечнике, и воспроизводили целые ландшафты с холмами, деревьями, реками, пляжами, бухтами, домами, локомотивами, товарными вагонами, радиолокаторами и военными объектами. Иногда их даже подсвечивали, чтобы узнать, как выглядит эта местность в лунную ночь. Именно такие модели сконструировали перед тем, как британские самолеты разбомбили плотины на реке Мёне и Сорпе. Пилотам дали указание: «Смотрите, пока глаза на лоб не вылезут и в голове не отпечатается каждая деталь. Потом идете рисовать всё по памяти, возвращаетесь, проверяете свои рисунки, исправляете и снова отправляетесь рисовать, и так до тех пор, пока совпадение не станет полным». Самая крупная модель включала в себя девяносто семь трехмерных карт пляжей Нормандии, которые были частью подготовки ко Дню Д и высадке союзных войск во Франции в июне 1944 года.
Вторая мировая война, в отличие от первой, не принесла сколько-нибудь значительных достижений в области аэрофотосъемки. Но, по крайней мере, она заставила воевавшие страны осознать, насколько они отстали в этой сфере, поэтому, как только война закончилась, ВВС США задействовали все свои ресурсы, для того чтобы провести аэрофотосъемку всей Европы и составить ее карты до того, как ухудшившиеся дипломатические отношения осложнили эту задачу.
После войны и оккупации Норвегии одним из первых заказов компании «Видерёэ» стало картографирование девяноста городов и других населенных пунктов, сожженных немцами во время их отступления в Финнмарке – новые карты требовались для планировавшегося восстановления страны.
Норвегия также вступила в НАТО. Членство в этой организации повлекло за собой новые требования к военным картам. Министерство обороны представило план по изготовлению новой серии национальных карт масштабом 1:50 000. Ранее масштаб главной карты Норвегии составлял 1:100 000, причем карта так и не была завершена, на ней отсутствовали значительные территории губернии Мёре-ог-Ромсдал, северные районы в Согн-ог-Фьюране, горном Сетесдалсхейене и Восточном Трумсе. Из-за новых требований к обороне Управление картографии отказалось от планов картировать недостающие области в масштабе 1:100 000. Вместо этого начали исследовать всю страну заново в масштабе 1:50 000. Рассчитывали на помощь американцев. И в 1952 году норвежские военные картографы в сотрудничестве с Картографической службой армии США нанесли на карту Восточный Трумс. Вскоре белые пятна были покрыты тридцатью тремя листами карты.
Успех этого проекта породил новый проект: Картографической службе армии США доверили аэрофотосъемку всех областей южной Норвегии, то есть две трети картографических работ. Однако оказалось, что опыт картирования, полученный на открытой, голой и малонаселенной местности в Восточном Трумсе, не применим к холмистым, густонаселенным и покрытым лесами южным и восточным землям. Изготовленные карты выявили серьезные различия в подходе к фотограмметрии американцев и Норвежского картографи ческого управления, учитывавшего специфику норвежских условий. В 1957 году обе стороны договорились о прекращении сотрудничества.
Норвежская армия и картографическое управление продолжили работу над подготовкой двух серий карт, военной и гражданской, соответственно названных M711 и Норвегия 1:50 000 (N50). Но и этот тандем складывался непросто. Оборонное ведомство и гражданские учреждения, в частности, управления, ведавшие водными ресурсами и земельным кадастром, предъявляли разные требования к содержанию карт, но в стране с ограниченными ресурсами не могло быть и речи о создании разных серий карт для разных целей. «Наши карты должны быть максимально универсальными, насколько это возможно», – заявил после войны директор Норвежского картографического управления Кристиан Гледич. В результате карты обеих серий совпали во всех деталях, кроме разбивки на квадраты, которая присутствовала только на военной карте, и геодезической сетки, представленной только на гражданской. Сопроводительные описания карт, разумеется, были разными.
Любое обновление карт и их переиздание влечет за собой изменение как их внешнего облика, так и содержания, что в свою очередь отражает перемены в обществе. Серия N50 не стала исключением. Устаревшие знаки, обозначавшие лесопилки и водяные мельницы, исчезли с карт, для дачных домов придумали отдельный символ, а дороги впервые начали наносить красным цветом и линиями разной толщины в зависимости от их назначения. Закрашенный черным квадрат, которым отмечали фермы, заменили пустым квадратом. «О символе для фермы можно спорить бесконечно, – писал Гледич, пояснив, что закрашенный четырехугольник слишком выделялся. – Надеюсь, пустой четырехугольник будет приемлемым решением».
Параллельно с составлением общенациональной карты продолжались споры вокруг серии экономических карт, о необходимости которых Скаппель и другие говорили еще до войны. Теперь пришло и их время. Норвегия оставалась одной из немногих стран Западной Европы, у которых не было таких карт. Главные тому причины – высокие затраты, низкая плотность населения и обширные пустынные земли. Старая экономическая карта в основном представляла собой обзор сельскохозяйственных и лесных территорий, которые занимали всего лишь двадцать пять процентов всей территории Норвегии, в отличие от шестидесяти процентов в Швеции, семидесяти четырех – в Финляндии и восьмидесяти трех – в Дании. «Но послевоенный период принес с собой новые требования. В частности, всё более насущным становилось планирование в районах, где урбанизация шла полным ходом и без всякого плана, – сетовал Гледич. – Конечно же, больше всего пугали затраты, когда речь заходила о составлении экономической карты. Но между 1930 и 1950 годами произошла технологическая революция. Аэрофотограмметрия позволила изготавливать карты куда более дешевые, чем раньше. <…> В конце 1950-х это наконец осознали и власти».
В 1964 году норвежский парламент, стортинг, принял Национальный план экономического картографирования. Все полезные земли ниже лесополосы (площадью сто тридцать пять тысяч квадратных километров) предложили нанести на карту в масштабе 1:5000, а остальные площади – в масштабе 1:10 000. Картографирование планировали выполнить в течение пятнадцати лет. Работа стала совместным проектом Норвежского картографического управления, государственных и муниципальных властей, землевладельцев и частных компаний.
«Никогда еще не проводились исследования таких масштабов. Мы начали практически с нуля, не имея ни знаний, ни опыта такого картографирования. Каждый шаг был чреват ошибкой», – писал Турбьёрн Пауле в Истории экономического картографирования Норвегии. – Создание картографической системы потребовало не только общих колоссальных усилий, но и новаторского подхода от многих людей и организаций. Говорят, что когда норвежцы показали план картографирования своим датским коллегам, те ужаснулись: „Да вы сошли с ума!“»
С введением градостроительного кодекса в 1965 году спрос на карты резко возрос. От всех коммун потребовали представить четкие и подробные планы использования земли.
Работа над новыми картами сопровождалась языковым конфликтом, ставшим уже традиционным для Норвегии. Выбор формы, в которую следовало облечь топонимы, неотделим от картографирования. На протяжении тысячелетий, пока грамотность была редкостью, географические названия существовали только в устной форме. Впервые многие из них появились в письменной форме в сагах. В древнейшей Саге об Олаве Святом упоминается город Аскейм (Askeim) в Рингерике, нынешний Ашим (Askjum), хотя исконное его название было Аскхеймр (Askheimr). И это название неднократно менялось с момента основания города. Встречаются такие его формы: Askim (1529), Askom (1578), Aschem (1604) и Aschim (1667 и 1723).
С Реформацией установилась датская орфография, у которой не было фиксированных письменных норм. В моду вошли лишние буквы, и Vik превратился в Vig, затем в Viig, Viik, Vick, Wick, Wig, Wieg, Wiek, Wiig, Wiik, Wik. После 1814 года возрос интерес к исконному норвежскому языку. Возникло желание норвегизировать письменные формы, которые часто противоречили как местному произношению, так и оригинальному названию. В 1878 году стортинг назначил комиссию, которая должна была утвердить изменения. В период между 1925 и 1931 годами многие норвежские города перекрестили: Кристианию переименовали в Осло, Фредриксхалд в Халден, Фредриксверн в Ставерн, Тронхейм в Нидарос (1929), а затем снова в Тронхейм (1931).
В заявлении Картографической комиссии говорилось, что экономическое картирование должно сохранить как можно больше местных названий: «Это связано с тем, что в окрестностях деревень у многих пустошей, лесов, лугов и других достопримечательностей есть прекрасные имена, которым грозит полное забвение». В картографической службе Мёре-о-Румсдал есть представитель, который ездит по губернии и записывать старые топонимы. Так, в Сандёйе он узнал, почему один из островов называется одновременно и Сетерёйа, и Пурка. «Вероятно, давным-давно там пасли свиней»[115]. Некто с семьей поселился на этом острове и, естественно, был не в восторге от названия Пурка; в конце концов он обратился к датскому королю с просьбой переименовать его. «Я не слишком расстраиваюсь от того, что меня называют Свин-Ула, но мне не по душе то, что моих детей дразнят поросятами», – объяснял он. Просьбу король уважил. Сегодня Сетерёйа – имя острова на картах. Память же о прежнем, давнем, его названии сохранилась в местных топонимах: Пуркешхере, Пуркениса, Пуркешертарен.
Ситуацию в Финнмарке и других землях, где в ходу были как норвежские, так и саамские топонимы, попытались разрешить, «используя новонорвежские формы географических названий в прибрежных районах, где проживало преимущественно норвежское население, и саамские формы – во внутрених районах, где пребладали саамы». Но угодить всем оказалось невозможно. Организация Noregs Mållag[116] заявила, что «в написании названий нескольких городов допущены ошибки и несоответствия <…> Мы получили немало жалоб по поводу некачественных карт». Ошибки возникли из-за того, что многие картографические службы в губерниях (фюльке) сочли главным для себя как можно быстрее издать карты. Обсуждение и тщательная проверка топонимов последовали уже позже.
В ходе работ выяснилось, что серию экономических карт придется расширить. Первоначальные сто тридцать пять тысяч квадратных километров увеличились до ста семидесяти тысяч, после того как губернии получили информацию о том, какие территории должны быть нанесены на карту. Кроме того, многие отмечали, что из-за высоких темпов планирования и развития территорий карты быстро стареют. В 1975 году треть карт уже устарели настолько, что больше не годились для планирования. Как следствие, возник конфликт между необходимостью первичного составления карт и последующего их обновления. С картографированием закончили только в 2002 году. К тому времени нанесли на карты сто восемьдесят пять тысяч квадратных километров в масштабе 1:5000.
В послевоенном обществе потребления роль карт изменилась. «Стала ли карта для норвежцев в большей степени предметом повседневного спроса, чем всего несколько лет назад?», – спросили в 1969 году Гледича, директора Картографического управления, и тот ответил: «Да, несомненно. Во времена моего отца карты были чем-то вроде драгоценной жемчужины, которую ограняли, берегли и передавали по наследству. Теперь они – обычный товар, которым пользуются, а попользовавшись, заменяют. Прогресс поразительный. Транспорт и территории развиваются так стремительно, что карты приходится постоянно обновлять, и хорошо, что их срок недолог».
Карты стали также частью гражданской культуры. «Использование карт во время демонстрации политических программ или социальных проектов помогает гражданам лучше их понять. Следовательно, реальней становится и влияние демократии», – говорится в публичном отчете «О картографической и землемерной деятельности в Норвегии» за 1975 год:
Сегодня есть особая потребность в картах, которые могут дать обычным людям лучшее представление о текущих обстоятельствах и предлагаемых мерах во многих сферах общественной жизни. Карты, предназначенные для широкой общественности, могут включать в себя:
• влияние кислотных дождей на окружающую среду (карта южной Норвегии);
• муниципальные земли, нуждающиеся в государственной охране;
• альтернативные проекты для пешеходных маршрутов, велодорожек и движения автотранспорта вблизи школ.
В отчете 1975 года содержалась также информация об отраслях, в которых могут быть использованы карты, и об их целевой аудитории. Деловым и бюрократическим языком перечисляются шесть отраслей, первая из которых, Управление ресурсами, имеет потребность в картах коренных пород, растительного и животного мира, водных ресурсов, воздушного пространства, земельных владений, населенных пунктов и коммуникаций. Вторая отрасль – Планирование территорий, третья – Проектирование жилья, школ, промышленных объектов, дорог, мостов, аэропортов, портов, электростанций и ЛЭП, телекоммуникаций и водоснабжения. Четвертая отрасль, Производство, самая крупная, включает в себя сельское хозяйство, лесоводство (владения), рыбную ловлю (состояние дна, судоходные линии), горнодобывающую промышленность (сейсмология), нефтедобычу, промышленность, водоснабжение, энергоснабжение (электросети, водные ресурсы), наземный транспорт (пропускная способность, качество дорог), судоходство, воздушное сообщение (аэропорты, авиапомехи), телекоммуникации (сети), торговлю, туризм (жилой фонд, пропускная способность), школьное образование (здания, вместимость), здравоохранение (здания, здоровье граждан), полицию, пожарную службу (гидранты, трубопроводы, водные источники), оборону и главное управление. Затем следует пятая отрасль, Правоотношения, и шестая – Другие сферы, куда входят сбор и представление статистических данных, прогноз погоды, образование, средства массовой информации, путешествия, отдых на природе, спортивное ориентирование.
Сорок лет назад Хельге Скаппель, пролетая над Норвегией, думал о том, что общество нельзя построить без карт и планов. Теперь и чиновники утверждают, что «невозможно переоценить важность карт и топографических данных для экономической жизни общества. Их значение, несомненно, велико, ибо трудно представить себе, чтобы современное общество могло обойтись без таких инструментов», – говорится в отчете. И почти всюду, где в нем говорится о картах, указывается, что они были составлены по «Flybilder», «аэрофотоснимкам».
Аэрокартография возникла благодаря техническим инновациям XIX века, когда фотография и авиация появились почти одновременно, но также и благодаря войне, совершенно непохожей на все предыдущие войны, на которой единственным техсредством, сколько-нибудь эффективно перемещавшимся, были самолеты, а камеры на них могли мгновенно фиксировать позиции врага. В мирное время аэросъемка применялась в гражданских целях и охватывала практически всё, от поиска руд и картографирования болот до городского планирования, дорожного строительства и составления экономических карт. В конце концов аэросъемка стала настолько доступной и распространенной, что превратилась в рутину. Норвежское картографическое управление проводит съемку Норвегии с воздуха каждые семь лет и постоянно обновляет карты.
Роль самолетов как воздушных шпионов заметно уменьшилась после того, как в 1960 году СССР сбил американский самолет-разведчик U2. Однако тремя годами ранее абсолютно новая технология покорила мир: в космос был запущен первый спутник.
Голубая планета
Обсерватория Земли Ламонт-Доэрти,
США
41°00’14” с. ш.
73°54’25” з. д.
С. 252 Дно Атлантического океана, изображенное в виде физиографической диаграммы. Карта похожа на аэрофотоснимок и составлена геологами Мэри Тарп и Брюсом Хизеном в 1956 году. Такой карты еще никто не видел. На ней в левом верхнем углу представлена часть северо-восточного побережья США.
Первого февраля 1957 года газета The New York Times опубликовала на первой полосе карту, обеспокоившую многих читателей. Это была карта мира, на которой незнакомые черные линии разделяли океаны, некоторые из этих линий уходили вглубь материка. Заголовок гласил: «Геологи обнаружили на дне мирового океана огромную трещину». В статье говорилось, что Земля «трещит по швам». Обсерватория Земли Ламонт-Доэрти, стоявшая за этим открытием, стала получать письма от встревоженных читателей, напуганных приближением конца света. В ответ на одно из таких писем сотрудник обсерватории написал: «Не думаю, что Вам стоит беспокоиться. Земля, похоже, уже давно (миллионы лет) „трещит по швам“. Передвижение на дюйм в столетие в геологии считается быстрым. Спасибо за проявленный интерес».
Напечатанная в газете карта представляла собой упрощенную версию большой морской карты, над которой работала на протяжении четырех лет одна из исследователей обсерватории. «Мисс Мэри Тарп, – сообщала The New York Times, – картограф обсерватории Ламонт-Доэрти, обратила внимание на то, что бо´льшая часть землетрясений, наблюдавшихся в северной и южной Атлантике за последние сорок лет, происходила как раз в районе огромной расщелины». Однако газета не опубликовала ее карту, а взяла интервью у двух ее коллег-мужчин, и ни один из них не упомянул о том, что именно Мэри Тарп обнаружила расщелину, потрясла до основания геологию и составила самую точную карту морского дна Северной Атлантики.
Тарп начала работать над картой в сентябре 1952 года, когда один из ее коллег Брюс Хизен вывалил ей на стол большую кучу картонных коробок. В них было полно бумажных рулонов. Она развернула один из них и увидела черную линию, иллюстрировавшую глубину различных участков океанского дна. «Это гидроизмерения, – сказал Хизен, – Что об этом думаете?» Вопрос был искренним. Он сам не знал, что с рулонами делать, и отдал их Мэри Тарп в надежде, что она превратит их в то, что ему больше всего хотелось: в топографическую карту дна мирового океана.
В свитках содержались результаты гидроизмерений, которые проводились обсерваторией в Атлантическом океане на протяжении многих лет, – в общей сложности девятьсот пятнадцать метров бумаги. Океанографы прошли на кораблях от Америки до Африки и Европы, нанеся на карту все свои маршруты и указав долготу и широту каждого места, где замеряли глубину. Однако никто не пытался тщательно проанализировать полученные результаты. Тарп и Хизен задались целью создать «полноценную модель» северной Атлантики, переведя девятьсот пятнадцать метров бумаги в одно изображение.
Тарп начала с того, что стала склеивать листы бумаги, пока не получила лист более двух метров шириной. Она хотела запечатлеть как можно больше деталей. Маршруты, пройденные океанографами, она изобразила шестью линиями, пересекающими Атлантический океан: самая северная из них простиралась от острова Мартас-Винъярд до Гибралтарского пролива, самая южная – от бразильского города Ресифи до Фритауна, столицы Сьерра-Леоне. Вдоль этих линий она отметила глубины. Через шесть недель у нее уже был готов первый набросок.
Океанографы давно предполагали, что по дну Атлантического океана с севера на юг проходит горная цепь – Срединно-Атлантический хребет, частью которого считалась Исландия. Карта Тарп подтвердила эту гипотезу. Но на этом открытия не заканчивались. В ходе дальнейших исследований она обнаружила глубокую расщелину шириной более трех миль, разделявшую хребет пополам. Она поделилась своим открытием с Хизеном.
– Девичий вздор, – сказал тот, глядя на представленную ему карту. – Такого просто не может быть. Это слишком похоже на…
– …континентальный дрейф, – закончила она.
Первым, кто заговорил о том, что континенты путешествуют, был известный в XVI веке ученый Абрахам Ортелий. Он (как и многие после него) обратил внимание на то, что восточное побережье Южной Америки вписывается в западное побережье Африки, словно кусок пазла, и писал, что оба побережья выглядят так, будто их некогда разорвали. В 1891 году норвежский геолог-новатор Андреас Мартин Хансен в своей докторской диссертации Strandlinje-studier (Изучение береговой линии), посвященной ледниковому периоду и изменениям климата, задавался вопросами: откуда взялись в Гренландии окаменелости растений, для которых требовался более теплый, чем нынешний, климат на острове? Возможно, континенты дрейфуют? Тем самым Хансен предвосхитил теорию, которую предстояло подтвердить Мэри Тарп.
В 1915 году вышла книга немецкого геофизика Альфреда Вегенера Происхождение континентов и океанов. Ее автор выдвинул теорию о том, что поверхность Земли состоит из континентальных плит, которые находятся в постоянном движении. Шла Первая мировая война, и немецкие книги не пользовались популярностью вне Германии, поэтому Вегенеру пришлось ждать до 1922 года, когда книгу перевели на другие языки. Но и это ему лавров не принесло. Геологи просто потешались над теорией Вегенера и его объяснениями дрейфа континентов, к сожалению, действительно не особенно удачными.
Вот почему Хизен и слышать не хотел про континентальный дрейф. Всё геологическое сообщество считало это чушью. Говорить всерьез о континентальном дрейфе означало, что у тебя не все дома. Хизен попросил Тарп перепроверить всё еще раз. Результат тот же. Однако Хизен по-прежнему не желал ничего слушать о континентальном дрейфе. Оставаясь каждый при своем мнении, они договорились следовать первоначальному плану: рисовать карту океанского дна, всем понятную и доступную. И Тарп представила ее в виде физиографической диаграммы – карты, похожей на аэроснимок.
Этот метод разработал американский профессор геоморфологии Армин Лобек после Первой мировой войны, когда он помогал главам государств провести новые европейские границы. Тогда-то он заметил, что лидеры Европы тупо смотрят на топографические карты, где перепады высот отмечались линиями, «не умея отличить гору от кротовины, реку от долины» – и для них он придумал физиографическую диаграмму, на которой горы выглядели как горы. Позднее Лобек стал консультантом по картам и атласам, предназначенным для начальной школы. Тарп полагала, что с помощью его метода любой человек способен понять географию океанского дна – семь десятых поверхности Земли, для большинства окутанных тайной.
На протяжении веков морские карты знакомили нас с теми частями географии, которые нас манили: островами, утесами, дюнами, рифами и шхерами как на воде, так и под водой. Долгое время измерение глубины лотами было единственной возможностью узнать, что скрыто под водной гладью. Описание этого мы находим в Новом Завете, а именно в Деяниях апостолов, там, где Павла в море настигает шторм: «В четырнадцатую ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-нибудь земле, и, вымеривши глубину, нашли двадцать сажен [43 метра]; потом на небольшом расстоянии вымеривши опять, нашли пятнадцать сажен [32 метра]. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якоря и ожидали дня» (Деян. 27:27–29). В 1521 году мореплаватель Фернан Магеллан попытался измерить глубины Тихого океана. Когда лот достиг отметки 750 метров, он решил, что океан неизмерим. Нечто подобное мы видим и на Carta marina Олафа Магнуса 1539 года: у норвежского побережья Согн-ог-Фьюране нарисован мужчина с лотом. Рядом с ним подпись: «Mos altissimus» («Наибольшая глубина»). В книге, прилагавшейся к карте, Магнус пояснял: «Мужчина, который при помощи длинной веревки и свинцового грузила измеряет глубину моря, однако не достигает дна».
Измерить морскую глубину – это не просто бросить за борт веревку с грузом. Глубина в открытом море настолько большая, что веса веревки вполне достаточно для того, чтобы она продолжала отматываться и после того, как лот достиг дна. Поэтому море могло казаться глубже, чем было на самом деле. Другая проблема в том, что из-за дрейфа лодки веревка редко остается вертикальной. В 1830-е и 1840-е годы, когда моряки стали зондировать океан в свободное время, сообщалось о невероятных глубинах, более пятнадцати тысяч метров, что было далеко от реальности.
Карта маршрута гидрографической экспедиции 1878 года к Северному морю – это рисованная карта морских территорий между Норвегией, Шпицбергеном, Ян-Майеном и Гренландией, составленная норвежским морским биологом Георгом О. Сарсом. Здесь среди прочего отмечены пути миграции лофотенской мойвы («Loddestimernes Træk») и трески («Lofot-Torskens Sig»), препятствия в Северном море («Nordhavs-Barrieren»), полярное течение («Polar Ström») и глубоководная долина до 3660 метров («Dyb Havdal bis 2000 F»).
После того как Норвежское картографическое управление нанесло на карты побережье северной Норвегии, лейтенант Хенрик Хагеруп, который во время топографической съемки в 1828–1832 годы ознакомился с условиями жизни рыбаков, предложил прозондировать море вдоль береговой линии, считая это полезным дополнением к морским картам. Предложение Хагерупа игнорировали до тех пор, пока в 1840 году рыбаки Восточного Финнмарка не пожаловались на то, что русские рыбаки ловят рыбу в их водах. Губернатор внес предложение провести зондирование для составления карты рыболовных угодий. Специалисты из Картографического управления сочли это пустой тратой времени, полагая, что рыбаки, которые должны были сообщать о браконьерстве, не разбирались в картах, тем не менее Министерство финансов не согласилось с ними и нашло средства для зондирования в бюджетной статье «непредвиденные расходы». В 1841 году на карту нанесли морское дно от мыса Танахорн до российской границы, а также некоторые опасные участки близ Карлсёй в Тромсе. Результаты не отличались особой точностью, поскольку картограф имел лишь приблизительное представление о том, где и как вели свой промысел рыбаки, однако, судя по отчету 1843 года, «ожидания пользы в будущем от точных глубинных измерений были немалые». Ожидалось, что «рыболовные угодья станут более ценными, так как их можно будет использовать значительно дольше».
Норвегия стала пионером по части рыболовных карт. В 1870 году в репортаже о гидрографическом судне «DS Ханстеен», помещенном в еженедельнике Skilling-Magazin, говорилось: «Такие точные рыболовные карты, как наши, никогда прежде не публиковались. Наконец-то построен и оборудован пароход, предназначенный исключительно для морского зондирования и составления рыболовных карт, дающих точное и ясное представление о характере ландшфта, по которому движется рыба». Журнал рассказал читателям о работе судна:
После того как проверили глубину лотлиня, бухту с тросом подключают к небольшой паровой машине и начинают подтягивать линь со средней скоростью 100 морских саженей [183 метра] в минуту. В то же время секстантом измеряют углы между тригонометрическими точками на вершинах гор (всюду, где они видны), определяя местоположение судна, а также выполняя другие наблюдения. Всё это делается и фиксируется до тех пор, пока лотлинь не натянется [встанет вертикально], после чего корабль на полной скорости отправится к следующему месту зондирования. Тогда результаты промера глубины наносятся на карту, а через пять, шесть или семь минут судно вновь останавливается, и всё повторяется.
«DS Ханстеен» вышел в море южнее коммуны Фёрдер на юго-востоке Норвегии и продвигался далее на запад вдоль побережья к Мандалу, Йерену, Стаду, Трёнделагу и Нурланну, обращая особое внимание на острова Хитра и Фрёйя, Лофотенские острова, Вестеролен и Сенья.
Благодаря картографированию были развенчаны раз и навсегда мифы и легенды об острове Ут-Рёст и других неведомых образованиях суши в море, которыми часто объясняли загадочные кораблекрушения. Гидрографическое судно «Ханстеен» открыло новые промысловые районы и установило морскую границу между Норвегией и Россией, а в 1875 году на Международной географической выставке в Париже Норвежское картографическое управление получило золотую медаль и диплом за превосходно составленные морские карты.
В конце XIX века преобладали две взаимоисключающих точки зрения на морское дно. Мечтатели, геологи и эволюционисты выдвигали гипотезу о затерянном городе-государстве Атлантиде или затонувшем континенте, объясняющую, почему по обе стороны океана находят одни и те же типы горных пород и окаменелостей. На другом полюсе стояли консерваторы, считавшие, что суша не может ни всплывать, ни тонуть, поскольку земля есть земля, а море есть море, так было и будет от сотворения мира.
Представители того и другого лагеря находились среди исследователей на борту британского корвета «Челленджер», отправившегося в декабре 1872 года в плавание по мировому океану. Экспедиция пять раз пересекла Атлантику, по одному разу Индийский и Тихий океаны, обнаружила Срединно-Атлантический хребет и самую глубокую часть мирового океана – Марианскую впадину, расположенную между Японией и Новой Гвинеей. Плывя от Тристан-да-Кунья, архипелага в южной части Атлантического океана, к острову Вознесения, находящемуся тридцатью градусами севернее, путешественники заметили, что часто оказываются на мелководье. Однако тех измерений, которые они провели, было недостаточно, чтобы понять, что они плывут вдоль подводного горного хребта. Поэтому на карте этот район отметили как плато.
На родине их открытие восприняли как находку затерянного континента, хотя геологические и биологические пробы грунта, взятые с морского дна, не подтверждали это. И всё же идея продолжала жить. «Челленджер» преодолел сто двадцать пять тысяч километров, но провел лишь четыреста девяноста два глубинных измерения за семьсот тринадцать дней пребывания в океане. Это означало, что сведения о морском дне оставались настолько отрывочными, что вполне можно было обнаружить еще не один затонувший континент.
Норвежцев британская экспедиция чрезвычайно вдохновила. Два профессора, метеоролог Хенрик Мон и морской биолог Георг Сарс, заявили, что морские просторы между Норвегией, Фарерскими островами, Исландией, островом Ян-Майен и Шпицбергеном практически не изучены, и «для нас, норвежцев, как ни для какой другой нации, их изучение представляется насущнейшим делом». Они утверждали далее, что научное исследование «моря у западного побережья Норвегии – задача, с которой норвежская экспедиция справится, безусловно, так же успешно, как аналогичная британская экспедиция». Кроме того, стало известно, что «британское правительство не намерено поручать «Челленджеру» исследование нашего бассейна Северного Ледовитого океана, о котором мы ведем речь». Это исследование назвали Den norske Nordhavs-Expedition – Норвежская экспедиция в Северное море.
По мнению профессоров, для снаряжения морской экспедиции существовали как научные, так и практические причины. Во-первых, важно было понять, почему Норвегию омывает благословенное теплое океаническое течение, благодаря которому страна стала пригодной для жизни и ведения сельского хозяйства. Во-вторых, экспедиция предоставила бы ценную для рыбного промысла информацию, «и мы получили бы ответы на многие вопросы, связанные с рыбной ловлей. Особенно это касается столь важного для нашей страны лова сельди». Наконец, изучение морских глубин, рельефа дна и геологических образований позволит узнать больше о «биологических условиях наших мигрирующих видов рыб».
Пароход «DS Вёринген» покинул Берген утром первого июня 1876 года. После картографирования морского дна близ Согнефьорда и прежде чем отправиться в длительное плавание в Кристиансанн, исследователи направились на запад изучить «длинную глубокую впадину, идущую вдоль побережья в сторону Северного Ледовитого океана», которая теперь называется Норвежским каналом. Однако на их пути встала сама природа: с первого июля до пятнадцатого августа бушевал шторм, ветер достигал двадцати метров в секунду, а волны – шести метров в высоту. «Волны мешали нам вести работы на глубине». Шторм нанес кораблю столько повреждений, что пришлось искать убежище на Фарерских островах. После ремонта исследователи снова вышли в море и в промежутке между двумя штормами измерили глубину, 1215 морских саженей [2223 метра], к северо-востоку от Фарерских островов, после чего укрылись на островах близ Исландии. Через несколько дней они возобновили работу. «Несмотря на бушевавший шторм и ураганный ветер (со скоростью от 10 до 16 метров в секунду)», а также потерю некоторого оборудования, которое пришлось выбросить, они провели зондирование и исследовали морское дно. «Пережив восемь штормов за шесть недель», «Вёринген» отправился в Намсус.
Летом 1877 года экспедиция проводила глубинные измерения в акватории Лофотенских островов и Рёста, затем совершила длительный переход к Гренландскому ледяному щиту западнее острова Ян-Майен, где составили карту глубин и океанических течений – теплого поверхностного течения из Атлантического океана и «холодного полярного течения» в Гренландском море. Высадившись на Ян-Майене, исследователи «определили местоположение различных видимых мысов и ледников с помощью пеленга и угловых измерений, полученных секстантом». В итоге они составили красивую карту острова с ледниками, вершинами и ручьями, названными в честь участников экспедиции.
В отчете за 1878 год Северный Ледовитый океан был переименован в Норвежский океан на том основании, что по нему с «незапамятных времен ходили наши моряки». В последний год экспедиции «Вёринген» отправился далеко на север, к Медвежьему острову и Шпицбергену, там исследователи собирали ископаемые, проводили топографическую съемку и определяли высоту гор.
По следам норвежской экспедиции к Северному морю вышло несколько научных трудов и новых карт. Только в одной из этих книг – Nordhavets Dybder, Temperatur og Strømninger (Северное море: глубины, температура и течения) Хенрика Мона – опубликовано двадцать семь карт с указанием колебаний температуры и давления под водой, ветра, течений и глубин.
Хенрик Мон и Георг Сарс считали, что «снаряжать экспедиции на Северный полюс, проникать в неисследованные до сих пор полярные области – не наше дело. Пусть этим занимаются нации побогаче». Тем не менее не прошло и пятнадцати лет после возвращения «Вёрингена», как новая экспедиция, финансируемая государством, отправилась к Северному полюсу на специально построенном корабле «Фрам». Сарс и Мон тоже принимали участие в планировании этой экспедиции.
Осенью 1884 года Фритьоф Нансен прочитал в газете Morgenbladet, что останки судна, потерпевшего крушение у Новосибирских островов, отнесло к побережью Гренландии – на несколько тысяч километров западнее. Это натолкнуло его на мысль совершить путешествие через Северный Ледовитый океан на корабле, дрейфующем вместе со льдами. Возможно, океанические течения перенесут его через обетованный Северный полюс. «Существенную часть наших научных исследований составляли промеры глубин и взятие проб грунта»[117], – писал тринадцать лет спустя Нансен в книге «Фрам» в полярном море. До экспедиции Нансена бытовало мнение, основанное на промерах глубин в Баренцевом море и прилегающих к нему водах, будто Северный Ледовитый океан мелководен[118]. «Исходя из того, что самой большой известной до сих пор глубиной в этих областях считалась глубина в 150 метров, <…> я предполагал, что Северный Ледовитый океан мелководен», – признавался Нансен. Как и многие, он думал, что «пространство вокруг полюса было некогда надводною частью полярного материка, от которого теперь остались на поверхности океана лишь многочисленные острова»[119]. Он даже не допускал мысли, что дальше на севере нет земли.
Первое же измерение глубины дало поразительные результаты. В четверг первого марта 1894 года, когда «Фрам» находился на 80 градусе северной широты, Нансен отметил в дневнике: «Мы <…> вытравили весь линь длиной 3475 метров, но до дна не достали. <…> Не рассчитывая встретить здесь такую глубину, мы не захватили соответствующих приборов для измерения бóльших глубин». Пришлось пожертвовать одним их стальных корабельных тросов: «Трос был раскручен на отдельные проволочные нити, и мы, скрутив их по две, изготовили новый тонкий лотлинь длиною от 4000 до 5000 метров»[120]. Наконец удалось достать до дна, и оказалось, что глубина достигала 3850 метров. Нансен записал в дневнике: «Думаю, что впредь не будет и речи о мелководном полярном море, где повсюду можно наткнуться на сушу. И, чего доброго, мы в конце концов продрейфуем в Норвежское море, не увидав по пути ни единой горной вершины»[121]. Это открытие означало, что все теории о существовании континента на Северном полюсе следует отбросить. Тем не менее французская Le Figaro в 1895 году сообщила, что Нансен водрузил норвежский флаг «в горах» на Северном полюсе.
По завершении экспедиции Нансен опубликовал книгу, в которой впервые описал дно Северного Ледовитого океана и среди прочего изложил теорию об изменениях земной коры. Основываясь на промерах глубины, которые он и его команда выполнили в мелководном Баренцевом море, а также на геодезических измерениях близлежащих участков суши, Нансен заключил, что это море до ледникового периода было сушей, где текли реки, разливаясь по бескрайним равнинам, – и поздние научные исследования только подтвердили его правоту.
В 1899 году, когда в Берлине проходил VII Международный географический конгресс, картографирование морского дна достигло того уровня, когда появилась необходимость в универсальных названиях для карт. Была создана комиссия для составления батиметрической карты – карты морского дна. И первый блин, по общему признанию, вышел комом: Общая батиметрическая карта океанов (Carte générale bathymétrique des oceans) 1905 года никуда не годилась. Чтобы обеспечить качественное картографирование морских глубин, понадобился технологический прорыв, и он произошел после того, как в 1912 году «Титаник» столкнулся с айсбергом и погибло 1513 человек. Потребность в надежной гидролокации и безопасности на море привела к тому, что уже через месяц после трагедии британский метеоролог [Льюис Фрай Ричардсон] получил патент на первый в мире эхолот, или сонар.
Сонар посылает в воду звуковой сигнал, так называемый пинг, который возвращается после столкновения с объектом под поверхностью моря, как эхо, и, измеряя время между отправкой сигнала и получением эха, один человек за пару секунд делает то, на что раньше уходило несколько часов работы многих людей. Принцип действия прост. Сложность же заключалась в том, чтобы сконструировать достаточно точное устройство. Звук распространяется в воде в четыре раза быстрее, чем в воздухе. Иными словами, задержка в полсекунды соответствует расстоянию в тысячу футов. Физик Харви Хейес, служивший в американских ВМС, изобрел первый эхолот, который можно было использовать на большой глубине. Летом 1922 года он отбыл на корабле из Ньюпорта в Гибралтар и за неделю провел девятьсот глубоководных измерений – намного больше, чем «Челленджер» за три с половиной года. Изобретение Хейеса позволило наконец увидеть моря и океаны без воды.
С 1925 по 1927 годы немецкий корабль «Метеор» с помощью гидролокатора провел зондирование в 67 388 местах Атлантического океана. Если бы лот поднимали и опускали в пучину столько же раз вручную, зондирование заняло бы семь лет, при условии, что команда работала бы по двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю. Исследователи на борту, в частности, пытались выяснить, достаточно ли в соленой воде золота, чтобы Германия могла расплатиться с долгами, доставшимися ей после Первой мировой войны. Увы, золота не нашли.
Карты континентального шельфа, датируемые 1965 и 1971 годом соответственно, на которых выделены районы, предназначенные для разведочного бурения в Северном море. На карте 1965 года, раскрашенной вручную, указано, что при первом распределении лицензий на добычу ископаемых было выдано двадцать две лицензии на семидесяти восьми разведочных участках. Пройдет еще четыре года, прежде чем обнаружат первое крупное нефтяное месторождение.
Однажды в 1926 году, когда немецкий корабль курсировал по Атлантике, на юго-восточное побережье США приехала шестилетняя девочка и впервые в жизни увидела океан. Случилось это в городке Паскагула, штат Миссисипи, где пустынный пологий берег возвышается над уровнем океана всего на несколько сантиметров, отчего кажется, будто земля незаметно скользит в океан, и вместе с ней заканчиваются деревья, трава, кусты, песок. Что думал шестилетний ребенок об этой кажущейся пустыне, простиравшейся перед ним? Может быть, пейзаж продолжается где-то там, под водой, только его не видно? Может быть, где-то далеко-далеко спрятаны горы и долины?
Ее отец служил картографом в одном из аграрных учреждений. Поэтому семья жила в американской глубинке, в штатах, где были крупные фермерские хозяйства, и то, что девочка оказалась у океана, было чудом. Она сняла туфли, давая ногам погрузиться в песок и чувствуя, как волны омывают ее пальцы, накатываются и откатываются. На берегу валялись обломки разбившегося корабля, на следующий день их унес прилив. Далеко в океане «Метеор» открыл, что Срединно-Атлантический хребет – действительно горный хребет, а не плато, как посчитала команда «Челленджера», а через двадцать шесть лет эта шестилетняя девочка на пляже, Мэри Тарп, обнаружит, что горный хребет расколот пополам, потому что континенты Земли постоянно дрейфуют.
Американский геолог Уильям Морис «Док» Юинг стал профессором в двадцатичетырехлетнем возрасте в 1930 году. Он был чудак: занятия со студентами обыкновенно проводил на природе, где непременно что-то взрывал динамитом. Конечно, это было правонарушением, но поскольку время, затраченное на то, чтобы сейсмическая волна вернулась на земную поверхность, сообщает нам нечто о геологических структурах под землей, то измерение этого времени – отличный способ получить нужную информацию тому, кто хочет составлять геологические карты. Однажды Юинга спросили, не желает ли он поэкспериментировать на американском континентальном шельфе. Было известно, что дно океана резко уходит вглубь всего лишь в паре морских миль от суши, но никто не знал, почему. Док прежде океаном никогда не интересовался, но, как он признался в автобиографии: «Если бы меня попросили поместить сейсмографы не то что на дне океана, а на Луне, я бы всё равно согласился, так отчаянно мне хотелось всё исследовать». Он первым применил методы взрывной сейсмологии, или сейсморазведки, для картирования океана от береговой линии до места, где заканчивается континентальный шельф.
Док буквально грезил морским дном. Пытаться понять Землю, исследуя только те тридцать ее процентов, которые мы видим над водой, думал он, всё равно что описать футбольный мяч, разглядев лишь его шнуровку. Большинству геологов эта мысль не приходила в голову. Да и океанологи понятия не имели, чем он там занимается. Норвежец Харальд Ульрик Свердруп, возглавлявший с 1936 по 1948 год Институт океанографии им. Скриппса в Калифорнии, считал, что морское дно интересно в первую очередь тем, что это место, где заканчивается вода. Док придерживался совершенно иного мнения: «Океан – это просто мутный туман, который мешает мне видеть дно. Честно говоря, я бы хотел, чтобы он вообще высох».
Уже в 1930-е годы его исследования показали, что континентальный шельф в основном состоит из осадочных образований, то есть пористых горных пород, разбросанных по коренным породам, которые часто содержат нефть и газ. Он предложил нефтяной корпорации «Стандарт Ойл» поддержать его изыскания, но ему ответили отказом – на поиски нефти в воде компания не желала потратить и пяти центов.
Во время Второй мировой войны Дока поддержали американские ВМС, предоставившие ему деньги для новых экспериментов в обмен на то, что он поможет им искать своим гидролокатором и первой в мире подводной камерой немецкие подлодки.
«Во время войны мы часто заговаривали о том, как занятно будет применить все эти наши изобретения в научных исследованиях, когда всё закончится», – говорил Док. Так и вышло: в послевоенный период морские исследования росли как на дрожжах. Атлантический и Тихий океаны стали стратегическими рубежами, разделявшими две мировые сверхдержавы. Док занял пост профессора только что созданного Института Земли при Колумбийском университете в Нью-Йорке, а когда в 1948 году к нему пришла устраиваться на работу молодой геолог с внушительным послужным списком, Док лишь спросил: «Вы чертить умеете?»
Вторая мировая война открыла для американских женщин небывалые возможности. Как-то в 1942 году Мэри Тарп слонялась по Университету Огайо, не зная, что выбрать – философию, музыку, искусство, английский, немецкий, зоологию или палеоботанику – и вдруг наткнулась на объявление Мичиганского университета: студентам-геологам гарантировали работу в нефтяной отрасли после окончания университета. Тарп уже немного познакомилась с геологией. Она прослушала курс, набравший семьдесят три студента, среди которых было всего три девушки. Оценками не блистала, но преподаватель посчитал ее небесталанной и посоветовал совместить геологию с черчением, так она хотя бы сможет устроиться геологом на работу в офис. Это было привычное место женщины, тогда как в реальной геологии подвизались исключительно мужчины.
Но теперь мужчины воевали и, естественно, в университете остались одни студентки. Мичиган был переполнен «геологинями» – девчонками с геологического факультета. В джинсах, заправленных в высокие горные ботинки, они отправлялись на практические занятия в Блэк-Хилс, где изучали скальные породы и чертили карты местности. Никто тогда не знал, как возник этот горный хребет. Почему вообще есть горы и долины? Почему земная кора не гладкая, как скорлупа?
В одном из учебников, по которым училась Тарп, говорилось: «Причины деформации земной коры – одна из величайших научных загадок, о которой можно рассуждать лишь теоретически. Об отсутствии определенных знаний в этой области свидетельствуют многочисленные противоречивые попытки объяснить это явление». У одного лишь преподавателя Гарвардского университета наготове было целых девятнадцать различных объяснений того, как образовались горы. Тарп, в частности, узнала о теории, согласно которой Земля после своего огненного рождения, остывая, сжалась, и это привело к деформации рельефа, узнала она и о континентальном дрейфе, когда материки менялись местами. Большинство геологов эти теории отвергало. Что же до других гипотез, сообщал учебник, то их слишком много, чтобы можно было изложить. Быть геологом – значит, по большей части уметь формулировать более или менее обоснованные догадки.
К концу Второй мировой войны Тарп закончила четыре семестра, необходимые для получения степени магистра геологии, однако решила, что знает недостаточно, поэтому записалась еще на курсы физики, математики и химии. Такая любознательность напугала ее руководителей, и они, боясь, что Мэри забросит геологию, устроили ее сразу же после экзаменов на работу в нефтяную компанию. Она неплохо зарабатывала, но сходила с ума со скуки – как правило, женщинам давали поручения, с которыми они слишком легко справлялись, так что в свободное время Тарп продолжала корпеть над математикой. Кроме того, она брала уроки по сферической тригонометрии, науке о том, как вещи соотносятся друг с другом на сфере. Такие знания полезны в далеких странствиях по океану, так как помогают ориентироваться и составлять карты.
Через двадцать лет после того, как маленькая Мэри впервые увидела океан, она снова увидит его, когда переедет в Нью-Йорк в поисках нового приложения своих сил, приведших ее в Колумбийский университет и Институт Земли. «Я подыскиваю работу», – сообщила она институтскому секретарю. «Работу?» – «Вот именно. На факультете геологии мне сказали, что док…», – она бросила взгляд на записку, спрятанную в руке, – …Морис Юинг набирает сотрудников». Секретарь проводила ее к Доку. Тот, выслушав рассказ Тарп об ее отце-картографе, о магистерской работе по геологии и буднях в нефтяной компании, задал свой знаменитый вопрос: умеет ли она чертить?
Ее первый тьютор был прав: женщины, увлеченные геологией, должны уметь чертить. Поэтому Тарп ответила Доку, что чертить она умеет, и получила работу в институте, где двадцать три человека теснились в трех комнатах и пытались понять, как взаимодействуют океаническое дно, суша и атмосфера. Тарп стала шестой женщиной в коллективе. Мидж вела бухгалтерию; Джин, ведущий математик и физик, готовила кофе, печатала на машинке и выполняла мелкие административные поручения; Эмили и Фэй, тоже математики, помогали с расчетами одному из сотрудников-мужчин, тогда как Мэри, магистр геологии, бакалавр математики, а также дипломированный физик и химик чертила копии карт и составляла таблицы расчетов.
Вскоре после того, как ее приняли на работу, институт переехал в новое, более просторное здание на берегу Гудзона, подаренное им вдовой Флоренс Ламонт, и сменил название, став обсерваторией Земли Ламонт-Доэрти – в знак того, что теперь они занимаются не только геофизикой.
Переезд никак не повлиял на работу Тарп. Но четыре года рутины ее порядком утомили. Она уехала в Огайо к отцу и не возвращалась, пока не получила телеграмму: «Считайте, что вы в бессрочном отпуске. Док». Юинг решил, что рутинную часть ее обязанностей возьмет на себя геолог Брюс Хизен, более молодой и менее титулованный. Вот как описал их первую встречу много лет спустя немецкий дамский журнал: «…тонкая талия, пышная длинная юбка, изящная фигура. Она была само очарование. От него веяло мужественностью, когда он подошел к ней, и она почувствовала теплый запах его кожи. Низким голосом он сказал: „Мэри, мы нанесем на карту весь земной шар и весь подводный мир. Науке придется с этим смириться“. В тот вечер они стали любящей неразлучной парой, и оставались вместе до конца своих дней». Мы можем только догадываться, насколько правдив этот рассказ и что о нем могла бы сказать сама Мэри Тарп.
Однако мы точно знаем, что Тарп и Хизен тесно сотрудничали вплоть до его смерти от сердечного приступа в 1977 году на подводной лодке у берегов Исландии, а началось всё сентябрьским днем 1952 года, когда Хизен принес ей картонные коробки в надежде, что она сумеет начертить карту дна мирового океана.
Она начала составление карты с того, что нанесла береговую линию, долготы и широты, потом – районы, ближе всего расположенные к суше, где столетиями проводившееся глубоководные измерения давали определенное представление о дне в этих районах. Затем она нарисовала подводный рельеф вдоль шести маршрутов, исследованный океанографами из обсерватории Ламонт-Доэрти с помощью гидролокатора. В итоге получилась солидная карта и лучшее на сегодняшний день изображение дна Атлантического океана, но Тарп это не удовлетворило. Она не открыла ничего нового. В тоже время она обнаружила нечто, заставившее ее задуматься: очевидную трещину в Срединно-Атлантическом хребте. После первого спора между Тарп и Хизеном, когда каждый остался при своем мнении относительно того, подтверждают или нет измерения континентальный дрейф, в обсерватории на одном из светокопировальных столов произошло удивительное событие.
Хизен с коллегой чертили карту, заказанную Bell Laboratories («Лабораториями Белла»). Эта корпорация принадлежала Western Electric, производившей телефонные кабели, и компании American Telephone & Telegraph, эти кабели прокладывавшей. Теперь корпорация планировала проложить трансатлантический телефонный кабель. Но где он будет лучше всего защищен от землетрясений? Где был самый плоский участок дна, который позволил бы сэкономить на длине кабеля? Словом, где прокладывать кабель? Сотрудники обсерватории составили карту, отметив на ней участки Атлантического океана, где происходили землетрясения. Однажды эта карта и карта Тарп – причем ни Хизен, ни Тарп не могли вспомнить, как именно, – оказались одна поверх другой на световом столе и ясно показали, что землетрясения имели поразительную склонность начинаться именно там, где, как считала Тарп, проходила трещина в земной коре.
Располагая этими новыми знаниями, Тарп попыталась обосновать некоторые свои предположения. На новой карте она начертила горный хребет, протянувшийся от Гренландии на севере и потом вниз по южной части Атлантического океана, далее вокруг южной оконечности Африки на северо-восток до Индийского океана, где корвет «Челленджер» открыл мелководье между Мадагаскаром и Индией, а оттуда – на запад к материку до Восточно-Африканской рифтовой долины, области, где земная кора пребывает в движении. Затем Тарп сравнила восточноафриканский материковый разлом с подводным разломом. Они оказались идентичными.
Спустя восемь месяцев после того, как она начала расшифровывать измерения гидролокатора, Тарп смогла начертить разлом, который тянется почти непрерывно вокруг Земли – подводное образование длиной шесть с половиной тысяч миль, возможно, самую крупную геологическую структуру в мире. Теперь, наконец, и Хизен поверил в реальность континентального дрейфа.
Панорама дна мирового океана (World Ocean Floor Panorama), созданная Мэри Тарп, Брюсом Хизеном и Генрихом Беранном в 1977 году. Эта карта заставила геологов и океанографов всего мира по-новому взглянуть на дно океана. Ранее Тарп и Хизен составляли карты отдельных океанов, в частности, Атлантического и Индийского океанов, но Панорама стала первой картой, показавшей, как связаны между собой все горные хребты.
Но Тарп и Хизен не решились тотчас поделиться открытием – только четыре года спустя, в 1956 году, они опубликовали статью, полную оговорок и недомолвок, об «очевидной трещине». В том же году Тарп перерисовала карту североатлантического дна. Естественно, на ней не могло быть оговорок, какими изобиловала статья: на карте трещина была явлена воочию. «Как древние картографы, мы поместили большой картуш в области, о которой мало что знали. Я еще хотела добавить русалок и затонувшие корабли, но Брюс воспротивился», – говорила позднее Тарп. В ответ на их статью и карту The New York Times разразилась сенсацией: Земля трещит по швам.
Большинство геологов отказывались верить в то, что видели на карте Тарп. «Они не просто не соглашались с нами, а утверждали, что мы лжем», – рассказывала она. Стороны схлестнулись на первом Международном океанографическом конгрессе в Нью-Йорке осенью 1959 года. «Около восьмисот ученых с Востока и Запада узнали сегодня, что они, похоже, отдаляются друг от друга – не политически, а географически», – писала The New York Times. Во время выступления Хизена один из геологов выкрикнул: «Этого не может быть!»
Сенсацией на конгрессе стало и заявление французского океанографа, подводного фотографа и режиссера Жака Кусто. Хизен познакомился с ним еще в прошлом году и подарил ему копию карты Северной Атлантики. Кусто повесил ее в своей каюте на корабле, собираясь изучить, а когда пришло время отправиться на конгресс и пересечь для этого Атлантику, он решил доказать, что Тарп и Хизен ошиблись. Он провел съемку в том месте, где предполагалась расселина.
«Господа, – начал свою речь Кусто на званом обеде, устроенном для участников конгресса, – я не верил, что недавно опубликованная обсерваторией Ламонт карта Северной Атлантики достоверна. Я не верил, что изображенная на ней Срединно-Атлантическая трещина реальна. Мне показалось, что для столь подробного описания у нас слишком мало информации. Но эта трещина действительно есть».
Свет погас, загудел кинопроектор… 3-2-1… на экране появилось дно океана, песок, морские звезды, дальше темень, которая по мере приближения камеры обрела черты горного хребта. Камера продолжала снимать горный склон, пока не достигла вершины. И там внизу, насколько хватало света камеры, была расселина. Тарп наконец увидела то, что последние семь лет могла лишь вообразить.
Следующие четыре года она потратила на составление карты южной части Атлантического океана, которую напечатало и опубликовало Геологическое общество Америки, а в 1962 году Тарп и Хизен отправились в Исландию изучать ту зону Срединно-Атлантического хребта – и расселины, – которую можно было пройти. На борту самолета, пролетавшего над островом, Тарп зарисовала очертания разлома.
В том же году французские летчики приняли участие в операции North Sea (Северное море) – проекте, целью которого было выяснить, действительно ли в этом регионе запасы нефти и газа больше, чем обнаруженные голландцами на побережье тремя годами ранее. Летчики исследовали магнетизм горных пород под поверхностью моря. Осадочные образования, то есть пористые породы, в которых, как правило, находят нефть и газ, не обладают магнитными свойствами, в отличие от коренных пород. Таким образом, можно определить толщину, или мощность осадочных образований, сопоставив магнитное зондирование с обычным.
Мало кто верил, что у берегов Норвегии будут обнаружены залежи нефти и газа. В 1958 году геологи информировали норвежское Министерство иностранных дел о континентальном шельфе, который, по их предположению, состоит из тех же пород, что и суша. Поскольку ледник, писали они, скорее всего, соскреб все осадочные породы, то «возможность найти на континентальном шельфе вдоль норвежского побережья уголь, нефть или серу ничтожна». А через год Морис «Док» Юинг из обсерватории Ламонт опубликовал отчет о норвежских водах, в котором сообщал о несомненном присутствии осадочных пород в море к западу от Тронхейма. Однако его отчет не попал в нужные руки.
В Дании разведочное бурение вели на протяжении двадцати пяти лет в Ютландии, но нефти не нашли, поэтому не поиски черного золота побудили геофизика Маркварда Селлеволла начать исследование в проливе Скагеррак в 1962 году. Его больше интересовало картографирование геологической границы между Данией и Норвегией – места, где норвежские коренные породы сменяются датскими осадочными породами. Селлеволл и его команда разместили полевые сейсмические станции вдоль побережья. Они клали сто граммов динамита и зажженный запал в надутый бумажный пакет и бросали его за борт; эту операцию они повторяли снова и снова, регистрируя сейсмические звуковые волны. Кроме того, Геологическая служба Норвегии проводила магнитное зондирование с самолетов. Результаты преподнесли большой сюрприз: выяснилось, что осадочные породы простираются до прибрежных камней на юге Норвегии и что всего в двадцати километрах от побережья слой осадочных пород достигает толщины в пять тысяч метров.
В направленной МИД Норвегии просьбе продолжить исследования континентального шельфа подчеркивалось, что «эти осадочные образования являются потенциальными месторождениями нефти, природного газа, угля, железной руды и проч.» В 1963 году норвежская Геологическая служба провела десять воздушных экспедиций для магнитного зондирования района между Стадом и Лофотенскими островами. Карта показала, что режим магнитного поля при переходе от суши к морю заметно менялся. Полученные данные настолько обнадеживали, что в следующем году между Лофотенами и Сеньей совершили уже двадцать воздушных экспедиций. После полетов приступили к детальной топографической съемке. На Батиметрической карте Норвежского моря и прилегающих районов некий бюрократ поставил букву «А» рядом с Вардё, другую «А» близ Флурё, а на материке шариковой ручкой написал: «А – А – Зона контакта осадочного чехла и фундамента». Другими словами, возможные залежи нефти и газа вдоль всей береговой линии. Теперь, разумеется, заинтересовались и нефтяные компании. Всё больше иностранных судов, выполняющих картографические работы, пришвартовывались к набережной Страндкайен в центре Ставангера – с трюмами, полными взрывчатки для сейсмической разведки.
Теперь норвежские власти поняли, что Северное море может стать золотым прииском, и тридцать первого мая 1963 года объявили, что морское дно и недра в районах у норвежского побережья находятся в юрисдикции королевства.
Прошло чуть больше двухсот лет с тех пор, как Норвегия и Швеция договорились о границах между двумя странами, и сто сорок лет после последних соглашений с русскими на Крайнем Севере, и наконец настала пора начать переговоры о морских границах с англичанами и датчанами. Чтобы установить норвежско-шведскую границу, потребовалось почти сто лет. Норвежско-британские и норвежско-датские переговоры шли значительно быстрее. В 1965 году стороны согласились разделить акваторию по принципу срединной линии – линии, делящей воды между странами поровну. После этого на Норвегию посыпались заявки от нефтяных компаний, желавших провести геологоразведочные работы. Начало процессу положило напечатанное в одну колонку в газете Norsk Lysingblad объявление: «В заявке необходимо указать месторождения и номера блоков, перечисленные в данном объявлении на основании карты, хранящейся в Министерстве торговли и промышленности Норвегии».
На Карте континентального шельфа мы видим норвежские воды к югу от 62 градусов северной широты. В юго-западной части лоскутное одеяло, пестрящее красным, желтым, зеленым и другими цветами, показывает, какие нефтяные компании имеют лицензии на проведение разведочного бурения. Началась норвежская нефтяная эра.
Примерно в это же время австрийская девочка послала письмо в журнал National Geographic. Увидев опубликованные в журнале карты, она написала, что ее папа рисует карты в сто раз лучше. По словам Тарп, издание питало слабость к письмам от детей, поэтому командировало своего главного картографа в Австрию. Папа девочки был известный художник Генрих Беранн, нарисовавший множество карт Альп, и так началось его долгое сотрудничество с National Geographic. В 1966 году он познакомился с Тарп и Хизеном – журнал задумал подарить своим читателям карту дна Индийского океана, огромную карту, которую можно было бы повесить на стену.
Техника Беранна представляла собой более совершенную версию физиографической диаграммы, облегчавшей чтение карты, которую применяла и Тарп. Она рисовала пером и тушью, художник Беранн – кистями и яркими красками. Он стремился достичь фотографической точности и реалистичности. Светло-зеленым цветом он изобразил на карте мелководья и континентальный шельф, сине-голубым – плато и невысокие горы, расположенные недалеко от поверхности океана, серо-фиолетовым – большие подводные долины, а еще более темным цветом – глубокие расселины, поэтому каждый мог легко разглядеть глубины и высоты, скрытые под водной толщей.
Карта пришлась по душе и географам, и читателям. По горячим следам журнал опубликовал двустороннюю карту. С одной стороны помещалась обычная карта «видимого Атлантического океана и прилегающих земель», с другой – та же карта, только без воды. Обладателями карт стали шесть миллионов американских семей.
Беранн, Тарп и Хизен составили для National Geographic еще две карты: Тихого океана и вод вокруг Антарктиды. Затем они предложили создать панораму, на которой будет видно, как связаны между собой все подводные горные хребты, а моря и океаны на самом деле представляют собой единый великий Мировой океан. Журнал к этой идее отнесся прохладно, тогда как Управление военно-морских исследований США, напротив, ею живо заинтересовалось. В 1974 году Тарп и Хизен приступили к проекту, ставшему их последней совместной работой.
Для панорамы Беранн соорудил специальный большой стол. Он набросал контуры суши, в качестве фонового цвета применил синий там, где находились океаны, после чего стал дорисовывать детали по мере того, как его снабжала рисунками Тарп. Она обновляла карты районов, о которых узнавала что-то новое с момента последних зарисовок, а их помощники делали черновую работу, добывая необходимую информацию от крупнейших морских держав. Дом Тарп напоминал картографический конвейер: одни готовили сводку о расселинах, горах и котлованах, другие по этой сводке делали эскизы, третьи сопоставляли эскизы с данными зондирования и так далее. Мэри создавала рисунки для карты, которая впервые покажет семьдесят процентов земной поверхности, находящейся под водой.
В мае 1977 года Тарп и Хизен переехали к Беранну, чтобы завершить свой грандиозный проект. Мы можем представить, как они стоят, склонившись над картой почти два метра шириной, и вглядываются в синее, черное и фиолетовое морское дно, которое холодно контрастирует с желто-зелеными и коричневыми континентами. В мастерской Беранна пахнет красками, растворителями и кофе. Каждый день с тех пор, как у него живут геологи, он вносит в карту от тридцати до семидесяти изменений. Тарп пристально смотрит на Берингов пролив, Камчатку и Алеутские острова и говорит: «Я думаю…»
«Мэри, пожалуйста, давай не будем больше ничего менять!» – на ломаном английском лепечет Беранн.
Она плюхается в кресло: «Как раз хотела сказать, что, думаю, мы закончили».
Через месяц Хизен отправился в Исландию, изучать вблизи, с подводной лодки, рифтовую долину Срединно-Атлантического хребта. На глубине у него случился сердечный приступ, и он умер в возрасте пятидесяти трех лет.
Перед отъездом он успел увидеть только пробный оттиск панорамы. Тарп должна была проследить за тем, чтобы печать карты прошла гладко. «Я поняла, цвета – не моя сильная сторона», – писала она после того, как увидела распечатку, но так и не смогла понять, что ее в ней не устраивает. Друг-фотограф заметил, что в типографии забыли добавить красный. Это была первая из длинной череды отсрочек. Только почти год спустя, в семь утра семнадцатого мая 1978 года, после многочисленных корректировок цвета и типографики, с печатных станков сошли первые экземпляры Панорамы дна мирового океана.
Назвать панораму точной картой нельзя. Несмотря на колоссальный объем работы, она зиждилась на более или менее обоснованных догадках геологов, и после ее издания бо´льшая часть панорамы, как бывает со всеми картами, была исправлена и обновлена. Тарп и Хизен знали о морском дне больше, чем кто-либо до них, но, учитывая безбрежность Мирового океана, они знали ничтожно мало. Тарп, например, располагала только одной подборкой гидролокационных данных, из которых могла черпать сведения о горном хребте между Австралией и Антарктидой длиной 640 миль, поэтому данный участок «я изрядно стилизовала», – писала она. Кроме того, чтобы все элементы рельефа были сколько-нибудь заметны, пришлось их существенно увеличить, иначе даже гора высотой 8000 метров была бы невидима на карте с таким масштабом.
Поэтому мы не можем воспользоваться панорамой для того, чтобы найти ту или иную гору на морском дне: ее там может и не быть. В 1984 году группа океанографов решила, ориентируясь по этой карте, исследовать разлом в южной части Атлантического океана. Его обнаружили в двадцати четырех милях от того места, где ожидали найти.
Океанографы любят прибедняться, замечая, что Луна картографирована куда лучше, чем наша планета. Даже Венера, эта вторая от Солнца планета, удаленная от нас на расстоянии сорока миллионов километров и покрытая тяжелым ядовитым слоем облаков, более точно изображена на карте, чем Земля, после того как в 1992 году зонд «Магеллан» пролетел над ней с радаром. Благодаря ему на карту нанесены образования на поверхности планеты высотой более трехсот метров – точность, о какой океанологи могут только мечтать.
Проблема радара в том, что он не может проникнуть в воду. Вот почему гидролокатор по-прежнему остается самым точным способом картографирования морского дна. Но океан такой огромный и необъятный, а морские суда такие крохотные и медленные, что этим способом на карту нанесено только от пяти до пятнадцати процентов морского дна, цифры варьируются в зависимости от того, что мы понимаем под нанесением на карту.
Тем не менее спутники используются для картографирования океана. В 1985 году ВМС США запустили спутник «Геосат» для определения высоты океанической поверхности. Даже спокойные его воды отнюдь не плоские, есть холмы и долины с перепадами высот в несколько сотен футов, но все они вариативны, поэтому корабли их просто не замечают. Некоторые из этих вариаций возникают при столкновении океанических течений, например, там, где холодная Атлантика встречается с теплым Гольфстримом, но самые большие перепады высот порождаются земной гравитацией, которая в одних местах сильнее, в других слабее. Таким образом, карта «Геосата» фиксирует как высоту морской поверхности, так и распределение силы тяжести.
Неслучайно океанографам эта карта показалась знакомой. Она напоминала карту дна Мирового океана. Причина в том, что гравитация увеличивается там, где много массы, например, в горном хребте, и уменьшается на ровных участках и больших глубинах. Поверхность океана – это эхо океанического дна.
Американские геофизики-океанологи Дэвид Сандвелл и Уолтер Смит сравнили результаты измерений «Геосата» и европейского спутника ERS-1 с наземными промерами глубины, чтобы установить точность спутниковых измерений. В 1997 году они опубликовали карту, на которой показали многие ранее неизвестные территории океанического дна. «Эта карта позволит нам более тщательно изучить те районы, куда мы редко добираемся на кораблях в силу того, что эта часть Южного океана слишком далека от портов, да и погода там довольно неприятная», – полагал Смит.
С. 281 Глобальная карта морской гравитации, Версия 23.1 (Global Marine Gravity, Version 23.1) от второго октября 2014 года. На карте, составленной геофизиками Дэвидом Сандвеллом и Уолтером Смитом по спутниковым снимкам, мы видим районы, где гравитация наиболее сильна. Вероятнее всего, это морские горные хребты, так как в долинах и на больших глубинах гравитация уменьшается. Тем самым гравитация сообщает нам нечто о том, как выглядит дно океана.
Сандвелл и Смит продолжали совершенствовать свою карту. В 2014 году они выпустили карту, основанную на данных, полученных европейским спутником CryoSat-2 и американским Jason-1. Эта карта в четыре раза точнее предыдущей, на ней зафиксированы подводные образования размером пять километров и более, и всё же она далеко не так точна, как карта Венеры, сделанная межпланетным зондом «Магеллан».
Картографирование дна мирового океана было и остается долгосрочной и трудной задачей. Технологически мы существенно продвинулись – от лотлиня до гидролокатора и спутника, но до полной и точной карты морского дна еще далеко. Впрочем, может быть, такая карта не очень-то и нужна? Один из учеников Брюса Хизена, океанограф Билл Райан, разработавший новые методы картографирования морского дна, считает, что это пустая трата времени и денег. «Для того чтобы узнать, как устроена наша планета, достаточно изучить пять процентов ее поверхности. Остальные девяносто пять процентов такие же, как первые пять», – утверждает Райан, предпочитающий картографировать отдельные регионы океана, морские аналоги Альп, тундры, пустыни и так далее. На карте Тарп и Хизена мы видим менее десяти разновидностей рельефа; по мнению Райана, для получения точной картины океанического дна требуется около двухсот. Но нам нужно тщательно изучить лишь один из них, полагает он, так как, увидев один, мы увидим все.
Возможно, Райан прав. Однако трудно представить, что человечество успокоится, прежде чем нанесет на карту морское дно в мельчайших подробностях. Информация будет накапливаться, а научные экспедиции в Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий и Южный океаны будут приносить недостающие куски пазла, пока он наконец не соберется полностью.
Цифровой мир
Байконур,
Казахстан
45°57’54” с. ш.
63°18’18” в. д.
С. 282 Когда члены экипажа Международной космической станции пролетают над Казахстаном, они стараются отыскать реку Сыр-Дарья, чтобы увидеть место их старта: космодром «Байконур», где в 1959 году был запущен «Спутник-1» – первый в мире искусственный спутник Земли. Фотография сделана десятого апреля 2016 года.
Ее можно было увидеть высоко в небе после захода Солнца – крошечную точку спутника, которая двигалась быстрее, чем любое другое небесное тело. Во всём мире люди прильнули к биноклям и телескопам на крышах и в парках, чтобы наблюдать за технологическим чудом века. Радиолюбители могли также услышать сигналы «бип-бип-бип» с радиопередатчиков, установленных на его борту. «До вчерашнего дня никто на Земле не слышал этого звука. А теперь он стал такой же частью жизни в XX веке, как гул пылесоса», – говорил голос по телевизору. Тем осенним вечером 1957 года «Спутник», первый в мире искусственный спутник Земли, открыл изумленному человечеству космическую эру.
«Спутник» запустили с советского космодрома Байконур в Казахстане. Он облетел Землю всего за девяноста шесть минут двенадцать секунд со скоростью двадцать девять тысяч километров в час. Аппарат был скромных размеров, пятьдесят восемь сантиметров в диаметре, и в высшей точке своего полета над Землей поднимался на высоту девятьсот сорок километров. Тем не менее благодаря полированной поверхности, предназначенной для отражения солнечных лучей, его хорошо было видно с земли. Инженеры Спутника хотели, чтобы мир мог следить за движением крошечного металлического шара – этой огромной пропагандистской победой в глобальном соперничестве двух сверхдержав. В течение второго дня работы спутник пролетел тринадцать раз над Берлином, семь раз над Нью-Йорком и шесть раз над Вашингтоном – американцам пришлось с горечью признать, что заклятый враг достиг космоса раньше их.
В понедельник утром, после выходных, когда все СМИ только и говорили, что о «Спутнике», физики Уильям Гиер и Джордж Вейффенбах обедали в столовой Лаборатории прикладной физики (Applied Physics Laboratory – APL) в Балтиморе, США. Им казалось странным, что никто не озаботился радиосигналами, отправляемыми со спутника. Они нашли в лаборатории приемник и кусок провода, который приспособили в качестве антенны. Ближе к вечеру, услышав сигналы со спутника – бип-бип-бип, – начали записывать их, не думая ни о чем, кроме того, что это надо сохранить для потомков.
Со временем они обнаружили кое-что интересное. Сигналы, которые физики впервые услышали, когда спутник появился на горизонте, менялись по мере его приближения и отдаления, примерно так, как меняется колокольный звон, когда проезжаешь ночью на поезде мимо колокольни. По этим звуковым изменениям они могли предсказывать траекторию движения спутника и вычислять, где он находится в любой момент времени.
Однажды Гиера и Вейффенбаха вызвал в кабинет босс и, попросив закрыть поплотнее дверь, спросил: нельзя ли их наблюдения развернуть в обратную сторону, то есть с помощью спутника вычислить собственное местоположение на Земле?
Сегодня мы постоянно становимся частью карты в виде маленькой движущейся точки. Нужно ли нам проехать на машине кратчайшим путем к аквапарку или же отыскать булочную в незнакомом городе, мы можем прибегнув к навигатору, планшету или мобильному телефону и узнать, где мы находимся и куда нам направляться. География оцифрована. Над нами парят спутники, непрерывно посылая сигналы о своем местоположении. Чтобы установить наше местоположение, приемники в наших устройствах получают информацию с четырех из них: один спутник определяет широту, другой – долготу, третий – высоту, а четвертый выполняет расчеты, позволяющие GPS точно сообщать нам о том, где мы находимся.
Карты, которыми мы пользуемся, часто тоже составлены по снимкам, сделанным спутниками. При помощи спутников мы создаем метеорологические карты, карты качества воздуха, ледовой обстановки, опустынивания, урбанизации и обезлесения. Преимущество спутников еще и в том, что они вращаются вокруг Земли по фиксированным орбитам, следовательно, снова и снова фотографируют одни и те же районы, поэтому нам легко наблюдать за изменениями даже в пустынных и изолированных районах. Спутнику нужно всего шестнадцать дней, чтобы сфотографировать весь мир. «Человек должен подняться над Землей – в атмосферу и за ее пределы, – ибо только так он полностью поймет мир, в котором живет», – говорил Сократ. И когда вы читаете эту книгу, над вами вращается не менее тысячи ста спутников. Они прощупывают мир настолько основательно (с высоты восьмисот километров могут сфотографировать двух собак, играющих в саду в какой-нибудь Жиздре), что сегодня мы можем обновлять карты быстрее, чем когда-либо в истории.
Исаак Ньютон первым представил искусственный спутник на орбите Земли. В книге Математические начала натуральной философии (Philosophiæ naturalis principia mathematica), вышедшей в 1687 году, он описывает эксперимент с пушкой, стреляющей свинцовым ядром с вершины высокой горы. «Увеличивая скорость, можно по желанию увеличить и дальность полета, и уменьшить кривизну линии, по которой ядро движется, так что можно бы заставить его упасть в расстоянии и десяти градусов, и тридцати, и девяноста, можно бы заставить его окружить всю Землю или даже уйти в небесные пространства и продолжать удаляться до бесконечности»[122].
В 1865 году французский писатель Жюль Верн написал книгу С Земли на Луну, основанную на идее Ньютона. Его герои путешествуют вокруг Луны на снаряде, выпущенном из пушки. В 1903 году русский ученый и основоположник космонавтики Константин Эдуардович Циолковский забавы ради пробовал рассчитать, какой длины должна была быть пушка Верна и какому давлению подверглись бы люди внутри снаряда. Вывод его не удивляет: пушка абсолютно не годится для отправки людей в космос. Вместо нее Циолковский разработал принцип многоступенчатой ракеты, у которой топливные баки отсоединяются по мере их опорожнения. На последней стадии оставалось еще достаточно топлива, для того чтобы вывести на орбиту небольшой снаряд. Именно благодаря этому принципу пятьдесят четыре года спустя появился первый спутник в рамках космической гонки между двумя сверхдержавами.
Гонка между США и Советским Союзом началась ближе к концу Второй мировой войны как гонка за овладение немецкими ракетными технологиями. На заключительном этапе войны нацисты применили новое оружие против войск союзников: ракеты «Фау-2».
Первые ракеты были запущены с оккупированной территории Нидерландов сентябрьским утром 1944 года. Люди на английской стороне Ла-Манша видели три полосы дыма, исчезающие в стратосфере. Ракеты пролетели восемьдесят километров над землей со сверхзвуковой скоростью и всего через пять минут упали в Париже и Лондоне, убив трех человек. «Фау-2» стала первой в мире космической ракетой.
Главный архитектор «Фау-2», Вернер фон Браун, был одним из нескольких энтузиастов любителей-ракетчиков, которые в 1920-х годах подвизались на заброшенном складе под Берлином, месте, известном как Стартовая ракетная площадка (Raketenflugplatz). Через некоторое время группа достигла таких успехов, что ею заинтресовался рейхсвер, а в 1932 году – за год до прихода к власти в Германии нацистов – любителей-ракетчиков включили в программу развития армии. Фон Брауна назначили техническим директором. В 1942 году им удалось запустить ракету настолько высоко, что она покинула атмосферу Земли и приземлилась, пролетев двести километров. «Мы вторглись в космос с нашей ракетой и впервые – отметьте это – использовали космос как мост между двумя точками на Земле», – писал воодушевленный немецкий генерал в своих мемуарах[123].
Ракеты «Фау-2» не имели большого военного значения. От рабского труда при изготовлении этих ракет погибло больше людей – двадцать тысяч узников нацистских концлагерей, – чем от ракетных ударов. Однако США и Советский Союз понимали, что это оружие будущего, поэтому и те и другие сформировали собственные специальные группы с целью заполучить немецких инженеров-ракетчиков и чертежи.
В феврале 1945 года фон Браун услышал артиллерийскую канонаду – Красная армия совсем близко подошла к ракетной лаборатории. Вместе с несколькими сотнями сослуживцев он собрал всё, что мог унести, и подался на юго-запад в расположение американских войск, не безосновательно считая, что знания, которыми он обладал, слишком ценны, чтобы держать его в тюрьме. В начале мая американцы отправились на завод «Фау-2», который, согласно союзническим соглашениям, с июня должен был находиться на советской оккупационной территории. Несколько тонн ракетных деталей доставили железнодорожным эшелоном в Антверпен, а оттуда кораблем – в США. Фон Браун и его сотрудники последовали за ним.
С. 288–289 Карта Сан-Франциско, составленная по снимкам, сделанным спутником Landsat-5 в 1985 году. Спутник сфотографировал как видимый, так и инфракрасный свет, поэтому красным цветом отмечены леса, редколесье, травянистые участки или болота, а блеклым – сухие пастбища, горы или земля в высокогорье. Зеленым цветом обозначены районы добычи соли из морской воды или другие участки с высоким испарением соли.
В первом раунде победили американцы: СССР достались лишь остатки лаборатории и завода «Фау-2». Тогда было принято решение освободить из лагеря блестящего иследователя и конструктора ракетных систем Сергея Павловича Королёва, которого до войны по ложному обвинению арестовали и отправили по этапу в Сибирь. В августе 1945 года его реабилитировали, подлечили и командировали в Германию разобраться в устройстве «Фау-2». «Вы должны понимать, – говорил один из руководителей, – американцы не бездействуют. Сбросив атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, они продолжают разрабатывать ядерное оружие. И враг у них сейчас только один – мы». Советский Союз не мог допустить саму мысль, что американцы будут единственными обладателями и ядерного оружия, и ракет. Королёву поручили ни много ни мало догнать и перегнать фон Брауна.
Холодная война диктовала свои условия, поэтому космическая гонка и гонка вооружений были двумя сторонами одной медали. Королёву и фон Брауну было очень досадно, что им приходилось заниматься прежде всего ракетами, предназначенными для атак, а не для вывода спутников на орбиту. В той или иной степени оба оставались неисправимыми мечтателями и гораздо больше хотели отправлять людей в космос, чем придумывать способы убивать их. В одном из интервью фон Браун, вторя Сократу, две тысячи лет назад описавшему, как Земля выглядит сверху, говорил: «Мы увидим гигантский светящийся шар с континентами, словно серые и коричневые тени, которые омывает сверкающий голубой океан <…>, в то же время саму Землю будет окружать сплошная тьма космоса»[124]. И Королёв, и фон Браун пытались убедить власти и военных в том, что спутники можно использовать для картографирования территорий противника. Первые запуски американцами ракеты «Фау-2» в 1946 году подтвердили такую возможность. В отсеке, предназначенном для взрывчатых веществ, установили исследовательское оборудование и камеры, и в результате были получены первые снимки Земли из космоса, на которых видна территория, простирающаяся от Мексики до Небраски.
Королёв доказывал советским военным, что спутники – идеальные разведчики. Они могут летать вокруг Земли, как фотографический глаз, фиксируя мельчайшие детали. В ответ он услышал, что армии нужно оружие, а не игрушки. Фон Браун пускал в ход те же аргументы, убеждая американских военных в том, что спутники способны «поднять любой железный занавес, где бы он ни опустился».
В 1955 году американские военные представили Белому дому отчет, в котором высказались за применение разведывательных спутников. Однако, по их мнению, разумно было бы сначала запустить гражданский спутник, это обеспечило бы свободу передвижения в космосе и беспрепятственный полет над любой страной. Американский президент Дуайт Эйзенхауэр заявил во всеуслышание, что в 1957 году США планирует вывести на околоземную орбиту спутник – «новую луну».
Выступление Эйзенхауэра потрясло советское руководство. Тремя годами ранее оно было близко к панике, когда американцы стерли с лица земли атолл Эниветок и изменили географию Тихого океана, взорвав первую в мире водородную бомбу, во много раз более мощную, чем атомная бомба. В 1954 году, когда СССР провел испытания своей водородной бомбы и задумал разработать что-то еще более устрашающее, Королёву поручили разработать ракету, способную переносить боеголовку весом пять тонн. Он сразу сообразил, что такая ракета легко может вывести на земную орбиту спутник. Инициативу Королёва одобрили на самом высоком уровне, после того как в феврале 1956 года он представил свой проект спутника Никите Сергеевичу Хрущёву. Первому секретарю понравилась идея отметить сороковую годовщину Октябрьской революции запуском первого в мире спутника.
Выполнение расчетов для отправки спутника на орбиту сегодня – рутинная работа, но в первый раз было иначе. Для запуска спутника в 1957 году потребовалась самая мощная вычислительная техника в СССР. ЭВМ «Стрела» в Московском университете занимала комнату площадью четыреста квадратных метров. Она могла производить до трех тысяч вычислений в секунду. Теперь ей предстояло позаботиться о том, чтобы огромная ракета с нужной силой вытолкнула на орбиту крошечный спутник. Многие пробные запуски заканчивались крахом. Но на этот раз всё должно было получиться.
Вычислительные машины во время Второй мировой войны применялись в первую очередь для шифровки и дешифровки сообщений. Они были огромны (неслучайно лучший дешифровщик союзников назывался «Колосс»), но эти технологии совершенствовались очень быстро. В 1948 году инженер и криптоаналитик Клод Шеннон описал, как можно оцифровать всю информацию: «Если мы выбираем систему исчисления с основанием 2, то каждая единица информации в этой системе будет представлять собой двоичное число (binary digit) или кратко бит (bit)». По сути, Шеннон открыл эпоху цифровой информации, которая подарит нам как цифровые карты, так и онлайн-карты. Сегодня вся компьютеризированная информация кодируется всего лишь двумя цифрами, 0 и 1, а объем информации измеряется в битах.
Транзистор – устройство, которое позволяло распространяться электрическим импульсам с невообразимой скоростью, – изобрели за год до того, как Шеннон представил свою теорию. В 1957 году, в год запуска «Спутник-1», американского инженера-электронщика Джека Килби осенила мысль соединить несколько транзисторов в интегральную схему – микрочип; тем самым он заложил основу всех персональных компьютеров, смартфонов и планшетов.
Но в 1950-е годы вычислительными машинами располагали только университеты, лаборатории, государственные учреждения, крупные корпорации и армия. «Стрела» стала первой ЭВМ, которую Советский Союз применил для программирования. Королёв и его команда в день старта «Спутника-1» с замиранием сердца гадали, окажется ли расчитанная машиной траектория полета верной. Поздним вечером в пятницу, четвертого октября, техники в белых перчатках установили миниатюрный спутник на гигантскую ракету-носитель. За полтора часа до полуночи земля содрогнулась, и двигатели подняли ракету из моря пламени в ночное небо. Внизу нервно наблюдали за безукоризненным запуском, как вдруг всем показалось, что ракета возвращается на Землю. «Падает, она падает!» – раздались крики, пока не поняли, что ракета со спутником была запрограммирована следовать по курсу, отличающемуся от курса испытательной ракеты. Но вот отделилась последняя ступень, и спутник вышел на орбиту на высоте двухсот тридцати километров над землей. Королёв лихорадочно курил, ожидая, когда спутник завершит свой первый виток. Когда наконец получили сигнал – «бип-бип», – он попросил всех вслушаться: «Это музыка, которую никто раньше не слышал».
В следующий понедельник Гиер и Вейффенбах сидели в лаборатории в Балтиморе и слушали «мелодию» спутника. Через две недели после запуска, когда батареи у «Спутника-1» разрядились и он замолчал, они начали анализировать полученную информацию с помощью компьютера. Результаты подтвердили, что по излучаемым сигналам можно определить местонахождение спутника.
Фрэнк Мак-Клур, возглавлявший лабораторию, был тем боссом, который спросил Гиера и Вейффенбаха, могут ли они развернуть свои наблюдения в обратную сторону, поскольку сам он в то время занимался проектом по оснащению подводных лодок США ядерными ракетами. Идея заключалась в том, что противник не будет знать, откуда ему грозит ядерная атака, ибо ему неизвестно местонахождение субмарины. Но была и загвоздка: подводники часто тоже не знали, где именно они находятся. А знать было необходимо, для того чтобы ракеты поразили цель и лодке не довелось бы подниматься на поверхность и сверяться по звездам. Мак-Клур поинтересовался у Гиера и Вейффенбаха, как точно они могут вычислить местоположение объекта посредством спутника. По их мнению, погрешность может составить около ста шестидесяти метров.
Так Лаборатория прикладной физики приступила к разработке спутниковой системы навигации «Транзит», предвестника нынешней GPS. Но прежде США должны были продемонстрировать всем, что тоже способны выводить спутники в космос.
В тот день, когда запустили «Спутник-1», Вернер фон Браун устроил вечеринку для нового министра обороны. Когда кто-то принес новость о советском триумфе, воцарилось гробовое молчание. Фон Браун довольно зло выпалил: «Я мог бы сделать это еще год назад». После заявления Эйзенхауэра о том, что США планируют запустить спутник, армия, флот и ВВС включились в борьбу за контракт. Фон Браун трудился на армию, и, хотя у него были лучшие разработки, многих смущало, что творцом первого американского спутника будет немец, тем более немец с нацистским прошлым. Поэтому контракт заключили с флотом. Выглядело несколько парадоксально, что американские власти контролировали ракетные эксперименты фон Брауна для того, чтобы он не смог самостоятельно запустить спутник.
Советский «Спутник» заставил мир устремить взор к небу. Хрущёв заявил, что это историческое событие доказывает превосходсто коммунизма над капитализмом, а американский журнал Time назвал его «красным триумфом». Многие боялись, что СССР теперь может нанести ядерный удар по США. Напряжение особенно возросло, когда всего через месяц Советский Союз вывел на орбиту «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту – первым живым существом, полетевшим в космос.
Всё это вынудило американцев объявить, что они запустят свой спутник шестого декабря. По телевидению миллионы людей наблюдали за тем, как запустились двигатели, взвилось пламя и столбы дыма, и ракета поднялась ровно на 1,2 метра, после чего завалилась на бок и взорвалась на стартовой площадке. Рядом с обломками ракеты лежал маленький спутник, жалобно посылая свои сигналы.
Следующим утром фон Браун – не без злорадства – читал газеты, пестрящие уничижительными заголовками: «Капутник», «Упсник», «Плюхник», «Ляпник». Фиаско ВМС дало ему шанс, и тридцать первого января 1958 года именно фон Браун и его команда вывели на орбиту первый американский спутник «Эксплорер-1».
Через год ВМС и Лаборатория прикладной физики запустили с мыса Канаверал во Флориде спутник «Транзит-1А». Он пролетел двадцать пять минут над Атлантическим океаном и затонул в водах близ Ирландии из-за того, что не сработала третья ступень ракеты. Но исследователей это не обескуражило. Во время недолгого полета спутник посылал именно те сигналы, которые должен был передать.
Понадобилось протестировать множество спутников, прежде чем навигационная программа «Транзит» заработала. Инженеры обнаруживали одну за другой помехи, которые препятствовали сигналам спутников и их движению на орбите по траектории, в том числе такую помеху, как неровная поверхность Земли, приводившую к изменению гравитации, когда спутник пролетал над ней. Спутник прыгал, а инженеры не понимали почему, пока не заметили, что Земля гораздо бугристее, чем они предполагали. К тому же на севере она более вытянута, чем на юге. Инженерам пришлось соприкоснуться с геодезией – наукой о форме и размерах Земли, – изучить работы Мэри Тарп и Брюса Хизена, показавших, что поверхность Земли находится в постоянном движении из-за континентального дрейфа, и что это влияет на гравитацию, а значит и на спутники. Все неровности рельефа, разумеется, нанесли на карту и ввели в программу спутника.
Уже на стадии эксперимента стало ясно, что определение местоположения с помощью спутников намного точнее, чем посредством старомодной триангуляции. Среди прочего выяснили, что на обычных картах Гавайские острова расположены в нескольких километрах от того места, где они находятся в действительности.
После запуска спутника «Транзит-5с1» в июне 1964 года программа была успешно завершена – три спутника вращались вокруг Земли и посылали сигналы, которые принимали корабли и подлодки ВМС США. Три года спустя система стала доступна для общественных и коммерческих организаций. Норвегия подключилась к ней одной из первых и прежде всего воспользовалась «Транзитом» для локации на материке. В 1971 году Норвежский полярный институт вычислил координаты Шпицбергена, а зондирование в 1979 году на Ян-Майене показало, что остров на триста пятьдесят метров ближе к Норвегии, чем считалось ранее. Благодаря системе Управление континентального шельфа скорректировало границу между Норвегией и Шотландией в Северном море и точно определило местоположение нефтяных платформ. Со временем, когда приемники стали компактнее и дешевле, «Транзит» установили даже на прогулочных катерах. Погрешность измерений составляла всего двадцать пять метров.
Под сенью космической гонки американские военные разработали спутники-шпионы. Хотя в 1954 году они оборудовали самолет «Локхид-У2» камерами, которые могли фотографировать объекты размером всего один метр с высоты более двадцати одной тысячи метров, они понимали, что для СССР сбить самолет – это лишь вопрос времени, что он и продемонстрировал в 1960 году. Впрочем, тем же летом американцам впервые удалось получить пленку с изображениями, сделанными со спутника.
В то время фотографии, сделанные цифровыми камерами, получались не столь подробными, чтобы служить для разведывательных целей, поэтому спутникам-шпионам приходилось пользоваться катушками с пленкой. Длина пленки была девять тысяч шестьсот метров (несколько больше обычной), и ее сбрасывали со спутника в специальном контейнере, капсуле, которая падала с высоты ста сорока километров, пока на высоте восемнадцати километров над землей не срабатывал теплозащитный экран и не выпускался парашют. Пилоты старались поймать падающую капсулу в полете, а если не получалось, ее начинали искать на земле или в океане.
Спутник двигался со скоростью эквивалентной восьми километрам в секунду на земле, один снимок покрывал участок размером 16×190 километров, поэтому спутник фотографировал каждые две секунды и таким образом мог заснять всю территорию противника всего за день-два. На первой катушке пленки содержались изображения шестидесяти четырех советских аэродромов и двадцати шести пусковых площадок ПВО. СССР запустил свой первый спутник-шпион «Зенит» в 1962 году.
Холодная война оставила свой след на картах. Например, на советской карте английского города Чатем четко видна верфь, где Королевские ВМС строили подводные лодки, тогда как на британской карте вместо верфи было белое пятно. Кроме того, на советской карте имелась информация о размерах и грузоподъемности мостов в непосредственной близости от верфи.
Две сверхдержавы придерживались разных военных стратегий, поэтому различались и их подходы к картографированию. США удерживали господство в воздухе, и им не требовались карты стратегически важных районов более подробные, чем в масштабе 1:250 000. Советский Союз, в свою очередь, обладал самой большой в мире армией и ставку делал на танковые войска, следовательно, ему нужны были детальные карты, с информацией о ширине дорог, грузоподъемности мостов, глубине рек и топографии лесов. Многие из них содержали также метеорологические сведения. Карты различных частей мира составлялись максимально подробно, вплоть до указания высоты зданий. Советские военные карты Западной Европы и Америки зачастую были подробнее, чем собственные карты этих стран. Естественно, они хорошо охранялись. Их выдавали для учений только под расписку, а если карты портились или уничтожались, их фрагменты надлежало сдать. В то же время гражданские карты Советского Союза были практически бесполезны. Мало того, что точность на них сильно хромала, они еще намерено искажались специальной проекцией, допускавшей случайные вариации. Известные ориентиры – города и реки – воспроизводились правдоподобно, но координаты, направления и расстояния наносились крайне произвольно. Делалось это с тем, чтобы западные шпионы не могли приобрести точную карту советского города или республики в обычном киоске. Картограф, разработавший такую систему, получил Сталинскую премию.
После смерти Сталина в 1953 году амбиции советских военных глобализовались. Хрущёв увидел в бывших европейских колониях, становившихся независимыми государствами, благодатную почву для распространения коммунизма. Поэтому СССР направил своих топографов для измерения и картографирования многих развивающихся стран, и те подошли к делу чрезвыйно скрупулезно – настолько скрупулезно, что в 1990-е годы ранее засекреченные советские карты были куплены телекоммуникационными компаниями и использованы для создания в этих странах сотовых сетей. Для того чтобы установить вышки сотовой связи в соответствующих местах, требовалась точная топографическая информация, а советские карты предоставляли наилучший обзор высот в этой части света.
Советский Союз с помощью карт систематизировал свои знания о планете. Карты в СССР были чем-то вроде аналоговой базы данных (очень напоминая средневековые карты, предоставлявшие не только географическую информацию о мире) и содержали многообразнейшие сведения, создавая визуальную иерархию, в которой всё наиболее важное выделялось, а второстепенное отходило на задний план. Эти карты предвосхитили широко применяемый сегодня цифровой способ организации географической информации в несколько слоев.
В начале 1960-х годов канадское правительство хотело аналогичным способом картографировать территорию площадью более двух с половиной миллионов квадратных километров. Нужна была карта с подробным обзором сельскохозяйственных угодий, лесов, дикой природы, мест, где можно было бы развивать туризм или другие отрасли. По приблизительным оценкам, для такого проекта понадобилось бы пятьсот тридцать шесть географов, которым потребовалось бы составить три тысячи карт за три года. Проблема, однако, заключалась в том, что в Канаде было всего шестьдесят географов. В 1962 году английский географ Роджер Томлинсон предложил свой план осуществения этого проекта.
У Томлинсона уже был за плечами опыт сотрудничества с кенийскими властями: они просили его найти участок, на котором можно было бы высадить деревья для новой бумажной фабрики. Плантацию следовало устроить на пологом склоне в районе с подходящим климатом и легкодоступным для рабочих. Кроме того, в этой местности не должно быть обезьян, так как они питаются молодой порослью. И наконец, плантация должна была находиться на безопасном расстоянии от миграционных маршрутов слонов. Чтобы определить такую местность, Томлинсону пришлось бы составить несколько карт – метеорологических, зоологических, геологических – и наложить их друг на друга, что влетело бы в копеечку. Поэтому проект не состоялся.
С. 298–299 Карта Монреаля и его окрестностей 1972 года. На карте дан обзор различных видов почв: оранжевым и желтым цветом отмечены районы, наиболее пригодные для сельского хозяйства, зеленым и белым – менее пригодные, а красным – совсем непригодные. Назначение бирюзовых выяснить не удалось.
Тогда он решил доверить обработку информации компьютеру, в частности, нанести миграционные маршруты слонов поверх почвенной и метеорологической карт. Позже Томлинсон говорил: «Компьютеры могут быть хранилищем информации и вычислительной машиной. Техническая задача заключалась в том, чтобы поместить в эту машину карты, преобразовывать формы и изображения в цифры». С этой задачей справился тремя годами ранее американский картограф Уолдо Рудольф Тоблер. С помощью трехсот сорока трех перфокарт он запрограммировал компьютер, и тот нарисовал контур США за пятнадцать минут – это первая карта, созданная машинным способом. Тоблер писал: «Похоже, автоматизация не за горами. Некоторые основные задачи, общие для картографии, в будущем будут автоматизированы, соответственно, это увеличит скорость производства карт и снизит затраты».
Томлинсон попробовал сначала заинтересовать цифровыми картами компьютерные компании, но безуспешно. Затем судьба свела его с участниками канадского картографического проекта. Он убедил их в том, что осуществить проект можно, оцифровав информацию. Вместе с американской компанией IBM, занимавшейся обработкой данных, они разработали систему, позволившую им оцифровать карты и связать их с информацией о пахотных землях, населенных пунктах, лесных хозяйствах, путях миграции животных и так далее. Всё это Томлинсон назвал географической информационной системой (ГИС), благодаря которой карты могли давать полное представление о природных ресурсах какого-либо региона или страны.
Успех пришел не сразу. В 1970 году лишь сорок человек в мире применяли этот метод, однако их примеру последовали такие влиятельные учреждения, как Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства – НАСА. В 1972 году оно запустило Landsat-1, первый спутник, специально разработанный для наблюдения за поверхностью Земли. Он был оснащен камерами, которые, по сравнению с военными, имели плохое разрешение, всего 56×79 метров, зато они были полностью цифровыми.
Норвегия активно участвовала в программе Landsat. Собранные спутником данные использовались для изучения льдов вокруг Шпицбергена, для наблюдения за снежными массами близ гидроэлектростанций, для геологических исследований и мониторинга окружающей среды. В 1973 году спутник Landsat сделал снимок Финнмаркского плато на севере Норвегии. На нем запечатлены березовые рощи и торфянники, поросшие вереском и ягелем. Снимок того же района, сделанный по прошествии шести лет, показал, что обнаженной породы стало больше, а растительности – меньше. Причина тому – вредные выбросы с соседних российских никелевых заводов. По спутниковым фотографиям можно видеть, как год за годом плато разрушается.
«Постоянное спутниковое покрытие можно использовать при мониторинге и картографировании территорий Норвегии. <…> В настоящее время технические средства, применяемые в картографии и геодезии, стремительно модернизируются: появляются новые измерительные приборы, автоматизируется картографический процесс и широко внедряются компьютерные технологии», – говорилось в публичном отчете за 1975 год. Подчеркивалось, что Норвегии, отвечающей за обширные территории в отдаленных регионах Арктики и Антарктики и наращивающей в последнее время свой нефтепромысел в Северном море, спутниковые снимки особенно облегчат отслеживание разливов нефти с судов и утечек на буровых платформах и нефтепроводах. Снимки, отмечающие температуру в прибрежных районах и в море, представляют интерес для рыбной промышленности.
Постепенно топографическая съемка в Норвегии переводилась в цифровой формат. В 1981 году норвежская компания Norsk Data поставила четыре компьютерных системы в картографические отделы округов Мёре-ог-Румсдал, Хедмарк, Телемарк и Ругаланн. Картографические отделы в остальных округах были подключены к этим системам через государственную информационную сеть Datex норвежского оператора связи Televerket, и получили доступ к 543 мегабитам информации (это около 1/24 от того, что умещается сегодня в моем мобильном телефоне). Так создавалась ГИС, которую можно было объединить с государственными оцифрованными реестрами. Подключив, например, обозначенные на карте дома к реестру зданий и реестру населения, компьютер мог установить, кто где живет и сколько им лет, а затем автоматически составить карту семей, в которых дети осенью пойдут в первый класс.
«Коммуна Рингерике постепенно обзаводится алфавитно-цифровыми и графическими интерактивными дисплеями, планшетами, сканерами, плоттерами и пополняется новыми устройствами, такими как растровые плоттеры, которые ускоряют автоматизацию картографирования. В последние годы Kartverket, управлением картографии, выпущены цифровые карты разных типов», – писал специализированный журнал Kart og Plan («Карта и план») в 1987 году, когда геодезическое ведомство (Oppmålingen) стало именоваться национальным управлением картографии (Statens kartverk) и переехало в Хёнефосс, где находится и ныне. Годом ранее компания Fjellanger Widerøe оцифровала карты Осло и округа Акерсхус, включая береговую линию, реки, ручьи, озера, дороги, границы муниципалитетов и губерний, а также государственная граница со Швецией. В том же году были составлены спутниковые карты Осло, Тромсё и мелководья вдоль восточного побережья Шпицбергена, а в 1985 году комания начала выпускать для продажи первые плакаты со спутниковым изображением Норвегии.
Тем не менее спутники не задействованы в картографировании, так как по степени детализации спутниковые снимки значительно уступают лучшим аэрофотоснимкам. В 2017 году по-прежнему бо´льшую часть территории Норвегии наносили на карту с помощью аэрофотосъемки. Управление картографии инициировало национальную программу орбитальной съемки, поставив задачу не реже одного раза в семь лет переснимать все районы Норвегии, в первую очередь центральные районы, где активно ведется застройка; при этом фиксируются детали размером до трех сантиметров. Основная же задача спутников заключается в создании специальных карт больших территорий и в мониторинге таких явлений, как загрязнение воздуха, разливы нефти, ураганы, таяние льда, озоновые дыры, опустынивание, вырубка лесов и илистые отложения на побережье и в реках. У Европейского космического агентства (ЕКА) и НАСА тоже есть собственные программы, отслеживающие состояние окружающей среды Земли.
Изобретение печати позволило европейцам в XV веке выпускать намного больше книг, чем раньше. Аналогичным образом благодаря цифровизации можно выпускать значительно больше карт. После того как карты оказались в компьютере в виде двоичного кода, их легко можно было связать с любой информацией для создания тематических, статистических, топографических карт, карт растительности и других типов, а также обновлять их всего несколькими нажатиями клавиш. Легко стало и обмениваться картами между компьютерами, подключенными к сети.
Во время работы над канадскими картами к Томлинсону пришла мысль: почему бы не создать базу данных ГИС, к которой каждый мог бы подключиться и увидеть мир в мельчайших подробностях? Не его одного посещали такие мысли. Благодаря возросшей мощности ЭВМ, появлению транзисторов и микросхем ряд инженеров, работавших с базами данных, стали придумывать компьютерные программы, с помощью которых можно было обмениваться информацией друг с другом через всемирную электронную сеть пользователей – интернет.
Современный интернет – результат работы, начатой Министерством обороны США в конце 1960-х. Ставилась цель создать коммуникационную сеть, способную выдержать советскую ядерную атаку. Такая сеть не могла базироваться на одной главной станции, она должна была функционировать, даже если какая-либо из ее частей будет уничтожена. Поэтому создали «плоскую (горизонтальную) структуру», позволяющую каждому обмениваться информацией с другими. Четыре компьютера в штатах Калифорния и Юта образовали первую в мире компьютерную сеть, когда их соединили первого сентября 1969 года. Два года спустя по ней отправили первое электронное письмо, содержавшее символ @. В 1978 году изобрели модем, и стало возможным делиться информацией частным лицам, минуя военную сеть Пентагона. Зачатки всемирной паутины – world wide web (www) – были заложены, после того как с помощью http (протокола передачи гипертекста) удалось организовать содержательную веб-страницу, а введя url (uniform resourse locator – унифицированный указатель ресурса), стандартизировали адреса веб-страниц, так что любой компьютер в любой точке мира открывал одну и ту же страницу, стоило указать в адресной строке, например, http://www.verdensteater.net. Первую в мире виртуальную картографическую службу – mapquest.com – запустили в 1996 году, а вскоре появились и Streetmap, Mappy, Multimap, Hot Maps.
С. 304–305 Изображение Манхэттена на Google Maps 2007 года. Цвета немного отличаются от нынешних. Здесь все здания серые, однако в 2016 году некоторые здания стали окрашивать в светло-оранжевый цвет, что поначалу немного сбивало с толку. Что это могло означать? Может быть, разницу между жилыми и торговыми кварталами? Отнюдь нет. Просто Google решил таким образом выделить «интересные районы». Любопытно, что на карте 2007 года нет никакой рекламы.
В 1998 году вице-президент США Альберт Гор дал новый импульс мечте Томлинсона. Гор начал свою речь с заявления о том, что «последние технологические достижения позволяют нам собирать, хранить, обрабатывать и визуализировать невиданный ранее объем информации о нашей планете и самых разнообразных природных и культурных явлениях». Бо´льшая часть этой информации привязана «к „геоданным“, к определенному месту на поверхности Земли». Гор предложил всю эту информацию собрать в одну компьютерную программу-приложение, которую назвал «Цифровая Земля»[125]. Она виделась ему в виде «мультимасштабной трехмерной цифровой модели Земли, включающей в себя огромное и всё увеличивающееся количество геоданных». Он попросил своих слушателей представить себе, как этой программой может пользоваться ребенок, придя в местный музей: «Надев на голову шлем-дисплей, он увидит Землю такой, какой она предстает из космоса. С помощью сенсорной перчатки он сможет увеличивать масштаб, выбирая более высокие уровни разрешения, и приблизить к себе континенты, потом регионы, страны, города и наконец отдельные здания, деревья и другие природные и рукотворные объекты». Гор признавал, что этот сценарий может показаться надуманным. Но если его всё же воплотить, говорил он, то эта программа поможет и в дипломатии, и в борьбе с преступностью, и в сохранении природного разнообразия, и в прогнозировании изменений климата, и в увеличении мирового производства продовольствия. Гор считал, что собрано уже достаточно кусочков пазла, чтобы начать готовить программу: «Мы должны попытаться составить цифровую карту мира с разрешением в один метр».
Одной из составляющих пазла «Цифровой Земли» был цифровой метод, позволяющий определять онлайн местоположение любого объекта в мире. Система «Транзит» имела успех, как и другие спутниковые программы (например, 621b, Secor и Timation), разработанные военными ведомствами США, помимо программы ВМС. В 1973 году решили взять из этих систем всё лучшее и объединить в одну систему – Global Positioning Satellite (GPS), систему глобального позиционирования. Первый спутник GPS запустили в 1978 году. Норвежское управление картографии проверило систему в 1986 году и пришло к выводу, что результаты работы с GPS превзошли все ожидания. «Вопрос не в том, войдет ли GPS в будни геодезистов, а в том, когда это произойдет», – уверенно заключили специалисты. Уже в 1991 году оборудование, применявшееся для определения местоположения объектов еще со времен лейтенантов Юхана Якоба Рика и Дитлева Вибе, отправилось прямиком в шкаф.
Последний из двадцати четырех спутников системы глобального позиционирования вывели на орбиту в 1994 году. Однако военные не хотели, чтобы другие страны, особенно вражеские, получили доступ к их геоданным, поэтому они запустили гражданскую версию GPS, которая намеренно выдавала координаты с погрешностью в несколько сотен метров. Этому воспротивились Федеральное управление гражданской авиации США, Министерство транспорта и Береговая охрана, и в ночь на первое мая 2000 года президент Билл Клинтон открыл GPS-навигатор для всего мира. И приблизил на один шаг мечту Гора.
Задолго до выступления Гора компания Silicon Graphics, работавшая с компьютерной трехмерной графикой, создала программу, которая позволяла рассматривать Землю как бы из космоса, увеличивая ее масштаб. Для этого она применила «умную» технологию, названую clipmapping (клип-картой). С ее помощью можно было видеть крупное изображение, к примеру, карту Европы размером 420 000×300 000 пикселей, в уменьшенном виде на экране размером 1024×768 пикселей. Под каждым пикселем скрывалось гораздо большее число пикселей. Сначала на экране появлялся весь континент. Но стоило щелкнуть на значке с лупой или «плюсом» либо дважды кликнуть на интересующей области, скажем, на северо-западе, как эта часть карты увеличивалась, а остальная обрезалась. Новый клик – и перед нами страны Северной Европы, еще клик – Кольский полуостров, очередное нажатие – и мы видим Мурманск, снова клик – город Полярный, другой клик – улица Гагарина, клик – и памятник шхуне «Святая Анна», а чуть дальше кафе «Северное сияние». По мере того, как мы углубляемся в изображение, технология обрезает всё, что нам неинтересно, и в конечном счете мы доходим до мельчайших деталей изображения, которое на самом деле намного больше экрана.
Вдохновленная призывом Гора, компания Silicon Graphics представила в 2001 году новый программный продукт Earthviewer («Обозреватель земли»). Те, кто покупал его, могли облететь трехмерную цифровую модель мира с небывалой прежде скоростью и обозревать планету с невиданным ранее разрешением. Однако кроме США, другие страны были воспроизведены не столь качественно – у компании просто не хватило денег на покупку всех необходимых спутниковых снимков. Тем не менее сам программный продукт был достаточно хорош, и американские телеканалы задействовали его, когда в марте 2003 года разразилась война с Ираком. Кроме того, компания In-Q-Tel, финансируемая ЦРУ, всего за несколько недель до вторжения американцев инвестировала в Earthviewer и использовала его для помощи войскам. Появилось шесть версий этого продукта, прежде чем в 2004 году Google купил его за сумму, которую не афишировали. Несколькими неделями ранее Google приобрел компанию Where2, производившую цифровые карты.
Нет ничего удивительного в том, что создатели поисковой системы Google заинтересовались картами, ведь около тридцати процентов запросов в Интернете связаны с определением местонахождения. Еще в 2002 году компания начала покупать спутниковые снимки у DigitalGlobe, два спутника которой фотографировали каждый день миллион квадратных километров поверхности Земли с разрешением в полметра. Эти изображения стоимостью несколько сотен миллионов долларов были добавлены в Earthviewer для нового сервиса Google Earth, запущенного в июне 2005 года как «ценное дополнение к усилиям Google организовать всю глобальную информацию и сделать ее общедоступной и полезной». За несколько месяцев до этого в Интернете появился еще один онлайн-проект Google Maps.
Открывая Google Earth, мы видим в голубом, зеленом, белом и коричневом цветах дневную сторону нашей планеты с расстояния одиннадцать тысяч километров, выглядяшей как светящийся шар на фоне кромешной тьмы космоса. Это не только земной шар, который описывали Сократ, Цицерон, Макробий, фон Браун, а теперь изображенный в цифровом и двухмерном виде, но еще и географическая информационная система с более чем двадцатью петабайтами геоданных, что эквивалентно учебнику объемом десять тысяч миллиардов страниц. Вся эта информация извлекается за считанные секунды, по мере того как пользователь прокладывает путь вокруг Земли или спускается к ней, изображения обновляются пятьдесят раз в секунду. В меню слева мы можем выбрать любую карту, какую захотим наложить на местность, в зависимости от того, что нам интересно – видеть мир с национальными границами, дорогами и географическими названиями или без них. Мы также можем включить или отключить некоторые опции, которые знакомят нас с многообразием всего земного шара. Опция «Global awareness» («Знание о мире») открывает ряд символов, кликнув на которые мы можем получить дополнительную информацию, например, о деятельности Всемирного фонда природы, связанной, в частности, с защитой панд в горах Циньлин в Китае. Открыв «Галерею» и «Исторические карты Рамси», мы получаем доступ к старинным географическим картам из коллекции американца Дэвида Рамси, в том числе и к карте Скандинавии 1794 года.
Взаимодействие с Google Earth и Google Maps открывает перед нами возможности, которые были бы немыслимы при взаимодействии с бумажными картами и атласами. В опции «Картинки» представлены тысячи изображений, от Иерусалима до пляжей Малибу, загруженные пользователями со всего мира. В то же время система открыта и для участия со стороны пользователей: так, благодаря пользователю была замечена и исправлена ошибка в картах, на которых некий словенский город очутился на итальянской стороне границы. А надпись «Здесь отсутствуют права человека» («No Human Rights Here»), помещенная кем-то в районе Тибета, захваченном в 1965 году Китаем, вызвала острую дискуссию о китайском режиме. Иногда в системе проскальзывают неточности, скажем, когда кто-то называет неправильно один из мостов в Праге или загружает изображение не в ту папку, но несомненно то, что Google Earth позволяет людям влиять на изображение их окружающей среды так, как никогда еще в истории не доводилось. Четыреста лет назад кто-то мог послать карту Тосканы Абрахаму Ортелию для того, чтобы тот более точно воспроизвел эту местность в следующем издании своего Театра мира. Но много ли людей могло это сделать? При этом только Ортелий решал, воспользоваться ли ему присланной картой или нет.
Google Earth – фантастический инструмент для знакомства с нашей планетой, с его помощью мы можем посетить исторические места, такие как Ангкор-Ват, Мачу-Пикчу и Помпеи, отправиться на самые высокие горные пики, в Арктику и Антарктику, проникнуть в тропические леса Амазонки и попасть на Аляску, в Александрию, Бангкок, Чикаго… Более того, под поисковой строкой указано, что я могу ввести, например, «Пицца в районе Уллевол, Осло». А когда я наберу в поисковой строке Google слово «пицца», вверху страницы сразу появится реклама заведений, доставляющих пиццу прямо на дом, а ниже всплывет карта из Google Maps с тремя пиццериями, расположенными к северу, востоку и югу от места, где я живу.
Эта маленькая деталь подтверждает то, что Уолдо Тоблер назвал первым законом географии: «Всё связано со всем, но близкие вещи связаны теснее, чем дальние». Google понял, что карты – это прежде всего повседневная вещь, которой мы пользуемся, для того чтобы найти новый магазин или дом человека, продающего через интернет подержанный велосипед, и намного реже – чтобы осуществить свои мечты. И именно благодаря тому, что Google продает рекламу продавцам пиццы и другим разносчикам в нашем районе, компания предоставлят нам бесплатные карты. Английский историк картографии Джерри Броттон считает, что Google Maps это «по сути, средство для размещения рекламы».
Это напоминает нам о том, что карты не появляются сами по себе. Птолемей I Сотер основал в Александрии музей и библиотеку, так как знания способствовали развитию торговли; итальянские морские карты, с которых началось составление более точных карт в Средневековье, создавались для путешествующих купцов; идея создать атлас пришла Абрахаму Ортелию тоже благодаря купцам, нуждавшимся в более практичных картах; Голландская Ост-Индская компания заплатила отцу и сыну Блау за создание карт Островов пряностей; пиццерии, покупающие рекламные места у Google Earth и Google Maps, помогают оплатить очередной сеанс спутниковой съемки, делающей карты еще более точными. «Если составители карт и мотивированы единственно стремлением собрать объективную географическую информацию, – утверждает Броттон, – для того, чтобы это осуществить, нужны либо благотворители, либо государственное финансирование, либо коммерческий капитал. Картография и деньги всегда шли рука об руку и отражали корыстные интересы конкретных правителей, государств, компаний или транснациональных корпораций, но это ни в коем случае не обесценивает новаторство картографов».
Однако возникает вопрос: не становится ли Google монополистом? Карты его конкурентов, даже таких крупных компаний, как Apple, Microsoft и Yahoo, вытесняются, тогда как доля карт Google на рынке уже превышает семьдесят процентов. «Очень важно, чтобы регулирующие органы быстро отреагировали и восстановили плюрализм в картографии, воспрепятствовали неуклонному исчезновению конкурентов Google в этой области», – писала в отчете за 2012 год Icomp, организация, выступающая за свободную и честную торговлю в интернете. По мнению Саймона Гринмана, основателя картографического сервиса mapquest.com, «хотя Google и осуществил блестящий проект Google Earth», есть опасность, что «он будет доминировать на глобальном рынке картографии в масштабах беспрецедентных. Через 10–20 лет Google превратиться в мирового монополиста».
Первую ракету, отправленную в полет Вернером фон Брауном и его помощниками третьего октября 1942 года, украшало пин-ап изображение Миссис Луны – аллюзия на немецкий фильм 1929 года Frau im Mond (Женщина на Луне), в котором кинозрителям впервые показали, как действует современная ракета. В 2008 году частная спутниковая компания GeoEye запустила ракету с логотипом Google, обозначив этим то, что технологический гигант уже разместил заказ на все фотографии, которые будут сделаны новым спутником. Google также навеки прописался на солнечной колеснице Аполлона[126]. А шесть лет спустя обзавелся собственной солнечной колесницей, купив компанию Skybox Imaging и ее шесть спутников.
Объем информации в Google Earth и в Google Maps ограничивается лишь емкостью хранилища, а она растет быстрее, чем накапливаются новые данные. Означает ли это, что теперь мы сможем, наконец, создать идеальную карту, о которой картографы мечтали с давних времен? Можно ли на современных компьютерах составить карту масштабом 1:1? Эд Парсонс, главный геотехнолог Google, считает, что технически это осуществимо: «Посмотрите на то, что мы уже делаем сегодня, и поговорите с теми, кто занимается онлайн-картографией, и большинство ответит вам, что составить карту „один к одному“ вполне возможно».
Но какова польза от такой карты, будет ли кому-то действительно интересно рассматривать выбоины в асфальте на Пятой авеню в Нью-Йорке? Другая проблема связана с тем, что создателям этой карты, как и многим творцам карт на заре времен, придется решать непростую задачу: как воспроизвести круглый земной шар на плоском экране. Когда мы отступаем от масштаба 1:1 – а это придется делать часто, поскольку на экране компьютера воспроизвести можно очень мало, – возникает проблема проекции. Уже сегодня Google приходится манипулировать с изображениями, пытаясь имитировать кривизну Земли и сталкиваясь со значительными трудностями в северных и южных регионах, где меридианы сходятся, поэтому он вынужден прибегать к математическим решениям, которые предполагают определенные компромиссы.
Карта – это картина мира, мировоззрение. Все карты, рассмотренные в этой книге, отражают разное ви´дение мира: от умозрительных догадок греков до средневековых религиозных верований, от научной и объективной картографии в эпоху Возрождения до накопления гигантских объемов информации в цифровой век. Всех картографов всех времен объединяет одно: их взгляд на мир много говорит о том, что важно для них и на что они способны.
Мир – это театр, где постоянно разворачивается наша история. Ортелий писал, что благодаря картам «где бы и что бы ни делалось, всё можно было видеть так, как если бы это происходило у нас на глазах». И этому пророчеству нельзя не удивиться, ведь сегодня цифровые карты информируют пользователя о текущей дорожной ситуации практически в режиме реального времени. Уже в эпоху Ортелия срок службы карт становился всё короче и короче. Его карты сдали в архив всего через тридцать лет. Сможем ли мы когда-нибудь создать карту, которая будет обновляться каждую минуту, показывая все строящиеся и сносимые дома, оползни и наводнения, толпы отдыхающих на набережной в Александрии, суда, плывущие в Индонезию, и самолеты, летящие над американским континентом, чтобы всё в мире происходило действительно «у нас на глазах»? С технической точки зрения такая карта не за горами. Уже сегодня цифровые карты обновляются ежедневно на основе четырех новых спутниковых снимков. В чем мы можем быть уверены, так это в том, что карты будущего будут для нас такими же чужеродными, как карты в наших мобильных телефонах для Птолемея, Меркатора и Ортелия, а наши чудесные новые карты через четыреста лет будут казаться потомкам столь же простыми, как для нас Theatrum orbis terrarum.
Литература
Apollo Onboard Voice Transcription. Houston: NASA, 1969.
Ortelius A. Theatrum orbus terrarum. Antwerpen, 1570.
Shakespeare W. As you like it. Рус. пер.: Шекспир У. Как вам это понравится (пер. П. Вайнберга).
Bringsværd T. Å., Braarvig J. I begynnelsen. Skapelsesmyter fra hele verden. Oslo: De norske bokklubbene, 2000.
Brotton J. A History of the World in 12 Maps. London: Allen Lane, 2012.
Çatalhöyük ‘Map’ Mural May Depict Volcanic Eruption 8,900 Years Ago: https://www.sci.news/archaeology/science-catalhoyuk-map-mural-volcanic-eruption-01681.html
Craig A. The Bedolina Map – an Exploratory Network Analysis // Layers of Perception. Berlin: CAA, 2007: archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/512
Edda-dikt / trans. L. Holm-Olsen. Oslo: J. W. Cappelens Forlag, 1993. Рус. пер.: Старшая Эдда / пер. А. Корсуна. М.: Наука, 1963.
Gabrielsen T. Thomas von Westens runebomme 1723 // Ságat. No. 252. 2009: finnmarkforlag.no/09_16.html
Harrell J. Turin Papyrus Map From Ancient Egypt: http://www.eeescience.utoledo.edu/faculty/harrell/egypt/turin%20papyrus/harrell_papyrus_map_text.htm
Herodot Historie. Рус. пер.: Геродот. История (пер. Г. Стратановского).
Homer Iliaden. Рус. пер.: Гомер. Илиада (пер. Г. Стратановского).
Jennings K. Maphead. New York: Scribner, 2011.
Lewis G. M. The Origins of Cartography / ed. J. B. Harley, D. Woodward // Сartography in prehistoric, ancient, and medieval Europe and the Mediterranean. The History of Cartography. Vol. 1. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.
Marstrander S. Østfolds jordbruksristninger. Oslo: Universitetsforlaget, 1963.
Meece S. A bird’s eye view – of a leopard’s spots. The Çatalhöyük ‘map’ and the development of cartographic representation in prehistory // Anatolian Studies. No. 56. 2006: jstor.org/stable/20065543
Millard A. R. Cartography in the Ancient Near / ed. J. B. Harley, D. Woodward // Сartography in prehistoric, ancient, and medieval Europe and the Mediterranean. The History of Cartography. Vol. 1. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.
Nemet-Nejat K. R. Daily Life in Ancient Mesopotamia. Westport: Greenwood Press, 1998.
Neugebauer O. A History of Ancient Mathematical Astronomy. New York; Heidelberg; Berlin: Springer-Verlag, 1975.
Rytter O. Rigveda. Femtifem veda-hymnar. Oslo: Det Norske Samlaget, 1976. Рус. пер.: Ригведы (пер. Т. Елизаренковой).
Schellenberg R. Windows on the World // Maps. Power, Plunder and Possession. London: BBC Productions, 2007.
Shore A. F. Egyptian Cartography / ed. J. B. Harley, D. Woodward // Сartography in prehistoric, ancient, and medieval Europe and the Mediterranean. The History of Cartography. Vol. 1. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.
Smith C. D. Cartography in the Prehistoric Period in the Old World: Europe, the Middle East, and North Africa / ed. J. B. Harley, D. Woodward // Сartography in prehistoric, ancient, and medieval Europe and the Mediterranean. The History of Cartography. Vol. 1. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.
Smith C. D. Prehistoric Cartography in Asia / ed. J. B. Harley, Woodward D // Cartography in the Traditional East and Southeast Asian Societies. The History of Cartography. Vol. 2, Book 2. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.
Strabon. Geōgraphiká. Рус. пер.: Страбон. География (пер. Г. Стратановского).
Sturlason S. Edda. Рус. пер.: Стурлусон С. Младшая Эдда / пер. О. Смирницкой. Л.: Наука, 1970.
Aristofanes Skyene. Рус. пер.: Аристофан. Облака (пер. А. Пиотровского).
Aristoteles Meteorologien. Рус. пер.: Аристотель. Метеорологика (пер. Н. Брагинской).
Ancient Libraries / ed. J. König, K. Oikonomopoulou, G. Woolf. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
Aujac G. The Foundations of Theoretical Cartography in Archaic and Classical Greece / ed. J. B. Harley, D. Woodward // Сartography in prehistoric, ancient, and medieval Europe and the Mediterranean. The History of Cartography. Vol. 1. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.
Aujac G. The Growth of an Empirical Cartography in Hellenistic Greece / ed. J. B. Harley, D. Woodward // Сartography in prehistoric, ancient, and medieval Europe and the Mediterranean. The History of Cartography. Vol. 1. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.
Brotton J. A History of the World in 12 Maps. London: Allen Lane, 2012.
Caesar G. J. Borgerkrigen. Рус. пер.: Цезарь Г. Ю. Записки Юлия Цезаря / пер. М. Покровского. М.; Л.: Издательство Академии наук, 1948.
Eratosthenes Eratosthenes’ Geography / ed. and trans. D. W. Roller. Princeton: Princeton University Press, 2010.
MacLeod R. The Library of Alexandria. London: I.B. Tauris Publishers, 2000.
McPhail C. Reconstructing Eratosthenes’ Map of the World: A Study in Source Analysis. Dunedin: University of Otago, 2011: ourarchive.otago.ac.nz/bitstream/ handle/10523/1713/ McPhailCameron2011MA.pdf
Nansen F. Nord i tåkeheimen. Utforskningen av Jordens nordlige strøk i tidlige tider. Oslo: Jacob Dybwads Forlag, 1911.
Platon Faidon. Рус. пер.: Платон. Федон (пер. С. Маркиша).
Pliny the Elder The Natural History. Рус. пер.: Плиний Старший. Естественная история (пер. Б. Старостина).
Ptolemaios K. Geography: penelope. uchicago.edu/Thayer/E/ Gazetteer/Periods/Roman/_ Texts/Ptolemy/home.html. Рус. пер.: Птолемей К. Руководство по географии / пер. К. Апта; сост. М. Боднарского // Античная география. М.: Государственное издательство географической литературы, 1953.
Ptolemy’s Geography: An Annotated Translation of the Theoretical Chapters / trans. J. L. Berggren, A. Jones. Princeton: Princeton University Press, 2000.
Историю о Пьетро Кверини можно прочесть на сайте Университета Тромсё: ub.uit.no/northernlights/ nor/querini.htm
Отрывок из кн. Historia Norwegie переведен Астрид Салвесен и взят из издания: Thorleif Dahls kulturbibliotek / Aschehoug, Oslo, 1969.
Перевод надписей с карты Фра Мауро на английский язык: myoldmaps.com/late-medieval-maps-1300/249-fra-mauros-mappamundi/fra-mauro-transcriptions.pdf
Рассказ Оттара из Хологаланда переведен Артуром Сандведом по кн. The Old English Orosius и взят из: NOU 1984: 18: «Om samenes rettsstilling», Oslo, 1984, c. 643–644.
Ресурс Catholic Online разместил биографию Исидора Севильского на сайте: catholic.org/saints/saint.php?saint_id=58
Adam av Bremen Beretningen om Hamburg stift, erkebiskopenes bedrifter og øyrikene i Norden. Oslo: Aschehoug / Thorleif Dahls kulturbibliotek, 1993.
Albu E. Rethinking the Peutinger Map / ed. R. J. A. Talbert, R. W. Unger // Cartography in Antiquity and the Middle Ages: Fresh Perspectives, New Methods. Technology & Change in History. Vol. 10. Leiden; Boston: Brill, 2008.
Augustinus A. De doctrina christiana. Om kristen opplæring. Рус. пер.: Блаженный Августин. Христианская наука. СПб: Библиополис, 2006.
Augustinus A. Gudsstaten. Рус. пер.: Августин А. О Граде Божьем. СПб.; Киев: Алетейя; УЦИММ-Пресс, 1998.
Bratrein H. D. Ottar // Norsk biografisk leksikon. nbl.snl.no/Ottar
Cartography in Antiquity and the Middle Ages: Fresh Perspectives, New Methods / ed. R. J. A. Talbert, R. W. Unger // Technology & Change in History. Vol. 10. Leiden; Boston: Brill, 2008.
Cicero M. T. Om staten. Рус. пер.: Цицерон. О государстве. (пер. В. Горенштейна).
Edson E. The World Map, 1300–1492: The Persistence of Tradition and Transformation. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2007.
Edson E., Savage-Smith E. Medieval Views of the Cosmos. Oxford: Bodleian Library, 2004.
Ekrem I. Nytt lys over Historia Norwegie: mot en løsning i debatten om dens alder? Bergen: Museum Tusculanum Press, 1998.
Elliott T. Constructing a digital edition for the Peutinger Map / ed. R. J. A. Talbert, R. W. Unger // Cartography in Antiquity and the Middle Ages: Fresh Perspectives, New Methods. Technology & Change in History. Vol. 10. Leiden; Boston: Brill, 2008.
Eriksen T. B. Reisen til helvete: Dantes Inferno. Oslo: Universitetsforlaget, 1993.
Eskeland I. Snorri Stur-luson. Ein biografi. Oslo: Grøndahl Dreyer, 1992.
Gosch S. S., Stearns P. N. Premodern Travel in World History. New York: Routledge, 2008.
Howe N. Writing the Map of Anglo-Saxon England: Essays in Cultural Geography. New Haven: Yale University Press, 2008.
Isidor av Sevilla. The Etymologies. Рус. пер. «Этимологий» Исидора Севильского по: Мельникова Е. А. Древнескандинавские географические сочинения. М.: Наука, 1986.
Knudsen A. L. Geografi og topografi i Gesta Danorum // Renæssanceforum. Vol. 3. 2007. renaessanceforum.dk
La Porte M. A Tale of Two Mappae Mundi: The Map Psalter and its Mixed-Media Maps. Ontario: The University of Guelph, 2012: atrium.lib.uoguelph.ca/xmlui/bitstream/hand-le/10214/3662/LaPorte-final-05-09.pdf?sequence=6
Lozovsky N. The Earth is Our Book: Geographical Knowledge in the Latin West ca. 400–1000. Michigan: The University of Michigan Press, 2000.
Lozovsky N. Maps and panegyrics / ed. R. J. A. Talbert, R. W. Unger// Cartography in Antiquity and the Middle Ages: Fresh Perspectives, New Methods. Technology & Change in History. Vol. 10. Leiden/Boston: Brill, 2008.
Norrøn verdenshistorie og geografi / trans. R. Kyrkjebø, B. D. Spørck. Oslo: Aschehoug / Thorleif Dahls kulturbibliotek, 2012.
Orosius P. Seven Books of History Against the Pagans. Рус. пер.: Орозий П. История против язычников (пер. В. Тюленева).
Øverås E. Snorre Sturlason. Oslo: Noregs Boklag, 1941.
Schellenberg R. Spirit of the Age // Maps. Power, Plunder and Possession. London: BBC Productions, 2007.
Schöller B. Transfer of Knowledge: Mappae Mundi Between Texts and Images // Peregrinations: Journal of Medieval Art and Architecture. Vol. 4. No. 1. 2013: kenyon.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1107&context=perejournal
Sturlason S. Edda. Рус. пер.: Стурлусон С. Младшая Эдда / пер. О. Смирницкой. Л.: Наука, 1970.
Sturlason S. Kongesagaer. Рус. пер.: Стурлусон С. Круг земной / пер. М. Стеблин-Каменского. М.: Наука, 1980.
Williams J. Purpose and Imagery in the Apocalypse Commentary of Beatus of Liébana / ed. R. K. Emmerson, B. McGinn // The Apocalypse in the Middle Ages. Ithaca: Cornell University Press, 1992.
Wærdahl R. Snorre Sturlason // Norsk biografisk leksikon: nbl. snl.no/Snorre_Sturlason
Abraham Ortelius and the First Atlas. Essays commemorating the quadricentennial of his death / ed. M. Van den Broecke, P. van der Krogt, P. Meurer. Utrecht: H&S Publishers, 1998.
Bartlett J. R. Mercator in the Wilderness / ed. B. Becking, L. Grabbe // Between Evidence and Ideology. Leiden; Boston: Brill, 2008.
Binding P. Imagined Corners: Exploring the World’s First Atlas. London: Review, 2003.
Blado A. Monstrum in Oceano, Roma, 1537. Перевод на английский выполнил A. Boxer на сайте idolsoftecave.com.
Bowen K. L., Imhof D. Christopher Plantin and Engraved Book Illustrations in Sixteenth-Century Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
Cicero M. T. Samtaler på Tusculum. Рус. пер.: Цицерон. Тускуланские беседы (пер. М. Гаспарова).
Columbus C. Journal of the First Voyage of Columbus. London: The Hakluyt Society, 1893: archive.org/details/ journalofchristoооcolurich
Dalché P. G. The Reception of Ptolemy’s Geography (End of the Fourteenth to Beginning of the Sixteenth Century) / ed. J. B. Harley, Woodward D // Cartography in the European Renaissance. The History of Cartography. Vol. 3. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.
Delano-Smith C., Morley Ingram E. Maps in Bibles 1500–1600. An Illustrated Catalogue. Genève: Librarie Droz, 1991.
Olaus M. Historia om de nordiska folken. Hedemora: Michaelisgillet og Gidlunds förlag, 1909–1951. litteraturbanken.se/författare/OlausMagnus Рус. пер.: Олаус М. История северных народов. Текст доступен на: file:///C:/Users/Computer/Downloads/olaus_magnus_istoriia_severnykh_narodov.pdf
Matei-Chesnoiu M. Re-imagining Western European Geography in English Renaissance Drama. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2012.
Miekkavaara L. Unknown Europe: The mapping of the Northern countries by Olaus Magnus in 1539 // Belgeo. Vol. 3. No.4. 2008: belgeo.revues.org/7677
The Cosmographiæ Introductio of Martin Waldseemüller in Facsimile. Followed by the Four Voyages of Amerigo Vespucci, with their Translation into English; to which are added Waldseemüller’s Two World Maps of 1507 / ed. C. G. Herbermann. New York: The United States Catholic Historical Society, 1907: archive.org/ details/cosmographiaeintооwalduoft
Van den Broecke M. Ortelius’ Theatrum Orbis Terrarum (1570–1641) Characteristics and development of a sample of on verso map texts. Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht, 2009: bmgn-lchr.nl/articles/ abstract/10.18352/bmgn-l-chr.7350/
Van Duzer C. Waldseemüller’s World Maps of 1507 and 1516: Sources and Development of his Cartographical Thought // The Portolan. Vol. 85. 2012: academia.edu/2204120/ Waldseem%С3 % BCller_s_ World_Maps_of_1507_ and_1516_Sources_and_Development_of_his_Cartographical_Thought_
Ziegler, G. En-Gendering the World: the Politics and Theatricality of Ortelius’s Titlepage / ed. G. E. Szönyi // European Iconography. East and West. Leiden; New York; Köln: Brill, 1996.
Беседа о проекции Меркатора с Бенгтом Малмом, сотрудником Норвежского музея судоходства.
Aanrud R.Generalforstamtet og norsk kartografi. Et 200-års minne om Johann Georg von Langen // Norsk Geografisk Tidsskrift. Vol. 31. 1977.
Bjørsvik E. En festning i utvikling og forandring. Bergenhus 1646–1996. Bergen: Bryggens museum, 1996.
Brotton J. A History of the World in 12 Maps. London: Allen Lane, 2012.
Brown L. A. The Story of Maps. New York: Dover Publications, 1949.
Bäärnhielm G. Förlaga till Bureus’ Lapplandskarta: goran.baarnhielm.net/Kartor/Bureus-forlaga.html
Clarke S. Atlas Maps. Thinking Big // The Beauty of Maps. London: Tern; ВВС, 2010.
Crane N. Mercator. The Man Who Mapped the Planet. London: Weidenfeld & Nicolson, 2002.
Eliassen F. -E. Generalforstamtet – vårt første skogdirektorat. Riksarkivets blogg: dokumenteneforteller. tumblr.com/page/8
Fryjordet T. Generalforstamtet 1739–1746. Elverum: Norsk Skogbrukmuseum, 1968.
Ginsberg W. B. Maps and Mapping of Norway, 1602–1855. New York: Septentrionalium Press, 2009.
Hagen R. B. Det kongelige kysttoktet til nordområdene i 1559 / ed. B. G. Briså, B. Lavold // Kompassrosen. Oslo: Nasjonalbiblioteket, 2009.
Krigsskolen 1750–1950. Bilag til Militær Orientering 24 / ed. H. J. Hanekamhaug. Oslo: Forsvarets undervisningsog velfærdskorps, Pressetjenesten, 1950.
Jones M. Tycho Brahe (Tyge Ottosen Brahe) 1546–1601 / ed. C. W. J. Withers, H. Lorimer // Geographers: Biobibliographical Studies. Vol. 27. London: Continuum, 2008.
Koeman C., van Egmond M. Surveying and Official Mapping in the Low Countries, 1500–ca. 1670 / ed. J. B. Harley, Woodward D // Cartography in the European Renaissance. The History of Cartography. Vol. 3. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.
Nissen K. Hollendernes innsats i utformingen av de eldste sjøkarter over Nordsjøen og Norges kyster // Bergens Sjøfartsmuseums årshefte 1949. Bergen, 1950.
Nissen K. Melchior Ramus, en av den nasjonale kartografis grunnleggere // Norsk Geografisk Tidsskrift Vol. 9. No. 5. Oslo, 1943. Памятная речь, произнесенная в Норвежском географическом обществе 24 февраля 1943 г.
Nissen K. Nytt av og om Melchior Ramus // Norsk Geografisk Tidsskrift. Vol. 19. No. 5–6. Oslo, 1963–1964.
Nissen K. Det eldste Vestlandskart // i Bergens historiske forening: Skrifter. No. 63. Bergen, 1961. Доклад в Обществе развития науки от 14 октября 1960 г.
Nissen K. Det eldste kart over det gamle Stavanger stift // Stavanger museum: Årbok 1960. Dreyer, Stavanger, 1961. Доклад в Ругаланнской академии от 19 октября 1960 г.
Nissen K. RandsfJorden og Land på gamle karter / ed. O. Kolsrud, R. Th. Christensen // Boka om Land. Bind 1. Oslo: Lererlagene og Cammermeyers Boghandel, 1948.
Nissen K. Norlandia-kartet i Den Werlauffske gave og Andreas Heitmans kart over Nordlandene fra 1744–45 samt dermed beslektede karter // Norsk Geografisk Tidsskrift. Vol. 7. 1938.
Major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller 1742–1745. Bind 1 / ed. K. Nissen, I. Kvamen. Oslo: Kjeldeskriftfondet, Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt, 1962.
Schilder G., van Egmond M. Maritime Cartography in the Low Countries during the Renaissance / ed. J. B. Harley, Woodward D // Cartography in the European Renaissance. The History of Cartography. Vol. 3. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.
Schøning G. Nogle Anmærkninger og Erindringer ved det, over Norge nylig udkomne, Kart // Det Trondhiemske Selskabs Skrifter. Anden Deel. København, 1763: ntnu.no/ojs/index.php/DKNVS_skrifter/article/view/699
Sinding-Larsen F. Den norske krigsskoles historie i ældre tider. Oslo: Albert Cammermeyers Forlag, 1900.
Taylor A. The World of Gerard Mercator. London: Harper Perennial, 2004.
Tollin C. When Sweden Was Put on the Map / ed. H. Palang, H. Sooväli, M. Antrop, G. Setten // European Rural Landscapes: Persistence and Change in a Globalising Environment. Dordrecht: Kluwer, 2004.
Westerbeek D. B. Ophavsmanden til Dania-Norvegia-kortet i Det kongelige biblioteks kortsamling // Fund og Forskning. Vol. 26. 1982: tidsskrift.dk/index.php/fundogforskning/article/viewFile/1632/2714
Widerberg, C. S. Norges første militæringeniør Isaac van Geelkerck og hans virke 1644–1656 // Videnskapsselskapets skrifter. ıı. Hist. – filos. klasse. No. 2. Kristiania: Jacob Dybwad, 1924.
Borre K. Fundamental triangulation networks in Denmark // Journal of Geodetic Science. Vol. 4. Aalborg, 2014: cct.gfy.ku.dk/publ_others/JGS-S-13-00034 pdf
Brinchmann C. Nationalforskeren P. A. Munch. Hans liv og virke. Oslo: J.W. Cappelens Forlag, 1910.
Briså B. G. Hvordan ble Norge kartlagt? Fra omtrentlig geografi til detaljerte veikart. Oslo: Nasjonalbiblioteket og Universitetsbiblioteket, 2014.
Broch O. J. Norges Geografiske Opmålings virksomhet gjennem 150 år. Kristiania: Grøndahl & Søns Forlag, 1923.
Clark S. Transit of Venus: Measuring the heavens in the 18th century // The Guardian. 29.05.2012: theguardian.com/science/ blog/2012/may/29/transitvenus-measuring-heavens
Daae L. Historiske Skildringer, Tillægshefte til Folkevennen. Kristiania: Selskabet for Folkeoplysningens Fremme, 1878.
De Seue, C. M. Historisk Beretning om Norges geografiske Opmaaling fra dens Stiftelse i 1773 indtil Udgangen af 1876. Kristiania: NGO, 1878.
Enebakk V. Kartlegging i tid og rom / ed. S. Bagge, J. P. Collett, A. Kjus // P. A. Munch: Historiker og nasjonsbygger. Oslo: Dreyer, 2012.
Enebakk V., Pettersen B. R. Christopher Hansteen and the Observatory in Christiania // Monuments and Sites. Vol. 18. 2009.
For hundre år siden. P. A. Munch og mennene omkring ham / ed. O. Myre. Oslo: Olaf Norlis Forlag, 1944.
Ginsberg W. Maps and Mapping of Norway, 1602–1855. New York: Septentrionalium Press, 2009.
Gjurd: Anmeldelse av Albert Cammermeyer «Reisekart over det sydlige Norge» og «Lomme-Reisekart over Norge» // Fedraheimen, No. 39. 1884.
Godlewska A. Geography Unbound: French Geographic Science from Cassini to Humboldt. Chicago: The University of Chicago Press, 1999.
Grove G. L. Grove, Carl Frederik // Dansk biografisk Lexikon. København: Gyldendalske Boghandels Forlag, 1887–1905: runeberg.org/ dbl/6/0212.html
Haasbroek N. D. Gemma Frisius, Tycho Brahe and Snellius and their triangulations. Delft: Rijkscommissie voor geodesie, 1968.
Harsson B. G. Historien bak Statens kartverk og kartleggingens historie // Lokalhistorisk magasin. No. 01. Trondheim, 2009: lokalhistoriskmagasin.no/utgivelser/pdf/lokalhistorisk-maga sin-2009-01
Harsson B. G., Aanrud R. Med kart skal landet bygges. Oppmåling og kartlegging av Norge 1773–2016. Hønefoss: Statens kartverk, 2016.
Heltne G. Bruk av sunnmørske utsiktspunkt // Årbok for Sunnmøre Historielag 2009. Ålesund, 2009: sunnmore-historielag. no/?p=1132
Hoem A. I. Utviklingen av sjøkartene over norskekysten til 1814 / ed. K. Hausken, R. Svendsen // Norges sjøkartverk. Kystens historie i kart og beskrivelser 1932–1982. Stavanger: Norges sjøkartverk, 1983.
Jensen P. A. Læsebog for Folkeskolen og Folkehjemmet. Oslo: J.W. Cappelens Forlag, 1863.
Johansen N. V. In ultimo fine Europae. Astronomen Maximillian Hell på besøk i Vardø / ed. B. G. Briså, B. Lavold // Kompassrosen. Oslo: Nasjonalbiblioteket, 2009.
Johansen N. V. Caspar Wessel // Norsk biografisk leksikon: nbl.snl.no/Caspar_Wessel
Konvitz J. Cartography in France, 1660–1848: Science, Engineering, and Statecraft. Chicago and London: University of Chicago Press, 1987.
Kristiansen N. De kartla og navnga landet. 23.10.2012: forskning.no/historie-kulturhistorie-sprak/2012/1-/de-kartlaog-navnga-landet
Munch P. A. Indberetning om hans i somrene 1842 og 1843 med Stipendium foretagne Reiser gjennem Hardanger, Numedal, Thelemarken m.m. Hermed et Kart, håndskrevet manus. Oslo: Nasjonalbiblioteket, 1844.
Nystedt L. En expedition till vetgirighetens gräns // Svenska Dagbladet. 29.05.2006. svd.se/en-expedition-till-vetgirighetens-grans
Nørlund N. E. Danmarks kortlægning. En historisk fremstilling. Første bind. Tiden til afslutningen af Videnskabernes Selskab opmaaling. København: Ejnar Munksgaard, 1942.
O’Connor J. J., Robertson E. F. Giovanni Domenico Cassini. history.mcs.st-and. ac.uk/Biographies/Cassini.html, St. Andrews, 2003.
Pettersen B. R., Harsson B. G. Noen trekk fra geodesiens utvikling i Norge de siste 200 år // Kart og plan. Vol. 74. No. 1. Oslo, 2014.
Pettersen B. R. The first astro-geodetic reference frame in Norway, 1779–1815 // Acta Geodaetica Et Geophysica Hungarica. Vol. 44. Budapest, 2009.
Pettersen B. R. Astronomy in service of shipping: Documenting the founding of Bergen Observatory in 1855 // Journal of Astronomical History and Heritage. Vol. 8. No. 2. 2005.
Pettersen B. R. Jakten på Norges nullmeridian // Posisjon. Vol. 21. No. 3. 2013.
Pettersen B. R. Astronomiske bestemmelser av Norges første nullmeridian // Kart og plan. Vol. 74. No. 1. 2014.
Pontoppidan C. J. Geographisk Oplysning til Cartet over det sydlige Norge i trende Afdeelinger. Uddragen og samlet af de bedste, til Cartet brugte, locale Efterretninger og Hielpe-Midler. København: August Friederich Stein, 1785.
Randers K. Søndmør: Reisehaandbog. Kristiania: Aalesund-Søndmøre Turistforening og Albert Cammermeyer, 1890.
Rastad P. E. Kongsvinger festnings historie. Vakten ved Vinger – Kongsvinger festning 1682–1807. Hovedkomiteen for Kongsvinger festnings 300-årsjubileum, 1992.
Rogan B. Mellom tradisjon og modernisering. Kapitler av 1800-tallets samferdselshistorie. Oslo: Novus forlag, 1998.
Seip A. -L. P. A. Munch (1810–1863). Доклад на ежегодном собрании от 3 мая 2013 г.
Siebold J. When America was part of Asia for 270 years: myoldmaps.com
Skoleloven 1860 (Закон о школьном образовании): fagsider.org/kirkehistorie/lover/1860_skole.htm
Stubhaug A. Christopher Hansteen // Norsk biografisk leksikon: nbl.snl.no/Christopher_Hansteen_-_1
Sætre P. J. Ivar Refsdals skoleatlas. Atlasets innhold og betydning for samtiden // Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education. No. 2. 2014: kau.diva-portal.org/ smash/get/diva2:765232/ FULLTEXT01.pdf
Våre gamle kart / ed. L. T. Andressen, R. Fladby. Oslo: Universitetsforlaget, 1981.
Welle-Strand E., Helland-Hansen E. «Smukke utsikter» og kulturhistoriske minnesmerker / ed. E. B. Johnsen, T. B. Eriksen // Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995. Vol. 2. Oslo: Universitetsforlaget, 1998.
Adam av Bremen Beretningen om Hamburg stift, erkebiskopenes bedrifter og øyrikene i Norden. Oslo: Aschehoug; Thorleif Dahls kulturbibliotek, 1993.
De Veer G. Willem Barentsz’ siste reise. Oslo: Aschehoug / Thorleif Dahls kulturbibliotek, 1997.
Djønne E. «PolarfarerensABC». Suksessfaktorene for de geografiske oppdagelsene og det kartografiske arbeidet på den andre norske polarferden med Fram. Oslo: Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo, 2015.
Drivenes E. -A. Ishavsimperialisme / ed. E. -A. Drivenes, H. D. Jølle // Norsk polarhistorie ıı. Vitenskapene. Oslo: Gyldendal, 2004.
Drivenes E. -A. Svalbardforskning og Svalbardpolitikk 1870–1925 // Nordlit Vol. 16. No.1. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet, 2012.
Enterline J. R. Erikson, Eskimos, and Columbus: Medieval European Knowledge of America. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2002.
Gerritsz H. Detectio Freti Hudsoni. Amsterdam: Frederik Muller & Co., 1878.
Lainema M., Nurminen J. Ultima Thule. Oppdagelsesreiser i Arktis. Oslo: Schibsted, 2010. Рус. пер.: Лайнема М., Нурминен Ю. Ultima Thule. Арктические исследования / пер. компании «Бонум Фактум». М.: Paulsen, 2016.
Ingstad H. Landet under leidarstjernen. Oslo: Gyldendal, 1999.
Isachsen G. Astronomical and Geodetical Observations // Report of the Second Norwegian Arctic Expedition in the «Fram»1898–1902. Vol. II. Kristiania: Videnskabs-Selskabet i Kristiania, 1907.
Isachsen G. «Norvegia» rundt sydpollandet. Norvegia-ekspedisjonen 1930–1931. Oslo: Gyldendal, 1934.
Nunn G. E. Origin of the Strait of Anian Concept. Philadelphia: Priv. Print., 1929.
Sverdrup O. Nyt Land. Fire Aar i arktiske Egne. Kristiania: Aschehoug, 1903.
Taylor E. G. R. A Letter Dated 1577 from Mercator to John Dee // Imago Mundi. Vol. 13. 1956: jstor.org/ stable/1150242.
Trager L. Mysterious Mapmakers: Exploring the Impossibly Accurate 16th Century Maps of Antarctica and Greenland: newyorkmapsociety.org/LTMysteriousMapmakers.html, 2007.
Williams G. Arctic Labyrinth. The Quest for the Northwest Passage. London: Penguin, 2010.
Baker C. Review of «The battle of Neuve Chapelle»: longlongtrail.co.uk/battles/battles-of-the-western-front-in-france-and-flanders/the-batt-le-of-neuve-chapelle/
Barlaup A.Widerøes flyveselskap gjennom 25 år. Oslo: Widerøe, 1959.
Christensen L. Min siste ekspedisjon til Antarktis. Oslo: Johan Grundt Tanum, 1938.
Finnegan T. J. Shooting the Front. Allied Aerial Reconnaissance and Photographic Interpretation on the Western Front – World War I. Washington DC: National Defense Intelligence College Press, 2007.
Harsson M. Stedsnavn – til lede og glede: https://www.apollon.uio.no/artikler/1996/sted.html
Harwood J. World War II From Above. An Aerial View of the Global Conflict. Minneapolis: Zenith Press, 2014.
Holm K. R. Trekk fra fotogrammetriens historie i Norge // Kart og plan. Vol.74. 2014.
Kostka D. Air Reconnaissance in World War One. 2011: militaryhistoryonline.com/wwi/articles/airreconinwwi.aspx
Luncke B. Norges Svalbardog Ishavsundersøkelsers luftkartlegning i Ei-rik Raudes land 1932 // Særtrykk av Norsk Geografisk Tidsskrift, bind ıv, hefte 6. Oslo, 1933.
Paris Aero Show на сайте: flightglobal.com/pdfarchive, с. 1355–1356.
Paule T. Den økonomiske kartleggingens historie i Norge. Hønefoss: Statens Kartverk, 1997.
Sass E. WWI Centennial: Battle of Neuve Chapelle. 2015: mentalfloss.com/article/62119/wwi-centennial-battle-neuve-chapelle
Skappel H., Widerøe V. Pionertid. 10 års sivilflyging i Norge. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1946.
Unikoski A. The War in the Air – Observation and Reconnaissance. 2009: firstworldwar.com/airwar/observation.htm
Ween T. Kartlegging fra luften // Norsk Geografisk Tidsskrift. No. 8. 1933.
Статья из Skilling-Magazin от 17.12.1870 в кн.: Norges sjøkartverk. Kystens historie i kart og beskrivelser 1932–1982 / ed. K. Hausken, R. Svendsen. Stavanger: Norges sjøkartverk, 1983.
Åm K. Aeromagnetic Investigation on the continental Shelf of Norway, Stad-Lofoten (62–69°N). Oslo: Norges geologiske undersøkelse; Universitetsforlaget, 1970.
Barton C. Marie Tharp, oceanographic cartographer, and her contributions to the revolution in the Earth sciences / ed. D. R. Oldroyd // The Earth Inside and Out: Some Major Contributions to Geology in the 20th Century. London: Geological Society Special Publication, 2002.
Carstens H. Et mye omtalt brev. На сайте: geo365.no, 03.07.2014: geo365.no/oljehistorie/et-mye-omtalt-brev
Dahl C. A. Norges Sjøkartsverks historie, Grøndahl & Søns. Kristiania: Boktrykkeri, 1914.
Felt H. Soundings. The Story of the Remarkable Woman Who Mapped the Ocean Floor. New York: Picador, 2013.
Hestmark G. Kartleggerne / ed. E. -A. Drivenes, H. D. Jølle // Norsk polarhistorie ıı. Vitenskapene. Oslo: Gyldendal, 2004.
Johansen T. Seismikkbåtene som startet oljeeventyret // Årbok 2013. Stavanger: Arbeidernes Historielag i Rogaland, 2013: arbeiderhistorie.net/onewebmedia/Seismikkb%C3%A5tene%20som%20startet%20 oljeveeventyret.pdf
Kunzig R. Mapping the Deep. The Extraordinary Story of Ocean Science. New York: Norton, 2000.
Lervik A. Geologien på den norske kontinentalsokkel nord for den 62. breddegrad. Oslo: Oljedirektoratet, 1972: media.digitalarkivet.no/view/49584/250?indexing=
Meland T. Tidslinje (1962–1965): kulturminne-frigg.no
Nansen F. Fram over Polhavet. Første og anden del. Kristiania: Aschehoug, 1897.
New Seafloor Map Helps Scientists Find New Features: earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=87276&src=ve
Sellevold M. A. Vitskapelege undersøkingar på den norske kontinental-sokkel 1960–1965: Resultat og problem // Årbok 1996. Stavanger: Norsk Oljemuseum, 1996.
Siewers H. Geografi. Efter Rektor O.E.L. Dahm. Kristiania: P.T. Mallings Forlagsboghandel, 1868.
Smelror M. Banebrytende geologiske oppdagelser: geo365.no/geoforskning/banebrytende-geologiske-oppdagelser
Tharp M., Frankel H. Mappers of the Deep: How Two Geologists Plotted the Mid-Atlantic Ridge and Made a Discovery that Revolutionized the Earth Sciences // Natural History. Vol. 95. No. 10. 1986: faculty.umb.edu/ anamarija.frankic/files/ocean_sp_09/MidAtlantic%20ridge%20discovery.pdf.gz
The Norwegian North Polar Expedition 1893–1896. Scientific Results / ed. F. Nansen // Vol. IV. Christiania: Jacob Dybwad, 1904.
Wille C. F. Den norske Nordhavs-Expedition 1876–1878, ıv, 1. Historisk Beretning. Christiania: Grøndahl & Søns Bogtrykkeri, 1882.
A brief history of satellite navigation: news.stanford.edu/ pr/95/950613Arc5183.html
Andersen Ø., Brånå G., Lønnum S. E. Fotogrammetri. Bekkestua: NKI, 1990.
Baumann P. R. History of Remote Sensing, Satellite Imagery, part ıı: oneonta.edu/faculty/baumanpr/geosat2/RS%20History%20II/ RS-History-Part-2.html
Blankenburgh J. C. Geodesi med stjerner og satellitter i Norge / ed. K. Kulvik // Kartografi i 50 år. Kartografisk forening 1937–1987. Kart og Plan. Vol. 73. No. 1. 1987.
Cadbury D. Space Race. London: Fourth Estate, 2005.
Chronological History of IBM: www-03. ibm.com/ibm/history/history/decade_1950.html
Collett J. P., Røberg O. A. Norwegian Space Activities 1958–2003. Noordwijk: ESA Publications Division, 2004.
Danchik R. J. An Overview of Transit Development // Johns Hopkins APL Technical Digest. Vol. 19. No. 1. 1998.
Eisman G., Hardesty V. Epic Rivalry. The Inside Story of the Soviet and American Space Race. Washington DC: National Geographic, 2007.
Everest M. Space Race. London: BBC, 2005. Четырехсерийный фильм.
Farman J. Mapping the Digital Empire: Google Earth and the Process of Postmodern Cartography / ed. M. Dodge, R. Kitchin, C. Perkins // The Map Reader. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011.
Fløttre N. H. Satellitter og miljøovervåkning. Oslo: Universitetsforlaget, 1995.
Geller T. Imaging the World: The State of Online Mapping / ed. M. Dodge, R. Kitchin, C. Perkins // The Map Reader. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011.
Greiner L. Putting Canada on the map // The Globe and Mail. Toronto. 17.12.2007: theglobeandmail.com/technology/putting-canada-on-the-map/article1092101/
Guier W. H., Weiffenbach G. C. Genesis of Satellite Navigation // Johns Hopkins APL Technical Digest. Vol. 19. No. 1. 1998.
Hoel P. Kartografi og reproteknikk i kartverket. Utviklingen gjennom de siste 50 år / ed. K. Kulvik // Kartografi i 50 år. Kartografisk forening 1937–1987. Kart og Plan. Vol. 73. No. 1. 1987.
Hollingham R. V2: The nazi rocket that launched the space age: bbc.com/future/story/20140905-the-nazis-space-age-rocket
How Google Monopolised Online Mapping & Listings Services: i-comp.org/wp-content/ uploads/2013/07/Mapping_ and_Listing_Services.pdf
Jorda sett med nye øyne. Norsk Romsenter, 1999.
Kartografi i 50 år. Kartografisk forening 1937–1987. Kart og Plan / ed. K. Kulvik. Vol. 73. No. 1. 1987.
Meyer R. A New 50-Trillion-Pixel Image of Earth, Every Day: theatlantic.com/technology/archive/2016/03/terra-bella-planet-labs/472734/
Meyer R. Google’s Satellite Map Gets a 700-Trillion-Pixel Makeover: theatlantic.com/technology/archive/2016/06/ google-maps-gets-a-satellite-makeover-mosaic-700-trillion/488939/
Miller G. Inside the Secret World of Russia’s Cold War Mapmakers: wired. com/2015/07/secret-cold-war-maps/
Norris P. Spies in the Sky: Surveillance Satellites in War and Peace. Chichester: Springer; Praxis Publishing, 2008.
Nørbeck T. Bruk av satellittbilder i kartframstilling // Kart og Plan. No. 2. 1986.
NOU 1975:26 Om norsk kartog oppmålingsvirksomhet. Oslo: Miljøverndepartementet og Universitetsforlaget, 1975.
Østensen O. EDB – utstyr til fylkeskartkontorene // Kart og Plan. No. 4. 1981.
Reite A. Digitale fylkeskart // Kart og Plan. No. 2. 1986.
Remote Sensing: https://earthobservatory.nasa.gov/features/RemoteSensing
Richelson J. T. U.S. Satellite Imagery, 1960–1999: nsarchive.gwu.edu/ NSAEBB/NSAEBB13/
Scott S. On top of the World. London: Hodder and Stoughton, 1973.
Strela Computer: computer-museum.ru/english/strela.htm
Transit 1A NSS-DCA ID: TRAN1: nssdc.gs-fc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=TRAN1
Transit Satellites for Navigation: The Navy Navigation Satellite System. US Navy, 1967: youtube.com/ watch?v=HoTU_iKEFU8
Transit: Three Decades of Helping the World Find Its Way. JHU Applied Physics Laboratory, 1996: youtube.com/watch?v=HpYd-VPtPTBI
Warren M., Worth H. Transit to Tomorrow: Fifty Years of Space Research at The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory. Baltimore: JHU/APL, 2009.
Woodman J. Wrangling a Petabyte of Data to Better View the Earth: landsat.gsfc.nasa.gov/?p=9691
