Великие страхи прошлого бесплатное чтение
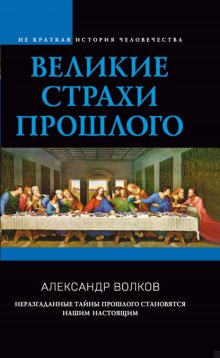

Александр Волков
Великие страхи прошлого

© Волков А. В., 2022
© ООО «Издательство „Яуза“», 2023
© ООО «Издательство „Эксмо“», 2023
1. Тайны забытых ритуалов
Кровавый навет
С тех пор как в начале IV века нашей эры христианство окончательно стало официальной религией Римской империи, прежняя неприязнь к евреям, не раз восстававшим против римского господства, облеклась наконец в религиозную оболочку. Христианство, вызревшее в недрах иудаизма, отчаянно порывало со своим прошлым, всячески понося и растаптывая ту ветхую форму, в которой ему довелось стесненно расти.
С этого момента любые проявления антисемитизма в Европе будут в течение долгого времени иметь религиозный характер. В идеале христиане хотели бы крестить всех евреев и обратить их в свою веру, но те сопротивлялись этому. Упорство, с которым иудеи отстаивали религиозную самобытность (а подспудно и религиозное первенство), лишь разжигало к ним ненависть среди христиан. Иудеи твердо соблюдали свои обычаи, отказывались креститься и не верили в то, что Христос своими страданиями на кресте спас человечество.
Все это делало их подозрительными, «греховными» в глазах христиан. Многие люди охотно верили в самые страшные небылицы, что рассказывали о евреях.
Уже Блаженный Иероним (347–420) объявил евреев «богоубийцами». В «Четырех книгах толкований на Евангелие от Матфея к Евсевию» он пишет, например, «что не только Ирод, но и священники, и книжники в то же самое время замышляли убийство Гэспода» (кн. 1). По этой причине, продолжал Иероним, «иудеи из головы обратятся к хвосту, а мы из хвоста изменимся в голову» (кн. 3), или, как сказал Спаситель, «будут первые последними, и последние первыми» (Мф. 19:30).
Другой Отец Церкви, Иоанн Златоуст (347–407), в благородном гневе, так ярко характеризующем ранних христиан, назвал синагогу «сборищем христоубийц». В своем первом «слове против иудеев» он безжалостно рек: «Так надобно судить и о синагоге. Если там не стоит идол, зато живут демоны» («Против иудеев», сл. I, 6). И как не признать, что место, «где собираются христоубийцы, где преследуют крест, где хулят Бога, не знают Отца, поносят Сына, отвергают благодать Духа, где еще находятся и самые демоны, — такое место не более ли пагубно [чем любое другое капище]» («Против иудеев», сл. I, 6)?
Это обвинение утвердилось на века, породив и другие наветы. В самом деле, где убийцы Бога, там и убийцы людей — тайные отравители, подлые губители христианских душ.
В эпоху Крестовых походов отношения между христианами и иноверцами обостряются не только на Востоке, но и на Западе. Начиная с XII века в различных европейских городах все чаще вспыхивают гонения на евреев. Их обвиняют в том, что они оскверняют гостии (облатки для причастия), совершают ритуальные убийства детей и даже замышляют массовые казни христиан — отравляют колодцы и другие источники воды.
Легенда о том, что евреи используют чистую кровь крещеных младенцев и отроков для совершения обрядов в дни своих праздников или же в медицинских целях, бытует с давних времен.
Смерть в Норвиче
Первое упоминание о кровавом навете датируется 1144 годом. В ту пору Норвич (Норидж), расположенный к северо-востоку от Лондона, был вторым по величине городом Англии. Несколько дней требовалось тогда, чтобы добраться в Норвич из английской столицы.
Там и разыгралось первое действие этой тысячелетней трагедии. В важный для всех христиан день — в Страстную (Великую) субботу — пропавший накануне мальчик по имени Уильям был найден мертвым в лесу в окрестности Норвича.
Подозрение сразу пало на местных евреев — тем более что Уильям исчез на второй день еврейского праздника Песах. Однако шериф Джон де Чезни не поверил злым языкам и взял подозреваемых под защиту. С его мнением согласились и тогдашний епископ Норвича Эборард (1070–1147), и король Стефан.
Но дело только начиналось. Около 1150 года в Норвич приехал монах-бенедиктинец Томас Монмутский. Смерть невинного отрока так потрясла вдохновенного монаха, что он принялся писать его биографию, которая с каждым годом становилась все пространнее. Когда в 1172 году Томас умер и его «труд усердный, безымянный» был завершен — «исполнен долг, завещанный от Бога» (А. С. Пушкин), рукопись его сочинения «The Life and Passion of Saint William the Martyr of Norwich» («Житие и страсти святого мученика Уильяма Норвичского») насчитывала уже 7 книг.
Краткое их содержание таково: в марте 1144 года коварные евреи за три шиллинга наняли у одной женщины ее сына — двенадцатилетнего мальчика, ученика скорняка (мастера по выделке мехов и кожи; в то время Норвич стал одним из главных в Англии центров кожевенной торговли).
Евреи обманули несчастную женщину. Забрав мальчика, они взялись его мучить, а затем распяли на кресте, как Иисуса Христа. Тело убиенного ребенка они спрятали, но преступление им скрыть не удалось. Вскоре у могилы Уильяма стали твориться чудеса. Их счет и вел автор, превознося хвалы благочестивому отроку.
Между тем спохватились власти. По их приказу в 1151 году могилу мальчика разрыли и его останки перенесли в Норвичский собор, похоронив их у центрального алтаря. С этого времени началось почитание убиенного отрока. Наплыв посетителей к гробу был так велик, что уже три года спустя останки Уильяма-мученика вновь перезахоронили — теперь в боковой часовне в северной части собора.
В ближайшие годы в лесу, на месте, где отыскали тело, также была возведена часовня. Ее так и назвали «часовней святого Уильяма-в-лесу». Она простояла несколько столетий, пока не была разрушена в годы церковной Реформации.
Со временем все больше паломников приезжали в Норвич. Это приносило немалый доход недавно сооруженному собору, строительство которого длилось полвека; оно началось в 1096 году и завершилось лишь через год после смерти Уильяма — в 1145-м.
Таким образом, в Норвиче и его окрестности сложился культ мальчика-мученика. Папа римский, правда, не стал освящать этот культ своим титулом «наместника Христа». Однако английские епископы поддержали Томаса Монмутского и тем самым узаконили обвинения евреев в том, что те совершают ритуальные убийства.
Преступление и возмездие
Суть кровавого навета выражена в следующих словах, пишут немецкие историки Штефан Рорбахер и Михаэль Шмидт на страницах книги «Еврейские образы. Культурная история антииудейских мифов и антисемитских предрассудков» (S. Rohrbacher, М. Schmidt. «Judenbilder. Kulturgeschichte antijudischer Mythen und antisemitischer Vorurteile», 1991).
«В свое время евреи покупали на Пасху крещеного ребенка и предавали его всяческим мукам, кои претерпел наш Господь. В Великую же субботу его распинали на кресте, как Господа нашего, а потом хоронили.
Они думали, что деяния их не будут обнаружены, но Господь наш открыл всем, что погибший мальчик стал святым мучеником, и монахи тогда похоронили его по всем порядкам в монастыре, и в знак благодарности Господь наш явил людям великие и многообразные чудеса, а мальчика отныне стали звать „святым Уильямом“».
Из рассказа Томаса Монмутского явствует, что евреи казнили Уильяма потому, что решили отомстить христианам за все то зло, что те причинили им, в праведном гневе наказывая евреев за муки, кои по их вине претерпел Господь. За эту подлую месть с ними впоследствии и разобрались добрые христиане.
В реальности же с евреями захотели расправиться в Норвиче совсем по другой причине — из-за денег. Уильям был найден мертвым в 1144 году. Пять лет спустя в город вернулись участники Второго крестового похода (1147–1149). Они не снискали себе на Востоке богатств и теперь испытывали нужду во всем.
Один из них, обедневший рыцарь по имени Симон де Новер, задолжавший еврейскому ростовщику Дельсо, убил своего кредитора. В 1150 году Симон предстал в Лондоне перед судом.
Чтобы оправдать Новера, его защитник, новый епископ Норвича, Уильям Тарб, обвинил евреев в том, что те несколько лет назад коварно казнили местного мальчика — Уильяма. К тому времени уже не было в живых ни шерифа, ранее взявшего под защиту евреев (он скончался в 1147 году), ни прежнего епископа. Евреи были выданы на расправу.
Как сообщает американский историк Эмили М. Роуз в книге «Убийство Уильяма Норвичского: Происхождение кровавого навета в средневековой Европе» (Е. М. Rose. «The Murder of William of Norwich: The Origins of Blood Libel in Medieval Europe», 2015; рус. изд. 2021), монах Томас Монмутский, «желая помочь следствию», назвал имя человека, который якобы похитил мальчика, а затем замучил его до смерти. По его словам, это был тот самый Дельсо, с коим достойно расправился крестоносец.
На суде вскрылись и новые «страшные подробности». Другой монах-бенедиктинец, Теобальд Кембриджский — еврей, принявший христианство, — поведал о том, что каждый год еврейские заправилы, живущие в Испании, тайно встречаются и выбирают по жребию место — страну и город, — где надлежит на этот раз похитить крещеного ребенка и принести его в жертву. Так они мстят всем христианам за свое новое пленение.
Кровь убитого ребенка разливают и развозят по всем еврейским общинам для совершения важнейших обрядов. Считается, что лишь эта ежегодная жертва позволит евреям вновь обрести свободу и вернуться на землю обетованную, отмечал английский историк Август Джессоп в предисловии к переизданию книги Томаса Монмутского, посвященной страданиям юного Уильяма (A. Jessop. «The Life And Miracles Of St William Of Norwich By Thomas Of Monmouth», 1896). Кровь невинных детей якобы угодна еврейскому Богу.
Итак, уже в этой книге впервые в средневековой Европе возникает легенда о «еврейском заговоре», пишет немецкий историк Райнер Эрб в очерке «Легенда о ритуальном убийстве: от зарождения до начала XX века» (R. Erb. «Die Ritualmordlegende: Von den Anfangen bis ins 20. Jahrhundert»', опубликован в сборнике «Ритуальное убийство: легенды в европейской истории» ⁄ «Ritualmord: Legenden in der europaischen Geschichte», 2003). Вина в этой легенде «возлагается не на отдельных людей, а на всех евреев».
Вскоре идея всемирного еврейского заговора распространилась по всей Европе. Изначально она сводилась к тому, что в канун праздника Песах, вновь и вновь пробуждающего в евреях надежду на то, что их «пленение» когда-нибудь кончится и все они встретятся в Иерусалиме, они в ритуальных целях совершают убийства христианских детей.
Но теперь настало возмездие. Суд в Норвиче постановил, что злодеи-нехристи должны быть осуждены и казнены. Никакие другие версии гибели отрока, невинного спутника Христова, уже не рассматривались, хотя с мальчиком мог расправиться преступник, он мог погибнуть по неосторожности и т. п.
Так был создан роковой прецедент, положивший начало массовым преследованиям евреев, пишет Райнер Эрб. Отныне, где бы ни погибали или ни пропадали дети, во всем винили евреев. Эта кровавая легенда будет оживать в различных районах Европы вплоть до XX века — всюду, где изумленные и растерянные люди станут находить тела убитых кем-то детей.
Отголоском ее явилось и «дело Бейлиса» в России в 1911–1913 годах. Тогда в пещере в предместье Киева был обнаружен мальчик, заколотый шилом, — двенадцатилетний Андрей Ющинский. Виновником этого убийства был назван в намеренной спешке киевский мещанин Менахем-Мендель Тевьевич Бейлис (1874–1934), оправданный на суде после двухлетнего следственного разбирательства.
Карта кровавых мальчиков
Но вернемся в Средние века. Как считалось тогда, ритуальные убийства, якобы совершаемые евреями, включали и своего рода «договор с дьяволом» (христиан обманным способом убеждали продать своего ребенка), и ритуальное пролитие крови (несчастного обрезали и закалывали), и мнимое («пародийное») распятие (у убиенного непременно имелось пять ран), и каннибальскую жертвенную трапезу (издевательски переиначенную евхаристию).
После откровений, явленных в связи с убийством Уильяма Норвичского, число обвинений евреев в ритуальных преступлениях стало быстро множиться, все сильнее возбуждая в народе ненависть к этим нехристям. Казалось бы, подобные преследования должны были в конце концов отвратить их от иудейской веры. Но этого не происходило. Они предпочитали умирать, но не предавать заветную веру предков.
В 1171 году во французском Блуа пошли разговоры о том, что евреи бросили в реку мертвого мальчика-христианина. Река, вообще-то, была опасна сама по себе, ведь в ту пору «дух воды» был едва ли не главным ненавистником детей. Любой малыш, стоило ему без присмотра свалиться в воду, мог пойти на дно, как топор.
Эмили М. Роуз пишет: «…Средневековые семьи жили в опасном мире: дети падали в колодцы, пруды и ведра, и утопление было самой распространенной разновидностью несчастных случаев, отмеченных в записях папских нотариусов» («Убийство Уильяма Норвичского…», ч. II, гл. 5).
Кроме того, тело мальчика, якобы брошенное в реку в Блуа, так и не нашли, да и в городе никто тогда не жаловался на пропажу ребенка. Тем не менее в Блуа по настоянию епископа и местного графа начался суд над евреями, обвиненными в убийстве. Им предложили креститься, чтобы искупить вину. Они отказались, и 26 мая 1171 года в Блуа были сожжены более 30 евреев. Аббат Роберт де Ториньи в своей хронике оправдал массовую расправу, описав совершенное «противниками Христа» убийство.
Свои дети-мученики появились и в других городах Англии, Франции, Испании, Германии: Гарольд в Глостере (1168), Роберт в Лондоне (1181), Ришар в Понтуазе (1182). Все они якобы подвергались пыткам и были затем распяты так же, как дети в Париже (1179) и Сарагосе (1182; 1250). Все евреи, обвиненные в этих убийствах, были казнены, отмечают Рорбахер и Шмидт.
В 1191 году в местечке Бре-сюр-Сен, в сотне километров от Парижа, королевский вассал убил еврея. Родственники жертвы отказались от денег, обещанных убийцей, и потребовали выдать им преступника. Его казнили в тот день, когда евреи праздновали Пурим, и многие восприняли эту страшную сцену как ритуальное убийство евреями христианина.
Узнав об этом, король Филипп II Август сам приехал в Бре-сюр-Сен и объявил местным евреям, что они должны креститься или же все умрут. Многие тогда покончили с собой; другие же — 80 человек — были осуждены, их сожгли на костре.
В 1235 году в немецком городе Фульда, в ночь перед Рождеством, при пожаре погибли пятеро детей. В их смерти сразу обвинили евреев: у двух мальчиков они якобы забрали всю кровь, перелив ее в специально приготовленные сосуды. Прозвучало тогда, отмечает Эмили М. Роуз, и обвинение в ритуальном каннибализме. Через несколько дней в городе начался погром. Были убиты 34 еврея.
По приказу императора Фридриха II было проведено расследование этой трагедии. Изучив священный для иудеев Талмуд, дознаватели не нашли никаких упоминаний о том, что человеческую кровь можно использовать в особых ритуалах.
Однако слухи про то, как «евреи пьют кровь христианских младенцев», продолжали расползаться повсюду. Хулителей не останавливало даже то, что светские правители и папы римские (например, Иннокентий IV) отвергали эти обвинения и даже осуждали тех, кто фанатично верил в кровавый навет.
В 1244 году в Лондоне был найден мертвый младенец. В его смерти опять же обвинили евреев, а рубцы на его теле сочли тайными еврейскими знаками. Однако в суде не удалось доказать причастность евреев к смерти ребенка; на обвиняемых лишь наложили крупный денежный штраф.
Впрочем, в другом случае английские власти не были так милосердны. В 1255 году в Линкольне, возле дома некоего еврея, нашли убитого мальчика по имени Хью. Хозяина дома пытали, он признался в убийстве и был повешен в Лондоне. Тогда король Генрих III обвинил евреев в совершении ритуальных убийств, и после показательного процесса было повешено еще 97 евреев, пишет Райнер Эрб (по другим сведениям, их было 18).
На протяжении всего Средневековья подобные процессы проводились не раз, в том числе и в тех случаях, когда находили трупы не мальчиков, а девочек: в Боппарде (1179, Германия), Шпайере (1195, Германия), Лиенце (1244, Австрия), Вальреасе (1247, Франция), Пфорцхайме (1267, Германия). Таким образом, смерть ребенка, ставшего, например, жертвой педофила, могла спровоцировать в те времена убийство многих десятков евреев.
В Германии пик гонений на евреев пришелся на 1280–1340-е годы. Чаще всего погромы происходили в крупных городах, где имелась влиятельная еврейская община. Богатых евреев изгоняли из города, или они сами вынуждены были бежать, спасая свою жизнь. Городские власти конфисковывали их имущество. Тем же, кто хотел остаться на обжитом месте, приходилось уплачивать в казну крупную сумму денег.
Под властью легенды
Рассказы о ритуальных убийствах укоренились даже в фольклоре. Около 1200 года в Англии возникла легенда о мальчике, учившемся в монастырской школе и случайно зашедшем в еврейский квартал. Он брел по улочкам и распевал гимн «Alma redemptoris mater» в честь Пресвятой Девы Марии («Любить мать нашего Спасителя»). Злобный еврей, завидев его, убил мальчишку, а хладный труп закопал в подвале дома. Но песня, начатая ребенком, все не стихала. Злодей не мог ни задушить ее, ни приглушить. Ее звуки и выдали его.
В XIV веке английский поэт Джеффри Чосер (1342/1343–1400) использовал сюжет этой легенды в «Кентерберийских рассказах», связав свою историю и со смертью Хью из Линкольна, и с Иродовым избиением еврейских младенцев, о котором рассказано в Евангелии от Матфея (2:16). Вот как говорится об этом у Чосера:
(«Рассказ аббатисы», 99–126; пер. Т. Поповой)
Подобные легенды лишь разжигали ненависть к евреям. В конце концов в 1290 году почти всех иудеев изгнали из Англии (небольшие еврейские общины сохранились в отдельных английских городах).
В начале XIV века евреев стали обвинять в ритуальных убийствах уже в Восточной Европе (Прага, 1305; Брно, 1343).
Впрочем, с приходом в Европу чумы в конце 1340-х годов о ритуальных убийствах на время забыли. Теперь причины погромов стали иными. Евреев обвиняли в том, что они «сеют заразу среди христиан и отравляют колодцы».
С изобретением книгопечатания легенда о ритуальных убийствах, совершаемых евреями, стала тиражироваться. Новые средства информации разносили древнюю ненависть повсюду. Антисемитизм сделался товаром массового потребления, стал неотъемлемой частью любого религиозного и идеологического движения, будь то Реформация или Контрреформация, эпоха Просвещения или наступившая в XIX веке эпоха партийно-политического переустройства мира на светских основаниях. Всюду во всех этих массовых движениях отчетливо проступала (а то и вовсе доминировала) антисемитская составляющая. Научное мировоззрение так же было не свободно от этого, как и религиозное.
Лишь весной 1989 года ватиканская Конгрегация богослужения и дисциплины таинств объявила: «Надлежит со всею убедительностью сказать, что евреи никогда не совершали ритуальных убийств. Любой современный христианин должен однозначно осудить подобные россказни как отвратительную и бесстыдную клевету на еврейский народ».
Увы, легенда не умерла и поныне. Например, 10 марта 2002 года влиятельная саудовская газета «А1 Riyadh» опубликовала статью об «ужасном обычае» евреев. В ней, в частности, говорилось (цитируется по очерку Райнера Эрба): «Я хотел бы рассказать вам сегодня о празднике Пурим <…> В этот праздничный день каждый еврей должен приготовить особую выпечку, чья начинка не только дорого стоит, но и так редка, что ее не найти ни на местных, ни на международных рынках. <…> Евреи обязаны разжиться к этому праздничному дню человеческой кровью, чтобы приготовить для своих священников эту выпечку. <…> Пролитие человеческой крови евреями ради приготовления праздничной выпечки — это факт, который исторически и юридически доказан на протяжении всей истории еврейского народа. Собственно говоря, это — одна из главных причин, по которой евреев во все времена преследовали и изгоняли как в Европе, так и в Азии» (R. Erb. «Die Ritualmordlegende…», 2003).
Как видите, легенда о кровавых ритуалах евреев все еще жива и сеет ненависть не в Европе, так в Азии.
Массовый психоз 1348–1349 годов
Кровавый навет — не единственное жестокое обвинение в адрес евреев. В далеком прошлом, когда в той или иной европейской стране вспыхивала эпидемия, именно их, иноверцев, называли распространителями заразы. Меры по защите от эпидемии в те времена часто сводились к преследованию евреев.
Атомы заразы
В 1347 году в Европу пришла «черная смерть» — чума. Поначалу пандемия охватила Турцию, Византию и Южную Италию. Год спустя люди стали массово умирать от чумы в Испании, Франции, Швейцарии и Южной Германии. В 1349 году «черная смерть» поразила Северную и Восточную Европу.
С античных времен в Европе не было вспышек чумы. Когда в 1348 году ее очаг обнаружился в Марселе, болезнь быстро распространилась по всему югу Франции. Ужас охватил людей и в Провансе, и в Каталонии. Вскоре жертвы неведомого недуга исчислялись тысячами.
Никто не мог понять, почему все вокруг умирают в страшных муках. Ни врачи, ни ученые мужи не могли сказать, что стало причиной всеобщего мора.
В то время медицина была бессильна против этой болезни. Казалось, всякий отмеченный ее знаком, неминуемо умрет, словно отравленный сильнейшим ядом. Смертность от чумы была так высока, что, как полагают некоторые историки, даже если бы Европу постигла ядерная катастрофа, процент выживших был бы выше, а социальные и экономические последствия не оказались бы такими тяжелыми. Общее число жертв «черной смерти» в Европе в 1347–1352 годах оценивается в 25 миллионов человек (это треть всего тогдашнего европейского населения).
Для Европы, как и для Ближнего и Среднего Востока, чума была новой, незнакомой болезнью. У людей не имелось против нее иммунитета. Чума распространялась очень быстро, поскольку вероятность заразиться ею была крайне высока. Как же было справиться с пандемией?
Лучшие средневековые врачи в своей практике опирались на достижения античной медицины. В случае с чумой это было ошибкой, ведь, по мнению греческих мудрецов, любая эпидемия возникает потому, что при определенных условиях в окружающей среде распространяются, миазмы (греч. р[аора — «нечистоты»). Эти вредные вещества отравляют воздух и воду. Люди вдыхают их или заражаются ими, когда пьют воду из источников. Образуются миазмы в жаркое время года — под действием солнечных лучей тогда испаряется вода в болотах, разлагается падаль, портятся и гниют остатки еды. В этой падали и гнили, среди стоячих болотных вод плодится зараза. Отсюда она перекидывается на людей.
Основателем учения о миазмах слыл знаменитый древнегреческий врач Гиппократ (460–370 гг. до н. э.). Это учение считалось непогрешимым вплоть до тех пор, пока биологи не открыли рядом с нами целый мир невидимых невооруженным взглядом вирусов и бактерий. Античные и средневековые врачи были уверены в том, что страшные эпидемии распространяются по воздуху при помощи миазмов. Зловонные запахи, принесенные порывами ветра, могут так же легко лишить нас жизни, как и языки пламени, ветром же раздуваемого. Невидимый яд болезни столь же опасен, как зримое жало огня.
Сами «атомы заразы», ее мельчайшие элементы, античным врачам не удалось выделить. Однако с тех пор, как возникла эта теория, медики были убеждены в том, что она верна. Итак, заражение чумой, если довериться этому античному учению, было сродни массовому отравлению. Только яд в этом случае попадал в организм жертвы не с пищей, а с воздухом или водой — он был распылен в воздухе или растворен в колодце, откуда берут воду для питья. Потому лучшим способом спастись от болезни — от ядовитого мора — было бы бежать из страны. Подобный поступок — не постыдный порок паники, он вполне разумен, он порожден научным императивом.
Страх перед миазмами подчас побуждал власти объявлять карантин в случае прихода эпидемии. Впрочем, подобная мера, пусть и принятая по ошибочным соображениям, все-таки помешала тому, чтобы та же чума выкосила все население Европы. Иногда и мифический домысел бывает так же спасителен, как правда.
Учение о миазмах было общепризнанной тогдашней истиной, а вот среди простого люда было популярно суеверие особого рода. Считалось, что некоторые болезни — допустим, та же чума — каким-то образом передаются от человека к человеку. Многие боялись зачумленных больных как огня; старались не приближаться к ним. Механизм передачи недуга, правда, никто не мог объяснить. Говорили о некоем «клейком яде», что источали тела несчастных. Этот яд пропитывал одежду больных, предметы, до которых они дотрагивались. Яд попадал в окружающую среду вместе с естественными выделениями организма. Его пытались нейтрализовать уксусом и ароматическими веществами.
Распространилось и другое суеверие. После того как были опробованы все известные методы и средства — карантин, изгнание больных, лечение снадобьями, даже переселение людей из районов, которым грозит бедствие, — и это не принесло никакого спасения, стали подозревать неладное. Возможно, кто-то нарочно насылает на людей эту болезнь, специально заражает их чумой, тайно отравляет источники воды, например колодцы? Кто это может быть?
Нашлось лишь одно «разумное» объяснение. Раз от чумы массово гибнут христиане, значит, виной всему иноверцы, живущие среди них. Имя этим нелюдям — евреи. Их издавна считали способными на любые преступления против человечества. Они тайно травят весь христианский люд, чтобы вольготно жить по своей вере.
Всюду разлетелся слух о том, что евреи чем-то отравляют колодцы и другие источники. Любой человек, испивший оттуда воды, неминуемо заболевает. Большинство простых людей действительно поверили в эту «теорию заговора».
Чужой — это враг
К середине XIV века евреи жили в большинстве немецких княжеств и во всех имперских городах. Жили с согласия властей и находились под их защитой, что гарантировало им определенные права и свободы, пусть они и были отделены от христиан, селились в особых кварталах — гетто — и не имели права заниматься некоторыми видами деятельности. В 1236 году император Фридрих II даже взял евреев под свою личную защиту, объявив их «камеркнехтами», то есть слугами императорской казны.
Подобная забота о евреях объяснялась, впрочем, корыстными интересами властей. Евреев обязывали уплачивать грабительский налог — буквально выжимали у них деньги.
В первой половине XIV века, например, сумма налога, уплачиваемая евреями в Ротенбурге-об-дер-Таубере, была в восемь раз выше той, что платили христиане. Во многих местах с евреев дополнительно требовали деньги на «защиту города» или «нужды городских властей», хотя их самих не привлекали к управлению городом и не давали им в руки оружие, когда городу угрожала опасность.
Находясь в стесненном положении, евреи соглашались со всем, что от них требовали, и смиренно платили нужную сумму. Однако когда пришла чума, быстро выяснилось, что вся их свобода и безопасность, которую они так долго оплачивали, не стоит ровным счетом ничего.
Чума породила панику, а та — массовый психоз. Первые обвинения в адрес евреев зазвучали в 1348 году, когда чума распространилась на севере Испании и в Провансе. Обвинения казались разумными. Чтобы победить чуму, надо было избавиться от евреев — изгнать или убить их.
Там же вспыхнули и первые еврейские погромы. Вскоре убийства евреев начались в Италии и Швейцарии. Нападениям предшествовали слухи о том, что «евреи-то совсем не болеют чумой». В них сразу увидели убийц.
В этих слухах была доля правды. Похоже, что евреи тогда вели себя осторожнее большинства христиан. Они догадывались, что чумой можно заразиться от другого, больного человека и избегали нежелательных контактов с людьми. «Чужой — это враг», «Враг — это ты» — отныне они стали жить по этому мрачному закону.
Их же, хитроумных чужаков, и обвинили во всеобщих бедах. Под пытками они признавались, что подбрасывали отраву в колодцы. Сыпали туда красные, зеленые и черные порошки, принуждаемые к тому раввинами. Под пытками же уверяли, что все евреи начиная с семи лет были посвящены в эту тайну и причастны к отравлению колодцев. Признаний было достаточно для скорого суда.
(Отметим в скобках, что в этой догадке у обвинителей была своя логика. С античных времен в практику военных действий входило уничтожение колодцев. Для этого, например, туда кидали трупы животных, чтобы извести врагов трупным ядом. Вот и в разгар эпидемии напрашивался схожий вывод: люди болеют и умирают потому, что кто-то отравляет колодцы.)
Тем временем появились вещественные доказательства. Среди евреев было много врачей. При обыске в их домах, среди запасов снадобий, легко находились странные порошки — предполагаемые яды.
Всех подозрительных евреев начали бросать в тюрьмы и пытать. Они признавались в страшных преступлениях, ими совершенных или готовящихся. Следовали новые аресты. С изобличенными же евреями расправлялись и извещали об этом власти соседних городков.
Уже тогда во многих городах Европы имелись еврейские общины. Им и пришлось испытать на себе убийственные нападки толпы. Словно некий неумолимый план был приведен в действие. У евреев оставалась одна надежда на спасение — предать веру отцов и креститься. Но немногие соглашались на это.
В ряде случаев, стремясь упредить расправу, евреи кончали с собой. Еврейский историк и философ Яков бен Ханан, автор книги «Евреи и немцы: долгий путь в Освенцим», охарактеризовал эти самоубийства, о которых сообщали хронисты, как акт отчаяния и своего рода религиозное мученичество: «Еврейская религия запрещает самоубийство, дозволяя его лишь тем, кто в противном случае, сохранив себе жизнь, будет вынужден отречься от Бога. А вынужденное крещение было для тех евреев отвержением Бога, самоубийство же означало в подобной ситуации прославление Бога» (Y. Ben-Chanan. «Juden und Deutsche: Der lange Weg nach Auschwitz», 1993).
В результате этих гонений были убиты сотни тысяч евреев (согласно «Judisches Lexikon», Bd. 2, 1987). В одной только Германии погибли примерно две трети всех евреев, проживавших в стране. Около 350 еврейских общин за время эпидемии были полностью уничтожены — не чумой, а людьми (статистика заметно разнится. — А. В.). Большая часть из этих общин располагалась на территории Священной Римской империи, а также на юге Франции.
Как отмечает немецкий историк Кристиан Шолль, автор очерка «Преследования евреев во время „черной смерти“ на примере верхненемецких имперских городов Ульма, Аугсбурга и Страсбурга», еврейские погромы во время эпидемии 1348–1352 годов были «самыми страшными в Европе вплоть до Холокоста» (С. Scholl. «Die Judenverfolgungen zur Zeit des Schwarzen Todes am Be I spiel der oberdeutschen Reichsstadte Ulm, Augsburg und StraBburg», 2019).
Лишь события Второй мировой войны вытеснили в коллективном сознании евреев память о тех страшных средневековых погромах.
Пляска смерти
В Центральной Европе первые признания от евреев были получены в сентябре — октябре 1348 года.
15 сентября 1348 года по приказу герцога Савойского допросили первых евреев на предмет отравления ими колодцев. Под пытками французский врач Бавиньи сознался в этом преступлении.
Таких же разоблачений добились бальи Лозанны (фактически бальи выполнял обязанности главы судебного округа. — А. В.) и кастелян Шильонского замка, лежавшего на берегу Женевского озера. По их приказам начали задерживать евреев и подвергать их пыткам, стремясь дознаться, кто отравляет колодцы.
Наконец некий врач признался, что среди евреев составился грандиозный заговор. Они задумали извести всех христиан и уничтожить христианскую веру. Один испанский еврей, столковавшись с французским раввином, приготовил с ним вместе загадочный яд. Его дозы были разосланы по всем еврейским общинам, чтобы повсюду, вблизи от еврейских кварталов, этот яд подсыпали в те колодцы и источники, из которых забирают воду христиане. По словам допрашиваемого, этот яд якобы и сегодня можно легко найти, если зайти к любому врачу-еврею и порыться среди его припасов («Encyclopedia Judaica», Bd. 4, 1971).
15 ноября 1348 года бальи сообщил о коварном замысле властям ближайших городов — Берна, Фрайбурга и Страсбурга («Germania Judaica», Bd. 2/1). Тотчас же дознаватели взялись за работу во всех окрестных землях. Вскоре из разных городков в Швейцарии и на юге Германии стали сообщать об их успехах.
Так известие о «коварном заговоре» евреев стало распространяться с тою же скоростью, что и чума.
Во время обысков в местечке Цофинген (ныне — Швейцария) яд нашли в доме еврея Трестли. Под пытками еще четверо евреев признались в том, что давали яд собакам, свиньям и курам, пишет Клаус Плаар в «Исследованиях по истории евреев Цофингена» (К. Plaar. «Studien zur Geschichte der Juden in Zofingen», 1993).
Уже в ноябре запылали костры в Берне и Штутгарте. Произошли погромы в Алльгое, Аугсбурге, Нердлингене, Линдау, Эслингене-ам-Неккаре и Хорбе-ам-Неккаре.
В некоторых городах, например в Золотурне (сегодня это Швейцария), сперва щадили крещеных евреев, но затем, поскольку эпидемия после расправы над остальными евреями так и не стихла, решили сжечь и их («Germania Judaica», Bd. 2/2).
В немецком городе Фрайбурге один из евреев под пытками сказал, что имел при себе яд. Яд же сильнейший, рек он, мучимый, был привезен из-за моря, из Иерусалима-города, и убивает он только христиан, не причиняя вреда евреям. Слишком долго христиане властвовали над миром, а теперь пришло время евреям стать господами («Germania Judaica», Bd. 2/1).
Другой врач поведал, что разослал яд во все еврейские общины, чтобы всюду травить добрых христиан («Germania Judaica», Bd. 2/1).
В актовой книге Фрайбурга сохранилась запись от 23 января 1349 года: «…Все евреи, кто был во Фрайбурге в городе, сожжены».
Иначе поступили власти Базеля. Они поначалу не поверили слухам, доходившим из Берна и Цофингена. Сами провели следствие и убедились, что евреи ни в чем не виноваты. Пришлось изгнать из города нескольких рыцарей, учинивших самосуд. Однако это «соломоново решение» не успокоило горожан. Начались беспорядки, цехи ремесленников Базеля взбунтовались, и тогда власти отменили свой приговор.
На песчаной отмели у берега Рейна был построен огромный деревянный сарай. Туда в середине января 1349 года загнали шесть сотен евреев и сожгли. Позднее в Базеле взялись за крещеных евреев. Под пытками те признавались, что отравляли не только воду в колодцах, но также масло и вино. Всех их либо колесовали, либо сожгли. Сто тридцать осиротевших еврейских детей насильно крестили («Germania Judaica», Bd. 2/1).
В Страсбурге на все происходившее тоже сперва реагировали сдержанно, даже затребовали образец яда из Цофингена, сообщает Клаус Плаар. Однако тамошние власти отказались это сделать и предложили ознакомиться с ядом прямо у них на месте.
Тогда в Страсбурге задержали группу евреев и заставили их выпить воды из источника, который был, как считалось, евреями же и отравлен. Однако три недели испытаний не подтвердили мрачную догадку. Все испытуемые оставались живы. Тем не менее недоверие к евреям не уменьшилось. Власти города распорядились взять под охрану все источники и колодцы, раз они не были отравлены. Вот только эту меру восприняли как веское доказательство вины евреев, ведь охрану выставили явно для того, чтобы они не отравили воду. Значит, евреи не оставляют попыток подсыпать туда яда? Логично? («Germania Judaica», Bd. 2/2).
Тем временем власти Кёльна обратились с письмом к коллегам из Страсбурга, призывая их не допускать расправы с евреями, раз те невиновны, — иначе в городе может вспыхнуть бунт, если позволить простолюдинам убивать всех, кто им не мил. Рано или поздно чернь истребит тогда и всех уважаемых горожан. Вслед за домами евреев разгромит и их дома («Germania Judaica», Bd. 2/2).
Однако предостережения были напрасны. Все кончилось плохо и для Кёльна, и для Страсбурга. Беспорядки вспыхнули в обоих городах. В Страсбурге вооруженные ремесленники заставили уйти в отставку членов городского совета. Люди, пришедшие им на смену, распорядились 13 февраля 1349 года сжечь всех евреев, кто не пожелает креститься.
Несколько дней спустя, в субботу, обвиняемых (около 1800 человек) привели на еврейское кладбище, раздели, обыскали их одежду в поисках денег, а затем всех их сожгли на огромном костре. Синагога была отдана под госпиталь («Germania Judaica», Bd. 2/2).
Страсбургский хронист написал по поводу тех событий: перед казнью евреям вернули все их закладные, а их деньги взяли себе городские власти и распределили их среди ремесленников. «Daz was ouch die vergift, die die Juden dote», «Это была именно та отрава, что погубила жидов» (цит. по книге S. Rohrbacher, М. Schmidt. «Judenbilder. Kulturgeschichte antijudischer Mythen und antisemitischer Vorurteile», 1991).
В Кёльне городские власти вплоть до лета 1349 года пресекали все попытки расправиться с евреями. Узнав об этом, многие евреи из других городов устремились в Кёльн, на спасительный островок, еще не захлестнутый волнами ненависти. Однако и здесь росло ожесточение среди горожан. В ночь на 24 августа 1349 года начался еврейский погром. Беспорядки продолжались несколько недель. Квартал, где жили евреи, выгорел, синагога была снесена, а земля под ней перерыта, поскольку распространились слухи о спрятанных там сокровищах («Germania Judaica», Bd. 2/1).
Разгромлены были общины и в других крупных городах Германии — в Вормсе, Шпайере, Майнце, Кобленце, Франкфурте, Нюрнберге. Их синагоги где-то уничтожали, где-то, как в Юбер-лингене, переоборудовали в христианские церкви и часовни: из надгробий разрушенного еврейского кладбища стали возводить дома в Мюнстере. В Нюрнберге, где в 1349 году сожгли всю еврейскую общину (560 человек), на месте синагоги возвели церковь в честь Девы Марии — Фрауэнкирхе.
Если христиане пытались защитить евреев, убивали и их, считая пособниками «дьявольского заговора». В Эвиане, на южном берегу Женевского озера, таких строптивцев четвертовали. В Аугсте, под Базелем, с них сдирали кожу. Но обычно расправлялись только с евреями, поскольку те не находили поддержку ни в ком.
В Майнце евреи, вооружившись, пытались дать отпор, но перевес был на стороне толпы («Germania Judaica», Bd. 2/2). Случаи вооруженного сопротивления евреев были отмечены и в некоторых других городах — в Кёльне, Франкфурте, Магдебурге, Эрфурте, где имелась огромная еврейская община.
Почти всегда погромщики стремились истребить всю еврейскую общину. По словам Кристиана Шолля, погромы чаще всего совершали в Шаббат — праздничный день для евреев. Врывались в их квартал в пятницу вечером или в субботу. Возможно, это объяснялось тем, что по праздникам евреи воздерживались от всех дел и находились обычно дома, а значит, тогда можно было расправиться со всеми евреями разом (С. Scholl. «Die Judenverfolgungen…», 2019).
Случалось и так, что погромщики дожидались, пока евреи соберутся на молитву в синагоге, а затем, подперев двери снаружи так, чтобы их нельзя было уже открыть, поджигали храм.
Долина плача
Еврейские погромы в ту страшную пору совершались не только в Германии, но и в Лотарингии, Нидерландах, Польше. Лишь в отдельных районах Центральной Европы евреи были избавлены от преследований, от этого страшного психоза, охватившего целые страны.
Историк XVI века Иосиф га-Коген писал в книге «Етек habacha» («Долина плача», 1575): «По прошествии года большинство евреев Гэрмании испили из кубка невзгод. с… > Лишь тем, кто жил в Вене и в городах герцога Австрийского, не довелось внять гласу гонителей, поелику Бог смилостивился к ним и внушил князю, что не дозволено творить зло. Многие евреи бежали туда и оставались там до тех пор, пока буря не миновала и Гэсподь не спас их».
Еще одним островком мира и покоя среди этой пучины ненависти стала Богемия («Germania Judaica», Bd. 2/1). Были подобные убежища и в Германии. Например, герцог Гельдерна укрыл евреев в своем замке и спас их от расправы («Germania Judaica», Bd. 2/1). Евреев пощадили и в Госларе.
Еще показательнее события, происходившие в Регенсбурге. Когда разъяренная толпа пошла на штурм еврейского квартала, на защиту несчастных вышли сам бургомистр, его помощники, а также многие горожане (всего — 254 человека). Вооружившись, они дали отпор черни, охочей до убийств («Germania Judaica», Bd. 2/2).
В некоторых городах зачинщики расправ с евреями были даже наказаны. Так, в Аугсбурге одним из убийц отрубили руки, других изгнали из города («Germania Judaica», Bd. 2/1). Но подобные случаи были все-таки исключением. Большинство людей, устраивавших самосуд, не понесли никакого наказания.
Всего, по оценке историков, бедствие не коснулось евреев в 48 немецких городах — всякий раз потому, что бургомистр, либо епископ, либо группа влиятельных горожан брали их под свою защиту и усмиряли чернь, угрожая ей суровым наказанием.
Разумеется, везде, где евреи выжили, их обязали жить в гетто. Стены отгородили их кварталы от остальных горожан — от правоверных католиков. Но в последующие полтораста лет многие евреи были прогнаны и из этих убежищ, как затравленные зверьки — из нор.
После этой пандемии еще на протяжении многих лет всякий раз, когда в немецких городах вспыхивала эпидемия, винили во всем евреев, якобы взявшихся отравлять христиан. Так было в 1382 году в Галле, в 1397 году в городах Эльзаса и в баварском Тюркхайме, в 1401 году в районе Боденского озера, где «яд был разлит в воздухе», в 1448,1453 и 1543 годах в Швейднице ⁄ Свиднице (Силезия), в 1472 году в Регенсбурге, в 1541 году в Бриге ⁄ Бжеге (Силезия), в 1665 и 1669 годах в Кёльне, а также в Бонне и его окрестности, в 1679 году в Вене, где эпидемия чумы вспыхнула в еврейском квартале.
Еще в 1543 году великий реформатор церкви Мартин Лютер в своем сочинении «Евреи и их ложные выдумки» писал: «Столь отчаянные, злом проникнутые, ядом пропитанные, дьяволом пробранные, эти евреи, что четырнадцать веков были нашим бедствием, чумой и всеми нашими несчастьями и таковыми остаются. Все так, и в них нам явлен подлинный дьявол. <…> Там нет человеческого сердца».
Впрочем, давно уже с наступлением бедствий евреев обвиняли лишь по привычке, из слепой веры в их козни, хотя во многих землях Германии их было днем с огнем не сыскать. К тому времени евреи ведь были изгнаны из многих немецких городов, но чума все так же обрушивалась на эти города, собирая свои жертвы, и, значит, дело было не в еврейском коварстве, а в чем-то другом, — может быть, в собственных грехах.
Изгоняли же евреев методично и обстоятельно, с соблюдением всех правовых норм. После эпидемии «черной смерти» во многих городах были приняты законы, запрещавшие евреям там селиться. Например, в Страсбурге им не позволено было жить сто лет, в Базеле — даже 200, сообщает немецкий историк Хайко Хауманн в книге «Евреи в Базеле и окрестности. К истории одного меньшинства» (H. Haumann. «Juden in Basel und Umgebung, Zur Geschichte einer Minderheit», 1999). Впрочем, уже в 1362 году в Базеле вновь появились евреи, отмечает Хауманн. Еще спустя семь лет начала восстанавливаться и еврейская община в Страсбурге («Germania Judaica», Bd. 2/2). В 1370–1380-х годах евреи, изгнанные теперь уже из Франции, вновь расселяются в некоторых немецких городах, хотя в Штутгарт, например, они вернулись лишь в XV веке.
Тайные мотивы гонений
Эпоха «черной смерти» стала временем самых массовых еврейских погромов за всю историю Средневековья. Но только ли пандемия стала причиной этого?
Для многих средневековых людей чума была карой Господней. Когда-то, как говорит Библия, Бог наказал людей за их грехи Потопом, теперь — болезнью. Человечество бедствует потому, что греховно.
Однако вместо того, чтобы покаяться в грехах своих, христиане принялись истреблять иноверцев. Они пытали и убивали евреев, грабили их дома, сжигали синагоги, разрушали кладбища, отнимали детей у родителей и насильственно их крестили.
Логика была такова. Для правоверных христиан было в порядке вещей думать, что дьявол, борясь с ними, прибегает к помощи многочисленных пособников. Вот и евреи были призваны на тайную войну против Христа. Они ведь виновны в самом страшном грехе, они распяли Сына Божьего, и если наказать их, то Бог смилостивится и перестанет насылать на людей чуму.
Спасаясь от гонений, евреи из Ульма даже решили изготовить грамоту, в которой говорилось, что они прибыли в Германию еще до распятия Христа, а потому не повинны в его смерти («Germania Judaica», Bd. 2/2).
Справедливости ради, надо сказать, что руководители церкви ни в чем не обвиняли евреев. Так, папа римский Климент VI, пребывавший тогда в Авиньоне, пытался образумить свою паству, убеждал людей прекратить расправы над евреями, пощадить их.
Первого октября 1348 года он обнародовал буллу, в которой решительно отвергал все обвинения в том, что евреи отравляют колодцы. В этой булле и в других обращениях к христианам он объяснял, что евреи ни в чем не виновны, что они также умирают от чумы и что есть целые области и страны, также страдающие от чумы, хотя там и нет евреев.
Но к его голосу и рациональным доводам тогда почти не прислушивались, подчеркивает Кристиан Шолль, «несмотря на то, что Климент VI был главой всех христиан, а религия являлась главенствующим фактором в Средневековье» (С. Scholl. «Die Judenverfolgungen…», 2019). Жажда чужой крови отнимала у людских толп последние крохи коллективного разума.
Как отмечают историки, еврейские погромы в годину «черной смерти» являлись формой «социальной революции». Евреев считали виновными прежде всего простолюдины: горожане, крестьяне, ремесленники. Толпа, громившая еврейские кварталы, состояла в основном из городских низов — людей грубых, невежественных, завистливых.
Эти нищие, исстрадавшиеся люди в глубине души были так обозлены действиями богатеев и властей, что готовы были все крушить и уничтожать. Однако связываться с властями опасно в любые времена, евреи же казались беззащитными. Гнев народный расчетливо обратился против них.
Убитые евреи были жертвами «не только народной ярости, но и зависти», как заметил немецкий богослов XIX века Адольф Левин, автор книги «Еврейство и неевреи» (A. Lewin. «Das Judenthum und die Nichtjuden», 1891).
Евреи ведь были виновны не только потому, что распяли Христа, но и потому, что многие из них занимались не угодным Богу делом — были ростовщиками, обирали добрых христиан. Считалось, что евреи сказочно богаты, и это возбуждало к ним особую ненависть. Погромы, учиненные в 1348–1349 годах, стали для многих горожан самым легким средством обогащения.
Разумеется, многие представители тогдашней элиты, отмечает Кристиан Шолль, например, выходцы из знатных родов, священники, бургомистры, городские власти, были уверены в невиновности евреев и в том, что никто не отравляет колодцы. Однако у них часто был свой корыстный интерес в том, чтобы истребить евреев. Кто-то брал деньги в долг у еврейских ростовщиков и не хотел отдавать их. Кто-то зарился на их дома и другую недвижимость. Теперь многие должники, пользуясь случаем, с радостью убивали своих кредиторов-евреев и так избавлялись от долгов. Их жадность стоила жизни слишком многим евреям (С. Scholl. «Die Judenverfolgungen…», 2019).
Тот же Иосиф га-Коген, обозревая историю еврейских преследований, писал, что именно грабежи «были причиной тех постыдных деяний и обвинений» («Долина плача»). Признавали это и некоторые хронисты. Например, сообщая об убийстве евреев в Ульме в 1349 году, хронист заметил, что делалось все «ради богатства их» (цитируется по книге немецкого историка Пауля Зауэра «Еврейские общины в Вюртемберге и Гогенцоллерне» ⁄ Р. Sauer. «Die judischen Gemeinden in Wurttemberg und Hohenzollern», 1966).
Король Германии и будущий император Священной Римской империи Карл IV даже пообещал властям Франкфурта все еврейское имущество, если все евреи вдруг так или иначе умрут, что было равносильно заказу на их убийство. Месяц спустя все евреи в городе были убиты. Подобная сделка уже не имела ничего общего ни с чумой, ни с отравлением колодцев.
Известно, что дома изгнанных или казненных евреев распродавались зажиточным горожанам по бросовой цене. Даже первый бургомистр Цюриха Рудольф Брун приобрел себе еврейский дом, отмечает швейцарский историк Флоренс Гуггенхейм-Грюн-берг в книге «Еврейские судьбы и „еврейская школа“ в средневековом Цюрихе» (F. Guggenheim-Grunberg. «Judenschicksale und „Judenschuol“ im mittelalterlichen Zurich», 1967).
Но и здесь городская беднота довольствовалась малым: уносила к себе то, что можно было унести, и рылась в ворохе брошенной одежды в поисках припрятанных там монет.
Опасные слухи живучи
На протяжении многих веков евреи, жившие среди христиан едва ли не на положении касты неприкасаемых, были объектами всеобщей зависти и ненависти. Когда же повсюду стали умирать от чумы, ненависть удесятерилась. Евреев обвинили в том, что они отравляют источники и колодцы, заражая чумой весь честной народ. Эта мрачная догадка перекликалась с высказываниями ученых мужей и врачей, говоривших, что чума происходит «от отравления воздуха и воды вредными веществами».
Преступниками, конечно, были враги рода христианского, евреи, — тем более что среди них имелось много людей, искушенных в медицине. Кто, как не они, могли приготовить смертельный яд и распылить его так, чтобы умерло как можно больше людей? В принципе, кое-что в этих рассуждениях в чем-то и было верно, но составленные вместе эти доводы рождали безумную ложь — теорию заговора, погубившую множество людей.
Во все времена эпидемии обрастали опасными слухами. Наэлектризованная ими толпа в любой момент готова была взорваться, неистово поражая своих жертв.
В XIV веке виновниками массовой смерти считали евреев, отравлявших колодцы. А например, в XVII веке в Италии во всем винили прирожденных преступников — untori, «втирающих чуму». Считалось, что эти негодяи, ненависти ради, по ночам выбираются на улицы города и размазывают по стенам чумной гной и сукровицу, взятые у людей, заболевших чумой или умерших от нее. Утром горожане будут ходить мимо этих стен, вдыхая смертельный яд. Пройдет еще три столетия, и в сталинском СССР заговорят о «врачах-отравителях», «убийцах в белых халатах». У страха глаза велики и придирчивы.
Хрустальные черепа индейцев
В 2008 году на экраны вышел фильм Стивена Спилберга «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Это была заключительная часть тетралогии, рассказывающей о «профессоре Джонсе» — археологе, который пускается в самые невероятные путешествия по экзотическим странам.
В погоню за киноатрибутом
В фильме «предпенсионер» Джонс пытается разгадать тайну хрустального черепа, найденного в тропических лесах Латинской Америки, и делает все, чтобы помешать «Советам» заполучить его, ведь этот жуткий предмет из далекого прошлого дает человеку власть над космическими энергиями. Если собрать вместе тринадцать таких черепов, то мир и благоденствие снизойдут тогда на планету и нам откроются таинственные знания.
В интернете можно встретить удивительные истории, связанные с этими черепами. Они наделены демоническими силами… Они исцеляют от многих болезней… Они внушают человеку определенные звуки или запахи… Их принесли на землю инопланетяне, чтобы общаться со своей родиной… Их возраст — 100 тысяч лет… Эти черепа — святыни, хранившиеся в Атлантиде…
Любители эзотерики утверждают, что черепа были чем-то вроде записывающих устройств — они и поныне хранят память обо всем, что происходило рядом с ними. Эти записи якобы можно расшифровать, определенным образом осветив хрустальный череп. Но подобные предметы не только фиксировали происходящее — они влияли на будущее: приносили удачу их обладателям, строили их судьбу.
Создать эти доисторические «приборы» было очень-очень непросто. По оценке канадского эзотерика Фрэнка Дорланда, чтобы изготовить хрустальный череп из Лубаантуна (речь о нем пойдет ниже), «требовалось семь миллионов человеко-часов». Иными словами, как отмечается в книге немецкого писателя Вальтера-Йорга Лангбайна «Нерешенные загадки нашего мира», «если рабочие будут трудиться, сменяя друг друга, ежедневно 24 часа подряд, то изготовят подобный череп как минимум за 800 лет» (W.-J. Langbein. «Ungelbste Ratsel unserer Welt», 1997).
По мнению уфологов, даже майя, строители гигантских пирамид, не способны были на такое — лишь инопланетяне. На этой фантазии основан сюжет фильма Спилберга. Хрустальный череп должен помочь его обладателю проникнуть в мир инопланетного разума.
По следам музейных реликвий
Однако подобный череп — вовсе не выдумка режиссера. Ученым, исследующим Древнюю Америку, известна дюжина черепов из горного хрусталя. Все они в незапамятные времена якобы были изготовлены индейцами (или их Великими Покровителями). Некоторые на протяжении многих лет находились в музейных экспозициях. Их считали ритуальными предметами, которые использовались индейцами при проведении празднеств.
Такой череп имеется даже в коллекции Британского музея. Когда-то им владел французский антиквар Эжен Бобан (1834–1908), чья репутация была иссечена скандалами так же пестро, как в старину лицо дуэлянта — шрамами. Несмотря на это, он сумел получить должность официального археолога при правительстве Мексики. Исполняя свои обязанности, он тем не менее продолжал совершать сомнительные сделки.
Например, в 1886 году за 950 долларов продал хрустальный череп величиной с человеческую голову ювелирной компании «Tiffany & Co». Через десять с небольшим лет именно этот раритет попал в Британский музей. В ту пору он и впрямь казался образчиком искусства древних майя, хотя начиная с 1930-х годов ученые не раз сомневались в его подлинности.
Смитсоновский институт в Вашингтоне обзавелся своим хрустальным черепом в 1992 году. Загадочную посылку, полученную руководством института, сопровождало анонимное письмо: «Этот ацтекский череп, по слухам, украшавший коллекцию Порфирио Диаса (президент Мексики в 1876, 1877–1880 и 1884–1911 годах. —А. В.), был приобретен в 1960 году в Мексике… Я передаю его Смитсоновскому институту, не ожидая за это никакого вознаграждения». Подарок оказался весомым. Череп достигал в высоту четверти метра и весил 14 килограммов.
Под электронным микроскопом
Десятилетиями хрустальные черепа хранились в лучших музеях мира или частных коллекциях, и лишь недавно было доказано, что это — не наследие далекого прошлого, а искусные подделки, сработанные авантюристами в конце XIX — начале XX века.
В 2000-х годах сотрудницы Британского и Смитсоновского музеев Маргарет Сакс и Джейн Уолш детально исследовали имевшиеся в их коллекциях «хрустальные черепа древних индейцев» (M. Sax, J. Walsh et al. «Journal of Archaeological Science», 2008, № 10).
С помощью электронного микроскопа они заметили схожие следы обработки изделий каким-то вращающимся инструментом — чем-то вроде шлифовального круга. Очевидно, оба черепа были изготовлены с применением одних и тех же абразивных материалов. Подобной технологии не знали ни майя, ни ацтеки.
С британским черепом вышла еще одна неувязка. Горный хрусталь, из которого он сделан, добыли либо в Бразилии, либо на Мадагаскаре. Но даже из Бразилии ацтеки вряд ли могли заполучить его. Они не поддерживали торговых отношений с этим регионом Америки.
Итак, вероятнее всего, хрустальные черепа были изготовлены по заказу каких-нибудь мошенников из Европы, стилизовавших свои подделки под творения древних мастеров.
К такому же выводу пришли и сотрудники Центра исследований и реставрации музеев Франции. Они изучили череп высотой 11 сантиметров, хранившийся в Парижском этнографическом музее на набережной Бранли, где представлены традиционные образцы искусства стран третьего мира. Здесь также выявлены следы механической обработки и последующего шлифования. Кроме того, удалось датировать капельки воды, находившиеся в горном хрустале. Они, как и сам череп, которым, кстати, тоже когда-то владел Бобан, — девятнадцатого века.
В кругах антикваров
Все эти хрустальные черепа, внезапно появившиеся в коллекции Эжена Бобана, идеально соответствовали тогдашним представлениям о древних индейцах, а потому хорошо продавались.
Например, черепа в культуре ацтеков служили ритуальными украшениями, их выставляли в храмах. Часто использовались орнаменты из черепов. И ацтеки, и майя вырезали человеческие черепа из базальта и раскрашивали их в яркие цвета. Но ведь сделанные из горного хрусталя, они выглядят еще эффектнее. Они напоминают об ужасных обрядах индейцев и при этом отлично смотрятся в витринах музеев и на полках художественных салонов. Любой коллекционер не постесняется украсить особняк этакой «безделицей доколумбовых времен», жуткой и одновременно красивой. Бобан знал свою клиентуру и умел ей потрафить. Возможно, он организовал и подделку черепов, и их доставку антикварам из Мексики.
Лишь со временем у ученых стали закрадываться сомнения в подлинности этих артефактов. Они убедились, например, что все известные нам рисунки и статуэтки майя, изображающие человеческий череп, выполнены в совершенно ином стиле и мало напоминают памятные хрустальные черепа. Кроме того, при раскопках городов и поселений майя никто больше не находит подобных вещиц.
Как едко замечает немецкий тележурнал «Welt der Wunder» («Мир чудес»), до сих пор «ни одна научная археологическая экспедиция не обнаруживала ничего такого во время раскопок». Зато всякий раз «какой-нибудь хрустальный череп таинственным образом возникал в кругах антикваров».
Среди руин Лубаантуна
Имелось, правда, одно исключение — случилось оно почти через два десятка лет после смерти Бобана. Именно тогда был «найден», пожалуй, самый красивый хрустальный череп.
Английский исследователь и авантюрист Фредерик Альберт Митчелл-Хеджес (1882–1959) сообщил, что отыскал его в 1926 году во время раскопок в одном из храмов майя, среди руин города Лубаантун, лежавшего на побережье Британского Гондураса (ныне — Белиз). Этот церемониальный центр майя достиг своего расцвета около 800 года нашей эры, а затем пришел в упадок и исчез в джунглях.
Рассказ Митчелла-Хеджеса звучал романтично: разрушенный храм; девушка, ненароком заглянувшая туда; хрустальный череп, сверкнувший в полутьме, — нежданный дар далеких времен. Путешественник признавался, что честь открытия принадлежит его приемной дочери, семнадцатилетней Анне, заметившей, как что-то светится под разбитым алтарем, в груде каменных обломков. Сам он называл свою находку «проклятым черепом».
Впрочем, в своей автобиографической книге «Опасность, мой союзник» Митчелл-Хеджес красноречиво умолчал о хрустальном черепе. По его словам, «есть обстоятельства, которые помогли мне завладеть им, но я не могу их раскрыть» (F. A. Mitchell-Hedges. «Danger, My Ally», 1954). Не приводя конкретных фактов, он спекулировал на любви читателей к сенсациям. Он сообщал, что череп пролежал на этом месте не менее трех тысяч лет. Верховные жрецы майя якобы использовали его в своих ритуалах. Примечательно, что в журнальных статьях и книгах начала 1930-х годов Митчелл-Хеджес вообще не упоминает этот череп, а пишет лишь о незначительных находках.
Анна Митчелл-Хеджес (1907–2007), наоборот, всю свою долгую жизнь была очень словоохотлива. Своей главной находке она приписывала чудесные свойства. Этот череп, весивший более пяти килограммов, она держала рядом с кроватью и предавалась мечтаниям, воображая дикие ритуалы майя. Так юная монахиня припрятывает под покрывалом фетиш, оставшийся от ее прошлой жизни.
По словам Анны, опрошенные ею эксперты утверждали, что черепу — 3000 лет. Его якобы исследовали в лаборатории фирмы «Хьюлетт-Паккард», «ведущем центре изучения кристаллов», и обнаружили, что он особым образом отшлифован — «против естественной оси кристаллической структуры».
Вплоть до своей смерти Анна регулярно давала интервью, в которых рассказывала о находке, припоминая, например, как все три сотни индейцев, принимавших участие в раскопках, едва завидев череп, пали на колени и потом две недели лишь «плакали и молились».
Похоже, в ее словах не было правды совсем. Американский борец со лженаукой Джо Никелл обращает внимание на то, что Анна Митчелл-Хеджес, возможно, даже не участвовала в той археологической экспедиции. Во всяком случае, об этом известно лишь с ее слов и из рассказа отца. Всю жизнь она говорила о «сверхъестественной энергетике», присущей черепу, однако так и не привела никаких конкретных фактов, доказывавших, что она сама или ее отец отыскали этот артефакт.
Специалисты же давно признали Митчелла-Хеджеса обыкновенным мошенником. Свой знаменитый череп он нигде не находил — он купил его в 1943 году в Лондоне на аукционе «Сотбис» за 400 фунтов стерлингов. Его прежним владельцем был лондонский антиквар Сидни Берни. В 1936 году в антропологическом журнале «Man» даже появилась статья, в которой сравнивались два хрустальных черепа — один хранился в Британском музее, другой принадлежал Берни. Никаких более ранних упоминаний о черепе нет, если не принимать во внимание путаные истории от Митчелла-Хеджеса и его дочери.
Сам по себе этот череп, как убедились антропологи, является копией черепа, хранящегося в Британском музее. В 2007 году его также исследовала Джейн Уолш.
Когда-то в книге «Опасность, мой союзник» Митчелл-Хеджес красочно писал о том, как майя «поколения за поколениями, день за днем, шлифовали песком громадную глыбу хрусталя» до тех пор, пока «не возникал идеальный череп». Однако при такой обработке следы шлифования располагались бы хаотически, во все стороны. Этого не обнаружилось, а значит, автор намеренно обманывал публику.
Вывод Уолш таков: «С технической точки зрения сработано очень хорошо. Все качественно отшлифовано, детали выполнены скрупулезно. Это очень современная работа». По ее мнению, череп был изготовлен около 1932 года, незадолго до того, как рассказ о нем появился в печати.
Слово криминалисту
В 2011 году сотрудники журнала «National Geographic» выпустили документальный фильм, посвященный хрустальным черепам. В процессе работы над ним они попросили компьютерного криминалиста из Калифорнии воссоздать по копии черепа, «найденного» когда-то Анной Митчелл-Хеджес, прижизненный облик человека, послужившего моделью мастеру. Оказалось, это была женщина европейского типа, а не индианка. Иными словами, если хрустальный череп и был изготовлен в Центральной Америке, то произошло это лишь после появления здесь европейцев (они прибыли сюда в XVI веке. — А. В.), а не тысячи лет назад, как утверждали любители эзотерики. Гораздо вероятнее, что череп был создан в Европе мастером, который специализировался на фабрикации предметов искусства.
По всей вероятности, для обработки хрустального черепа использовались фрезы такого типа, какие появились только в конце XIX века. Возможно, несколько черепов были сделаны в Германии, в городке Идар-Оберштайн (земля Рейнланд-Пфальц). В XIX веке он славился своими ювелирами и мастерами, имевшими дело с хрусталем. К тому же около 1870 года там появилось большое количество горного хрусталя из Бразилии. Из него стали изготавливать различные статуэтки, — возможно, сделали на заказ и несколько крупных хрустальных черепов. Впрочем, все это лишь догадки, которые ничем нельзя подтвердить.
2. Тайны титанов
1421: год, когда адмирал Чжэн Хэ открыл Америку?
В 2021 году мир отметил 600-летие события, которое, вероятно, не состоялось. А может, все-таки было? Да или нет? По мнению некоторых исследователей, шесть столетий назад знаменитый китайский адмирал Чжэн Хэ (1371–1435), к тому времени уже несколько раз со своей флотилией пересекший Индийский океан, достиг наконец берегов Америки, а затем обогнул весь земной шар, совершив первое в истории кругосветное путешествие. В пользу этой гипотезы, отвергаемой официальной наукой, приводятся определенные доводы.
Мусульманин на службе у Вечного Счастья
Чжэн Хэ (1371–1433/1435) был сыном купца-мусульманина. Он родился в провинции Юньнань, горном районе на юго-западе Китая, недалеко от границы с Вьетнамом. В ту пору в купеческих общинах китайских портов преобладали мусульмане. Их влияние на внешнюю торговлю Китая было велико — тем более что торговать им зачастую приходилось тоже с мусульманами: арабами и персами.
За несколько лет до рождения Чжэн Хэ, в 1368 году, народное восстание свергло Монгольскую династию (Юань) и привело к воцарению династии Мин. С 13 лет Чжэн Хэ был слугой Чжу Ди (1360–1424), четвертого сына императора Чжу Юаньчжана (1328–1398; с 1368 г. — император).
В 1402 году Чжу Ди сверг своего племянника Цзяньвэня, ставшего императором в 1398 году, и взошел на трон под именем Юнлэ (кит. «Вечное счастье»). Император Юнлэ оказался честолюбивым, умным и деятельным правителем. Он многое изменил в стране. Перенес столицу из Нанкина в Пекин, возвел в городе великолепные дворцы и храмы, украсившие его центральную часть — «Запретный город». Возобновил войну с монголами, которые все еще были опасны для Китая. Стремясь помешать их новому вторжению, восстановил обветшалую Великую Китайскую стену. Укрепляя южную границу страны, начал войну с Вьетнамом.
Вслед за локальными победами пришли мировые притязания. Юнлэ вознамерился взять под свой контроль морские торговые пути, связывавшие Китай со странами Южной и Юго-Восточной Азии.
В этом он нашел себе неожиданного и очень способного помощника — своего бывшего слугу Чжэн Хэ. С 1405 по 1433 год тот совершил семь экспедиций, избороздив весь Индийский океан. Каждое из его плаваний длилось от двух до трех лет.
Китай тогда стал самой мощной страной мира — «сверхдержавой», к сфере интересов которой относились вся Южная Азия и Восточная Африка. В ту пору, когда европейские купцы еще боязливо держались побережий своих стран, китайские моряки пересекали почти полсвета. Им вполне было по силам достичь мыса Доброй Надежды, обогнуть южную оконечность Африки и оттуда добраться до Америки или, следуя вдоль берегов Черного континента, уплыть к далекой окраине мира — холодной Европе, чтобы осыпать дарами и смутить чередой кораблей, например, кастильского короля.
Что касается Америки, далее мы поговорим об этом подробнее. В Европу же, как известно, китайские корабли не плавали, не интересуясь жизнью варваров, населявших ее. Да и чем Европа могла привлечь Китай? Ради каких богатств стоило плыть в северную даль, минуя неизвестные моря?
В ту пору европейская экономика казалась, по сравнению с китайской, смехотворно жалкой. Китай стоял на пороге Промышленной революции, которую Европа переживет лишь спустя несколько столетий. Реки и каналы соединяли все части страны единой транспортной системой. Широко распространились бумажные деньги и система кредитования.
Правда, после нашествия монголов главный торговый маршрут Азии — Великий шелковый путь — пришел в запустение. Что ж, дорогой купцов — «Великой степью XV века» — стал Индийский океан. По нему устремлялись вдаль китайские корабли. Они плыли Муссонным путем, ловя парусами попутный ветер, а ветры в той части мира — их называют муссонами, — меняют свое направление всего два раза в год, и местные купцы с давних пор приноравливались к их постоянству.
Морской флот лишь укреплял величие Китая. Огромные корабли, вооруженные пушками, могли появиться у побережья практически любой страны, с которой Китай находился в оживленных сношениях. Их вид был так же красноречив, как и вид современных американских авианосцев. Мощь Китая была в те годы такова, что соседние страны покорялись ему, не дожидаясь, пока китайские моряки применят оружие.
Путешествия по Западному морю
Итак, в 1405 году из устья реки Янцзы в путь отправились 62 крупных корабля. Каждый из них, как писал позднее хронист, достигал 44 чжанов в длину (вероятно, эта цифра преувеличена) и 18 чжанов в ширину (один чжан составлял около 3,2 метра). С летним муссоном флотилия двинулась на юго-запад: в Индокитай, на Яву, Суматру, Шри-Ланку (Цейлон) и к берегам Индии. Вот лишь некоторые «варварские земли», где за два года побывал Чжэн Хэ. Всего же его флот посетил около тридцати стран и островов.
«В девятом месяце 1407 года Чжэн Хэ и остальные возвратились. Послы от всех стран прибыли с ними и предстали перед императором. <…> Император был очень доволен, наградив всех титулами в соответствии с заслугами», — сообщает «История династии Мин».
Приезд послов был добрым знаком. Традиционно в Китае считалось, что иноземные царьки, выражая свою полную покорность императору, присылают к нему посольства. Теперь обеспечивали эту покорность китайские корабли, сновавшие по Индийскому океану как по своему внутреннему морю.
Командующий флотом, адмирал Чжэн Хэ стремился возвеличить своими деяниями Поднебесную империю, простереть власть Китая над всеми народами, жившими на берегу океана и на его островах. Он покорял страну за страной без особых усилий, без риска. За годы плаваний он всего трижды — на Цейлоне и Суматре — попадал в опасные переделки, но всякий раз его солдаты брали верх.
В истории мореплавания трудно найти другой пример подобного бескровного покорения мира. Обычно, как гласит история, раз к берегу приближается неприятельский флот, жди выстрелов из пушек. Здесь же сам император, напутствуя экспедицию, говорил лишь о добре и мире.
«Ныне посылаю Чжэн Хэ с императорскими манифестами, распространяющими Мою волю, чтобы вы почтительно следовали Пути Неба, строго блюли Мои указания, в соответствии с разумом были безропотны, не позволяли себе нарушений и противоборства, не смели обижать тех, кто в меньшинстве, не смели притеснять слабых, дабы приблизиться к идеалу общего наслаждения счастьем совершенного мира», — сказано в императорском указе, переданном Чжэн Хэ в 1409 году, перед началом третьего плавания.
Недаром императора звали «Вечным счастьем». Каков был монарх, таков — и его адмирал. Солдаты Чжэн Хэ не проходили земли огнем и мечом, не грабили города, не захватывали рабов, не обращали «язычников» в свою веру.
Красноречивыми посулами и молчаливыми угрозами верный слуга империи, хитроумный адмирал Чжэн Хэ, подчинял ей земли, лежавшие вдоль Муссонного пути.
«Среди множества стран нет таких, которые бы не сдались нам, — писал участник этих экспедиций Фэй Синь. — Повсюду, куда приходили наши корабли и повозки и куда могли пройти люди, не было никого, кто бы не питал [к императору] чувства уважения и преданности. <.. > Все страны признали себя подданными» (цит. по книге советского историка А. А. Бокщанина. «Китай и страны Южных морей в XIV–XVI вв.», гл. II, 1968).
С точки зрения китайского императора, следовало поступать именно так и не иначе. Китай был «центром Земли», величайшей державой мира. Все прочие народы уступали ему. Поэтому все иноземцы вправе были почитать за счастье, что им предлагают покориться этой империи и учиться у ее сынов.
Послов китайского императора — «послов доброй воли», — как правило, ждал самый теплый прием в странах, куда они прибывали. Надпись на так называемой Чанлэской каменной стеле (1431/1432) гласит: «Все без исключения иноземцы соперничали, кто опередит других в преподношении чудесных вещей, хранящихся в горах или скрытых в море, и редкостных сокровищ, находящихся в водной шири, на суше и в песках» (цит. по книге А. А. Бокщанина. «Китай и страны…», гл. II).
Так, правитель Тямпы, государства в Южном Вьетнаме, выехал встречать Чжэн Хэ на слоне. За ним на лошадях ехали самые знатные придворные и шли парадом сотни солдат. Гремели барабаны, пели флейты. Казалось, вся держава готова была славить великого гостя.
Флотилия Чжэн Хэ патрулировала океан, требуя покорности и богатых подарков от правителей многочисленных государств, лежавших на территории современных Индокитая, Индии и Шри-Ланки. Превращать их в свои колонии у китайского императора не было необходимости. Выплачивая дань, они и так показывали, что подвластны ему.
Это были поистине эпические путешествия по «Западному морю», как называли китайцы Индийский океан. Всякий раз по возвращении флотилии в Китай император выказывал искреннюю радость. Вновь и вновь он направлял Чжэн Хэ обратно в Западное море. Доподлинно известно, что его флотилия достигала побережья Африки, отстоящего от Поднебесной на 16 тысяч километров.
Корабли Чжэн Хэ причаливали к берегам Никобарских и Мальдивских островов, бывали в Каликуте (на юго-западе Индии), Ормузе (на берегу Персидского залива), Джидде (на побережье Красного моря), в Адене, Могадишо (Сомали), Малинди, на Занзибаре, а также в Мекке. Морские операции достигли такого размаха, что адмиралу пришлось поделить свой флот. Его тихоокеанская эскадра, посетила острова Рюкю, лежавшие близ Японии, а также Филиппины, Борнео и Тимор (кстати, остров Тимор расположен всего в пятистах километрах к северу от Австралии).
Под надзором адмирала Чжэн Хэ сооружались портовые города и крепости вдоль важнейших торговых путей — например на побережье Индии или Малайского полуострова. Повсюду мореплавателей интересовали также диковинные животные, растения, снадобья, благовония, драгоценные камни и слоновая кость. «Приобретенные ими неописуемые сокровища и товары трудно сосчитать», — сказано в «Истории династии Мин».
Вот лишь несколько строк из списка даров, привезенных с острова Ява. Они звучат словно строки волшебной сказки. И прибыл адмирал, и привез на своих кораблях «рог носорога, панцири черепах, орлиное дерево, укроп, голубую соль, сандаловое дерево, борнеоскую камфару, гвоздику, стручковый перец, древесную тыкву… <…> кокосовые орехи, бананы, сахарный тростник… <…> бетелевые орехи, черный перец, серу, красильный сафлор, сапановое дерево, молуккскую сахарную пальму, хлопок-сырец… <…> парадные мечи, плетеные циновки, бело-серых попугаев, обезьян» (А. А. Бокщанин. «Китай и страны…», гл. IV).
Возвращение адмирала Чжэн Хэ неизменно вызывало фурор в столице. Все находки торжественно доставляли во дворец императора, а животных водворяли в его зверинец. Особенно запомнилось хронистам «заморское знамение счастья, знак совершенного порядка и гармонии, утвердившихся в мире и империи». То был… живой жираф, привезенный императору. В Китае впервые увидели этого диковинного зверя.
Список кораблей
В ту эпоху Китай был крупнейшей морской державой мира. В экспедициях Чжэн Хэ участвовали десятки тысяч человек. Среди них были «чиновники, солдаты, лоцманы, рулевые, якорные матросы, переводчики, писцы и счетоводы, санитары, якорные рабочие… <…> плотники-корабельщики, грузчики и работники других специальностей, лодочники-снабженцы» (А. А. Бокщанин «Китай и страны…», гл. II). Были там также дипломаты и врачи, художники и астрологи.
Им было на чем пускаться в путь. Самые красивые и величественные суда строили на рубеже XV века в Китае. В отдельные времена численность китайской флотилии превышала три сотни судов. Она напоминала плавучий город, осененный облаками шелковых парусов.
Знаменитая испанская флотилия, прозванная «Непобедимой армадой», была скромнее. Летом 1588 года она состояла из 134 тяжелых кораблей и некоторого количества мелких вспомогательных судов. В походе на Англию принимало участие чуть более двадцати тысяч матросов. Впрочем, довольно отступлений. Наш «список кораблей» (О. Э. Мандельштам) мы прочли лишь до середины.
Этот великолепный флот, посланный в путешествие императором, возвещал о величии Китая всюду, куда бы ни прибывал. На каждом из крупных кораблей были установлены две дюжины бронзовых пушек. Словно грозные очи, их жерла взирали на чужие берега. В любую минуту из этих очей могли вырваться молнии.
Судно, на котором плыл сам адмирал Чжэн Хэ, достигало ста пятидесяти метров в длину. Девять мачт возвышалось на нем. Громадные красные паруса реяли над ним, словно сбывшиеся хищные мечты.
Описывая деяния прошлого, всему можно найти свои мерила. Почти через сто лет после Чжэн Хэ в плавание по океану пустился Христофор Колумб. Вот только его флагманский корабль смотрелся бы жалкой лодчонкой, почти скорлупкой, если бы современники могли сравнить его с кораблями Чжэн Хэ. Длина легендарной «Санта-Марии» не превышала 25 метров.
В составе флотилии Чжэн Хэ были и хорошо снаряженные военные корабли, и широкие грузовые суда. На последних везли запасы продовольствия, пресную воду, товары для торговли с туземцами, а также подарки, которые вручали покоренным властителям, в том числе золото и серебро в слитках. Были и другие ценности: шелк, атлас, мускус, кунжут. Самые крупные корабли могли везти до 360 тонн груза.
Своим бронированным носом пятимачтовые военные корабли могли таранить и топить неприятельские суда. На них имелись четыре палубы. На самой нижней размещался балласт, придававший судну устойчивость; выше была жилая палуба. Стоя на третьей палубе, матросы управлялись с парусами. Кстати, паруса были укреплены бамбуковыми рейками (это еще одно китайское изобретение); такие паруса было легче убирать в шторм. Наконец, на верхней палубе были выставлены пушки.
Обшивка кораблей была смазана смесью из смолы и извести, защищавшей от огня, а также тунговым маслом, чтобы древесина не пропитывалась водой. Корабли были оборудованы герметичными переборками, поэтому, получив незначительную пробоину, оставались на плаву. В Европе подобные суда стали строить лишь в XVIII веке.
Впрочем, основу китайской флотилии составляли небольшие торговые суда, груженные шелком и фарфором, а также вспомогательный транспорт, перевозивший воду и запасы продуктов.
В дороге ориентировались по звездам, пользовались компасом. Капитаны кораблей, служившие под началом Чжэн Хэ, наносили путь, пройденный судном, налинованную карту. Правда, понятия долготы и широты были еще неведомы китайским мореплавателям.
Использовали они и опыт, накопленный арабами. Так, на китайской карте, изображающей Африку и датируемой 1402 годом, показаны Нил, Судан и Занзибар. Очертания континента переданы довольно точно: треугольный профиль, обращенный вершиной к югу. Европейцы тоже считали Африку громадным треугольником, однако вершину его направляли на восток.
Возможно, сведения об Африке китайцы почерпнули отнюдь не из вторых рук. Судя по археологическим находкам, сделанным в Восточной Африке, они уже давно установили торговые отношения с этим регионом. По всему побережью — от Сомали до Занзибара — встречаются многочисленные фарфоровые черепки и монеты, относящиеся к династиям Сун (960–1279) и Мин (1368–1644). Еще в 1154 году арабский географ аль-Идриси сообщал о появлении китайских торговцев на африканских рынках.
Шестое плавание Чжэн Хэ
На Чанлэской каменной стеле, установленной в 1431 (или 1432) году по приказанию Чжэн Хэ, выгравированы слова. Они подводят итог славным деяниям флотоводца: «Мы преодолели сто тысяч ли, плавая по громадному океану. Мы покорили гигантские волны, что, словно горы, вздымались до неба. Мы видели земли варваров, укрытые голубой дымкой тумана, тогда как наши паруса, подобно облакам, день и ночь спешили вперед. И мы объехали дикие страны, представшие нам, когда мы миновали пролив».
«Ста тысяч ли» (примерно 50 тысяч километров. — А. В.), что проплыли китайские моряки, хватило бы, чтобы обогнуть весь земной шар. Располагая приборами и большим запасом продуктов, они вполне могли пересечь Атлантический и даже Тихий океан.
Хронист Ма Хуань (1380–1460), служивший переводчиком у Чжэн Хэ в 1413–1415, 1421–1422 и 1431–1433 годах, оставил рассказ о его плаваниях. Но, странным образом, в его дошедшей до нас книге «Ин я шэн лань» («Обозрение берегов океана») мало что сказано про шестую экспедицию Чжэн Хэ, начатую шесть веков назад, в 1421 году. А ведь за полтора года плавания могло произойти многое! Недаром эта хронологическая лакуна, пробел в строках анналов, так волнует любителей «альтернативной истории», ибо адмиралу Чжэн Хэ хватило бы этих полутора лет, чтобы совершить немало удивительных открытий.
И вот уже два десятилетия историки спорят вокруг гипотезы британского морского офицера и историка-дилетанта Гевина Мензиса (1937–2020), издавшего в 2002 году книгу «1421: The Year China Discovered the World» («1421 — год, когда Китай открыл мир»; рус. изд.2006). Как полагает Мензис, в 1421–1422 годах корабли Чжэн Хэ обогнули Южную Африку, пересекли Атлантический океан и, проплыв вдоль берегов Америки, вышли в Тихий океан, чтобы через несколько месяцев вернуться в Китай, совершив первое в истории кругосветное путешествие (на сто лет раньше Магеллана). Таким образом, Америка была открыта не в 1492-м, а в 1421 году (на 70 лет раньше Колумба).
Разрозненные факты, не замеченные или не объясненные археологами, сложились у Мензиса в стройную систему — мозаику, запечатлевшую летучие китайские корабли в разных частях земного шара.
Еще более полувека назад британский синолог Джозеф Нидем, автор многотомной серии «Наука и цивилизация в Китае», издававшейся в 1954–1990 годах, описывал свои впечатления от поездки в Мексику: «Когда я находился в этой стране, на меня произвело глубокое впечатление то значительное сходство, которое существует между средневековой цивилизацией Центральной Америки и цивилизациями Востока и Юго-Восточной Азии» (J. Needham. «Science and Civilisation in China»).
На страницах своей книги Мензис тщательно отмечает это сходство. Например, традиционно считалось, что рис в Западную Африку завезли португальцы, англичане и французы, а в Америку — испанцы. В 2001 году Джудит А. Карни, профессор географии Калифорнийского университета, издала книгу «Черный рис: африканское происхождение рисоводства в Америке» (J. A. Carney. «Black Rice: The African Origins of Rice Cultivation in the Americas»), показав «несомненные заслуги китайцев по выращиванию этой культуры в богатых черноземом калифорнийских почвах» (Мензис, гл. 9).
Мензис же предположил, что первыми в Америку завезли рис именно участники экспедиции Чжэн Хэ, высадившие этот злак «в чрезвычайно влажной и подверженной наводнениям долине реки Сакраменто» («1421 — год…», гл. 9). Индейцы, по его словам, до сих пор сеют рис тех сортов, что завез Чжэн Хэ.
Мензис даже выдвинул гипотезу о том, что от флотилии Чжэн Хэ отделились небольшие группы кораблей или одиночные корабли. Им было дано поручение колонизовать тихоокеанское побережье Америки, создать там китайские поселения. Тут уж впору удивляться, как США до сих пор не остались заморской провинцией Китая…
Контакты между Китаем и Мексикой, пишет Мензис, подтверждаются «наличием в обеих странах одинаковых растений и пород кур, хорошо поставленного лакировочного дела и сходными технологиями при получении натуральных природных красителей» (гл. 10).
Возьмем тех же кур. Курица ведь никогда не была перелетной птицей. Азиатские куры очень заметно отличаются от европейских, и те куры, которых разводят в своих хозяйствах индейцы Латинской Америки, очень похожи на кур, выращиваемых в странах Азии. Как пишет Мензис, «напрашивается вывод, что родоначальники латиноамериканских кур были завезены из Азии, а не из стран Средиземноморского бассейна» (гл. 5). Может быть, их завезли в Америку древние переселенцы из Китая?
В одном из уединенных горных городков Мексики — в Уруапане, в двухстах милях от побережья Тихого океана, — до сих пор изготавливают красивые лакированные шкатулки для продажи туристам. Этнографы отмечают, что это ремесло совсем нехарактерно для здешних мест, зато, например, оно было с давних времен развито в Китае — с эпохи царства Шан (1554–1046 гг. до н. э.), когда «стали покрывать лаком бытовые изделия, мебель и предметы искусства» (гл. 10).
В Перу внимание Мензиса привлекли китайские иероглифы. Там, по его словам, найдены изделия из бронзы и глины с китайской символикой (приложение 1, «Кругосветное путешествие китайцев»).
Вещественные следы экспедиции Чжэн Хэ британский историк собирал на всех континентах с такой скрупулезностью, что любой его коллега заведомо проиграл бы ему пари, если бы попробовал так же тщательно документировать плавание Магеллана.
Китайцы Чжэн Хэ, как современные туристы, всюду оставляли какой-нибудь предмет или надпись. Так, на островах Зеленого Мыса (в Атлантическом океане) и в устье реки Конго, — а это тоже Атлантика — найдены резные камни с надписями, восхваляющими деяния китайских моряков. На одном из наскальных рисунков, оставленных австралийскими аборигенами, «изображен иноземный корабль, напоминающий китайскую джонку» (гл. 7). В США, на побережье Род-Айленда, обнаружен древний маяк, а в Австралии, в штате Новый Южный Уэльс, — руины каменной крепости, которая никак не могла быть возведена местными жителями. «Не существует, однако, ни одного свидетельства, что аборигены сооружали подобные укрепления где-либо на территории Австралии» (гл. 7). То и другое, считает Мензис, построили китайцы, побывавшие здесь.
В своих плаваниях они не только оставляли, но и собирали. В Кембридже, в университетской библиотеке, пишет Мензис, есть книга, изданная в 1430 году в Китае под названием «Иллюстрированный справочник по странным и загадочным землям и странам». В ней 98 страниц с рассказами об этих странах и 132 иллюстрации.
Главным в этом «Иллюстрированном справочнике» было то, что не попадает на страницы хрестоматий, но поддается порой однозначному толкованию: рисунки. Китайский художник — а уж мастерство и точность художников средневекового Китая трудно отрицать — запечатлел животных, населявших чужие страны. Среди них явно узнавались… представители южноамериканской фауны: ламы, броненосцы, ягуары «с круглыми усатыми мордами» (гл. 10).
Пасьянс из старинных карт
Но прежде всего Мензис основывает свои доводы на секретных картах, которые имелись в XV — начале XVI века у некоторых европейских правителей. На них довольно точно изображены те области Земли, что еще не были известны европейским мореплавателям. Он полемично заявляет, что знания об этих регионах европейцы могли почерпнуть только у китайцев.
Действительно, в истории географических открытий есть ряд темных мест. Так, Фернан Магеллан, отправляясь в 1519 году в свое кругосветное путешествие, якобы получил от португальских властей некую тайную карту. Сверяясь с ней, он достиг пролива, который носит теперь его имя.
Мензис, ссылаясь на португальского историка Антоньу Гальвана (ум. 1557), пишет о карте мира, которую привез из Венеции в 1428 году дон Педру, наследник португальского престола и брат Генриха Мореплавателя. Гальван оставил описание этой венецианской карты. На ней были «изображены все части света и все земли, какие только существуют под луной. На ней Магелланов пролив именуется Хвостом Дракона; нанесены также мыс Доброй Надежды и общие очертания Африки, равно как и другие острова и земли» (гл. 4). Возможно, ее копия имелась и у Магеллана. Как пишет Мензис, «остается только удивляться, когда думаешь о том, что он вышел в Тихий океан через пролив, который уже был изображен на карте и впоследствии получил его имя» (приложение 1).
В любом случае Магеллан был абсолютно уверен в том, что этот узкий, окруженный скалами канал, куда вошли его корабли, непременно выведет его в другое море. Его спутники в это не верили и тихо роптали, возмущенные упрямством их флотоводца. Он же, как утверждает Мензис, объявил им, что «точно знает о проливе, который выводит из Атлантики в Тихий океан. Он сказал, что сам видел его на карте, когда служил в Португалии…» (приложение 1). С выдающимся упорством его корабль все так же скользил по этому безмолвному, мрачному каналу, «как Харонова ладья на стигийских волнах», и страшное молчание встречало его. Лишь «дикий напев ледяных ветров, завывающих в горах», долетал до моряков (Стефан Цвейг. «Магеллан»). Но уверенность не покидала Магеллана…
Так что это была за «карта 1428 года»? Очевидно, образцом для нее послужила знаменитая карта, составленная в 1424 году венецианским картографом Джованни Пиццигано. Ряд географических объектов, изображенных на ней, к тому времени, как считается, еще не был известен европейцам.
Португальский историк Арманду Кортесау в своей монографии «Морская карта 1424 года» писал: «[Карта 1424 г.] является документом огромной важности для истории географии. С исторической точки зрения это настоящее сокровище, поскольку в ней содержатся неизвестные до сего времени сведения о мире. <…> На карте 1424 г. <…> впервые в истории изображены острова Западной Атлантики. <…> Есть все основания полагать, что эта группа из четырех островов представляет собой самое раннее изображение на географической карте части земель американского континента» (A. Cortesao. «The Nautical Chart of 1424», 1954).
He меньший интерес вызывает у историков и другая карта, принадлежавшая турецкому адмиралу Пири Рейсу. Сегодня она известна под названием «Карта Пири Рейса 1513 года». На ней изображена дельта реки Ориноко в Бразилии, причем вычерчена она «с особой тщательностью» (Мензис, гл. 5). Появилась карта почти за четверть века до того, как европейцы обследовали эту реку (в 1498 году Колумб достиг лишь северной части дельты Ориноко).
Как установлено, эта часть карты, изображающая неведомые европейцам земли, была скопирована турками с карты, имевшейся у некоего испанского моряка, который плавал вместе с Колумбом и был захвачен турками в плен в 1501 году (Мензис, гл. 4).
Откуда же ее перерисовали испанцы? С секретных лоций спутников адмирала Чжэн Хэ? С той потаенной венецианской карты, удостоверившей недавние китайские открытия? Разумеется, никаких доказательств этому нет. Все лишь догадки, домыслы…
Академические ученые нещадно раскритиковали книгу Мензиса, назвав его «новым Деникеном». Тот-де находил повсюду тайные следы инопланетного разума, Мензис же отыскивает забытые достижения китайской цивилизации.
Мнение официальных ученых КНР можно сформулировать так: «Трудно поверить в то, что средневековые китайские историки, столь тщательно отмечавшие любые важные события, совершенно игнорировали в своих трудах плавания китайских мореходов по Атлантическому и Тихому океанам».
Критика критикой, но досконально объяснить загадку древних карт современные историки не могут. Знакомые береговые очертания неведомых земель неизменно наводят на мысль о стародавних забытых плаваниях к этим берегам. Кто их совершил?
Австралийский историк Джефф Уэйд, признав «любопытные аномалии», имеющиеся на старинных европейских картах, сделал, например, вывод, что сведения о странах, еще не известных в Европе, были собраны знатными мореплавателями той эпохи — арабами.
Возможно, что-то прояснят результаты будущих исследований ДНК коренных народов, населяющих Америку, Новую Зеландию, Гебридские острова. Например, еще в начале 2000-х годов было выявлено некоторое сходство ДНК новозеландских маори и исконных жителей Тайваня (последние, впрочем, не состоят в родстве с китайцами, а говорят на языках австронезийской семьи).
В финале истории опускается шелковый занавес
После смерти императора Юнлэ китайская казна оказалась почти пуста. Все доходы от морских экспедиций много лет шли на строительство новых дворцов и храмов, а также организацию роскошных праздников и пиршеств.
Ярость и гнев охватили наследников расточительного монарха. По их приказаниям корабли Чжэн Хэ были заперты в гавани, составленные им карты далеких земель уничтожены или случайно сгорели. У Китая уже не было средств, чтобы снаряжать столь грандиозные и расточительные экспедиции. Все деньги уходили теперь на войну с северными соседями — прежде всего с монголами.
Чиновники решили, что флот является для страны ненужной обузой. Вместо кораблей надо строить амбары, в которых хранились бы запасы зерна на случай голодной годины. Вместо путешествия на Мальдивы следует рыть каналы и прокладывать дороги, дабы проще было добраться до отдаленных районов Поднебесной. Наконец, сам император изрек: «Территория Китая в изобилии производит все товары. Так зачем нам покупать бесполезные побрякушки за границей?» Книга морей была перелистана и забыта. Сказка странствий кончилась.
Строительство кораблей прекратилось, запрещены были морские плавания и даже иностранные языки. Император запретил своим подданным путешествия в другие страны. Ослушникам, покидавшим Китай, грозила — в случае их поимки — смертная казнь; их причисляли к пиратам. От всего остального мира Китай отгородился «шелковым занавесом», что был прочнее любого стального заслона.
За этим «занавесом» были забыты все, кто когда-либо пускался в дальние странствия, забыты их открытия, уничтожена сама память о них. Предприимчивый Чжэн Хэ не дожил до этих времен, до разгула ксенофобии, нетерпимости ко всему чужому. Он умер словно в неведомой дали, «за семью морями», ведь даже дата его смерти неизвестна. Одни называют 1433 год, другие — 1434, третьи — 1435 год.
Так прекратилась морская экспансия Китая. Экспедиции Чжэн Хэ по праву можно сравнить с плаваниями другого, более знаменитого первооткрывателя — Васко да Гама (1469–1524). Впрочем, португальцу никогда бы не снискать славы, не случись внезапных перемен в китайской политике.
Если бы не это обстоятельство, то китайские моряки, возможно, еще в первой половине XV века все же достигли бы берегов Европы, и Васко да Гама пришлось бы плыть хорошо известным маршрутом, да и приплыв в Каликут, он вел бы себя тише воды, ниже травы, чтобы не прогневить императора великого Китая.
Однако эпохальное событие не состоялось. Китай не открыл Европу. Империя повернулась к остальному миру спиной. Соседние страны, просившие у нее защиты и не находившие ее, перестали уважать Китай.
Но природа не терпит пустоты. Через несколько десятилетий в южные моря прибыли европейские авантюристы и мореплаватели. Со временем берега Южной и Юго-Восточной Азии были захвачены ими — поделены между Португалией, Испанией, Англией и Нидерландами. Уже португальцы занимались грабежом Китая, нападая на беззащитные берега страны. Слава о подвигах адмирала Чжэн Хэ не достигла европейских народов, а память о нем была искоренена в Поднебесной.
Почти два столетия Китай оставался в изоляции. За это время его хозяйство пришло в упадок. Промышленная революция не состоялась. Наконец, в середине XVII века обветшавшая сверхдержава, разворованная своими чиновниками, была до основания потрясена народным восстанием, а затем захвачена соседями-кочевниками. Отныне ею правили маньчжуры, тоже чуравшиеся других стран как огня. Придет время, и Китай станет полуколонией европейских держав. Быть может, какой-нибудь китайский философ и записал в те годы с отчаянием безумца: «Мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколений, которые сумеют его понять».
Лишь к концу XX века Китай начал понемногу приближаться к ведущим державам мира. Сегодня многие обозреватели полагают, что XXI век будет «столетием Китая», как когда-то им был XV век, время императора Юнлэ и адмирала Чжэн Хэ — великих, деятельных гуманистов эпохи Возрождения.
Код да Винчи
— Ваша любимая (нелюбимая) книга: «Код да Винчи».
— Ваш любимый (нелюбимый) фильм: «Код да Винчи».
— Ваша любимая (нелюбимая) телепередача: «Разгадка кода да Винчи», «Рассекреченный да Винчи» и т. п.
— Ваш любимый (нелюбимый) исторический персонаж: ну, конечно, Дэн Браун!
Гпамурным летом 200* года все пристрастия были одинаковы, как спины отдыхающих на пляже, как разговоры в корпоративных курилках. Все любили (не любили) товар с этикеткой «да Винчи».
Код Леонардо
Ставший легендой еще при жизни, Леонардо да Винчи (1452–1519) превратился для потомков в бессмертный эталон величия. Достаточно было плеснуть на образ этого живописца водицы детективного сюжета, чтобы он засверкал новыми ослепительными красками. Только ли живописца?
Он сказал: «Некоторые ошибаются, называя хорошим мастером того живописца, который хорошо делает только голову или фигуру» («Каким должен быть живописец»). Сам он изучает и рисует многое: зубчатые колеса, шарниры, винты, насосы и станки всех видов и во всех мыслимых комбинациях. Он кажется настоятелем таинственного ордена моделистов-конструкторов, покровителем славной братии, что вечерами выпиливает лобзиками, паяет, сверлит, починяет. Его тень впору призывать, когда засорится кран на кухне или погнется бампер машины. Мастер-слесарь-токарь-механик… он и «Джоконду», кажется, рисовал, как разрабатывал бренд, которым впору маркировать все «высокохудожественное». Его код дизайна поистине переживет века, украшая обложки журналов и полиэтиленовые авоськи.
К слову, время жизни Леонардо было временем расцвета инженерии. Специалисты готовы назвать десятки имен техников XV–XVI веков, но их сочинения практически не известны широкой публике, а рукописи пылятся в хранилищах библиотек: Конрад Каудер и Джованни Фонтана, Мариано ди Якопо (Таккола) и Ханс Хартлиб, Ханс Шультен и Франческо ди Джорджо Мартини…
Сохранилось более 7000 листов рукописей и рисунков самого Леонардо, и на шести тысячах, словно в танце, кружатся шарниры, винты, колеса, соединяясь друг с другом и застывая на этих тайных бумагах. В сочетаниях деталей угадываются прообразы вертолета, велосипеда, подводной лодки, танка.
«В рукописях Леонардо собраны почти неотделимые от нас его собственные идеи и эксперименты, записи традиций современных ему практиков и выписки из трудов многих забытых ученых и исследователей старого времени или его современников, — писал В. И. Вернадский. — Мы видим здесь то брожение мысли, которое подготовляет будущее науки» («О научном мировоззрении», II, 19,1902). Код инженерной мысли Леонардо веками хранился под спудом, чтобы получить истолкование лишь в веке минувшем.
А еще его называют первым естествоиспытателем в современном смысле этого слова. Он разъял Природу, как труп, с холодной дотошностью механика выискивая ее приводные колеса, и трупы людские рассекал, как тряпичные куклы, «вплоть до мельчайших частиц уничтожая все мясо, находившееся вокруг этих жил» (Леонардо да Винчи. «О строении человека и животных. О частях тела и их функциях»), чтобы, следуя познанному им закону, вытягивать на картинах мышцы и жилы, словно готовя образы к оживлению. И правы же будут те, кто говорил, что, «умерщвляя живую прелесть Моны Лизы», он делал образ ее на полотне картины «все живее, все подлиннее». Это был его код живописи.
В прозрачном каноне славословий слились, уничтожили себя противоречия, ясно виденные современниками и многими потомками. Они думали о Леонардо, находя, что он презирает известные формулы и теории, плохо разбирается в математике, подменяет порядок интуицией, надежность — догадкой, что он старателен до небрежности и пытлив до невнимательности.
Критики отмечают, что на его анатомических рисунках — «образце точности» — люди порой недосчитываются некоторых важных органов, что кровеносные сосуды и иные части тела нарисованы так, как не изобразил бы их медикус, проводивший вскрытие, — похоже, это не зарисовки с натуры, а гипотезы испытателя, следующего наитию. Так, на одном из рисунков источником спермы, по его фантазии, становится спинной мозг. Правоту критиков он сам признавал в своих записях: «И если скажешь, что лучше заниматься анатомией, чем рассматривать подобные рисунки, ты был бы прав, если бы все эти вещи, показываемые в подобных рисунках, можно было наблюдать на одном теле, в котором ты, со всем своим умом, не увидишь ничего и ни о чем не составишь представления, кроме разве как о нескольких немногих жилах» («О строении человека…»).
Наконец, его технические конструкции выглядят фантастическими постройками, только возведенными не из квадров и кирпичей, а из шарниров и винтов, а то, словно предвосхищая завет Лотреамона («случайная встреча на анатомическом столе зонтика и швейной машинки»), из далеких друг другу слов — имен предметов, которые через века все же встретятся друг с другом. И тогда «от камня и железа сделаются видимыми вещи, которые до того были не видны», «Христос снова будет продан и распят, и святые его замучены», «большая часть моря убежит к небу и не вернется в течение долгого времени». Что это? Телевизионные башни — Че Гевара — Аральское море?
В записях Леонардо даны и ответы на эти загадки: огниво — продаваемые распятия — облака. Не сохранись этих ответов, Леонардо мог бы прослыть вторым Нострадамусом.
Вырванный из времени, он кажется загадочным, как корень мандрагоры, «дивным и божественным» (Д. Вазари. «Жизнь Леонардо да Винчи, живописца и скульптора флорентийского»). Сто двадцать составленных им книг, «Книга движения», «Книга о тяжести», «Книга об элементах машин» и многие другие — код знаний, собранных им лично, — вопиют к современным ученым, требуют прочтения, истолкования, взывают к терпению, прилежанию комментаторов, но… от них не сохранилось ни строчки — лишь насмешливая ремарка мастера, обращенная к своему современнику или потомку: «1/1 может быть, терпения не хватит у тебя, и ты не будешь прилежен. Обладал ли я этим всем, или нет — об этом дадут ответ 120 мною составленных книг» («О строении человека…»).
Незаконнорожденный сын нотариуса и крестьянки, родившийся в окрестности Флоренции, всю жизнь испытывал и исследовал природу, предсказывал ее свойства и в своих фантазиях придумывал их. Он изучал окружающий мир «на ощупь», ибо с детства был «лишен зрения» — не мог смотреть на мир глазами античных мудрецов. Леонардо был неучем, «человеком без образования», то бишь он не получил того классического образования, коим гордились его современники-гуманисты — из тех, что «расхаживают чванные и напыщенные, разряженные и разукрашенные не своими, а чужими трудами, а в моих мне же самому отказывают» («О себе и своей науке»). Ему-то ведь не довелось в юные годы без конца штудировать латинскую грамматику и риторику, античную философию и поэзию.
Позднее он насмешливо обращается ко всей ученой братии: «Если вы, историографы, или поэты, или иные математики, не видели глазами (читай: не исследовали. — А. В.) вещей, то плохо сможете сообщить о них в письменах» («Спор живописца с поэтом, музыкантом и скульптором»). В юности ему было не до смеха. Знание славного языка Цицерона считалось дипломом, без которого в конце XV века трудно было сделать карьеру. Ученейшие мужи без обиняков считали, что можно быть дельным человеком — умным, нравственным, совестливым, одним словом, гуманистом, — лишь досконально вызубрив латынь.
Не имея этого «диплома», он яростно взялся отстаивать невежество. Не готовый превзойти других своей ученостью и красноречием — начальным капиталом гуманистов, — принялся работать, решив, что должен все уметь. Практик, изобретатель, наблюдатель, фантазер, он был полной противоположностью гуманистов, старавшихся думать, писать и говорить согласно обычаю древних поэтов и ораторов и положениям выдающихся философов. Человек меньшего таланта, очарованный величием сделанного художниками «кватроченто», учился бы у них, невольно вторя им во всем. Леонардо же, одержимый желанием понять природу вещей, стремился не делать ничего, как другие.
Этот же ущерб — необразованность — сделал его нахалом. Не дожидаясь, пока славный синьор убедится, что он — добропорядочный, ученый, благочестивый человек, Леонардо, нанимаясь на службу, без лишней скромности сообщал, что он якобы умеет. Обычно так расхваливали свои таланты маги, астрологи, алхимики.
«Хорошо знаю, что некоторым гордецам, потому что я не начитан, покажется, будто они вправе порицать меня, ссылаясь на то, что я человек без книжного образования. <…> Не понимают они, что <…> я мог бы так ответить им, говоря: „Вы, что украсили себя чужими трудами, вы не хотите признать за мною права на мои собственные“» («О себе…»).
Этим опытом он мечтал удесятерить свои силы, научиться летать, как птицы, стрекозы или летучие мыши, или же плавать, как рыбы. «По лености и книжной вольготности» («О себе…») мало кто мечтает о волшебной мудрости, что «есть дочь опыта». Но ежели синьор будет так щедр, что примет его на службу, он, Леонардо, научит Князя магии опыта и позволит ему тоже удесятерить свои силы. Для этого надо знать законы природы. Человек может лечь на землю и останется на месте, может лечь в воду, и течение унесет его вдаль. Другие, взыскуя философский камень, ложатся на землю и ждут, что она потечет под ними; он же ищет воду, течение — тот самый природный закон, который подхватит и унесет вдаль. Другие топчутся на месте — он же ищет и находит. Со временем таинственные намеки бахвала «будут расти на собственных развалинах — ком снега, катящийся по снегу» («Предсказания»). И вот уже вместо Лодовико
Моро или Лоренцо Медичи имя Леонардо будет спрягаться с Иисусом и орденом Приората Сиона.
…Резюме Леонардо возымело силу. Такой же, как он, выскочка, парвеню, Лодовико Моро (Сфорца) пригрел инженера, зодчего, гидротехника, мастера всех военных искусств, который, поселившись в Милане, будет воевать с глиной и холстом, рисуя «Мадонну Литта» и возводя макет конной статуи Франческо Сфорца, отца Лодовико (она так и не будет отлита в бронзе, эта статуя весом в 160 тонн).
Не признаваемый в кругах гуманистов, самоучка Леонардо провел немало лет на службе не признаваемого в кругу других итальянских правителей самозванца Лодовико, пока тот не был свергнут французскими войсками. При этом потомке кондотьера, возвысившегося из простого звания, крестьянский сын из Винчи прослыл настоящим «арбитром изящества», и, перефразируя Тацита, мы можем о нем сказать, что «Лодовико не считал ничего ни приятным, ни роскошным, пока не получал одобрения от Леонардо». Признанный маг, живший «при его дворе, самом блестящем в Европе» (Я. Буркхардт. «Культура Возрождения в Италии», 1860; рус. изд. 1996), придумывал костюмы и парики, режиссировал празднества и декорировал фон, на котором они проводились, рисовал портреты, а то и тешил люд загадками, которые теперь публикуют под названием «Предсказания»: «Леса породят детей, которые будут причиной их смерти». — Что это? Экологический кризис XXI века? Леса, обработанные дефолиантами? Цезиевая пустошь при Припяти? Эх-ма! «Рукоятки топоров» (Леонардо).
По его воле царь зверей — механический лев, — рыча, надвигался на публику, а вот царь миланских людей, Все-милостивейший Покровитель, был нередко небрежен со своим придворным артистом. Сохранился черновой набросок письма 1498 года, в котором Леонардо жалуется синьору Лодовико: «В течение двух лет не получаю жалованья». В одной из аллегорий, нарисованных для синьора, сам Моро в образе фортуны принимает под свою защиту отрока, убегающего от страшной Парки Бедности, но жизнь не всегда подражает искусству, что бы ни говорил Оскар Уайльд.
Когда год спустя Милан был взят французскими войсками, для Леонардо началась пора скитаний. Он готов был наняться на службу даже к султану турецкому, пока в 1516 году не стал наконец придворным живописцем французского монарха Франциска I — тоже «выскочки», который получил трон лишь потому, что у Людовика XII не было сыновей. Здесь Леонардо вскоре окончил свои дни.
И возродился затем в легендах, став…
Код Брауна
…членом ордена Приората Сиона, основанного в 1099 году и хранившего «главную тайну» Иисуса, с точки зрения глянцевых изданий — его любовную историю, тайну его сексуальной жизни с Марией Магдалиной (риторика же Иисуса, этого философа-моралиста, не вписывается в нынешние «форматы» и остается «за кадром»). Скрытая от глаз профанов чаша Святого Грааля освящает их плотский союз, символизируя лоно Марии Магдалины, восприявшее «кровь Иисуса», то бишь его семя.
Фантазией британских авторов Майкла Бейджента, Ричарда Ли и Генри Линкольна, выпустивших в 1982 году книгу «Святая Кровь и Святой Грааль» (рус. изд. 1993), «чернокнижник» Леонардо превратился чуть ли не в живописателя «черной мессы». Его фреска «Тайная вечеря» явно намекает на союз проповедника с блудницей, заключенный во время свадьбы в Кане Галилейской, где они соединились по обычаям своего народа. А еще Леонардо подделывает Туринскую плащаницу, запечатлев на этом куске ткани собственное лицо, чтобы весь мир поклонялся ему отныне, как Господу нашему Иисусу. Если бы церковные власти решились обнародовать все секретные материалы, хранимые ими, христианство оказалось бы в глубочайшем кризисе, ибо двадцать веков его адепты поклонялись самому знаменитому лицемеру на свете.
Американский беллетрист Дэн Браун, компонуя текст детектива, ввел туда многие из откровений позабытой книги, и, к удивлению самого автора-составителя, «Код да Винчи» стал бестселлером, низводящим библейского Христа до уровня Рона Хаббарда: он — благополучный семьянин и основатель тоталитарной секты («Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее», Мф. 10:35), мечтающий даже стать царем — царем иудейским.
Впрочем, на своей свадьбе он вел себя скорее, как героиня давнего фильма Джулия Робертс, — скорехонько сбежал оттуда. Едва на столах заплескалось сотворенное Им вино, «Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его» (Ин. 2:12) отбыли в Капернаум. «А свадьба пела и плясала…»
Враги произносят много хулений против Него, но Его безбрачие странно замалчивают. А ведь такой образ жизни правоверного иудея был явным вызовом, открытым нарушением традиции. Апостол Петр, например, Его преемник, и первый Папа Римский, был, согласно Библии, женат. Так что и в женитьбе Иисуса — о ней как об «историческом факте» упоминает один из вымышленных персонажей Дэна Брауна — не было бы ничего странного. Однако в Новом Завете нет ни малейшего намека на этот неканонический союз, второй участницей которого была…
…Мария Магдалина. История о том, как в канун въезда Христа в Иерусалим Мария, «взявши фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его» (Ин. 12:3), памятна многим — впору назвать ее символом самозабвенной, самоотверженной любви. Раскаявшаяся блудница Мария Магдалина во имя любви к Христу обрекает себя на служение Ему.
Нарушает идиллическую картину разве что евангельский текст. Согласно ему, героиней этой сцены на самом деле является другая женщина — Мария из Вифании, сестра воскресшего Лазаря. И раз уж мы взялись трактовать священную книгу как психологический роман, то Мария, наполняя дом «благоуханием от мира» (Ин. 12:3), спешит излить любовь к брату и восторг перед человеком, исцелившим его (впрочем, в католичестве Мария из Вифании отождествляется с Марией Магдалиной).
Напрасно и рисовать Марию Магдалину блудницей — в Библии нет ни слова об этом. Скорее она заслуживает прозвища «юродивая». Она из тех бесноватых, одержимых припадками, которые во множестве встречаются Ему и в Галилее, и в Иудее. Он исцеляет некоторых от злых духов и болезней: Сусанну, Иоанну, да вот и «Марию, называемую Магдалиною, из которой вышли семь бесов» (Лк. 8:2). Так что союз Христа с ней, манифестируемый Брауном, должен был бы напоминать мезальянс… Ставрогина и Хромоножки из «Бесов» (и тут романический Христос превращается в Антихриста…).
Впрочем, апокрифическое Евангелие от Филиппа прямо именует Марию Магдалину «спутницей (Сына)» (то есть Иисуса. — А. В.) и сообщает, что «(Господь любил Марию) более (всех) учеников, и он (часто) лобзал ее (уста)» (Евангелие от Филиппа, 55). Впоследствии ее вымышленная биография будет составлена по образу и подобию метаморфозы Савла. Сама идея ее чудесного обращения родилась в пору гибели бывшей Римской империи, в век, когда убийства, грабежи и жестокость стали повседневным бытом, а жалкий блуд нищенок — простительным грехом. Это ли не доказательство силы Иисуса, вопрошал в одной из своих проповедей в 591 году папа Григорий I Великий, что даже блудницу он превратил в святую? Блудницу, чей образ увековечила…
…«Тайная вечеря»? На фреске монастыря Санта-Мария делле Грацие справа от Иисуса, печально склонив голову, сидит безбородый, длинноволосый юноша, полный девичьей прелести, — апостол Иоанн, которому Браун и К0 (серия кивков в адрес Леонардо) дают новое имя: Мария Магдалина, супруга Христа. Вот как описывается фреска Леонардо на страницах «Кода да Винчи»:
«Он жестом указал на репродукцию. <…>
Софи подошла еще ближе. Женщина, сидевшая по правую руку от Иисуса, была молода и выглядела благочестиво.
Личико застенчивое, скромно сложенные ручки, волны вьющихся рыжих волос. И одна эта женщина способна пошатнуть церковные устои?
— Кто она? — спросила Софи.
— Она, моя дорогая, — ответил Тибинг, — не кто иная, как Мария Магдалина» (гл. 58).
Муж и жена — одна сатана, они и одеты почти одинаково: синее чередуется с красным. Тело Христа облегает красное одеяние — в Средние века этот цвет символизировал мужественность. Тело Иоанна-Магдалины обернуто синей тканью — это цвет женственности.
Фигуры Христа и юного апостола образуют «большую и изящно выписанную букву „М“». По Брауну, это намек на Марию Магдалину (гл. 58).
Сидящий рядом с переодетой Магдалиной апостол Петр делает ей угрожающий знак рукой. «Во многих Евангелиях сказано, что именно в тот момент Иисус и заподозрил, что скоро Его схватят и распнут на кресте. И Он наказывает Марии, как править Его Церковью после того, как Он уйдет. Вот Петр и выражает недовольство тем, что играет роль второй скрипки. Лично мне кажется, Петр был женоненавистником», — комментирует этот жест один из персонажей «Кода да Винчи» (гл. 58). Как видите, началась операция «Преемник», втолковывает Браун, Христа еще не распяли, а его жена уже ссорится с лучшим другом за право быть во главе общины верующих. Разгорается «война ортодоксов-диадохов»…
Но, как ни странно было ожидать этого от могущественного конспиролога Леонардо, здесь он рабски плетется за буквой Книги книг. В Евангелии от Иоанна этот эпизод описывается так:
«… Иисус <…> сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. <…> Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит» (Ин. 13:21, 23–24).
Налицо, пусть и с некоторой долей фантазии, иллюстрация. Знак, сделанный Петром, в точности не описан даже в боговдохновенной книге. Нам остается лишь довериться наитию Леонардо.
Что касается буквы «М», то с таким же успехом можно утверждать, что центральные фигуры образуют… верхнюю половину буквы «X», и, если поднести зеркало к репродукции фрески (Леонардо, кстати, выводил слова «зеркально» — справа налево), появится начальная буква имени «Христос», написанного по-гречески (Хрютдр). На каждый код найдется свой толкователь…
Женоподобие Иоанна — секрет Полишинеля. Вспоминая век Леонардо, прежние комментаторы думали не о скандальном бытовом, а о мистическом, вышнем толковании фрески. Общим местом ученых схолий стала мысль о том, что любивший астрологию Леонардо уподобил 12 апостолов двенадцати знакам зодиака. Вопрос лишь, с какого знака начинать их отсчет, если мы, допустим, глядим на крайнюю левую фигуру.
Как известно, мы можем составить об этой фреске лишь самое общее представление. Неумелые подмалевки, звавшиеся когда-то реставрациями, похитили многие детали, затрудняя понимание замысла Леонардо. Например, на копии, сделанной около 1800 года итальянским гравером Рафаэлем Моргеном, видно, что лучше всего прорисованы ступни ног апостола Варфоломея (он крайний слева), — теперь этого не заметить. Как известно, каждому знаку зодиака соответствует свой орган тела, например, Рыбам — ступни ног. Отсчет начат. По нему Иоанн символизирует Весы, которыми правит самая женственная из планет — Венера. Родившиеся под этим знаком, считалось, милы и женственны. В этом лице, и верно, столько нежности, что обманулся даже Дэн Браун, знающий все о всех за две тысячи лет, но знакомый с «Тайной вечерей», скорее, по растиражированной гравюре Моргена.
Искусствоведы давно отметили, что последний был не только копиистом, но и интерпретатором знаменитой
фрески, стараясь придать ликам ее загадочных персонажей вполне однозначное, подчас сентиментальное выражение. Именно на его гравюре, как выразился один из критиков, Иоанн «выглядит размягченно-женственным, слезливым».
Обратим внимание еще на одного апостола, второго справа. В его лице — много мудрости и печали. Это апостол Фаддей. Многие считают эту фигуру автопортретом маэстро из…
…Приората Сиона. Ни в одной из книг, посвященных сталинизму в СССР, не повествуется о деятельности в эти годы в Москве членов ордена доминиканцев. Следуя логике Брауна и Кº, из этого факта можно сделать один-единственный вывод: в те годы Москва кишела доминиканцами, но свои акции они тщательно засекречивали. Логично?
Бейджент, Ли и Линкольн признают, что ни в одном научном труде, посвященном эпохе Крестовых походов, не упоминается орден Сиона. Значит, он… засекречен, но существует. Логика и впрямь «зеркально» искажена, как строки, написанные Леонардо. Что ж, этим авторам, кстати, упорно отстаивавшим подлинность «Протоколов сионских мудрецов», не привыкать ждать от слова «Сион» заговора или подвоха. Вот и мировая религия кажется блажью еврея-прелюбодея, запрещавшего всем народам без разбору плодиться, а себе выбравшего лучшую из блудниц. Католическая церковь засекретила вплоть до второго пришествия все «семейные архивы» Христа и Марии Магдалины и проповедует свой «краткий курс истории христианства», который имеет так же мало общего с подлинными фактами, как сталинская экзегеза — с историей революции. Уф! Тут не помешала бы рюмка, стопка или хотя бы…
…Чаша Святого Грааля. Которая, по версии Дэна Брауна, неожиданно превращается, как в избитом анекдоте, непременно в женское лоно, да еще и еврейки Марии («Сосуд <…> напоминает чашу или вазу, но, что гораздо важнее, лоно женщины», гл. 56). Уф! Уф! Не почитать ли лучше о технике «сфумато» или «имприматуре» на картинах Леонардо — той странной живописной технике, что заставляла краски светиться изнутри, а предметы расплываться, словно в тумане? Подобные загадки ведь интересовали Леонардо куда больше, чем секреты неназванных книжников, что вот уже пятнадцать веков хранили «главную тайну мира» — кем-то засекреченный брак.
Фантазия на тему брачующегося Иисуса — последний судорожный вскрик Просвещения. Новые тираномахи не дремлют — ими в пух и прах раскритикован Христос. Чуткие к sexual harassment, сексуальным домогательствам, американцы однозначно толкуют любые проявления симпатии к женскому полу схваченного, кажется, с поличным Назаретянина.
«Код да Винчи» воплощает навязчивую идею современности: за известными нам фактами, за их официальной интерпретацией учеными и СМИ скрывается некая тайная истина. Ее искатели высматривают на географической карте мистические треугольники неведомого и за руинами древних храмов чуют поступь атлантов, гигантов и залетных космических экстравагантов. Вот и за двумя тысячами лет поклонения Христу, двумя тысячами лет каждодневных обрядов, истово и не очень молящихся прихожан, фанатично или привычно читающих молитвы попов, за рутиной размышлений о вере, за церквями, крестами, иконами, изваяниями, тропарями и акафистами — за всем тем, среди чего живут простые верующие, скрываются несколько человек, не верующих ни во что, выдумавших с самого начала биографию Иисуса и теперь передающих свое тайное знание по наследству.
У любого исторического явления есть свои пружины, и они не имеют ничего общего ни с классовой борьбой, ни с экономическими факторами, ни с вождями и царями. Подлинные пружины истории, ее творцы — это несколько отпетых мошенников, плетущих нити заговора ради сбережения своих богатств и дурачащих весь мир.
В начале было не Слово Божие — в начале были козни и заговор людей, далеких от всякой идеи Бога. Бог умер. В его владениях хозяйничают «посвященные», не допуская к силе, власти, богатству никого из профанов. «Сионские мудрецы» начала XX века политкорректно преобразились и составили Приорат Сиона. Недовольны подменой разве что руководители католической церкви, внезапно превращенные фантазией Брауна и К° в дирекцию авгиевых конюшен.
И все же мы должны быть благодарны авторам фильма, телепередач и упомянутых книг за то, что они заставили нас, споря с ними, вновь вспомнить о той евангельской эпохе, что жила в ожидании спасительной веры, — эпохе, так похожей на нашу, эпохе империй, армий, царственных указов, политической власти, теснящей народы, сбивающей их в стада дрожащих агнцев, эпохе больших денег и ресурсов, сутолоки, смердящих трущоб, пьянящих зрелищ, резко сократившихся расстояний, эпохе, которая «кончилась в Риме от перенаселения».
«И вот в завал этой мраморной и золотой безвкусицы пришел этот легкий и одетый в сияние, подчеркнуто человеческий, намеренно провинциальный, галилейский <…> человек» (Б. Л. Пастернак. «Доктор Живаго», ч. 2, 10). Как полторы тысячи лет спустя в «завал» книжной мудрости, умерших языков, истолченных в ступе истин, затверженных с детства советов и заветов пришел другой человек — Леонардо.
В книге Дэна Брауна их маски надели какие-то персонажи. Сами маски оказались плохо прорисованы, но помарки и кляксы выискивают и успешно оттирают те, кто берется за «разгадку кода да Винчи». А я лишь еще раз удивлюсь, что на тысячи людей, державших черную книгу Брауна, не встречал еще никого, кто читал бы роман о Леонардо Д. С. Мережковского — «Воскресшие боги».
Что угрожает Давиду?
Это нам издалека Италия кажется страной безмятежной. О, эти цветущие поля, нежное море, старые горы! Здесь, думаем мы, если и заплутаешь, «земную жизнь пройдя до половины», то попадешь не куда-то, а в рай. Однако сейсмологи только поморщатся, прочитав о горах древних, как мир, идиллии вечной, как коловращение Солнца. Они-то знают, что Апеннинский полуостров, страна Италия, — это один из тех регионов Европы, где землетрясения происходят особенно часто. В Италии их угроза, пожалуй, выше, чем в любой другой европейской стране, исключая Гоецию. Но там очаги землетрясений часто располагаются в море, а потому ущерб, причиняемый ими, менее значителен, чем на Апеннинах.
Твердый камень становился все мягче, таял, как воск.
Д. С. Мережковский. Микеланджело
Катастрофы в Италии заповеданы геологией, просто о них стараются забывать, молчать. Но их список в блаженном туристическом краю пугающе велик. В 1693 году на Сицилии и в Неаполе погибло более 100 тысяч человек. Это землетрясение опустошило Катанию. В другом сицилийском городе, Шикли, уцелело одно-единственное здание: церковь. В 1783 году снова содрогнулся юг страны. Около 50 тысяч жителей Калабрии погибли от удара стихии. В 1908 году подземной стихией был уничтожен еще один город Сицилии — Мессина. Бедствие довершила огромная волна — цунами. По разным оценкам, тогда погибло более 75 тысяч человек. «Безжалостный конец Мессины» стал для Александра Блока символом начавшегося XX века, когда «еще страшнее жизни мгла» («Возмездие», гл. 1).
И в центральной части страны нередко пробуждается подземная стихия. Заметные землетрясения случаются здесь чуть ли не каждое десятилетие. В минувшем веке самой опустошительной была катастрофа 1915 года (магнитуда 7,5), унесшая жизни 29 тысяч человек. В 1997 году пострадал город святого Франциска — Ассизи (магнитуда 6,4). В апреле 2009 года были разрушены памятники другого древнего города — Аквилы (магнитуда 5,8). Целая серия мощных подземных ударов сотрясла эту страну и в 2016 году.
Землетрясения в сокровищнице
Но Италия — еще и страна-музей. Множество памятников античности и эпохи Возрождения украшает этот музей под открытым небом. Древнеримские постройки, средневековые храмы, памятники скульптуры могут погибнуть от внезапного пробуждения стихии.
✓ Так, в 1997 году серьезно пострадала базилика Святого Франциска Ассизского, украшенная фресками Джотто и Чимабуэ.
✓ В 2009 году был уничтожен исторический центр Аквилы (Л’Акуилы) — города, основанного в 1240 году знаменитым императором Фридрихом II, героем средневековых легенд. От подземных толчков обрушилась башня церкви Сан-Бернардино. Серьезно пострадала базилика Санта-Мария-ди-Коллемаджо, где в 1294 году впервые за пределами Рима был возведен на престол папа римский. Частично был поврежден и собор Святых Георгия и Максима, сооруженный в 1703 году, опять же после разрушительного землетрясения.
✓ В августе 2016 года, после землетрясения в Центральной Италии, пострадало около 290 объектов культурного наследия в радиусе 20 километров от очага землетрясения, причем полсотни зданий были серьезно повреждены. В городке Аматриче, где были разрушены три четверти зданий, особенно пострадала базилика Святого Франциска — постройка XIV века с великолепными фресками. Поврежден городской музей, где хранились ценные памятники средневекового христианского искусства, а также Раннего Возрождения. Серьезно пострадала и церковь Святого Креста в Пескара-дель-Тронто, возведенная в IV веке, одна из старейших церквей Италии. В Кастеллуччо в Умбрии едва не рухнула башня романской церкви. По соображениям безопасности пришлось закрыть собор в Урбино. Его стены после подземных толчков растрескались.
✓ В октябре 2016 года в Центральной Италии произошло новое крупное землетрясение. Его эпицентр находился в 110 километрах от Рима, в окрестности Перуджи.
На многих старинных зданиях в Риме появились трещины. В базилике Святого Лаврентия, одной из семи паломнических церквей Рима, со свода сыпались камешки и куски штукатурки. Особенно сильно пострадала церковь Сант-Иво-делла-Сапиенца в районе Пьяцца Навона — площади, сооруженной в эпоху барокко на руинах античного стадиона. В этой университетской церкви, напоминающей скорее произведение искусства, чем храм (ее возвел виртуозный архитектор XVII века Франческо Борромини), осыпались фрагменты росписи, а также части свода. В общей сложности многочисленные подземные толчки повредили в 2016 году около 5000 церквей и других исторических памятников в Италии.
Каким еще шедеврам мирового искусства может угрожать взбунтовавшаяся земля?
Не спокойна Тоскана, историческая область, центром которой является колыбель Ренессанса, Флоренция. Здесь жили и творили такие выдающиеся мастера, как Джотто, Брунеллески, Донателло, Челлини и Леонардо.
В недалеком прошлом природные стихии уже обрушивались на этот город. В 1895 году после сильных подземных толчков люди боялись заходить в свои дома и спали на улице. В ноябре 1966 года пришло наводнение. Почти вся центральная часть Флоренции была затоплена. Вода тогда поднималась до второго этажа. Десятки людей погибли, многие произведения искусства пострадали, а то и были уничтожены водой.
В декабре 2014 года в Тоскане, между Флоренцией и Сиеной, всего за три дня было зафиксировано свыше 250 подземных толчков магнитудой до 4,1. Пусть сила их была невелика и они не причинили заметных разрушений, но все равно капля камень точит. Микроскопические повреждения в исторических памятниках накапливаются.
И в районе Флоренции такая сейсмическая активность — не редкость. Как уберечь лучшие ее памятники? Галерею Уффици, где собраны выдающиеся работы итальянских художников? Или символ города — статую Давида работы скульптора Микеланджело Буонарроти (1475–1564)? Скульптуру, созданную пять веков назад и адресованную вечности?
Но вечность, тревожатся сейсмологи, возможно, будет хранить лишь память об этом шедевре, который, как некогда Колосс Родосский, может и рухнуть при следующем мощном землетрясении.
Подземный крот подбирается…
Ведь статуя Давида, которую считают идеальным воплощением мужского тела, символом доблести и отваги, только кажется идеальной многочисленным туристам, приезжающим во Флоренцию, чтобы увидеть и сфотографировать ее. Но время, словно «подземный крот», потихоньку подбирается к ней (в тревожный час не может не вспомниться цитата из «Гамлета»: «Ты славно роешь, подземный крот» (акт I, сц. 5), которую так любил применительно к истории повторять Георгий Плеханов).
Если внимательно осмотреть статую Давида, можно заметить, что голеностопы библейского героя покрылись мелкими трещинками. Еще в XIX веке ученые тщательно зарисовали их, но до недавних пор никто не мог сказать, насколько они опасны, быстро ли могут разрастись.
Лишь в 2014 году итальянские геофизики, использовав небольшие копии статуи, исследовали, как поведут себя эти трещины при больших нагрузках. Для этого статуэтки помещали в центрифугу и раскручивали ее под различными углами наклона, моделируя самые разные виды нагрузок. Результат был угрожающим. Как только статуя наклонялась на 15 градусов, ее ноги подламывались.
Вызван этот эффект уже имеющимся у статуи изъяном. Она, будто под тяжестью веков, немного наклонилась, Проекция центра ее тяжести не совпадает с центром тяжести постамента, а это значит, как сказано в отчете, что «создается эксцентрическая нагрузка». Пока статуя покоится неколебимо, эта дополнительная нагрузка невелика, но стоит ей наклониться (например, во время землетрясения), как нагрузка резко возрастает и становится запредельной для двух почти точечных опор, удерживающих гигантское тело, — для двух узких голеностопов.
Этот наклон — не «врожденная, а приобретенная болезнь». По местной легенде, статуя слегка накренилась пять веков назад, в 1511 году, когда во время жуткой грозы ударила молния. Бог-громовержец укротил гордыню Давида. Ученые смотрят на вещи более реалистично и считают, что статуя стала клониться после одного из землетрясений, которые так часто случаются здесь и рано или поздно могут повергнуть ниц любой памятник.
…По большому счету, для искусствоведов и реставраторов все это не стало новостью. Каждые три месяца проводится тщательный осмотр статуи Давида, и все скрытые от глаз посторонних слабости и изъяны мрамора хорошо известны специалистам.
Сам Микеланджело понимал, насколько уязвима статуя, и не его вина, что в чем-то он не сумел совладать с непокорным камнем. Давид был сотворен им вследствие целой череды ошибок, которые были совершены до того, как мастер взялся за резец, чтобы отсечь ненужное и создать шедевр. Микеланджело не ошибся ни разу. Но, кажется, судьба сделала все для того, чтобы он не приступил к этой работе.
Вот как пишет о том, что произошло в 1464 году, за одиннадцать лет до рождения Микеланджело, автор самой известной его биографии Ромен Роллан: в тот год «соборным причтом была предоставлена Агостино ди Дуччо (флорентийский скульптор. — А. В.) гигантская мраморная глыба с тем, чтобы он изваял из нее фигуру пророка. Творение, едва начатое, оставалось незаконченным. Ни у кого не хватало смелости продолжить работу» («Жизнь Микеланджело», ч. I, гл. 1).
Ошибочен был сам выбор камня. И выбор сделал Дуччо, к которому обратились ткачи шерсти, представлявшие одну из самых влиятельных цеховых корпораций во Флоренции. Они заказали скульптору монументальную статую, которая должна была украсить городской собор, стать зримым воплощением мощи города и устрашить всех, кто помышляет на него напасть.
Однако задача была непосильна для Дуччо. Он никогда прежде не имел дело с такой громадной глыбой мрамора, да и никто во Флоренции тоже. Каменотесы Каррары также никогда прежде не вырубали из скалы такую глыбу — высотой более пяти метров и весом 12 тонн. Облюбованный ими кусок скалы изобиловал мельчайшими ямками. Виднелись и прожилки. Мрамор не был идеально белым.
Вырубали глыбу в вершине скалы. Прошло несколько месяцев, прежде чем с превеликим трудом обломок скалы спустили в долину. Расстояние от Каррары до Флоренции — 120 километров, пара часов на грузовике. Но в те времена прошли долгих два года, прежде чем камень довезли к месту назначения, то вытягивая его на волах, то переправляя на лодках. Хлестал дождь, палил зной — прообраз исполинского тела продолжал ползти как улитка в город мастеров. Однажды его не удержали, он рухнул в грязь. Тогда он, может быть, и покрылся крохотными трещинами, которые теперь предательски прорезали ноги героя.
Наконец скалу привезли и положили в саду возле собора. В небольшом городке, где все было залито желтыми и коричневыми красками, от этой глыбы исходило неправдоподобно белое сияние. Множество людей сбежалось посмотреть на это чудо.
Сведущие люди, придя сюда вместе с другими, ужаснулись. Они-то хорошо видели, что мрамор плох и еще хуже сделала его обработка. Выбирая кусок скалы, Агостино грубо наметил контур. Следуя его указаниям, кусок был вырублен, но при этом получился уже, чем полагалось, да еще посредине виднелась какая-то непонятная дыра, возникшая по недосмотру. Вот уж все по присловью! Единожды отмеренное, единожды отрезанное, это «чудо» могло лишь потешать простаков, но для работы оно не годилось. Городские власти посчитали, что сделать задуманное из этой скалы уже не удастся. Все старания были напрасны, а деньги… они закатились в бездонную пропасть, которых так много в горах. Агостино был обшикан и прогнан. Работа остановилась.
Почти сорок лет позади собора пролежала — в пыли, в грязи — белая мраморная глыба, которую разве только ленивый не потрудился насмешливо пнуть. Ее мочили дожди, пятнали птицы, задевали проезжавшие мимо повозки…
Лишь в 1501 году, в пору политических смут, охвативших Флоренцию, городские власти решили «общим делом» успокоить кипение народных масс. Задумано было из каменной глыбы, вросшей в землю городского сада, сотворить небывалую фигуру, которая заставила бы всех — и горожан, и чужаков — восхищаться Флоренцией.
Власти обратились к самому великому художнику, жившему тогда в ее стенах. Но Леонардо да Винчи было уже под пятьдесят; к тому же он не любил искусство скульптуры. Пришлось довольствоваться малым — поручить это важное дело молодому, честолюбивому Микеланджело Буонарроти, который успел прославиться своей статуей «Оплакивание Христа» («Пьета»), созданной в 24 года (в XVIII веке она была перенесена в одну из капелл в базилике Святого Петра в Ватикане).
Он втайне и сам мечтал об этой работе — о Davide cholla fromba, «Давиде со своей пращой» (Микеланджело).
«Хотя было трудно высечь целую фигуру из одной этой глыбы, хотя ни у кого не хватало смелости взяться за нее, не добавляя к ней других кусков, Микеланджело, — сообщал биограф всех великих художников Возрождения Джорджо Вазари, — стал помышлять о ней и теперь сделал попытку ее получить» («Жизнь Микеланджело Буонарроти, живописца, скульптора и архитектора флорентийского»). За три года труда Микеланджело извлек из нее невиданную фигуру.
Как описать то неистовство зрителей, то удивление и те нескончаемые восторги, которые охватили собравшихся, когда в 1504 году покровы были сброшены и статуя явилась на всеобщее обозрение? Похвалы Вазари заменят нам умолкший шум времени:
«Поистине чудом было, как Микеланджело вернул к жизни бывшее мертвым. <…> По правде, она [статуя]отняла славу у всех статуй, современных и античных, греческих и римских, <…> Видевшему ее не к чему искать другого скульптурного произведения какого бы то ни было художника, наших ли времен или прошедших».
Статуя оказалась такой грандиозной, что невыгодно было (а может быть, и невозможно с технической точки зрения) размещать ее там, где она «стерегла место» долгие годы — у Флорентийского собора. Пришлось потратить четыре дня на то, чтобы с превеликой осторожностью перевезти ее к Палаццо Веккьо, где располагалась синьория (городская администрация). Церемония эта позабавила флорентийцев. Нашлись шутники, кидавшие по ночам камни в статую, чтобы — геростратовой славы ради — разбить чудо из чудес. К Давиду, такому доблестному при жизни, теперь, после превращения в камень, пришлось приставить стражу, чтобы спасти.
Спасти то, что и так лишь чудом было убережено от гибели. Ведь мрамор, как известно тем, кто имеет с ним дело, нужно обрабатывать сразу, едва его привезли в мастерскую ваятеля — иначе он понемногу начнет крошиться. Чем дольше мраморная глыба лежит под открытым небом, тем более хрупкой становится. Ее трудно теперь обрабатывать резцом. Она, как говаривали в Карраре, «выгорает»; ее иссушает солнце. К тому времени когда Микеланджело приступил к работе, многие считали, что спасти эту глыбу уже не удастся. Тем не менее он преодолел сопротивление материала, и для специалистов, знающих, с чем пришлось иметь ему дело, это лишь умножает славу великого мастера.
Однако четверть века спустя чернь все же расправилась со статуей. Когда в 1527 году во Флоренции начались беспорядки, из окон домов полетели камни, палки и даже мебель. Брошенная скамья угодила Давиду в левую руку и отломила ее. Молодой художник Джорджо Вазари собрал обломки разбившейся руки. Много лет спустя, в 1543 году, он передал их Козимо I Медичи. По приказу правителя города статуя была восстановлена в своем первозданном виде.
Но мраморный колосс и дальше продолжал испытывать судьбу. На протяжении столетий статуя Давида стояла под открытым небом, у входа в Палаццо Веккьо. Еще Микеланджело говорил, что Давиду нужен открытый воздух, «свет площади» (цитируется по Ромену Роллану).
Ветер и дождь, град и снег веками исподволь разрушали материал статуи. В XIX веке реставраторы, экспериментируя с химикатами, только ухудшили ее состояние: воск окрасил мрамор, а кислота разъела его поверхность, на которую с поврежденного водостока теперь непрестанно стекала вода.
Наконец, в 1873 году, когда изъяны, причиняемые Давиду дождями, начали внушать беспокойство, статуе пришлось покинуть привычное место. Для нее решили построить ротонду в Академии изящных искусств. Пока же зал возводился, статуя была заключена в деревянный короб — вроде того, в котором ее некогда привезли на площадь и явили свету. Давид пребывал в этом подобии гроба годами; там разрослись колонии микроорганизмов, словно он был не статуей, а громадной сырной головой.
Отныне на прежнем месте высится мраморная копия знаменитой статуи, поставленная там в 1910 году, а сам Давид, по словам Роллана, «задыхается в стенах музея». Его мраморный лик усеян ямками, как оспинками. Лишь искусная работа реставраторов, заделавших их, скрывает это неблагообразие. Но если подойти к статуе и внимательно всмотреться, можно увидеть заретушированные «ранки и язвочки».
Иной раз Давид получает новое ранение. Ему, победителю могучего Голиафа, страшны теперь даже тщедушные туристы. Несколько раз за свою бессмертную жизнь он терял правый мизинец ноги. С его левого века, словно слезинка, давно скатилась крупица мрамора. Наконец, в 1991 году какой-то вандал при помощи молотка отколол несколько кусочков мрамора от пальцев левой ноги Давида, прежде чем подоспели охранники.
Жизнь раздает свои зубодробительные удары даже мраморным истуканам. В случае с Давидом последствия их в основном устранены, но шрамы остаются на теле статуи.
Земной же стихии Давид боится, наверное, пуще огня. Ведь до сих пор он, отчаянный храбрец в своей легендарной жизни, с честью выдерживал все тяготы, но мощного землетрясения, уверены ученые, не перенесет. Удары стихии, словно пушечные ядра, ложатся то возле одного итальянского города, то возле другого. Когда-нибудь они достигнут Флоренции.
Воображение с гадливой услужливостью рисует картину: статуя резко кренится, падает на пол, разбивается на куски. Грозит Давиду и другая опасность: крыша Galleria dell’Accademia, Галереи Академии изящных искусств, где в специально построенной ротонде установлена статуя, может не выдержать подземных толчков и рухнуть, погребая под обломками бренный мировой шедевр.
Эта «другая опасность» подстерегает и картины старых мастеров, хранящиеся в музее Уффици, в том числе «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли и «Благовещение» Леонардо да Винчи. Специалисты рекомендуют в будущем оградить хотя бы лучшие картины этой Галереи «коробами из пуленепробиваемого стекла», которые защитят их от обломков строительных конструкций в случае обрушения здания.
Кроме того, если во Флоренции произойдет землетрясение, оно может повредить и другие исторические памятники, например, Флорентийский собор, увенчанный громадным восьмигранным куполом работы Брунеллески (его диаметр — 45 метров), или Понте Веккьо, самый старый мост Флоренции, переброшенный через реку Арно в наиболее узком ее месте.
…История Давида тем страннее, что на его защиту требуется лишь часть тех средств, которые он сам же и «зарабатывал». В доковидные времена он постоянно собирал вокруг себя толпу зрителей. Каждый год более миллиона человек приходило полюбоваться им.
Давида, вообще, можно назвать «флорентийским кормильцем». В этом городе его изображения и статуэтки можно увидеть на каждом шагу, в любой сувенирной лавке: футболки и фартуки, магнитики и постеры, брелоки и часы, чашки и тарелки и многое-многое другое… Все-все-все с Да-да-да-да-да-видом! Иной раз кажется, что настоящая статуя Микеланджело здесь уже никому не нужна. Она только мешает торговле, отвлекает туристов, которые — с точки зрения коммерсантов — тратят время впустую, посещая музей, вместо того чтобы толкаться возле прилавков.
Справедливости ради скажем, что в случае с Давидом задача, стоящая перед спасателями, гораздо сложнее обычного. Все статуи, которые сегодня защищены при помощи антисейсмических платформ, значительно меньше скульптуры Давида или изготовлены из другого, более прочного материала (например, бронзы). Поэтому пока непонятно, каким должен быть постамент, чтобы защитить Давида, из чего его следует изготавливать.
Не ясно так же, как поведет себя статуя, если закрепить ее при помощи, скажем, металлических цапф. Не повредит ли ей это? Не ускорим ли мы падение статуи, использовав для ее защиты неподходящие средства?
Нужны тщательные расчеты, испытания. Все это займет много времени, коим беспечно разбрасываются сегодня.
К тому же защищать желательно не одну только статую, а весь музей. Что пользы от самого надежного постамента, если и впрямь не выдержит здание и всей тяжестью рухнет на Давида?
Подземная стихия не потерпит небрежного обращения с шедевром Ренессанса. Любая ошибка будет для Давида смерти подобна.
После серии небольших землетрясений, обрушившихся на окрестности Флоренции в последние годы, мировые СМИ сразу же принялись сообщать о том, что «Давиду скоро придет конец». Однако никто по-прежнему не спешит принимать меры для защиты знаменитой статуи.
Похоже, что в стране, чуть ли не каждый год, сотрясаемой подземными толчками, к угрозе землетрясения относятся так же, как власти Москвы — к приходам зимы, к скорым снегопадам: «Неужели это когда-нибудь произойдет?»
Карты Меркатора
Одним из титанов Возрождения был и Гэрард Меркатор (1512–1594), самый известный картограф Нового времени. Его метод изображения земной поверхности, увековеченный в созданных им картах и глобусах, совершил настоящую революцию в географической науке. Однако хитроумные приемы, использованные им, исказили подлинный облик планеты для многих поколений людей. Благодаря этим приемам вся Европа вообще и Россия в частности выглядят на географических картах гораздо внушительнее, чем на самом деле.
Старинные карты давно стали антикварными раритетами. Время изрядно перекрасило их. Пожелтели озера и океаны, потускнели континенты, поблекли надписи, очертания рек стали теряться на просторах выцветшей бумаги. Но все это не умаляет их красоты. Мастера, создававшие их, кажутся нам равными Богу, который некогда творил всякую тварь живую и давал ей имя. Вот и они творили образ мира, в котором мы живем. Они оживляли первозданный хаос пространства, населяли его — как зоологический сад диковинными зверями — могучими фигурами материков, рассыпавшейся стаей стран, змеями рек и перелетающими над сушей, словно птицы, полосками гор.
Одним из этих творцов, самым известным, был Меркатор. Он в числе первых понял, насколько важны для людей карты.
Родился знаменитый картограф 5 марта 1512 года во Фландрии, в городке Рупельмонде (сегодня в этом бельгийском местечке, получившем статус города еще в XIV веке, проживает лишь около трех тысяч человек). Имя, полученное им при рождении, было Герард Кремер (впоследствии он выберет себе латинизированное имя «Меркатор»).
Портал в новый великий мир
Кремер рос в очень неспокойное время. Мир менялся тогда на глазах. Европа бурлила. Она была потрясена до самых основ религиозной реформой, начатой Мартином Лютером.
Обновлялась религия, иным становился облик Земли. На протяжении многих веков на географических картах покоились три части света: Европа, Африка, Азия. В центре земного мира — вернее в центре мироздания — пребывал священный город Иерусалим. Вся Вселенная обращалась вокруг него, вокруг своей центральной точки.
Теперь картина мира вдруг преобразилась. Пока Кремер рос, великий астроном Николай Коперник работал над своим бессмертным произведением «О вращениях небесных сфер». По его воле, подкрепленной математическим расчетом, Солнце «остановилось», а Земля стала вращаться вокруг него, наряду с известными тогда планетами.
За двадцать лет до рождения Кремера испанский мореплаватель Христофор Колумб выбрал необычный маршрут для плавания в Индию. В итоге его корабли в 1492 году прибыли в Америку.
Кремеру не исполнилось еще и десяти лет, когда испанская экспедиция (большую часть пути ее возглавлял Фернан Магеллан) совершила кругосветное плавание.
Так за каких-то полвека мир стал совершенно иным — не тем, каким его представляли себе античные и средневековые ученые. Кремер жил в эпоху, когда мироздание буквально выламывалось из отведенных ему рамок. Образ Земли, увековеченный на средневековых картах, внезапно стал стремительно разрастаться. Появлялись все новые острова, обширные страны, которым не было места в прежней — казалось бы, установленной Богом, — системе координат. За эти полвека мир увеличился вдвое.
Итак, после плаваний Христофора Колумба, Бартоломеу Диаша, Васко да Гама, Фернана Магеллана географическая наука полностью преобразилась. Основа основ средневековой учености, «Руководство по географии» в восьми книгах Клавдия Птолемея (ок. 100–180), безнадежно устарела. Словно до сих пор человек смотрел в узкую щелочку и все, что мог в нее разглядеть, считал образом нашей планеты. Теперь эта прорезь, звавшаяся окном в мир, внезапно раздвинулась до предела. Вся Земля открылась людям, совершившим кругосветное путешествие, и много диковинного явлено было тогда восторженным наблюдателям. Все эти новые чудеса Земли предстояло описать — и точно нанести на карту.
Мир ждал нового Птолемея. В астрономии им стал Николай Коперник, в географии — Меркатор. Он стал великим картографом потому, что сумел в рамках географической карты уместить весь неведомый, только что открывшийся человеку мир. Рядом со Старым Светом на ней возник Новый Свет.
«AMERICAE», «Америка»
Детство его было таким же сложным, как цель, которой он задался. Мало кто мог подумать, глядя на малыша, сына сапожника Кремера, что его ждет большое будущее. Однако после ранней смерти отца о Герарде позаботился его богатый родственник. Благодаря ему мальчик смог посещать занятия в школе при религиозной общине, носившей название «Братство общей жизни». Здесь он не только обрел глубокие познания в латинском языке (без этого нельзя было изучить ни одну науку), но и стал глубоко религиозным человеком. Всю жизнь он истово верил в Бога, сотворившего этот прекрасный мир и все его чудеса.
В 18 лет он поступил в Лувенский (Левенский) университет, чтобы изучать богословие, философию и математику. По примеру многих ученых людей того времени он изменил фамилию на латинский манер. Получилось Gerardus Mercator Rupelmundanus, Герард Меркатор (лат. «торговец») Рупельмонд.
В университете он пробыл, впрочем, недолго, покинув его через два года (по-видимому, из-за нехватки денег). Однако карьере это не помешало. «Со времен юности география была важнейшим моим объектом изучения», — признавался он впоследствии.
Изучения — и заработка. Мореплавателям, купцам, политикам нужны были точные карты мира, изменившегося у них на глазах. Сверяться с ошибочными картами Птолемея было пустой тратой времени, денег, а то и жизни. На карты был спрос. И тот, кто их предлагал, безусловно, мог прокормить себя и свою семью. Изготавливать карты и глобусы — вот какое будущее выбрал себе Меркатор, человек, столь же охочий до знаний, сколь и предприимчивый.
Вскоре он стал известен как картограф и изготовитель астрономических инструментов. Спрос на его работу имелся прежде всего в богатом торговом городе, лежавшем по соседству, — Антверпене.
В гавани Антверпена стояли сотни кораблей. Сюда регулярно прибывали моряки, купцы, ученые, вернувшиеся из дальних странствий. Здесь же находилась крупнейшая в Центральной Европе типография. В Антверпене можно было собрать — из устных рассказов или книг — сведения о любой далекой стране. Вся эта информация очень пригодилась Меркатору в работе над его картами. По рассказам мореплавателей и других путешественников он принялся создавать обновленный образ мира.
Уже в двадцать пять лет, в 1537 году, он опубликовал свой первый труд — историческую карту Святой земли. Она сразу принесла ему популярность. Эта настенная карта, состоявшая из шести листов, стала, по меркам того времени, бестселлером. Она пользовалась неизменным спросом на протяжении десятилетий.
Год спустя он издал свою первую карту мира в двойной сердцевидной проекции. Напоминала она, на наш взгляд, огромную открытку. На двух ее листах были изображены Северное и Южное полушария Земли.
Она стала первой картой мира, где название «AMERICAE», «Америка», было отнесено к обеим половинам Нового Света. Меркатор поместил его на изображение и Северной, и Южной Америки. Этим нововведением он завершил спор, длившийся десятилетиями.
Как известно, первые испанцы, достигнувшие берегов Нового Света, считали, что прибыли либо к азиатским островам, либо к азиатскому побережью, а значит, находятся невдалеке от вожделенной Индии. Даже кругосветное плавание Магеллана хоть и «основательно поколебало, но не уничтожило убеждения его современников, что страны, открытые Колумбом, Веспуччи, Каботом и другими мореплавателями, расположены в Азии», писал немецкий историк географии Рихард Хенниг в книге «Неведомые земли» (т. 4, гл. 196; рус. изд. 1962). Уже в 1521 году «возникло другое нелепое представление, будто новые страны в океане — это огромный полуостров, простирающийся от северной оконечности Восточной Азии» (Р. Хенниг, т. 4, гл. 196). Именно так Америку стали изображать на тогдашних картах.
Однако Меркатор решительно порвал с этой традицией. На той же двойной карте 1538 года его Америка как с севера, так и с юга отделена от Старого Света, являя собой отдельный континент, затерянный «среди моря-океана». Можно добавить, что с появлением этой карты никакое другое название для обоих континентов Нового Света уже не употребляется. Вот так эта громадная страна, протянувшаяся от Северного полюса к Южному, страна, которая должна была «с полным правом называться „Колумбией“» (Ст. Цвейг. «Америго»), окончательно и бесповоротно стала «Америкой», увековечив имя Америго Веспуччи, человека, «который ничего не совершил», как полемично написал Стефан Цвейг.
От «библио-глобуса» до тюрьмы
В 1541 году Меркатор произвел настоящий фурор, изготовив лучший по тем временам глобус. Это был почти полуметровый шар (его диаметр составлял 41 сантиметр. — А. В.), весь изукрашенный изображениями земель, морей, рек, озер и испещренный надписями. Благодаря особенно тонкому и изящному шрифту Меркатору удалось уместить на поверхности глобуса множество информации. Это был подлинный «библио-глобус» (книга-глобус. — А. В.).
Впервые на нем были нанесены так называемые локсодромы — своего рода линии рекомендуемых морских маршрутов. Следуя этим наметкам, капитаны кораблей могли прокладывать курс в открытом море. Такой глобус мог сослужить отличную службу мореходам, отправлявшимся к далеким берегам Азии или Америки. (Впрочем, как выяснится позднее, моряки станут пользоваться прежде всего картами, а дорогие, громоздкие глобусы украсят дома богатых аристократов, будут предметами роскоши, а не навигационными приборами.)
Чтобы изготовить этот огромный глобус, Меркатор вырезал на медных досках дюжину географических карт — моментальные снимки современного ему мироздания, замкнутого в земной тверди. С этих гравировальных пластин были отпечатаны карты. Эти двенадцать листов пришли в наш мир, как апостолы, чтобы проповедовать, что есть Земля. Он наклеил их на модель земного шара, изготовленную из гипса и папье-маше. Наконец, закончив работу, он раскрасил глобус в разные цвета.
Следует добавить, что несколько лет спустя Меркатор сконструировал еще и звездный глобус. Отныне глобусы продавались только парами: звездный и земной. Эта практика так укоренилась, что вплоть до XIX века ни тот ни другой глобус нельзя было купить по отдельности.
Результаты работы прославленного мастера можно увидеть и сегодня, например в Дуйсбурге, в Музее культуры и истории города, где расположена так называемая Сокровищница Меркатора. Там в стеклянных витринах выставлены два глобуса — своего рода иконы того времени, когда Земля еще была полна тайн.
Меркатор открывал новое, жадно искал новое, и, рано или поздно, это должно было столкнуть его с теми, кто — в тот «бунташный век», век Реформации — упорно держался старого, отстаивал церковные догмы. Это должно было столкнуть его с руководителями католической церкви.
Так и произошло. В феврале 1544 года Меркатор по обвинению в ереси был брошен в тюрьму в замке Гравенстен.
Ересь его была такова. Он заново вычислил положение магнитного полюса и этим восстановил против себя церковных иерархов. Традиционно считалось, что магнитный полюс был утвержден Богом и недвижимо покоился на небесах. Меркатор, подобно Копернику, посягнул на небесную высь: один остановил Солнце и заставил Землю кружить возле него, другой низверг Северный магнитный полюс, сбросил его на Землю. Это было богохульство.
Однако Меркатору не пришлось, как впоследствии Галилею, отрекаться от своих слов. Если некоторые еретики в ту пору кончали жизнь на костре, то он семь месяцев спустя получил свободу. Этим он обязан был, наверное, вмешательству ряда влиятельных лиц — поклонников его творчества. Среди них был, например, ректор Лувенского университета, считавшегося тогда «оплотом католической веры».
Переезд в тихую обитель
Следующие восемь лет Меркатор оставался в Лувене, словно боясь отстать от своего могущественного покровителя. Лишь затем немолодой ученый вместе с женой и шестью детьми переехал в Дуйсбург — в ту пору ничем не примечательный город.
Как полагают биографы Меркатора, его привлекла атмосфера веротерпимости, царившая там. Местным властям было все равно, кто были их подданные — католики, протестанты или бывшие еретики, освобожденные «условнодосрочно». Возможно, Меркатора увлекло и то, что герцог Вильгельм V Богатый собрался открыть в Дуйсбурге университет. Знаменитый картограф рассчитывал получить там кафедру.
Однако у герцога провалилась затея с университетом, и Меркатору пришлось довольствоваться местом в гимназии, только что основанной в Дуйсбурге. Несколько лет он преподавал там математику и картографию. За это Вильгельм удостоил его звания «космограф герцога». Известно, что Меркатор гордился этим титулом. Он начертан и на его надгробном памятнике.
Переезжая в Дуйсбург, Меркатор, не в пример беднякам и бродягам, взял с собой «хитрый скарб» — множество орудий и материалов, нужных ему в работе, в том числе гравировальные пластины и измерительные инструменты.
На новом месте он быстро наладил производство карт и глобусов. В то время многие знатные люди со всей Европы мечтали заполучить глобусы и карты, изготовленные им. Хороший глобус тогда мог стоить — в пересчете на наши деньги — несколько десятков тысяч евро. Список клиентов Меркатора — это «Золотые страницы» XVI века. Крупные купцы, кардиналы, епископы — все они покупали его продукцию. Даже император Священной Римской империи Карл V, сам любитель астрономии и натурфилософии, заказывал у него астрономические приборы.
Впоследствии новый император Максимилиан II гарантировал Меркатору защиту авторских прав на его работы. Если кто-либо тайно копировал его карты, или перерисовывал, или перепечатывал их, тот присуждался к уплате штрафа в «20 марок золотом».
В Дуйсбурге, в тихом провинциальном городке, Меркатор обрел покой, так нужный ему для работы. Здесь он создал самые знаменитые свои карты. В 1554 году была завершена настенная карта Европы, состоявшая из 15 листов. Впервые на ней было точно передано взаимное положение европейских стран. На протяжении полутора столетий она служила образцом для картографов Европы.
Проекция Меркатора и «латентный империализм»
В 1569 году появилась карта мира Меркатора, состоявшая из 21 листа. Общие ее размеры достигали 134 х 212 сантиметров. Нельзя было слыть ученым человеком и не знать этого шедевра, показывавшего мир таким, каков он есть. Впервые в этой работе была последовательно применена так называемая проекция Меркатора.
«Ad usum navigantium» («Для нужд мореплавания») — заголовок карты сообщал, кому в первую очередь она была адресована: «Новое и переработанное описание мира, лучше всего приспособленное для нужд мореплавания». Целью Меркатора было дать морякам, плывущим среди неведомых, бескрайних вод, четкие ориентиры — образы тех морей и океанов, по которым они стремят свой путь.
Так и вышло. Эта карта совершила революцию в морском судоходстве. Тогда, в XVI веке, в эпоху Великих географических открытий, европейские мореплаватели уже не боязливо, как прежде, до Колумба и Васко да Гама, а деловито, сноровисто плавали из Европы в самые дальние уголки земного шара. Теперь уже важно было знать, не куда они плывут (белые пятна материков получили наконец четкие береговые очертания), а как быстрее добраться в ту или иную точку Земли, в ту или иную европейскую колонию. Каким маршрутом лучше следовать, например, из Европы в Америку или из Европы в Индию?
Маршруты нужно пролагать по карте, предельно точно изображающей земной шар. Но в том-то и дело, что «шар»! Как спроецировать на плоский лист бумаги поверхность земного шара с наименьшими искажениями?
Поясним это на примере, понятном каждому. Возьмем яйцо. Пусть оно заменяет нам земной шар, а его скорлупа уподобится поверхности нашей планеты. Очистим яйцо от скорлупы и попытаемся разложить ее на столе так, чтобы по ней можно было судить о том, как выглядит яйцо. Бессмысленная задача! На плоскости стола будут лежать отдельные, особливые скорлупки, не соединимые друг с другом, разделенные широкими просветами.
Такого рода проблема ждала и картографов раннего Нового времени. Они могли довольно точно изображать отдельные области Земли, но, составленные вместе, эти фрагменты рождали неправдоподобную картину. Расстояния между отдаленными районами планеты значительно изменялись, путая в расчетах мореплавателей и купцов.
Мир искажался, втиснутый в рамки плоской картины. Нужно было найти способ свести неточности к разумному минимуму.
Это казалось невозможным, но Меркатор нашел неожиданно простое, гениаль
© Волков А.В., 2022
© ООО «Издательство «Яуза», 2023
© ООО «Издательство «Эксмо», 2023
1. Тайны забытых ритуалов
Кровавый навет
С тех пор как в начале IV века нашей эры христианство окончательно стало официальной религией Римской империи, прежняя неприязнь к евреям, не раз восстававшим против римского господства, облеклась наконец в религиозную оболочку. Христианство, вызревшее в недрах иудаизма, отчаянно порывало со своим прошлым, всячески понося и растаптывая ту ветхую форму, в которой ему довелось стесненно расти.
С этого момента любые проявления антисемитизма в Европе будут в течение долгого времени иметь религиозный характер. В идеале христиане хотели бы крестить всех евреев и обратить их в свою веру, но те сопротивлялись этому. Упорство, с которым иудеи отстаивали религиозную самобытность (а подспудно и религиозное первенство), лишь разжигало к ним ненависть среди христиан. Иудеи твердо соблюдали свои обычаи, отказывались креститься и не верили в то, что Христос своими страданиями на кресте спас человечество.
Все это делало их подозрительными, «греховными» в глазах христиан. Многие люди охотно верили в самые страшные небылицы, что рассказывали о евреях.
Уже Блаженный Иероним (347–420) объявил евреев «богоубийцами». В «Четырех книгах толкований на Евангелие от Матфея к Евсевию» он пишет, например, «что не только Ирод, но и священники, и книжники в то же самое время замышляли убийство Гэспода» (кн. 1). По этой причине, продолжал Иероним, «иудеи из головы обратятся к хвосту, а мы из хвоста изменимся в голову» (кн. 3), или, как сказал Спаситель, «будут первые последними, и последние первыми» (Мф. 19:30).
Другой Отец Церкви, Иоанн Златоуст (347–407), в благородном гневе, так ярко характеризующем ранних христиан, назвал синагогу «сборищем христоубийц». В своем первом «слове против иудеев» он безжалостно рек: «Так надобно судить и о синагоге. Если там не стоит идол, зато живут демоны» («Против иудеев», сл. I, 6). И как не признать, что место, «где собираются христоубийцы, где преследуют крест, где хулят Бога, не знают Отца, поносят Сына, отвергают благодать Духа, где еще находятся и самые демоны, – такое место не более ли пагубно [чем любое другое капище]» («Против иудеев», сл. I, 6)?
Это обвинение утвердилось на века, породив и другие наветы. В самом деле, где убийцы Бога, там и убийцы людей – тайные отравители, подлые губители христианских душ.
В эпоху Крестовых походов отношения между христианами и иноверцами обостряются не только на Востоке, но и на Западе. Начиная с XII века в различных европейских городах все чаще вспыхивают гонения на евреев. Их обвиняют в том, что они оскверняют гостии (облатки для причастия), совершают ритуальные убийства детей и даже замышляют массовые казни христиан – отравляют колодцы и другие источники воды.
Легенда о том, что евреи используют чистую кровь крещеных младенцев и отроков для совершения обрядов в дни своих праздников или же в медицинских целях, бытует с давних времен.
Смерть в Норвиче
Первое упоминание о кровавом навете датируется 1144 годом. В ту пору Норвич (Норидж), расположенный к северо-востоку от Лондона, был вторым по величине городом Англии. Несколько дней требовалось тогда, чтобы добраться в Норвич из английской столицы.
Там и разыгралось первое действие этой тысячелетней трагедии. В важный для всех христиан день – в Страстную (Великую) субботу – пропавший накануне мальчик по имени Уильям был найден мертвым в лесу в окрестности Норвича.
Подозрение сразу пало на местных евреев – тем более что Уильям исчез на второй день еврейского праздника Песах. Однако шериф Джон де Чезни не поверил злым языкам и взял подозреваемых под защиту. С его мнением согласились и тогдашний епископ Норвича Эборард (1070–1147), и король Стефан.
Но дело только начиналось. Около 1150 года в Норвич приехал монах-бенедиктинец Томас Монмутский. Смерть невинного отрока так потрясла вдохновенного монаха, что он принялся писать его биографию, которая с каждым годом становилась все пространнее. Когда в 1172 году Томас умер и его «труд усердный, безымянный» был завершен – «исполнен долг, завещанный от Бога» (А. С. Пушкин), рукопись его сочинения «The Life and Passion of Saint William the Martyr of Norwich» («Житие и страсти святого мученика Уильяма Норвичского») насчитывала уже 7 книг.
Краткое их содержание таково: в марте 1144 года коварные евреи за три шиллинга наняли у одной женщины ее сына – двенадцатилетнего мальчика, ученика скорняка (мастера по выделке мехов и кожи; в то время Норвич стал одним из главных в Англии центров кожевенной торговли).
Евреи обманули несчастную женщину. Забрав мальчика, они взялись его мучить, а затем распяли на кресте, как Иисуса Христа. Тело убиенного ребенка они спрятали, но преступление им скрыть не удалось. Вскоре у могилы Уильяма стали твориться чудеса. Их счет и вел автор, превознося хвалы благочестивому отроку.
Между тем спохватились власти. По их приказу в 1151 году могилу мальчика разрыли и его останки перенесли в Норвичский собор, похоронив их у центрального алтаря. С этого времени началось почитание убиенного отрока. Наплыв посетителей к гробу был так велик, что уже три года спустя останки Уильяма-мученика вновь перезахоронили – теперь в боковой часовне в северной части собора.
В ближайшие годы в лесу, на месте, где отыскали тело, также была возведена часовня. Ее так и назвали «часовней святого Уильяма-в-лесу». Она простояла несколько столетий, пока не была разрушена в годы церковной Реформации.
Со временем все больше паломников приезжали в Норвич. Это приносило немалый доход недавно сооруженному собору, строительство которого длилось полвека; оно началось в 1096 году и завершилось лишь через год после смерти Уильяма – в 1145-м.
Таким образом, в Норвиче и его окрестности сложился культ мальчика-мученика. Папа римский, правда, не стал освящать этот культ своим титулом «наместника Христа». Однако английские епископы поддержали Томаса Монмутского и тем самым узаконили обвинения евреев в том, что те совершают ритуальные убийства.
Преступление и возмездие
Суть кровавого навета выражена в следующих словах, пишут немецкие историки Штефан Рорбахер и Михаэль Шмидт на страницах книги «Еврейские образы. Культурная история антииудейских мифов и антисемитских предрассудков» (S. Rohrbacher, М. Schmidt. «Judenbilder. Kulturgeschichte antijudischer Mythen und antisemitischer Vorurteile», 1991).
«В свое время евреи покупали на Пасху крещеного ребенка и предавали его всяческим мукам, кои претерпел наш Господь. В Великую же субботу его распинали на кресте, как Господа нашего, а потом хоронили.
Они думали, что деяния их не будут обнаружены, но Господь наш открыл всем, что погибший мальчик стал святым мучеником, и монахи тогда похоронили его по всем порядкам в монастыре, и в знак благодарности Господь наш явил людям великие и многообразные чудеса, а мальчика отныне стали звать “святым Уильямом”».
Из рассказа Томаса Монмутского явствует, что евреи казнили Уильяма потому, что решили отомстить христианам за все то зло, что те причинили им, в праведном гневе наказывая евреев за муки, кои по их вине претерпел Господь. За эту подлую месть с ними впоследствии и разобрались добрые христиане.
В реальности же с евреями захотели расправиться в Норвиче совсем по другой причине – из-за денег. Уильям был найден мертвым в 1144 году. Пять лет спустя в город вернулись участники Второго крестового похода (1147–1149). Они не снискали себе на Востоке богатств и теперь испытывали нужду во всем.
Один из них, обедневший рыцарь по имени Симон де Новер, задолжавший еврейскому ростовщику Дельсо, убил своего кредитора. В 1150 году Симон предстал в Лондоне перед судом.
Чтобы оправдать Новера, его защитник, новый епископ Норвича, Уильям Тарб, обвинил евреев в том, что те несколько лет назад коварно казнили местного мальчика – Уильяма. К тому времени уже не было в живых ни шерифа, ранее взявшего под защиту евреев (он скончался в 1147 году), ни прежнего епископа. Евреи были выданы на расправу.
Как сообщает американский историк Эмили М. Роуз в книге «Убийство Уильяма Норвичского: Происхождение кровавого навета в средневековой Европе» (Е.М. Rose. «The Murder of William of Norwich: The Origins of Blood Libel in Medieval Europe», 2015; рус. изд. 2021), монах Томас Монмутский, «желая помочь следствию», назвал имя человека, который якобы похитил мальчика, а затем замучил его до смерти. По его словам, это был тот самый Дельсо, с коим достойно расправился крестоносец.
На суде вскрылись и новые «страшные подробности». Другой монах-бенедиктинец, Теобальд Кембриджский – еврей, принявший христианство, – поведал о том, что каждый год еврейские заправилы, живущие в Испании, тайно встречаются и выбирают по жребию место – страну и город, – где надлежит на этот раз похитить крещеного ребенка и принести его в жертву. Так они мстят всем христианам за свое новое пленение.
Кровь убитого ребенка разливают и развозят по всем еврейским общинам для совершения важнейших обрядов. Считается, что лишь эта ежегодная жертва позволит евреям вновь обрести свободу и вернуться на землю обетованную, отмечал английский историк Август Джессоп в предисловии к переизданию книги Томаса Монмутского, посвященной страданиям юного Уильяма (A. Jessop. «The Life And Miracles Of St William Of Norwich By Thomas Of Monmouth», 1896). Кровь невинных детей якобы угодна еврейскому Богу.
Итак, уже в этой книге впервые в средневековой Европе возникает легенда о «еврейском заговоре», пишет немецкий историк Райнер Эрб в очерке «Легенда о ритуальном убийстве: от зарождения до начала XX века» (R. Erb. «Die Ritualmordlegende: Von den Anfangen bis ins 20. Jahrhundert»', опубликован в сборнике «Ритуальное убийство: легенды в европейской истории» ⁄ «Ritualmord: Legenden in der europaischen Geschichte», 2003). Вина в этой легенде «возлагается не на отдельных людей, а на всех евреев».
Вскоре идея всемирного еврейского заговора распространилась по всей Европе. Изначально она сводилась к тому, что в канун праздника Песах, вновь и вновь пробуждающего в евреях надежду на то, что их «пленение» когда-нибудь кончится и все они встретятся в Иерусалиме, они в ритуальных целях совершают убийства христианских детей.
Но теперь настало возмездие. Суд в Норвиче постановил, что злодеи-нехристи должны быть осуждены и казнены. Никакие другие версии гибели отрока, невинного спутника Христова, уже не рассматривались, хотя с мальчиком мог расправиться преступник, он мог погибнуть по неосторожности и т. п.
Так был создан роковой прецедент, положивший начало массовым преследованиям евреев, пишет Райнер Эрб. Отныне, где бы ни погибали или ни пропадали дети, во всем винили евреев. Эта кровавая легенда будет оживать в различных районах Европы вплоть до XX века – всюду, где изумленные и растерянные люди станут находить тела убитых кем-то детей.
Отголоском ее явилось и «дело Бейлиса» в России в 1911–1913 годах. Тогда в пещере в предместье Киева был обнаружен мальчик, заколотый шилом, – двенадцатилетний Андрей Ющинский. Виновником этого убийства был назван в намеренной спешке киевский мещанин Менахем-Мендель Тевьевич Бейлис (1874–1934), оправданный на суде после двухлетнего следственного разбирательства.
Карта кровавых мальчиков
Но вернемся в Средние века. Как считалось тогда, ритуальные убийства, якобы совершаемые евреями, включали и своего рода «договор с дьяволом» (христиан обманным способом убеждали продать своего ребенка), и ритуальное пролитие крови (несчастного обрезали и закалывали), и мнимое («пародийное») распятие (у убиенного непременно имелось пять ран), и каннибальскую жертвенную трапезу (издевательски переиначенную евхаристию).
После откровений, явленных в связи с убийством Уильяма Норвичского, число обвинений евреев в ритуальных преступлениях стало быстро множиться, все сильнее возбуждая в народе ненависть к этим нехристям. Казалось бы, подобные преследования должны были в конце концов отвратить их от иудейской веры. Но этого не происходило. Они предпочитали умирать, но не предавать заветную веру предков.
В 1171 году во французском Блуа пошли разговоры о том, что евреи бросили в реку мертвого мальчика-христианина. Река, вообще-то, была опасна сама по себе, ведь в ту пору «дух воды» был едва ли не главным ненавистником детей. Любой малыш, стоило ему без присмотра свалиться в воду, мог пойти на дно, как топор.
Эмили М. Роуз пишет: «…Средневековые семьи жили в опасном мире: дети падали в колодцы, пруды и ведра, и утопление было самой распространенной разновидностью несчастных случаев, отмеченных в записях папских нотариусов» («Убийство Уильяма Норвичского…», ч. II, гл. 5).
Кроме того, тело мальчика, якобы брошенное в реку в Блуа, так и не нашли, да и в городе никто тогда не жаловался на пропажу ребенка. Тем не менее в Блуа по настоянию епископа и местного графа начался суд над евреями, обвиненными в убийстве. Им предложили креститься, чтобы искупить вину. Они отказались, и 26 мая 1171 года в Блуа были сожжены более 30 евреев. Аббат Роберт де Ториньи в своей хронике оправдал массовую расправу, описав совершенное «противниками Христа» убийство.
Свои дети-мученики появились и в других городах Англии, Франции, Испании, Германии: Гарольд в Глостере (1168), Роберт в Лондоне (1181), Ришар в Понтуазе (1182). Все они якобы подвергались пыткам и были затем распяты так же, как дети в Париже (1179) и Сарагосе (1182; 1250). Все евреи, обвиненные в этих убийствах, были казнены, отмечают Рорбахер и Шмидт.
В 1191 году в местечке Бре-сюр-Сен, в сотне километров от Парижа, королевский вассал убил еврея. Родственники жертвы отказались от денег, обещанных убийцей, и потребовали выдать им преступника. Его казнили в тот день, когда евреи праздновали Пурим, и многие восприняли эту страшную сцену как ритуальное убийство евреями христианина.
Узнав об этом, король Филипп II Август сам приехал в Бре-сюр-Сен и объявил местным евреям, что они должны креститься или же все умрут. Многие тогда покончили с собой; другие же – 80 человек – были осуждены, их сожгли на костре.
В 1235 году в немецком городе Фульда, в ночь перед Рождеством, при пожаре погибли пятеро детей. В их смерти сразу обвинили евреев: у двух мальчиков они якобы забрали всю кровь, перелив ее в специально приготовленные сосуды. Прозвучало тогда, отмечает Эмили М. Роуз, и обвинение в ритуальном каннибализме. Через несколько дней в городе начался погром. Были убиты 34 еврея.
По приказу императора Фридриха II было проведено расследование этой трагедии. Изучив священный для иудеев Талмуд, дознаватели не нашли никаких упоминаний о том, что человеческую кровь можно использовать в особых ритуалах.
Однако слухи про то, как «евреи пьют кровь христианских младенцев», продолжали расползаться повсюду. Хулителей не останавливало даже то, что светские правители и папы римские (например, Иннокентий IV) отвергали эти обвинения и даже осуждали тех, кто фанатично верил в кровавый навет.
В 1244 году в Лондоне был найден мертвый младенец. В его смерти опять же обвинили евреев, а рубцы на его теле сочли тайными еврейскими знаками. Однако в суде не удалось доказать причастность евреев к смерти ребенка; на обвиняемых лишь наложили крупный денежный штраф.
Впрочем, в другом случае английские власти не были так милосердны. В 1255 году в Линкольне, возле дома некоего еврея, нашли убитого мальчика по имени Хью. Хозяина дома пытали, он признался в убийстве и был повешен в Лондоне. Тогда король Генрих III обвинил евреев в совершении ритуальных убийств, и после показательного процесса было повешено еще 97 евреев, пишет Райнер Эрб (по другим сведениям, их было 18).
На протяжении всего Средневековья подобные процессы проводились не раз, в том числе и в тех случаях, когда находили трупы не мальчиков, а девочек: в Боппарде (1179, Германия), Шпайере (1195, Германия), Лиенце (1244, Австрия), Вальреасе (1247, Франция), Пфорцхайме (1267, Германия). Таким образом, смерть ребенка, ставшего, например, жертвой педофила, могла спровоцировать в те времена убийство многих десятков евреев.
В Германии пик гонений на евреев пришелся на 1280-1340-е годы. Чаще всего погромы происходили в крупных городах, где имелась влиятельная еврейская община. Богатых евреев изгоняли из города, или они сами вынуждены были бежать, спасая свою жизнь. Городские власти конфисковывали их имущество. Тем же, кто хотел остаться на обжитом месте, приходилось уплачивать в казну крупную сумму денег.
Под властью легенды
Рассказы о ритуальных убийствах укоренились даже в фольклоре. Около 1200 года в Англии возникла легенда о мальчике, учившемся в монастырской школе и случайно зашедшем в еврейский квартал. Он брел по улочкам и распевал гимн «Alma redemptoris mater» в честь Пресвятой Девы Марии («Любить мать нашего Спасителя»). Злобный еврей, завидев его, убил мальчишку, а хладный труп закопал в подвале дома. Но песня, начатая ребенком, все не стихала. Злодей не мог ни задушить ее, ни приглушить. Ее звуки и выдали его.
В XIV веке английский поэт Джеффри Чосер (1342/1343— 1400) использовал сюжет этой легенды в «Кентерберийских рассказах», связав свою историю и со смертью Хью из Линкольна, и с Иродовым избиением еврейских младенцев, о котором рассказано в Евангелии от Матфея (2:16). Вот как говорится об этом у Чосера:
- «Как я уже сказала, проходил
- Через квартал еврейский мальчик в школу
- И гимн Марии пел что было сил;
- И разносился голосок веселый;
- А если ученик наш шел из школы,
- То удержаться и не петь не мог,
- Покуда не ступал на свой порог.
- Но сатана, гнездо от века вьет
- В сердцах евреев; он сказал: «Увы!
- Народ Израиля! Ваш удел не мед.
- Так неужели разрешите вы,
- Чтобы мальчишка этот, сын вдовы,
- Так оскорблял, без страха и без меры,
- Священные устои нашей веры?!»
- Тут меж евреев было решено
- Со света сжить вдовицыного сына;
- Убийца нанятый, когда темно
- И поздно стало, ни души единой
- Не видно было в улице пустынной, —
- Его схватил, скрутил на месте прямо,
- И, горло перерезав, бросил в яму.
- Я говорю, что выбросил он тело
- В дыру, куда сливали нечистоты.
- О, Иродов новейших злое дело!
- Народ, Всевышним проклятый! На что ты
- Рассчитывал? Дурны твои расчеты —
- Ведь к небу вопиет такая кровь,
- А Божья честь восторжествует вновь!»
(«Рассказ аббатисы», 99-126; пер. Т. Поповой)
Подобные легенды лишь разжигали ненависть к евреям. В конце концов в 1290 году почти всех иудеев изгнали из Англии (небольшие еврейские общины сохранились в отдельных английских городах).
В начале XIV века евреев стали обвинять в ритуальных убийствах уже в Восточной Европе (Прага, 1305; Брно, 1343).
Впрочем, с приходом в Европу чумы в конце 1340-х годов о ритуальных убийствах на время забыли. Теперь причины погромов стали иными. Евреев обвиняли в том, что они «сеют заразу среди христиан и отравляют колодцы».
С изобретением книгопечатания легенда о ритуальных убийствах, совершаемых евреями, стала тиражироваться. Новые средства информации разносили древнюю ненависть повсюду. Антисемитизм сделался товаром массового потребления, стал неотъемлемой частью любого религиозного и идеологического движения, будь то Реформация или Контрреформация, эпоха Просвещения или наступившая в XIX веке эпоха партийно-политического переустройства мира на светских основаниях. Всюду во всех этих массовых движениях отчетливо проступала (а то и вовсе доминировала) антисемитская составляющая. Научное мировоззрение так же было не свободно от этого, как и религиозное.
Лишь весной 1989 года ватиканская Конгрегация богослужения и дисциплины таинств объявила: «Надлежит со всею убедительностью сказать, что евреи никогда не совершали ритуальных убийств. Любой современный христианин должен однозначно осудить подобные россказни как отвратительную и бесстыдную клевету на еврейский народ».
Увы, легенда не умерла и поныне. Например, 10 марта 2002 года влиятельная саудовская газета «А1 Riyadh» опубликовала статью об «ужасном обычае» евреев. В ней, в частности, говорилось (цитируется по очерку Райнера Эрба): «Я хотел бы рассказать вам сегодня о празднике Пурим <…> В этот праздничный день каждый еврей должен приготовить особую выпечку, чья начинка не только дорого стоит, но и так редка, что ее не найти ни на местных, ни на международных рынках. <…> Евреи обязаны разжиться к этому праздничному дню человеческой кровью, чтобы приготовить для своих священников эту выпечку. <…> Пролитие человеческой крови евреями ради приготовления праздничной выпечки – это факт, который исторически и юридически доказан на протяжении всей истории еврейского народа. Собственно говоря, это – одна из главных причин, по которой евреев во все времена преследовали и изгоняли как в Европе, так и в Азии» (R. Erb. «Die Ritualmordlegende…», 2003).
Как видите, легенда о кровавых ритуалах евреев все еще жива и сеет ненависть не в Европе, так в Азии.
Массовый психоз 1348–1349 годов
Кровавый навет – не единственное жестокое обвинение в адрес евреев. В далеком прошлом, когда в той или иной европейской стране вспыхивала эпидемия, именно их, иноверцев, называли распространителями заразы. Меры по защите от эпидемии в те времена часто сводились к преследованию евреев.
Атомы заразы
В 1347 году в Европу пришла «черная смерть» – чума. Поначалу пандемия охватила Турцию, Византию и Южную Италию. Год спустя люди стали массово умирать от чумы в Испании, Франции, Швейцарии и Южной Германии. В 1349 году «черная смерть» поразила Северную и Восточную Европу.
С античных времен в Европе не было вспышек чумы. Когда в 1348 году ее очаг обнаружился в Марселе, болезнь быстро распространилась по всему югу Франции. Ужас охватил людей и в Провансе, и в Каталонии. Вскоре жертвы неведомого недуга исчислялись тысячами.
Никто не мог понять, почему все вокруг умирают в страшных муках. Ни врачи, ни ученые мужи не могли сказать, что стало причиной всеобщего мора.
В то время медицина была бессильна против этой болезни. Казалось, всякий отмеченный ее знаком, неминуемо умрет, словно отравленный сильнейшим ядом. Смертность от чумы была так высока, что, как полагают некоторые историки, даже если бы Европу постигла ядерная катастрофа, процент выживших был бы выше, а социальные и экономические последствия не оказались бы такими тяжелыми. Общее число жертв «черной смерти» в Европе в 1347–1352 годах оценивается в 25 миллионов человек (это треть всего тогдашнего европейского населения).
Для Европы, как и для Ближнего и Среднего Востока, чума была новой, незнакомой болезнью. У людей не имелось против нее иммунитета. Чума распространялась очень быстро, поскольку вероятность заразиться ею была крайне высока. Как же было справиться с пандемией?
Лучшие средневековые врачи в своей практике опирались на достижения античной медицины. В случае с чумой это было ошибкой, ведь, по мнению греческих мудрецов, любая эпидемия возникает потому, что при определенных условиях в окружающей среде распространяются, миазмы (греч. р[аора – «нечистоты»). Эти вредные вещества отравляют воздух и воду. Люди вдыхают их или заражаются ими, когда пьют воду из источников. Образуются миазмы в жаркое время года – под действием солнечных лучей тогда испаряется вода в болотах, разлагается падаль, портятся и гниют остатки еды. В этой падали и гнили, среди стоячих болотных вод плодится зараза. Отсюда она перекидывается на людей.
Основателем учения о миазмах слыл знаменитый древнегреческий врач Гиппократ (460–370 гг. до н. э.). Это учение считалось непогрешимым вплоть до тех пор, пока биологи не открыли рядом с нами целый мир невидимых невооруженным взглядом вирусов и бактерий. Античные и средневековые врачи были уверены в том, что страшные эпидемии распространяются по воздуху при помощи миазмов. Зловонные запахи, принесенные порывами ветра, могут так же легко лишить нас жизни, как и языки пламени, ветром же раздуваемого. Невидимый яд болезни столь же опасен, как зримое жало огня.
Сами «атомы заразы», ее мельчайшие элементы, античным врачам не удалось выделить. Однако с тех пор, как возникла эта теория, медики были убеждены в том, что она верна. Итак, заражение чумой, если довериться этому античному учению, было сродни массовому отравлению. Только яд в этом случае попадал в организм жертвы не с пищей, а с воздухом или водой – он был распылен в воздухе или растворен в колодце, откуда берут воду для питья. Потому лучшим способом спастись от болезни – от ядовитого мора – было бы бежать из страны. Подобный поступок – не постыдный порок паники, он вполне разумен, он порожден научным императивом.
Страх перед миазмами подчас побуждал власти объявлять карантин в случае прихода эпидемии. Впрочем, подобная мера, пусть и принятая по ошибочным соображениям, все-таки помешала тому, чтобы та же чума выкосила все население Европы. Иногда и мифический домысел бывает так же спасителен, как правда.
Учение о миазмах было общепризнанной тогдашней истиной, а вот среди простого люда было популярно суеверие особого рода. Считалось, что некоторые болезни – допустим, та же чума – каким-то образом передаются от человека к человеку. Многие боялись зачумленных больных как огня; старались не приближаться к ним. Механизм передачи недуга, правда, никто не мог объяснить. Говорили о некоем «клейком яде», что источали тела несчастных. Этот яд пропитывал одежду больных, предметы, до которых они дотрагивались. Яд попадал в окружающую среду вместе с естественными выделениями организма. Его пытались нейтрализовать уксусом и ароматическими веществами.
Распространилось и другое суеверие. После того как были опробованы все известные методы и средства – карантин, изгнание больных, лечение снадобьями, даже переселение людей из районов, которым грозит бедствие, – и это не принесло никакого спасения, стали подозревать неладное. Возможно, кто-то нарочно насылает на людей эту болезнь, специально заражает их чумой, тайно отравляет источники воды, например колодцы? Кто это может быть?
Нашлось лишь одно «разумное» объяснение. Раз от чумы массово гибнут христиане, значит, виной всему иноверцы, живущие среди них. Имя этим нелюдям — евреи. Их издавна считали способными на любые преступления против человечества. Они тайно травят весь христианский люд, чтобы вольготно жить по своей вере.
Всюду разлетелся слух о том, что евреи чем-то отравляют колодцы и другие источники. Любой человек, испивший оттуда воды, неминуемо заболевает. Большинство простых людей действительно поверили в эту «теорию заговора».
Чужой – это враг
К середине XIV века евреи жили в большинстве немецких княжеств и во всех имперских городах. Жили с согласия властей и находились под их защитой, что гарантировало им определенные права и свободы, пусть они и были отделены от христиан, селились в особых кварталах – гетто – и не имели права заниматься некоторыми видами деятельности. В 1236 году император Фридрих II даже взял евреев под свою личную защиту, объявив их «камеркнехтами», то есть слугами императорской казны.
Подобная забота о евреях объяснялась, впрочем, корыстными интересами властей. Евреев обязывали уплачивать грабительский налог – буквально выжимали у них деньги.
В первой половине XIV века, например, сумма налога, уплачиваемая евреями в Ротенбурге-об-дер-Таубере, была в восемь раз выше той, что платили христиане. Во многих местах с евреев дополнительно требовали деньги на «защиту города» или «нужды городских властей», хотя их самих не привлекали к управлению городом и не давали им в руки оружие, когда городу угрожала опасность.
Находясь в стесненном положении, евреи соглашались со всем, что от них требовали, и смиренно платили нужную сумму. Однако когда пришла чума, быстро выяснилось, что вся их свобода и безопасность, которую они так долго оплачивали, не стоит ровным счетом ничего.
Чума породила панику, а та – массовый психоз. Первые обвинения в адрес евреев зазвучали в 1348 году, когда чума распространилась на севере Испании и в Провансе. Обвинения казались разумными. Чтобы победить чуму, надо было избавиться от евреев – изгнать или убить их.
Там же вспыхнули и первые еврейские погромы. Вскоре убийства евреев начались в Италии и Швейцарии. Нападениям предшествовали слухи о том, что «евреи-то совсем не болеют чумой». В них сразу увидели убийц.
В этих слухах была доля правды. Похоже, что евреи тогда вели себя осторожнее большинства христиан. Они догадывались, что чумой можно заразиться от другого, больного человека и избегали нежелательных контактов с людьми. «Чужой – это враг», «Враг – это ты» – отныне они стали жить по этому мрачному закону.
Их же, хитроумных чужаков, и обвинили во всеобщих бедах. Под пытками они признавались, что подбрасывали отраву в колодцы. Сыпали туда красные, зеленые и черные порошки, принуждаемые к тому раввинами. Под пытками же уверяли, что все евреи начиная с семи лет были посвящены в эту тайну и причастны к отравлению колодцев. Признаний было достаточно для скорого суда.
(Отметим в скобках, что в этой догадке у обвинителей была своя логика. С античных времен в практику военных действий входило уничтожение колодцев. Для этого, например, туда кидали трупы животных, чтобы извести врагов трупным ядом. Вот и в разгар эпидемии напрашивался схожий вывод: люди болеют и умирают потому, что кто-то отравляет колодцы.)
Тем временем появились вещественные доказательства. Среди евреев было много врачей. При обыске в их домах, среди запасов снадобий, легко находились странные порошки – предполагаемые яды.
Всех подозрительных евреев начали бросать в тюрьмы и пытать. Они признавались в страшных преступлениях, ими совершенных или готовящихся. Следовали новые аресты. С изобличенными же евреями расправлялись и извещали об этом власти соседних городков.
Уже тогда во многих городах Европы имелись еврейские общины. Им и пришлось испытать на себе убийственные нападки толпы. Словно некий неумолимый план был приведен в действие. У евреев оставалась одна надежда на спасение – предать веру отцов и креститься. Но немногие соглашались на это.
В ряде случаев, стремясь упредить расправу, евреи кончали с собой. Еврейский историк и философ Яков бен Ханан, автор книги «Евреи и немцы: долгий путь в Освенцим», охарактеризовал эти самоубийства, о которых сообщали хронисты, как акт отчаяния и своего рода религиозное мученичество: «Еврейская религия запрещает самоубийство, дозволяя его лишь тем, кто в противном случае, сохранив себе жизнь, будет вынужден отречься от Бога. А вынужденное крещение было для тех евреев отвержением Бога, самоубийство же означало в подобной ситуации прославление Бога» (Y. Ben-Chanan. «Juden und Deutsche: Der lange Weg nach Auschwitz», 1993).
В результате этих гонений были убиты сотни тысяч евреев (согласно «Judisches Lexikon», Bd. 2, 1987). В одной только Германии погибли примерно две трети всех евреев, проживавших в стране. Около 350 еврейских общин за время эпидемии были полностью уничтожены – не чумой, а людьми (статистика заметно разнится. – А. В.). Большая часть из этих общин располагалась на территории Священной Римской империи, а также на юге Франции.
Как отмечает немецкий историк Кристиан Шолль, автор очерка «Преследования евреев во время “черной смерти” на примере верхненемецких имперских городов Ульма, Аугсбурга и Страсбурга», еврейские погромы во время эпидемии 1348–1352 годов были «самыми страшными в Европе вплоть до Холокоста» (С. Scholl. «Die Judenverfolgungen zur Zeit des Schwarzen Todes am Be I spiel der oberdeutschen Reichsstadte Ulm, Augsburg und StraBburg», 2019).
Лишь события Второй мировой войны вытеснили в коллективном сознании евреев память о тех страшных средневековых погромах.
Пляска смерти
В Центральной Европе первые признания от евреев были получены в сентябре – октябре 1348 года.
15 сентября 1348 года по приказу герцога Савойского допросили первых евреев на предмет отравления ими колодцев. Под пытками французский врач Бавиньи сознался в этом преступлении.
Таких же разоблачений добились бальи Лозанны (фактически бальи выполнял обязанности главы судебного округа. – А.В.) и кастелян Шильонского замка, лежавшего на берегу Женевского озера. По их приказам начали задерживать евреев и подвергать их пыткам, стремясь дознаться, кто отравляет колодцы.
Наконец некий врач признался, что среди евреев составился грандиозный заговор. Они задумали извести всех христиан и уничтожить христианскую веру. Один испанский еврей, столковавшись с французским раввином, приготовил с ним вместе загадочный яд. Его дозы были разосланы по всем еврейским общинам, чтобы повсюду, вблизи от еврейских кварталов, этот яд подсыпали в те колодцы и источники, из которых забирают воду христиане. По словам допрашиваемого, этот яд якобы и сегодня можно легко найти, если зайти к любому врачу-еврею и порыться среди его припасов («Encyclopedia Judaica», Bd. 4, 1971).
15 ноября 1348 года бальи сообщил о коварном замысле властям ближайших городов – Берна, Фрайбурга и Страсбурга («Germania Judaica», Bd. 2/1). Тотчас же дознаватели взялись за работу во всех окрестных землях. Вскоре из разных городков в Швейцарии и на юге Германии стали сообщать об их успехах.
Так известие о «коварном заговоре» евреев стало распространяться с тою же скоростью, что и чума.
Во время обысков в местечке Цофинген (ныне – Швейцария) яд нашли в доме еврея Трестли. Под пытками еще четверо евреев признались в том, что давали яд собакам, свиньям и курам, пишет Клаус Плаар в «Исследованиях по истории евреев Цофингена» (К. Plaar. «Studien zur Geschichte der Juden in Zofingen», 1993).
Уже в ноябре запылали костры в Берне и Штутгарте. Произошли погромы в Алльгое, Аугсбурге, Нердлингене, Линдау, Эслингене-ам-Неккаре и Хорбе-ам-Неккаре.
В некоторых городах, например в Золотурне (сегодня это Швейцария), сперва щадили крещеных евреев, но затем, поскольку эпидемия после расправы над остальными евреями так и не стихла, решили сжечь и их («Germania Judaica», Bd. 2/2).
В немецком городе Фрайбурге один из евреев под пытками сказал, что имел при себе яд. Яд же сильнейший, рек он, мучимый, был привезен из-за моря, из Иерусалима-города, и убивает он только христиан, не причиняя вреда евреям. Слишком долго христиане властвовали над миром, а теперь пришло время евреям стать господами («Germania Judaica», Bd. 2/1).
Другой врач поведал, что разослал яд во все еврейские общины, чтобы всюду травить добрых христиан («Germania Judaica», Bd. 2/1).
В актовой книге Фрайбурга сохранилась запись от 23 января 1349 года: «…Все евреи, кто был во Фрайбурге в городе, сожжены».
Иначе поступили власти Базеля. Они поначалу не поверили слухам, доходившим из Берна и Цофингена. Сами провели следствие и убедились, что евреи ни в чем не виноваты. Пришлось изгнать из города нескольких рыцарей, учинивших самосуд. Однако это «соломоново решение» не успокоило горожан. Начались беспорядки, цехи ремесленников Базеля взбунтовались, и тогда власти отменили свой приговор.
На песчаной отмели у берега Рейна был построен огромный деревянный сарай. Туда в середине января 1349 года загнали шесть сотен евреев и сожгли. Позднее в Базеле взялись за крещеных евреев. Под пытками те признавались, что отравляли не только воду в колодцах, но также масло и вино. Всех их либо колесовали, либо сожгли. Сто тридцать осиротевших еврейских детей насильно крестили («Germania Judaica», Bd. 2/1).
В Страсбурге на все происходившее тоже сперва реагировали сдержанно, даже затребовали образец яда из Цофингена, сообщает Клаус Плаар. Однако тамошние власти отказались это сделать и предложили ознакомиться с ядом прямо у них на месте.
Тогда в Страсбурге задержали группу евреев и заставили их выпить воды из источника, который был, как считалось, евреями же и отравлен. Однако три недели испытаний не подтвердили мрачную догадку. Все испытуемые оставались живы. Тем не менее недоверие к евреям не уменьшилось. Власти города распорядились взять под охрану все источники и колодцы, раз они не были отравлены. Вот только эту меру восприняли как веское доказательство вины евреев, ведь охрану выставили явно для того, чтобы они не отравили воду. Значит, евреи не оставляют попыток подсыпать туда яда? Логично? («Germania Judaica», Bd. 2/2).
Тем временем власти Кёльна обратились с письмом к коллегам из Страсбурга, призывая их не допускать расправы с евреями, раз те невиновны, – иначе в городе может вспыхнуть бунт, если позволить простолюдинам убивать всех, кто им не мил. Рано или поздно чернь истребит тогда и всех уважаемых горожан. Вслед за домами евреев разгромит и их дома («Germania Judaica», Bd. 2/2).
Однако предостережения были напрасны. Все кончилось плохо и для Кёльна, и для Страсбурга. Беспорядки вспыхнули в обоих городах. В Страсбурге вооруженные ремесленники заставили уйти в отставку членов городского совета. Люди, пришедшие им на смену, распорядились 13 февраля 1349 года сжечь всех евреев, кто не пожелает креститься.
Несколько дней спустя, в субботу, обвиняемых (около 1800 человек) привели на еврейское кладбище, раздели, обыскали их одежду в поисках денег, а затем всех их сожгли на огромном костре. Синагога была отдана под госпиталь («Germania Judaica», Bd. 2/2).
Страсбургский хронист написал по поводу тех событий: перед казнью евреям вернули все их закладные, а их деньги взяли себе городские власти и распределили их среди ремесленников. «Daz was ouch die vergift, die die Juden dote», «Это была именно та отрава, что погубила жидов» (цит. по книге S. Rohrbacher, М. Schmidt. «Judenbilder. Kulturgeschichte antijudischer Mythen und antisemitischer Vorurteile», 1991).
В Кёльне городские власти вплоть до лета 1349 года пресекали все попытки расправиться с евреями. Узнав об этом, многие евреи из других городов устремились в Кёльн, на спасительный островок, еще не захлестнутый волнами ненависти. Однако и здесь росло ожесточение среди горожан. В ночь на 24 августа 1349 года начался еврейский погром. Беспорядки продолжались несколько недель. Квартал, где жили евреи, выгорел, синагога была снесена, а земля под ней перерыта, поскольку распространились слухи о спрятанных там сокровищах («Germania Judaica», Bd. 2/1).
Разгромлены были общины и в других крупных городах Германии – в Вормсе, Шпайере, Майнце, Кобленце, Франкфурте, Нюрнберге. Их синагоги где-то уничтожали, где-то, как в Юбер-лингене, переоборудовали в христианские церкви и часовни: из надгробий разрушенного еврейского кладбища стали возводить дома в Мюнстере. В Нюрнберге, где в 1349 году сожгли всю еврейскую общину (560 человек), на месте синагоги возвели церковь в честь Девы Марии – Фрауэнкирхе.
Если христиане пытались защитить евреев, убивали и их, считая пособниками «дьявольского заговора». В Эвиане, на южном берегу Женевского озера, таких строптивцев четвертовали. В Аугсте, под Базелем, с них сдирали кожу. Но обычно расправлялись только с евреями, поскольку те не находили поддержку ни в ком.
В Майнце евреи, вооружившись, пытались дать отпор, но перевес был на стороне толпы («Germania Judaica», Bd. 2/2). Случаи вооруженного сопротивления евреев были отмечены и в некоторых других городах – в Кёльне, Франкфурте, Магдебурге, Эрфурте, где имелась огромная еврейская община.
Почти всегда погромщики стремились истребить всю еврейскую общину. По словам Кристиана Шолля, погромы чаще всего совершали в Шаббат – праздничный день для евреев. Врывались в их квартал в пятницу вечером или в субботу. Возможно, это объяснялось тем, что по праздникам евреи воздерживались от всех дел и находились обычно дома, а значит, тогда можно было расправиться со всеми евреями разом (С. Scholl. «Die Judenverfolgungen…», 2019).
Случалось и так, что погромщики дожидались, пока евреи соберутся на молитву в синагоге, а затем, подперев двери снаружи так, чтобы их нельзя было уже открыть, поджигали храм.
Долина плача
Еврейские погромы в ту страшную пору совершались не только в Германии, но и в Лотарингии, Нидерландах, Польше. Лишь в отдельных районах Центральной Европы евреи были избавлены от преследований, от этого страшного психоза, охватившего целые страны.
Историк XVI века Иосиф га-Коген писал в книге «Етек habacha» («Долина плача», 1575): «По прошествии года большинство евреев Гэрмании испили из кубка невзгод. с… > Лишь тем, кто жил в Вене и в городах герцога Австрийского, не довелось внять гласу гонителей, поелику Бог смилостивился к ним и внушил князю, что не дозволено творить зло. Многие евреи бежали туда и оставались там до тех пор, пока буря не миновала и Гэсподь не спас их».
Еще одним островком мира и покоя среди этой пучины ненависти стала Богемия («Germania Judaica», Bd. 2/1). Были подобные убежища и в Германии. Например, герцог Гельдерна укрыл евреев в своем замке и спас их от расправы («Germania Judaica», Bd. 2/1). Евреев пощадили и в Госларе.
Еще показательнее события, происходившие в Регенсбурге. Когда разъяренная толпа пошла на штурм еврейского квартала, на защиту несчастных вышли сам бургомистр, его помощники, а также многие горожане (всего – 254 человека). Вооружившись, они дали отпор черни, охочей до убийств («Germania Judaica», Bd. 2/2).
В некоторых городах зачинщики расправ с евреями были даже наказаны. Так, в Аугсбурге одним из убийц отрубили руки, других изгнали из города («Germania Judaica», Bd. 2/1). Но подобные случаи были все-таки исключением. Большинство людей, устраивавших самосуд, не понесли никакого наказания.
Всего, по оценке историков, бедствие не коснулось евреев в 48 немецких городах – всякий раз потому, что бургомистр, либо епископ, либо группа влиятельных горожан брали их под свою защиту и усмиряли чернь, угрожая ей суровым наказанием.
Разумеется, везде, где евреи выжили, их обязали жить в гетто. Стены отгородили их кварталы от остальных горожан – от правоверных католиков. Но в последующие полтораста лет многие евреи были прогнаны и из этих убежищ, как затравленные зверьки – из нор.
После этой пандемии еще на протяжении многих лет всякий раз, когда в немецких городах вспыхивала эпидемия, винили во всем евреев, якобы взявшихся отравлять христиан. Так было в 1382 году в Галле, в 1397 году в городах Эльзаса и в баварском Тюркхайме, в 1401 году в районе Боденского озера, где «яд был разлит в воздухе», в 1448,1453 и 1543 годах в Швейднице ⁄ Свиднице (Силезия), в 1472 году в Регенсбурге, в 1541 году в Бриге ⁄ Бжеге (Силезия), в 1665 и 1669 годах в Кёльне, а также в Бонне и его окрестности, в 1679 году в Вене, где эпидемия чумы вспыхнула в еврейском квартале.
Еще в 1543 году великий реформатор церкви Мартин Лютер в своем сочинении «Евреи и их ложные выдумки» писал: «Столь отчаянные, злом проникнутые, ядом пропитанные, дьяволом пробранные, эти евреи, что четырнадцать веков были нашим бедствием, чумой и всеми нашими несчастьями и таковыми остаются. Все так, и в них нам явлен подлинный дьявол. <…> Там нет человеческого сердца».
Впрочем, давно уже с наступлением бедствий евреев обвиняли лишь по привычке, из слепой веры в их козни, хотя во многих землях Германии их было днем с огнем не сыскать. К тому времени евреи ведь были изгнаны из многих немецких городов, но чума все так же обрушивалась на эти города, собирая свои жертвы, и, значит, дело было не в еврейском коварстве, а в чем-то другом, – может быть, в собственных грехах.
Изгоняли же евреев методично и обстоятельно, с соблюдением всех правовых норм. После эпидемии «черной смерти» во многих городах были приняты законы, запрещавшие евреям там селиться. Например, в Страсбурге им не позволено было жить сто лет, в Базеле – даже 200, сообщает немецкий историк Хайко Хауманн в книге «Евреи в Базеле и окрестности. К истории одного меньшинства» (H. Haumann. «Juden in Basel und Umgebung, Zur Geschichte einerMinderheit», 1999). Впрочем, уже в 1362 году в Базеле вновь появились евреи, отмечает Хауманн. Еще спустя семь лет начала восстанавливаться и еврейская община в Страсбурге («Germania Judaica», Bd. 2/2). В 1370-1380-х годах евреи, изгнанные теперь уже из Франции, вновь расселяются в некоторых немецких городах, хотя в Штутгарт, например, они вернулись лишь в XV веке.
Тайные мотивы гонений
Эпоха «черной смерти» стала временем самых массовых еврейских погромов за всю историю Средневековья. Но только ли пандемия стала причиной этого?
Для многих средневековых людей чума была карой Господней. Когда-то, как говорит Библия, Бог наказал людей за их грехи Потопом, теперь – болезнью. Человечество бедствует потому, что греховно.
Однако вместо того, чтобы покаяться в грехах своих, христиане принялись истреблять иноверцев. Они пытали и убивали евреев, грабили их дома, сжигали синагоги, разрушали кладбища, отнимали детей у родителей и насильственно их крестили.
Логика была такова. Для правоверных христиан было в порядке вещей думать, что дьявол, борясь с ними, прибегает к помощи многочисленных пособников. Вот и евреи были призваны на тайную войну против Христа. Они ведь виновны в самом страшном грехе, они распяли Сына Божьего, и если наказать их, то Бог смилостивится и перестанет насылать на людей чуму.
Спасаясь от гонений, евреи из Ульма даже решили изготовить грамоту, в которой говорилось, что они прибыли в Германию еще до распятия Христа, а потому не повинны в его смерти («Germania Judaica», Bd. 2/2).
Справедливости ради, надо сказать, что руководители церкви ни в чем не обвиняли евреев. Так, папа римский Климент VI, пребывавший тогда в Авиньоне, пытался образумить свою паству, убеждал людей прекратить расправы над евреями, пощадить их.
Первого октября 1348 года он обнародовал буллу, в которой решительно отвергал все обвинения в том, что евреи отравляют колодцы. В этой булле и в других обращениях к христианам он объяснял, что евреи ни в чем не виновны, что они также умирают от чумы и что есть целые области и страны, также страдающие от чумы, хотя там и нет евреев.
Но к его голосу и рациональным доводам тогда почти не прислушивались, подчеркивает Кристиан Шолль, «несмотря на то, что Климент VI был главой всех христиан, а религия являлась главенствующим фактором в Средневековье» (С. Scholl. «Die Judenverfolgungen…», 2019). Жажда чужой крови отнимала у людских толп последние крохи коллективного разума.
Как отмечают историки, еврейские погромы в годину «черной смерти» являлись формой «социальной революции». Евреев считали виновными прежде всего простолюдины: горожане, крестьяне, ремесленники. Толпа, громившая еврейские кварталы, состояла в основном из городских низов – людей грубых, невежественных, завистливых.
Эти нищие, исстрадавшиеся люди в глубине души были так обозлены действиями богатеев и властей, что готовы были все крушить и уничтожать. Однако связываться с властями опасно в любые времена, евреи же казались беззащитными. Гнев народный расчетливо обратился против них.
Убитые евреи были жертвами «не только народной ярости, но и зависти», как заметил немецкий богослов XIX века Адольф Левин, автор книги «Еврейство и неевреи» (A. Lewin. «Das Judenthum und die Nichtjuden», 1891).
Евреи ведь были виновны не только потому, что распяли Христа, но и потому, что многие из них занимались не угодным Богу делом – были ростовщиками, обирали добрых христиан. Считалось, что евреи сказочно богаты, и это возбуждало к ним особую ненависть. Погромы, учиненные в 1348–1349 годах, стали для многих горожан самым легким средством обогащения.
Разумеется, многие представители тогдашней элиты, отмечает Кристиан Шолль, например, выходцы из знатных родов, священники, бургомистры, городские власти, были уверены в невиновности евреев и в том, что никто не отравляет колодцы. Однако у них часто был свой корыстный интерес в том, чтобы истребить евреев. Кто-то брал деньги в долг у еврейских ростовщиков и не хотел отдавать их. Кто-то зарился на их дома и другую недвижимость. Теперь многие должники, пользуясь случаем, с радостью убивали своих кредиторов-евреев и так избавлялись от долгов. Их жадность стоила жизни слишком многим евреям (С. Scholl. «Die Judenverfolgungen…», 2019).
Тот же Иосиф га-Коген, обозревая историю еврейских преследований, писал, что именно грабежи «были причиной тех постыдных деяний и обвинений» («Долина плача»). Признавали это и некоторые хронисты. Например, сообщая об убийстве евреев в Ульме в 1349 году, хронист заметил, что делалось все «ради богатства их» (цитируется по книге немецкого историка Пауля Зауэра «Еврейские общины в Вюртемберге и Гогенцоллерне» ⁄ Р. Sauer. «Die judischen Gemeinden in Wurttemberg und Hohenzollern», 1966).
Король Германии и будущий император Священной Римской империи Карл IV даже пообещал властям Франкфурта все еврейское имущество, если все евреи вдруг так или иначе умрут, что было равносильно заказу на их убийство. Месяц спустя все евреи в городе были убиты. Подобная сделка уже не имела ничего общего ни с чумой, ни с отравлением колодцев.
Известно, что дома изгнанных или казненных евреев распродавались зажиточным горожанам по бросовой цене. Даже первый бургомистр Цюриха Рудольф Брун приобрел себе еврейский дом, отмечает швейцарский историк Флоренс Гуггенхейм-Грюн-берг в книге «Еврейские судьбы и “еврейская школа” в средневековом Цюрихе» (F. Guggenheim-Grunberg. «Judenschicksale und «Judenschuol» im mittelalterlichen Zurich», 1967).
Но и здесь городская беднота довольствовалась малым: уносила к себе то, что можно было унести, и рылась в ворохе брошенной одежды в поисках припрятанных там монет.
Опасные слухи живучи
На протяжении многих веков евреи, жившие среди христиан едва ли не на положении касты неприкасаемых, были объектами всеобщей зависти и ненависти. Когда же повсюду стали умирать от чумы, ненависть удесятерилась. Евреев обвинили в том, что они отравляют источники и колодцы, заражая чумой весь честной народ. Эта мрачная догадка перекликалась с высказываниями ученых мужей и врачей, говоривших, что чума происходит «от отравления воздуха и воды вредными веществами».
Преступниками, конечно, были враги рода христианского, евреи, – тем более что среди них имелось много людей, искушенных в медицине. Кто, как не они, могли приготовить смертельный яд и распылить его так, чтобы умерло как можно больше людей? В принципе, кое-что в этих рассуждениях в чем-то и было верно, но составленные вместе эти доводы рождали безумную ложь – теорию заговора, погубившую множество людей.
Во все времена эпидемии обрастали опасными слухами. Наэлектризованная ими толпа в любой момент готова была взорваться, неистово поражая своих жертв.
В XIV веке виновниками массовой смерти считали евреев, отравлявших колодцы. А например, в XVII веке в Италии во всем винили прирожденных преступников – untori, «втирающих чуму». Считалось, что эти негодяи, ненависти ради, по ночам выбираются на улицы города и размазывают по стенам чумной гной и сукровицу, взятые у людей, заболевших чумой или умерших от нее. Утром горожане будут ходить мимо этих стен, вдыхая смертельный яд. Пройдет еще три столетия, и в сталинском СССР заговорят о «врачах-отравителях», «убийцах в белых халатах». У страха глаза велики и придирчивы.
Хрустальные черепа индейцев
В 2008 году на экраны вышел фильм Стивена Спилберга «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Это была заключительная часть тетралогии, рассказывающей о «профессоре Джонсе» – археологе, который пускается в самые невероятные путешествия по экзотическим странам.
В погоню за киноатрибутом
В фильме «предпенсионер» Джонс пытается разгадать тайну хрустального черепа, найденного в тропических лесах Латинской Америки, и делает все, чтобы помешать «Советам» заполучить его, ведь этот жуткий предмет из далекого прошлого дает человеку власть над космическими энергиями. Если собрать вместе тринадцать таких черепов, то мир и благоденствие снизойдут тогда на планету и нам откроются таинственные знания.
В интернете можно встретить удивительные истории, связанные с этими черепами. Они наделены демоническими силами… Они исцеляют от многих болезней… Они внушают человеку определенные звуки или запахи… Их принесли на землю инопланетяне, чтобы общаться со своей родиной… Их возраст – 100 тысяч лет… Эти черепа – святыни, хранившиеся в Атлантиде…
Любители эзотерики утверждают, что черепа были чем-то вроде записывающих устройств – они и поныне хранят память обо всем, что происходило рядом с ними. Эти записи якобы можно расшифровать, определенным образом осветив хрустальный череп. Но подобные предметы не только фиксировали происходящее – они влияли на будущее: приносили удачу их обладателям, строили их судьбу.
Создать эти доисторические «приборы» было очень-очень непросто. По оценке канадского эзотерика Фрэнка Дорланда, чтобы изготовить хрустальный череп из Лубаантуна (речь о нем пойдет ниже), «требовалось семь миллионов человеко-часов». Иными словами, как отмечается в книге немецкого писателя Вальтера-Йорга Лангбайна «Нерешенные загадки нашего мира», «если рабочие будут трудиться, сменяя друг друга, ежедневно 24 часа подряд, то изготовят подобный череп как минимум за 800 лет» (W.-J. Langbein. «Ungelbste Ratsel unserer Welt», 1997).
По мнению уфологов, даже майя, строители гигантских пирамид, не способны были на такое – лишь инопланетяне. На этой фантазии основан сюжет фильма Спилберга. Хрустальный череп должен помочь его обладателю проникнуть в мир инопланетного разума.
По следам музейных реликвий
Однако подобный череп – вовсе не выдумка режиссера. Ученым, исследующим Древнюю Америку, известна дюжина черепов из горного хрусталя. Все они в незапамятные времена якобы были изготовлены индейцами (или их Великими Покровителями). Некоторые на протяжении многих лет находились в музейных экспозициях. Их считали ритуальными предметами, которые использовались индейцами при проведении празднеств.
Такой череп имеется даже в коллекции Британского музея. Когда-то им владел французский антиквар Эжен Бобан (1834–1908), чья репутация была иссечена скандалами так же пестро, как в старину лицо дуэлянта – шрамами. Несмотря на это, он сумел получить должность официального археолога при правительстве Мексики. Исполняя свои обязанности, он тем не менее продолжал совершать сомнительные сделки.
Например, в 1886 году за 950 долларов продал хрустальный череп величиной с человеческую голову ювелирной компании «Tiffany & Co». Через десять с небольшим лет именно этот раритет попал в Британский музей. В ту пору он и впрямь казался образчиком искусства древних майя, хотя начиная с 1930-х годов ученые не раз сомневались в его подлинности.
Смитсоновский институт в Вашингтоне обзавелся своим хрустальным черепом в 1992 году. Загадочную посылку, полученную руководством института, сопровождало анонимное письмо: «Этот ацтекский череп, по слухам, украшавший коллекцию Порфирио Диаса (президент Мексики в 1876, 1877–1880 и 1884–1911 годах. —А.В.), был приобретен в 1960 году в Мексике… Я передаю его Смитсоновскому институту, не ожидая за это никакого вознаграждения». Подарок оказался весомым. Череп достигал в высоту четверти метра и весил 14 килограммов.
Под электронным микроскопом
Десятилетиями хрустальные черепа хранились в лучших музеях мира или частных коллекциях, и лишь недавно было доказано, что это – не наследие далекого прошлого, а искусные подделки, сработанные авантюристами в конце XIX – начале XX века.
В 2000-х годах сотрудницы Британского и Смитсоновского музеев Маргарет Сакс и Джейн Уолш детально исследовали имевшиеся в их коллекциях «хрустальные черепа древних индейцев» (M. Sax, J. Walsh et al. «Journal of Archaeological Science», 2008, № 10).
С помощью электронного микроскопа они заметили схожие следы обработки изделий каким-то вращающимся инструментом – чем-то вроде шлифовального круга. Очевидно, оба черепа были изготовлены с применением одних и тех же абразивных материалов. Подобной технологии не знали ни майя, ни ацтеки.
С британским черепом вышла еще одна неувязка. Горный хрусталь, из которого он сделан, добыли либо в Бразилии, либо на Мадагаскаре. Но даже из Бразилии ацтеки вряд ли могли заполучить его. Они не поддерживали торговых отношений с этим регионом Америки.
Итак, вероятнее всего, хрустальные черепа были изготовлены по заказу каких-нибудь мошенников из Европы, стилизовавших свои подделки под творения древних мастеров.
К такому же выводу пришли и сотрудники Центра исследований и реставрации музеев Франции. Они изучили череп высотой 11 сантиметров, хранившийся в Парижском этнографическом музее на набережной Бранли, где представлены традиционные образцы искусства стран третьего мира. Здесь также выявлены следы механической обработки и последующего шлифования. Кроме того, удалось датировать капельки воды, находившиеся в горном хрустале. Они, как и сам череп, которым, кстати, тоже когда-то владел Бобан, – девятнадцатого века.
В кругах антикваров
