Узбекистан. Полная история бесплатное чтение
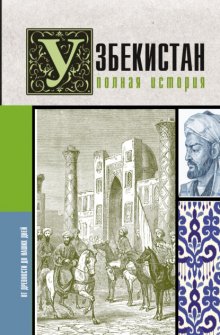
Шариф Махкамов
Узбекистан. Полная история
© Шариф Махкамов, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023
* * *
Ключевые даты узбекской истории
VII–VI вв. до н. э. – на территории Средней Азии образуются первые государственные объединения.
VI–IV вв. до н. э. – Средняя Азия находится под властью Ахеменидов.
519 до н. э. – первое письменное упоминание о хорезмийцах, согдийцах, саках и бактрийцах в Бехистунской надписи Дария I.
329 до н. э. – начало завоевания Средней Азии Александром Македонским.
312–250 до н. э. – Средняя Азия находится в составе греко-македонского государства Селевкидов.
Середина III в. до н. э. – на территории Бактрии и Согдианы в результате распада империи Селевкидов возникает независимое Греко-Бактрийское царство.
Конец I в. до н. э. – IV в. н. э. – Средняя Азия находится в составе Кушанского царства.
Середина V в. – образование государства Эфталитов.
Середина VI в. – образование Тюркского каганата.
651 – первое вторжение арабов на территорию Средней Азии, установление господства Арабского Халифата.
874–999 – Средняя Азия находится в составе государства Саманидов.
999 – владения Саманидов разделены между Газневидами, которые получили Хорасан, и Караханидами, которые получили Мавераннахр.
1089 – завоевание Мавераннахра сельджукским султаном Мелик-шахом.
1219 – вторжение Чингисхана в Мавераннахр.
1370–1405 – правление Тимура.
1409–1447 – правление внука Тимура Улугбека.
1499 – вторжение кочевых племен во главе с Шейбани-ханом в Мавераннахр.
1583 – Абдулла-хан II из династии Шейбанидов провозглашен верховным ханом узбеков.
1865 – взятие русскими войсками Ташкента, Бухары, Худжанда, Джизака.
1868, май – взятие русскими войсками Самарканда.
1868, июль – заключение мирного договора между Российской империей и Бухарским эмиратом.
1873, август – взятие русскими войсками Хивы.
1880–1899 – в Средней Азии строится первая железная дорога.
1917, ноябрь – 1918, март – установление Советской власти на части среднеазиатских земель с образованием Туркестанской АССР.
1920 – образование Бухарской и Хорезмской народных советских республик.
1924, 27 октября – в результате так называемого национально-территориального размежевания образована Узбекская ССР.
1925, 13 мая – Узбекская ССР официально вошла в состав СССР.
1928 – перевод узбекской письменности с арабского алфавита на латинский.
1941–1943 – эвакуация в Узбекскую ССР более миллиона жителей западных областей СССР.
1943, ноябрь – образование Академии наук Узбекской ССР.
1966, 26 апреля – в Ташкенте произошло катастрофическое землетрясение.
1990, 24 марта – избрание Ислама Каримова президентом Узбекской ССР.
1990, 20 июня – принятие Верховным Советом Узбекской ССР Декларации о государственном суверенитете Узбекской ССР.
1991, 31 августа – Республика Узбекистан провозглашена независимым государством.
1991, 29 декабря – избрание Ислама Каримова президентом Республики Узбекистан.
1992, 8 декабря – принятие Конституции Республики Узбекистан.
1994, 1 июля – введение национальной валюты – сума.
2016, 14 декабря – избрание Шавката Мирзиёева президентом Республики Узбекистан.
Топ-25. Самые знаменитые уроженцы Узбекистана
АБДУРАИМОВ, БЕХЗОД (1990) – пианист-виртуоз, считающийся одним из лучших исполнителей современности.
АГАХИ, МУХАММАД РИЗА (1809–1874) – поэт и историк, автор исторических трактатов «Сады благополучия», «Сливки летописей», «Собрание султанских событий», а также лирического сборника-дивана «Талисман влюбленных».
АЛИХОДЖАЕВ, УЛЬМАС (1941–2015) – народный артист Узбекской ССР, известный актер кино.
АЛЬ-БИРУНИ (АБУ РЕЙХАН МУХАММЕД ИБН АХМЕД АЛЬ-БИРУНИ; 973–1048) – один из наиболее известных средневековых мыслителей, ученый-энциклопедист, владевший почти всеми науками своего времени.
АЛЬ-ФЕРГАНИ (АБУ-ЛЬ-АББАС АЛЬ-ФЕРГАНИ; ок. 798–861) – астроном, математик и географ, научно обосновавший шаровидную форму Земли и написавший первые трактаты по астрономии на арабском языке – «Книга о небесных движениях и свод науки о звездах», «Книга о началах науки астрономии» и ряд других.
АЛЬ-ХОРЕЗМИ (АБУ АБДУЛЛА МУХАММЕД ИБН МУСА АЛЬ-ХОРЕЗМИ; ок. 783 – ок. 850) – выдающийся средневековый ученый – математик, астроном, географ и историк, впервые выделивший алгебру как самостоятельную науку об общих методах решения линейных и квадратных уравнений.
АШРАФИ, МУХТАР (1912–1975) – композитор и дирижер, народный артист СССР (1951), один из основоположников современной узбекской музыки, автор известных балетов «Амулет любви» и «Стойкость», а также оперы «Дилором», созданной по мотивам произведений Алишера Навои.
БАБУР (ЗАХИР-АД-ДИН МУХАММЕД БАБУР; 1483–1530) – знаменитый полководец, основатель государства Бабуридов, а также ученый и поэт, автор знаменитого автобиографического труда «Бабур-наме».
ДЕВАНОВ, ХУДАЙБЕРГЕН (1879–1940) – первый узбекский фотограф и кинооператор, основатель национального кинематографа.
ДЖУРАЕВ, ШЕРАЛИ (1947) – певец, музыкант, поэт и композитор, народный артист Узбекской ССР (1987), автор более тысячи песен.
ИБН СИНА (АБУ АЛИ ИБН СИНА, известный на Западе как Авиценна; 980–1037) – один из наиболее выдающихся ученых средневекового исламского мира, философ и врач, автор трактатов «Книга исцеления» и «Канон медицины».
КАРИМОВ, ИСЛАМ (1938–2016) – первый президент Республики Узбекистан, занимавший этот пост с 1991 по 2016 год.
КАРИ-ЯКУБОВ, МУХИТДИН (1896–1957) – выдающийся оперный певец и деятель культуры, основатель и художественный руководитель Узбекского музыкального театра.
ЛУТФИ (1366–1465) – известный средневековый поэт-лирик, автор поэмы «Гул и Норуз»; творчество Лутфи было весьма популярно в народе, отдельные его стихи стали народными песнями.
МАШРАБ, БОБОРАХИМ (1657–1711) – выдающийся поэт и мыслитель, классик узбекской литературы.
МУКИМИ, МУХАММАД АМИНХОДЖА (1850–1903) – писатель и поэт, один из основоположников реализма в узбекской литературе, мастер острой сатиры.
МУХАММАД АЛЬ-БУХАРИ (также известный как ИМАМ АЛЬ-БУХАРИ; 810–870) – выдающийся исламский богослов и правовед, автор одного из шести канонических сборников суннитских преданий «Сахих аль-Бухари» («Достоверные предания-хадисы аль-Бухари»).
НАВОИ, АЛИШЕР (1441–1501) – поэт и мыслитель, один из основоположников узбекской литературы, автор классического сборника «Хамса» («Пятерица»), состоящего из пяти эпических поэм – «Смятение праведных», «Лейли и Меджнун», «Фархад и Ширин», «Семь планет» и «Стена Искандера».
НУРУДИНОВ, РУСЛАН (1991) – спортсмен-тяжелоатлет, олимпийский чемпион (2016), двукратный чемпион мира (2013; 2022), чемпион Азиатских игр (2018), двукратный чемпион Азии.
РАШИДОВ, ШАРАФ (1917–1983) – Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Узбекской ССР с 1959 по 1983 годы, внесший огромный вклад в экономическое и культурное развитие Узбекистана.
ТАДЖИЕВ, МИРСАДЫК (1944–1996) – композитор-основоположник, объединивший в своем творчестве узбекский вокально-инструментальный жанр маком с европейским симфоническим каноном.
ТИМУР (известный на Западе как Тамерлан; 1336–1405) – непобедимый полководец, основатель державы Тимуридов.
УЙГУР-МАДЖИДОВ, МАННОН (1897–1955) – театральный режиссер, актер и драматург, один из основателей узбекского театра, народный артист Узбекской ССР.
УЛУГБЕК (МУХАММЕД ТАРАГАЙ ИБН ШАХРУХ ИБН ТИМУР УЛУГБЕК ГУРАГАН; 1394–1449) – один из наиболее известных ученых своего времени (математик, астроном, просветитель и поэт), а также государственный деятель, правитель державы Тимуридов. Построил в окрестностях Самарканда одну из самых важных обсерваторий средневековья.
ЮЛДАШЕВ, БАХОДЫР (1945–2021) – выдающийся актер и театральный режиссер, основатель Театра сатиры имени Абдуллы Каххара и театра-студии «Дийдор» («Образ»).
Предисловие от переводчика
Республика Узбекистан – молодое государство, совсем недавно отметившее свое тридцатилетие. Но история Узбекистана уходит корнями в глубокую древность. Первые люди появились в благодатном регионе, известном ныне как Средняя Азия, еще в палеолите, первом историческом периоде каменного века – наиболее древние археологические находки относятся к мустьерской культуре. [2] На территории современного Узбекистана найдено несколько десятков стоянок древних земледельцев и скотоводов, которые свидетельствуют о том, что к концу третьего тысячелетия до нашей эры Средняя Азия была заселена довольно плотно и что расселение людей шло по направлению с юга на север. Характерной чертой местного земледелия стало искусственное орошение, возведенное в степень искусства; именно на орошении строилось благосостояние оседлого населения. Рытье каналов и управление ими – дело сложное, которым можно заниматься только сообща, поэтому земледельцы начали создавать крупные поселения. Если в других местах города основывали ремесленники и торговцы, то в Средней Азии это делали дехкане (так здесь называют земледельцев). Уникальной особенностью среднеазиатского региона является то, что оседлое население сосуществовало здесь с кочевым на протяжении тысячелетий…
С историей Узбекистану и повезло, и не повезло. Повезло в том смысле, что она богатая – есть о чем рассказать. А не повезло потому, что часто историками выбирался неверный подход. Прошлое Узбекистана «растаскивалось» по другим направлениям: держава Ахеменидов вместе с ее среднеазиатскими владениями изучалась в рамках курса истории Ирана, история Кушанского царства стояла особняком, а того же Тимура, тюрка, считавшего себя наследником Чингисхана, могли «привязать» к истории монгольских завоеваний или к истории тюркских народов…
Мало того, в советскую эпоху все исторические процессы изучались с марксистской точки зрения, согласно которой всё и вся определялось историей классовой борьбы. Подобный подход сужал кругозор историков и упрощал понимание исторических процессов, в результате чего создавалась неверная, искаженная картина прошлого. Так, например, восстание под руководством Махмуда Тараби, вспыхнувшее в Бухаре в 1238 году, историки советского периода предпочитали рассматривать с точки зрения классовых противоречий, поскольку крестьяне и ремесленники, возглавляемые человеком из народа, восстали против своих правителей. Но на самом деле это было восстание мусульман против иноземных захватчиков-монголов и поддерживавших их местных феодальных правителей – садров. Классовой борьбы там не было ни на медный пул (так тогда называлась мелкая монета), поскольку после свержения садров Махмуд Тараби провозгласил себя халифом, иначе говоря – политический строй не изменился.
Наиболее радикальные советские историки начисто отметали «темное» прошлое и уделяли внимание только «светлому» настоящему. При таком подходе история Узбекистана начиналась с установления советской власти в Средней Азии. А что было раньше? Да ничего интересного – ханы, эмиры да баи угнетали простой народ, и так продолжалось веками…
Современные узбекские историки нередко ударяются в иную крайность. Они преувеличивают значение тех или иных исторических процессов и чрезмерно расширяют рамки истории Узбекистана. Можно ли включать историю Империи Великих Моголов в курс истории Узбекистана на том основании, что Бабур – ее основатель – родился в Андижане? Вряд ли, ведь дело было в Индии и Пакистане.
Книга, которая предлагается вашему вниманию, избавлена от подобных недочетов и перегибов. В ней все по делу и все к месту. Особым достоинством автора является деликатный подход к изложению материала – излагается ход событий без навязывания каких-либо оценок. Вот вам факты и причины, а мнение составьте сами. Такой подход условно можно сравнить с традицией самостоятельного приготовления еды в чайхане – посетители готовят, что им хочется, из принесенных продуктов. Вот вам огонь, вот вам посуда, а что вы приготовите – дело ваше. С исторической достоверностью у автора тоже все в порядке. Если приводится версия, а не факт, то об этом непременно будет сказано.
Переводчик, по мере своих возможностей, старался следовать авторскому стилю, легкому, но в то же время содержательному, ведь одним из главных преимуществ любой книги является желание дочитать ее до конца, а не бросить на середине.
Хорошее предисловие должно быть кратким, ведь недаром же узбеки говорят, что за сладостями нельзя забывать о плове (если кто не знает, то узбекская трапеза начинается с чая со сладостями и фруктами и заканчивается так же). Пора отправляться в увлекательное путешествие по древнему и вечно молодому Узбекистану. Как хорошо, что мастерство рассказчика способно заменить машину времени, создать которую не позволяет второй закон термодинамики.
Кстати, знаете, почему узбеки ставят традиции выше законов? Потому что законы придумывают отдельные люди, а традиции создает народ.
Глава первая
Средняя Азия в древние времена
Исторический рубеж
VI век до нашей эры стал историческим рубежом, отделяющим дописьменную историю Средней Азии от письменной, задокументированной (пусть даже и не полностью, а иногда и просто отрывочно).
Документ документу рознь. Исторические свидетельства имеют ценность лишь в том случае, если они оставлены современниками, а лучше всего – очевидцами описываемых событий. Все прочее – спорно и не очень-то надежно. Вроде бы во второй половине IХ века до нашей эры Средняя Азия перешла под власть Ассирии, которой в то время правил сначала царь Нин, а затем его вдова царица Семирамида, которую принято отождествлять с реально правившей в 811–805 годах до н. э. царицей Шаммурамат. Об этом пишет Диодор Сицилийский, [3] живший в I веке до н. э. В «Исторической библиотеке» Диодора уделено много внимания войне Нина с непокорными бактрийцами после того, как он покорил все азиатские племена, кроме них и индийцев. Диодор опирается на «Персидскую историю» Ктесия Книдского, [4] написанную в конце IV века до н. э. Получается «пересказ пересказа», ведь Ктесий не был очевидцем покорения ассирийцами Средней Азии. Возможно, что никакого покорения на самом деле и не было, просто кто-то из ассирийских летописцев написал об этом, чтобы польстить своему правителю. Или, как вариант, легенда могла быть создана придворными для восхваления царя, некоторое время она переходила из уст в уста, а затем попала в анналы.

Неизв. автор. Диодор Сицилийский
В распоряжении современных историков нет никаких достоверных свидетельств, подтверждающих ассирийское присутствие в Средней Азии, но можно предположить, что местные племена заключали союзы с Ассирией и с враждовавшей с ней Мидией. Об этом можно прочесть у «отца истории» Геродота, [5] но его «История», созданная в V веке до н. э., тоже является пересказом легенд и сведений, сообщаемых ассирийскими и мидийскими источниками. Короче говоря, все очень туманно.

Бехистунская надпись. Между 522 и 486 до н. э.
А что достоверно?
Началом документальной истории Средней Азии считается трехъязычная надпись, высеченная на скале Бехистун (Западный Иран) по приказу персидского царя Дария I Великого. На древнеперсидском, эламском и аккадском языках рассказывается о походе царя Камбиса II, правившего до Дария, в Египет и о событиях, связанных с отсутствием царя в столичном Вавилоне. Нам в этом крайне содержательном документе важен только перечень подчиненных Дарию народов, в числе которых указаны хорезмийцы, согдийцы, саки и бактрийцы. Давайте познакомимся с этими народами поближе.
Хорезм и хорезмийцы
Сразу нужно уточнить, что «Хорезмом» называется и древнее государство, существовавшее с VII века до н. э. (так, во всяком случае, утверждают исторические источники), и среднеазиатский регион, центр которого находился в низовьях реки Амударьи, древняя дельта которой находилась на севере современного Туркменистана. Археологические находки свидетельствуют о том, что уже в начале III тысячелетия до н. э. на территории Хорезма жили люди. Археологическую культуру раннего железного века (VII–IV вв. до н. э.), получившую название Куюсайской по поселению, близ которого она была открыта [6] в 1953 году, ученые связывают с возникновением древнейшей государственности. Представители этой культуры были скотоводами, параллельно занимались богарным (неорошаемым) земледелием – в дельте полноводной реки можно было позволить себе не заботиться об искусственном орошении земель. Жили древние хорезмийцы в каркасных жилищах из прутьев, обмазанных глиной, которые могли наполовину утапливаться в землю. Принадлежность к железному веку указывает на то, что они умели изготавливать примитивные железные орудия, хотя и бронзовые наконечники стрел тоже не раз находили при раскопках. [7] Керамика тогда была лепной, до гончарной дело еще не дошло. Гончарное дело возведено у узбеков в ранг искусства, и невозможно представить, что когда-то в Хорезме, одном из основных гончарных центров Узбекистана, не умели обжигать глину. Но, тем не менее, так оно и было.

Фрагмент хорезмийской фрески. III век до н. э.
Гекатей Милетский, живший во второй половине VI века до н. э., в своем «Землеописании», служившим одним из основных источников для Геродота, пишет о городе Хорасмия, первой столице Хорезма, которая располагалась на месте развалин древнего города Кюзелигыр (север Туркменистана, недалеко от узбекско-туркменской границы). Впоследствии столицу перенесли на пятнадцать километров к западу, где был основан город Калалыгыр.
Основу населения древнего Хорезма составляли хорезмийцы, народ иранской группы. В современной Средней Азии иранцами считаются только таджики, но на самом деле у каждого узбека можно найти иранские корни, а у любого таджика – тюркские, настолько все перемешалось в среднеазиатском плавильном котле. Ряд ученых считает хорезмийцев потомками массагетов, ираноязычного кочевого народа, обитавшего по обоим берегам Каспия. Массагеты не упомянуты в Бехистунской надписи, но о них пишет Геродот: «Массагеты, как известно, племя многочисленное и храброе. Живут они на востоке от реки Аракс… Некоторые считают их скифами».[8]
Происхождение названия Хорезм весьма туманно. Можете выбрать, что вам понравится, из следующих вариантов: «Страна хурритов», [9] «земля-кормилица», «низкая земля» или «колыбель арийских народов» (последнее толкование широко распространено в ираноязычной среде, но, честно говоря, оно положено в котел вместе с мясом, [10] несмотря на то, что его приводит в своем «Толковом словаре» видный иранский лингвист Али Акбар Деххода).
Согдиана
В центре плодородной Зеравшанской долины [11] раскинулась Согдиана, или Согд – земля согдийцев, еще одного народа иранского происхождения. «С самаркандцем не торгуйся, пенджикентцу в долг не давай», гласит старинная народная мудрость. И, при всем уважении к упомянутым в ней людям, надо признать, что некое рациональное зерно в ней присутствует, ведь согдийцы, предки нынешних жителей Самарканда и Пенджикента, были искусными торговцами и ловкими ростовщиками, знающими, как взять за одну таньга семь. Бухарцы в этом совете не упоминаются, поскольку их не считают «настоящими согдийцами». Так всегда бывает – если существуют настоящие, то должны быть и ненастоящие, иначе первым будет обидно. Впрочем, существует и иное разделение Согда: Западный Согд (Бухарский оазис), Центральный Согд (Самарканд и Пенджикент), Южный Согд (Кеш-Шахрисабз и Нахшаб-Карши) [12] и Северо-Восточный Согд (восточный Узбекистан и северо-западный Таджикистан).

Согдийский шелковый парчовый фрагмент. Ок. 700
Подтверждением торговых талантов согдийцев может служить хотя бы то, что на протяжении длительного времени согдийский язык был основным языком общения между различными народами, жившими от Каспия до Тибета, а согдийская письменность легла в основу письма монголов, маньчжуров и уйгуров. Надо было хорошенько постараться для того, чтобы заслужить подобное уважение, не так ли?
О согдийцах упоминает Геродот, а Согдиана наряду с Хорезмом и Бактрией фигурирует в Бехистунской надписи: «Следующие страны достались мне, и волею Ахурамазды я стал править ими: Персия, Элам, Вавилония, Ассирия, Аравия, Египет, Лидия, Иония, Мидия, Армения, Каппадокия, Парфия, Дрангиана, Арейя, Хорезм, Бактрия, Согдиана, Гайдара, Сака, Саттагидиш, Арахозия, Мака, всего же двадцать три страны».
Согдиана, судя по наличию здесь городской культуры бронзового века, несколько старше Хорезма (или же тут археологам везло больше, чем там). Столицей Согдианы был город Мараканда (все сразу же узнали в этом древнем названии современное «Самарканд»?).
И еще о названиях. Согдиана – это эллинизированное название Согда, в котором так и слышатся саки, которых вместе с массагетами относят к восточной ветви скифских народов. Впрочем, с названиями древних народов всегда происходит путаница. «Если войти в Каспийское море, то справа живут скифы или сарматы, граничащие с европейскими странами… – пишет Страбон [13] в своей «Географии». – Слева живут восточные скифы, а также номады, область расселения которых простирается до Восточного моря и Индии». В древности греческие историки называли все северные народности скифами или кельтоскифами, но еще более древние историки различали их, называя племена, жившие над Эвксинским Понтом, Истром и Адриатическим морем, гиперборейцами, савроматами и аримаспами. Из племен, живших за Каспийским морем, одних называли саками, других – массагетами, не имея возможности сообщить о них ничего определенного, несмотря на то, что эти историки описывали войну Кира с массагетами… Большинство скифов, живущих к востоку от Каспийского моря, называются даями. Племена, живущие восточнее их, называются массагетами и саками, прочих же называют общим названием «скифы», но у каждого племени есть свое имя». В некоторых персидских летописях «саками» называют всех скифов, и Геродот пишет о том, что «персы всех скифов зовут саками». Если бы все упомянутые племена вели какие-то летописи, то в вопросе их определения можно было бы разобраться, а так приходится «гадать по бараньей лопатке» кто есть кто.
В священной книге зороастризма [14] «Авесте», созданной в середине I тысячелетия до н. э., Согдиана и Хорезм, наряду с Мервом, Гератом, Ишкатой и Поурутой, [15] относятся к Аирьяшаяне («Обиталищу ариев»), что служит подтверждением проживания здесь иранских племен с древнейших времен. Есть мнение, что мифическая прародина иранцев Аирйанэм-Ваэджа («Арийский простор») находилась то ли в Согдиане, то ли в Хорезме.
Бактрия
От Ферганской долины и Памира на севере до Гиндукуша на юге в древности простиралась область, называемая Бактрией по своей столице – городу Бактры, который в наше время известен как афганский Балх. Благодаря более чем удачному расположению на торговом пути с Востока на Запад, Бактры быстро развивались и стали одним из главных городов Средней Азии. Во времена Геродота здесь проживали около двухсот тысяч человек, а в VII–VIII веках, в период наивысшего оживления торговли по Великому шелковому пути, [16] население города увеличилось до миллиона.
Но не только торговля была залогом процветания Бактрии. Равнинная местность с хорошим климатом была невероятно плодородной. Плиний Старший [17] в «Естественной истории» пишет о том, что «в Бактрии зерна настолько крупны, что каждое из них сравнимо с нашим колосом», а Страбон упоминает Бактрию в числе плодородных земель Востока. Ряд известных в наше время культурных растений, например – пшеница, происходят родом из Бактрии.
В «Персидской истории» Ктесий пишет о том, что вавилонский царь Нин в течение семнадцати лет сделался владыкой всех прочих народов, кроме индов и бактрийцев, и что в Бактрии жило много воинственных мужей. Первый поход на бактрийцев оказался неудачным, и тогда Нин собрал огромное войско, состоявшее из миллиона семисот тысяч пехотинцев, двухсот десяти тысяч конных воинов и десяти с половиной тысяч боевых колесниц… Возможно ли было собрать такое войско в античные времена? Ктесий утверждает, что возможно… Впрочем, поход Нина на Бактрию, как и существование могучего древнебактрийского государства, вызывают у историков сомнения. Достоверно можно сказать следующее – что здесь издавна жили люди, создавшие в бронзовом веке развитую цивилизацию, что благоприятные климатические и экономические условия всячески способствовали развитию региона, и что бактрийцы были иранским народом (современные таджики являются их прямыми потомками). [18]
Маргиана
Местность, которую древние иранцы сначала называли «Моуру», а затем «Маргуш», широко известна под своим греческим названием «Маргиана». Мервский оазис, [19] райский уголок посреди пустыни, был заселен уже к концу III тысячелетия до н. э. Мерв принято считать древнейшим городом Средней Азии, но в 1972 году у старой дельты реки Муграб было обнаружено городище бронзового века, датируемое примерно 2300 годом до н. э. Поскольку городище находилось на невысоком холме, оно получило название Гонур-депе, что в переводе с туркменского означает «коричневый холм». Судя по огромным размерам (только центральная часть города занимает двадцать пять гектаров), наличию дворца и нескольких крупных храмов, Гонур-депе был столичным городом. Также на юге Туркменистана были найдены другие древние городища бронзового века – Алтын-депе («Золотой холм»), Намазга-депе («Молитвенный холм») и Улуг-депе («Великий холм»). Обильные археологические находки указывают на существование развитой древней цивилизации, некоторые находки из Улуг-депе относятся к раннему медному веку – V тысячелетию до н. э. В отличие от жителей других среднеазиатских государств, маргианцы полностью были оседлыми, но при этом поддерживали тесные торговые контакты с соседями-кочевниками, для которых равнинная Маргиана была доступнее окруженной горами Бактрии.
Начиная с семидесятых годов прошлого столетия в Мервском оазисе активно проводятся раскопки. Можно надеяться на то, что история Маргианы будет дополняться. Заветная мечта археологов – найти письменные документы – пока еще не сбылась, но ученые не теряют надежды.
«Эта страна богата виноградом, – писал о Маргиане Страбон. – Рассказывают, что здесь нередко встречаются корни лозы, которые у основания могут охватить только двое людей, а виноградные гроздья длиною в два локтя». Рассказчикам свойственно приукрашивать, но даже если допустить, что грозди маргианского винограда были длиною в локоть с небольшим, то есть около шестидесяти сантиметров, то картина все равно получается впечатляющей.
Завоевание Средней Азии Киром II Великим
В 560 или 559 году до н. э. вождем иранских оседлых племен стал Кир из династии Ахеменидов, основателем которой был полулегендарный Ахемен, правивший в VII до н. э. Кир II получил прозвище «Великий», потому что он создал великую державу, простиравшуюся от Египта и Ливии до Средней Азии. Достоверно неизвестно, когда именно Кир II завоевал Среднюю Азию, но скорее всего это произошло между 547 и 540 годами до н. э. В Согдиане Кир основал город Кирополис, [20] о местоположении которого историки спорят до сих пор и никак не могут прийти к единому мнению. Наверняка можно сказать лишь то, что Кирополис был северо-восточным форпостом ахеменидской державы. Не исключено, что он находился на месте современного таджикского Куруша, но это всего лишь предположение. Другой основанный Киром город, Киресхата, находился на месте современного таджикского Худжанда, [21] на берегу Сырдарьи в окружении гор. Античные авторы упоминают и о других городах. Все они были в первую очередь крепостями, оплотами центральной власти.
В утрате независимости нет ничего хорошего, но включение в состав могущественной державы способствовало более интенсивному развитию среднеазиатских областей – более оживленными становились торговля и ремесла, кроме того, с момента завоевания история Средней Азии вступила в письменный период. Отныне стало возможным судить о делах прошлого не по пересказам слухов, а по документам, пусть даже и не очень-то многочисленным.
Геродот пишет о том, что персидский царь Дарий I разделил свое государство на двадцать провинций-хшатра (греки называли их сатрапиями) и установил фиксированные подати, которых ранее не было. Дарий I происходил из младшей линии Ахеменидов и приходился Киру II довольно дальним родственником, которому для усиления легитимности своей власти пришлось жениться на дочери Кира Атоссе.

Адриан Колларт. Кир, царь Персии. Ок. 1590
Народы от бактрийцев до эглов, а также хорезмцы, согдийцы и арии платили дань в триста вавилонских талантов серебром. Упомянутые Геродотом эглы вызывают дискуссии историков. Одни считают, что речь идет об агулах, народе лезгинской группы, проживающем в юго-восточном Дагестане. Но вряд ли от этой области до Бактрии подать могла быть единой… Скорее всего эглы были одним из племен, обитавших к югу от Сырдарьи.
Триста вавилонских талантов – это немногим более десяти тонн чистого серебра, серебра высшей пробы. В современных ценах триста талантов тянут почти на девять миллионов долларов США. Саки и каспии (племена, обитавшие на восточном побережье Каспийского моря) платили дань в двести пятьдесят талантов. Размер налогов имеет важное научное значение, поскольку в большинстве случаев налоги устанавливаются исходя из экономического состояния региона. Это правило нарушается лишь тогда, когда правитель хочет наказать жителей какой-то области или, напротив, устанавливает им заведомо низкую дань в качестве привилегии или вообще освобождает от налогов.
Сколько же платили иные племена? Для греческих племен, живших на западе Малой Азии, Дарием была установлена дань в четыреста или пятьсот талантов. От Восточного Средиземноморья до Египта (за исключением Аравийской пустыни) дань составляла триста пятьдесят талантов. С Египта и граничащей с ним части Ливии взималось семьсот талантов плюс налог с рыбной ловли в Меридовом озере. [22] Наибольшая дань взималась с Вавилона и Ассирии, вносивших ежегодно тысячу талантов и пятьсот оскопленных мальчиков, а также с индийских золотодобывающих областей, которые платили триста шестьдесят эвбейских талантов золотом (тринадцать с половиной тонн!). Наименьшую дань в сто семьдесят талантов выплачивали племена, жившие на территории современного Афганистана, то есть граничившие с Бактрией и Согдианой. Следовательно, можно сделать вывод, что несмотря на хорошие климатические условия, плодородные земли и наличие торговых путей в Китай, среднеазиатские области в государстве Ахеменидов считались небогатыми.
Геродот также сообщает о вооружении разных племен. Бактрийцы носили на головах мягкие войлочные шапки и были вооружены луками, сделанными из тростника, и короткими копьями. Саки носили на головах высокие и плотные островерхие тюрбаны, а их вооружение составляли луки, кинжалы и двусторонние боевые топоры-сагарисы, достаточно легкие для того, чтобы держать их одной рукой, но при этом способные пробивать металлические доспехи. Напрашивается вопрос – почему у соседних народов, живших примерно в одинаковых условиях, было разное вооружение? Дело привычки. Обычно у соседей перенимается лучшее, а сагарис и копье примерно равнозначны. Наконечник копья весит меньше топора, что позволяет орудовать им быстрее, и даже у короткого копья, которое могут использовать и конники, и пехотинцы, древко длиннее рукояти топора, а дистанция имеет очень важное значение в поединке. Но зато копьем можно только колоть вперед, а у топора более богатая ударная техника боя, так что нельзя сказать, что одно оружие определенно лучше другого. Кстати говоря, персидские воины, бывшие костяком ахеменидского войска, имели лук, короткое копье и кинжалы.
Население среднеазиатских областей не раз восставало против власти Ахеменидов. В Бехистунской надписи упоминается о восстании в Маргиане. «Говорит Дарий царь: страна Маргуш стала мятежной. Одного человека по имени Фрада, маргушанина, они сделали вождем. После этого я послал к персу по имени Дадаршиш, моему слуге, сатрапу Бактрии, и сказал ему: «Иди и разбей войско, которое не называет себя моим». Дадаршиш отправился с войском и дал бой маргушанам. Милостью Ахурамазды мое войско наголову разбило мятежное войско… Затем страна стала моей».
Когда сын Дария Масист, сатрап Бактрии, восстал против своего брата Ксеркса I, он пытался найти поддержку у бактрийцев и саков, и, по мнению Геродота, непременно получил бы ее, если бы не был убит посланцами Ксеркса. Низкая лояльность бактрийцев и саков объяснялась не только стремлением к независимости, но и удачным расположением на окраине государства (поднимать восстания в центральных областях было гораздо сложнее, и подавлялись они меньшими силам).
Страбон сообщает, что у массагетов каждый мужчина женится только на одной женщине, но при этом они также пользуются женами других людей, причем не скрывая этого. А Геродот упоминает о царице Томирис, возглавившей массагетское войско после того, как ее сын Спаргапис был пленен Киром II. У римского автора Клавдия Элиана [23] можно прочесть о том, что у саков мужчина, желающий взять в жены девушку, должен сразиться с ней, и тот, кто победит, будет повелевать и властвовать. Эти сведения указывают на то, что у жителей Средней Азии в античные времена сохранялись некоторые черты матриархата, уклада более древнего, нежели патриархат.
Государство Ахеменидов
Править огромным государством из центра в старину было невозможно, потому что обмен информацией занимал много времени (из столицы в провинцию гонец мог скакать дольше месяца), а области были разнородными и подход к ним требовался разный. Вообще-то идеалом любого правителя является сосредоточение всей власти в своих руках, но волей-неволей приходится делегировать часть полномочий наместникам. В приграничных областях наместники обладали не только гражданской, но и военной властью, поскольку на них была возложена охрана рубежей. Искушение было велико, и окраинные сатрапы часто восставали против правителей, но государству Ахеменидов было суждено пасть под ударом извне, а не быть разрушенным изнутри.

Штандарт Кира II Великого, правителя державы Ахеменидов
Главными обязанностями сатрапов были сбор дани с подчиненного населения и поддержание порядка. Ахемениды предпочитали ставить наместниками провинций своих родственников или же представителей персидской аристократии. С одной стороны, подобный подход мог служить гарантией лояльности, а с другой, члены правящего клана или представители высшей знати могли вполне обоснованно надеяться на захват власти в государстве, так что выгоды и риски распределялись пополам.
Элитой государства Ахеменидов, наряду с персами, были покоренные ими мидяне, иранский народ, проживавший на северо-западе современного Ирана и юго-востоке Турции. В свое время, еще до Ахеменидов, Мидийское царство со столицей в Экбатане было могущественным государством, владевшим территорией современного Ирана, Армянским нагорьем, Северной Месопотамией [24] и восточной частью Малой Азии. Персидско-мидянская конница составляла основу ахеменидской армии, и все мало-мальски значимые должности в государстве Ахеменидов занимали персы или мидяне. Мощь ахеменидского войска заключалась в его многочисленности, но разнородный состав в какой-то мере ее ослаблял. Примечательно, что гарнизоны старались не комплектовать из местных уроженцев, что было весьма благоразумно и позволяло эффективно использовать войска против повстанцев, которые для воинов были чужаками.
Ахеменидские правители заботились не только о строительстве городов, но и об устройстве дорог. Благоустроенные дороги способствовали развитию торговли, ускоряли обмен информацией и позволяли быстро перебрасывать войска в случае войны или восстания. Геродот пишет о главной дороге государства протяженностью более двух тысяч километров, которая шла от Эгейского моря до Персидского залива: «На всем протяжении пути устроены царские стоянки и превосходные постоялые дворы, а весь путь проходит по населенным и безопасным местностям». Безопасность дорог обеспечивали военные патрули, и в этом отношении государство Ахеменидов выгодно отличалось от греческих государств, в которых путникам приходилось полагаться на милость богов и собственную удачу. Постоялые дворы располагались примерно через каждые тридцать километров, на расстоянии дневного пути.
В Средней Азии несколько раз находили дарики, золотые монеты, которые начали чеканить уже при Кире II вместо распространенного в те времена лидийского статера (расположенная на западе Малой Азии Лидия была пионером монетного дела, но Киру было как-то несообразно чеканить статеры после завоевания Лидии). В дословном переводе с древнеперсидского «дарик» означает «золотой»; неверно производить название монеты от имени Дария I, поскольку первые дарики были отчеканены еще при Кире.

Дарик
Весил дарик чуть меньше восьми с половиной граммов, и чеканить его мог только правитель, в то время как правом чеканки серебряной и медной монеты обладали сатрапы. Небольшое количество дариков, найденное в Средней Азии, привело некоторых ученых к выводу о слабом развитии здесь денежного обращения в ахеменидский период. Вывод этот довольно спорный, особенно с учетом того, что через Среднюю Азию пролегали оживленные торговые пути. Но, разумеется, за их пределами существовал и натуральный обмен, сохранившийся кое-где и по сей день, – двух овец можно обменять на трех коз, а за шесть или семь овец можно «купить» лошадь.
Письменных находок ахеменидского периода в Средней Азии пока еще не обнаружено, но можно с уверенностью сказать, что официальным языком документооборота здесь, как и по всей державе Ахеменидов, был древнеперсидский язык, а в качестве международных «обиходных» языков использовались арамейский и согдийский (согдийская письменность была создана на арамейской основе). Бумага пришла в Среднюю Азию только в конце VII века, когда арабы основали в Самарканде первое бумажное производство, а до тех пор в основном писали на глиняных табличках, гораздо реже – на пергаменте. Глина – материал недолговечный, и потому не стоит удивляться отсутствию древнейших письменных находок.

Сoгдийcкий тeкcт из пиcьмa мaниxeйcкoгo кpeдитopa. Между IX и XIII веком
Что же касается религиозных верований, распространенных в Средней Азии в ахеменидский период, то определенно можно сказать, что у местных народов существовал культ двух начал – огненного или солнечного мужского и водного женского, который впоследствии воплотился в культ бога света Митры и богини плодородия и любви Анаит. Также здесь получила распространение религиозно-философская концепция под названием зерванизм, согласно которой первоначальной субстанцией сущего было бесконечное время (Зрван). От Зрвана произошли зороастрийские бог света Ахурамазда и бог тьмы Ариман.
Завоевание Средней Азии Александром Македонским
Во время греко-персидской войны 480–479 годов до н. э., которая у историков носит второй или третий порядковый номер, Ксеркс I заложил мину замедленного действия под державу Ахеменидов, выпустив из своих рук Македонию, ничем не примечательное на тот момент греческое царство. Но недаром же говорят, что «пока караван дойдет до Багдада, многое может измениться». В 359 году до н. э. царем Македонии стал умный и амбициозный Филипп II, который превратил Македонию в сильное государство и объединил под своей властью другие греческие государства для борьбы против Ахеменидов. В 336 году до н. э. Филипп был убит одним из приближенных на свадьбе собственной дочери и новым царем Македонии стал его двадцатилетний сын Александр, которого на Востоке называют Искандером без добавления «Македонский» или «Великий», поскольку и так ясно, о ком идет речь. Впрочем, Александру лучше всего подошел бы эпитет «Стремительный», ведь для завоевания огромного государства Ахеменидов, простиравшегося от Ливии до Афганистана, ему потребовалось всего четыре года! В мае 334 года до н. э. Александр выступил против царя Дария III, а в мае 330 года до н. э. захватил Экбатану, летнюю резиденцию персидских царей и последний оплот Дария. «Александр одержал блистательную победу, – пишет в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарх, [25] – он истребил более ста десяти тысяч врагов, но не смог захватить Дария, который, спасаясь бегством, опередил его на четыре или пять стадиев». [26] Спастись Дарию не удалось – его закололи приближенные, то ли для того, чтобы он не попал в плен к преследовавшим беглецов македонянам, то ли в надежде на то, что тело царя остановит преследователей.

Вильгельм фон Каульбах. Битва при Саламине. 1868
В Среднюю Азию греки пришли в 329 году до н. э. и заняли ее, подавив сопротивление местных жителей. Сатрап Бактрии и Согда Бесс, участвовавший в убийстве Дария III, пользуясь своей принадлежностью к роду Ахеменидов, провозгласил себя царем Артаксерксом V, но по факту он так и остался сатрапом, поскольку далее Бактрии и Согда его власть не распространялась. В глазах Александра, который после смерти Дария III (по праву сильного) считал себя законным правителем всех ахеменидских владений, Бесс был мятежником, поэтому после пленения его ждала тяжелая участь – сначала ему отрезали нос и уши, а затем то ли обезглавили, то ли разорвали надвое между двух деревьев.
Александр не был жестоким и нередко проявлял милость к побежденным врагам, но с изменниками он поступал сурово. У нескольких античных авторов, в том числе у Страбона и у римского историка Квинта Курция Руфа, [27] можно прочесть об уничтожении Александром в Бактрии некоего «города Бранхидов», местоположение которого достоверно неизвестно, но видный узбекский (точнее – узбекистанский) историк Эдвард Ртвеладзе считал, что этот город находился на месте городища Талашкан-Тепе в Сурхандарьинской области Узбекистана, которая соответствует Северной Бактрии.
Бранхиды, потомки мифологического героя Бранха, получившего от бога Аполлона дар прорицания, были хранителями святилища Аполлона в Дидиме, близ Милета. Когда в Дидим пришел Ксеркс I, бранхиды выдали ему храмовые сокровища, иначе говоря – осквернили святилище. Боясь мести греков, они были вынуждены уйти вместе с отступившим персидским войском, и Ксеркс поселил их в Бактрии. Руф пишет, что бранхиды встретили Александра с радостью и сдались ему без сопротивления, однако Александр отдал их на расправу милетцам, служившим в его войске. Милетцы питали давнюю ненависть к изменникам-бранхидам, но, тем не менее, не смогли прийти к единому решению по поводу кары, и тогда Александр взял дело в свои руки – бранхидов истребили от мала до велика, их город разрушили и даже выкорчевали все деревья, чтобы это место превратилось в пустыню. «Если бы все это было сделано в отношении самих изменников, то выглядело бы справедливой местью, а не жестокостью, – пишет Руф. – Сейчас же вину предков пришлось искупать их потомкам, которые не видели Милета и потому и не могли предать его».
Хорезм, обретший независимость еще при Ахеменидах (неизвестно, когда именно и при каких обстоятельствах, можно только сказать, что произошло это в конце V века до н. э.), не был завоеван Александром. Античные историки пишут о том, что в 328 году до н. э., во время пребывания Александра в Бактрии, в его лагерь во главе полуторатысячного конного отряда явился правитель Хорезма Фарасман (или Фратаферн) и предложил заключить союз. Предложение было принято. Возможно, что Александр просто отложил завоевание Хорезма на будущее, но этого не произошло. В 324 году до н. э. Александр был вынужден повернуть назад, поскольку в его войске, утомленном длительным походом, начало зреть недовольство.

Карл Теодор фон Пилоти. Смерть Александра Великого. 1885
Александр Македонский не успел оставить заметного следа в Средней Азии, поскольку правил он недолго – в середине 323 года до н. э. в возрасте тридцати двух лет великий завоеватель скоропостижно скончался в Вавилоне. Мнения по поводу причины его смерти расходятся – одни историки считают, что Александра погубило тяжелое инфекционное заболевание, а другие склоняются к тому, что он был отравлен. Но восемь городов в Бактрии и Согдиане Александр основать успел. В наше время его бы назвали Александром Урбанизатором из-за склонности к основанию городов на завоеванных землях. В городах Александр видел источник благосостояния (торговцы и ремесленники давали казне больше, чем земледельцы) и оплот своей власти, поскольку основным населением городов становились греки.
Западные историки любят порассуждать о том, как «цивилизованные» греки принесли культуру в «дикую» Среднюю Азию. При этом они дважды грешат против истины. Во-первых, македонцы, занимавшие ключевые должности при Александре и во многом определявшие политику царя, были не очень-то цивилизованными по сравнению с афинянами или ликийцами. Вдобавок греческая культура вначале насаждалась острием меча, что совершенно не способствовало ее восприятию местным населением (недаром же узбеки говорят, что в руках врага даже сахар становится горьким). Во-вторых, население Средней Азии в IV до н. э. не было диким. Здесь существовала своя цивилизация, отличная от греческой, но довольно развитая. За подтверждениями развитости далеко ходить не нужно – можно взять хотя бы искусственное орошение земель, требующее больших инженерно-географических познаний, или вспомнить о находках, сделанных на территории Маргианы. Кроме того, до пришествия греков среднеазиатские земли находились в составе государства Ахеменидов, которое никак нельзя назвать «нецивилизованным». Античная персидская культура ничем не уступала греческой, разница лишь в том, что греческий канон лег в основу древнеримской культуры, ставшей фундаментом для всех современных западных культур. Да – определенное заимствование элементов греческой культуры было, это неизбежно происходит при сосуществовании народов, но культурный обмен и «принесли культуру» – это совершенно разные понятия.
Государство Селевкидов
Преемником Александра Македонского стал его единокровный брат Филипп, известный как Филипп III, соправителем которого вскоре стал сын Александра, родившийся после смерти своего отца и ставший царем Александром IV. Позиции Филиппа были крайне шаткими – во-первых, он страдал слабоумием, а, во-вторых, был рожден не законной женой царя, а некоей танцовщицей. Про Александра IV вообще говорить нечего – ну какой из младенца правитель? Реальная власть перешла в руки военачальников Александра Македонского, которые сразу же приступили к разделу территорий по принципу «бери, сколько сможешь схватить». Распри между военачальниками, длившиеся с 323 по 301 год до н. э., вошли в историю под названием «войны диадохов» («диадох» в переводе с греческого означает «преемник»).

Древние македонские солдаты, их оружие и экипировка. IV век до н. э.
Наиболее удачливым из диадохов оказался Селевк, владения которого простирались от восточного побережья Эгейского моря до Согда. Селевк хотел присоединить к ним и родную Македонию вместе с Фракией, но не успел этого сделать – он пал в сражении от руки правившего Македонией Птолемея Керавна, сына диадоха Птолемея Сотера, которому при разделе наследства Александра достался Египет.
Селевк I и его сын Антиох I укрепляли свою власть в Средней Азии, основывая здесь, буквально один за другим, города с греческим населением, точнее – с преобладанием греков среди жителей. Считается, что Селевк основал семьдесят пять городов и Антиох не менее сорока, правда, от них мало что осталось. Города располагались на торговых путях и в стратегически важных районах. По сути, каждый город представлял собой крупный гарнизон, держащий под контролем определенную местность. В «Географии» Страбона говорится о том, что, пораженный плодородием Мервского оазиса, Антиох приказал обвести его стеной длиною в полторы тысячи стадий и основал здесь еще одну Антиохию (подбором названий для городов ни отец, ни сын себя не утруждали – Селевкия или Антиохия). Сейчас остатки этой «великой стены» можно увидеть близ развалин Мерва.
Известно, что Селевк задумал грандиозный план по соединению Каспийского моря с Черным – для прокладки нового торгового пути из Северной Индии. Кратчайшее расстояние между морями составляет около пятисот километров, но то «на бумаге», а в реальности часто приходится уклоняться от намеченного прямого курса, тем не менее этот план рассматривался всерьез и от него пришлось отказаться не из-за сомнений в реализации, а по причине отсутствия согласия правителей Атропатены (Малой Мидии), государства, лежавшего по другую сторону Каспия.
Отличительной чертой всех селевкидских правителей была веротерпимость – насаждение эллинского культа не сопровождалось гонениями на местные верования, наиболее распространенным из которых был зороастризм, основанный в первой половине VI до н. э. пророком Заратустрой. Зороастрийцы поклоняются единому богу-творцу Ахурамазде, воплощением которого является свет, поэтому лицо молящегося должно быть обращено к свету – к Солнцу или к огню. Зороастрийцев называют «огнепоклонниками», но это название не совсем точно, поскольку они поклоняются не собственно огню, а богу, воплотившемуся в огонь. Зороастризм не налагает на своих адептов больших ограничений, требуя от них одного – не совершать плохих поступков. Сосуществование бок о бок разных религиозных культов привело к тому, что верховный греческий бог Зевс стал отождествляться у коренных жителей Средней Азии с Ахурамаздой, а богиня Анаит – с Афродитой.
Веротерпимость Селевкидов происходила не от гуманизма, а от их стремления к сохранению в чистоте «благородной» эллинистической культуры. В отличие от Александра Македонского, который видел в слиянии культур средство, скрепляющее государство, подобно тому, как цементный раствор скрепляет камни, Селевкиды считали, что благородное ни в коем случае не может смешиваться с неблагородным, иначе оно потеряет свою чистоту.
Уже при внуке Селевка-основателя Антиохе II огромное государство Селевкидов начало распадаться. Распаду способствовала длительная война с вечным врагом – правившей в Египте династией Птолемеев. Эта война, вошедшая в анналы истории как Вторая Сирийская, растянулась на тринадцать лет – с 260 до 253 года до н. э. – и закончилась практически вничью. Мир был скреплен женитьбой Антиоха II на Беренике, дочери правителя Египта Птолемея II.
Примерно в 250 году до н. э. сатрап Бактрии и Согдианы Диодот провозгласил себя независимым правителем. «Отделился от македонян правитель тысячи бактрийских городов Диодот и повелел называть себя царем, а следуя его примеру, от македонян отпали народы всего Востока», – пишет римский историк Юстин. [28]
Практически одновременно с Диодотом заявил о своей независимости парфянский наместник Андрагор. Парфия была большой областью, простиравшейся от Каракумов на севере до пустыни Деште-Кевир [29] на юге. Парфия в общих чертах соотносится с северо-восточным Ираном и с Южным Туркменистаном. Сын Диодота Диодот II заключил антиселевкидский союз с Парфией, который вызвал недовольство среди его приближенных – благородные эллины были недовольны тем, что их правитель заключает союз с варварами-кочевниками против других эллинов. Принципы возобладали над разумом, и в 235 г. до н. э. Диодот II был свергнут бактрийским наместником Согдианы Евтидемом, который сразу же разорвал союз с Парфией. Воспользовавшись моментом, селевкидский царь Антиох III, [30] правитель мудрый и решительный, сначала подчинил себе Парфию, а затем выступил против Евтидема (эллинство эллинством, а выгода выгодой). В 208 году до н. э. Антиох разбил десятитысячное конное войско Евтидема, после чего осадил столицу Бактрии город Балх, но взять его так и не смог. После двух лет стояния под Балхом Антиох III созрел для переговоров с Евтидемом, который убедил его в том, что независимая Бактрия весьма полезна, поскольку является преградой на пути северных кочевых племен. Антиох согласился (недаром же говорится, что лучше остаться без прибыли, нежели получить в придачу головную боль) и признал суверенитет правителей Бактрии, а Евтидем, в свою очередь, признал Антиоха своим сюзереном. В закрепление союза сын Евтидема Деметрий женился на одной из дочерей Антиоха.
Восточные греческие царства
Деметрий, сын Евтидема, превзошел своего отца – тот «всего лишь» захватил власть в государстве, судьба которого выглядела весьма неопределенной, и сумел ее отстоять, а Деметрий превратил это государство в могущественное царство, границы которого простирались от Бактрии до Западной Индии. Экспансия дала Деметрию возможность контроля над торговыми путями из Индии в Европу. Для укрепления своей власти Деметрий всячески отождествлял себя с Александром Македонским и, видимо, мечтал продолжить завоевание мира, но, как известно, кража может произойти и в доме вора – пока Деметрий воевал на востоке, его полководец Эвкратид устроил мятеж в Бактрии, и Деметрию не удалось его одолеть. Вышло так, что, приобретя земли на востоке, Деметрий потерял их на западе, его царство, сначала называвшееся Греко-Бактрийским, стало называться Индо-Греческим.
Индо-греческое царство, ослабленное ударами Эвкратида и кочевников-саков, распалось около 130 года до н. э., после смерти царя Менандра I, то ли внука Деметрия, то ли одного из его военачальников. Судьба Греко-Бактрийского царства тоже была печальной – при сыне Эвкратида Гелиокле оно прекратило свое существование; бо́льшую часть его территории захватил парфянский царь Митридат I, а Согд отпал и присоединился к сакскому племенному союзу Кангха, созданному в долине Сырдарьи. «Бактрийцы, ведя непрерывно одну войну за другой, потеряли не только царство, но и свободу, – пишет Юстин. – Измученные войнами с согдийцами, арахотами, дрангами, ариями и индами, они в конце концов обессилели и были покорены более слабыми парфянами». В падении Бактрии многие усматривали волю богов, покаравших Гелиокла за отцеубийство. «Эвкратид был убит в пути сыном, которого незадолго до того сделал своим соправителем, – сообщает Юстин. – Сын не старался скрыть отцеубийство, словно бы он убил не отца, а врага, – он проехал на колеснице по пролитой крови отца и приказал бросить его тело без погребения».
Собственно, все восточные греческие царства, образовавшиеся после распада государства Селевкидов, были изначально обречены, поскольку покоренные народы Средней Азии стремились к освобождению от эллинистического владычества. До какого-то момента греческой верхушке удавалось управлять этими процессами, но всему, как известно, приходит конец.
Обстоятельства, сопровождавшие окончание эллинистического владычества в Средней Азии, довольно туманны и вряд ли имеют большое значение для нашего повествования. «Какая разница – собака или шакал? Все равно не овца», – говорят узбеки. Нам важно знать, что к концу II века до н. э. греки покинули Среднюю Азию, а те, кто остался, постепенно ассимилировались. Современная греческая община Узбекистана не имеет никакого отношения к тем грекам, которые жили здесь еще до нашей эры. Эти греки являются потомками переселившихся сюда в послевоенные годы причерноморских греков, а также тех, кто эмигрировал из Греции в 1949 году, после того как демократические силы потерпели поражение в гражданской войне. Туристы иногда удивляются, увидев на улицах Ташкента местных жителей, которые, сидя в тени, пьют вместо зеленого чая кофе. Туристы рассказывают дома о «странных узбеках», не зная, что на самом деле они видели греков, которые не могут прожить без кофе точно так же, как узбеки или таджики без чая.
Глава вторая
От Кушанского царства до Тюркского каганата
Кушанское царство
Сведения о Кушанском царстве разрозненны и отрывчаты, их приходилось собирать буквально по крупицам. Кушанских летописей в распоряжении современных историков нет, есть только кушанские монеты и отрывочные сведения, почерпнутые у историков соседних стран. Картина получается такой: иранские племена, продвинувшиеся на восток до северокитайской степной области Ганьсу, под напором кочевников-хунну (тех самых северных врагов, для защиты от которых была выстроена Великая китайская стена), были вынуждены откочевывать на запад и в конечном итоге обосновались в Бактрии. Можно сказать, что Кушанское царство основали не какие-то чужаки, а свои братья-кочевники, не нашедшие счастья на Востоке. Это обстоятельство весьма важно, потому что к собратьям-иранцам население Бактрии относилось гораздо лучше, чем к чужакам-эллинам, которые за годы своего владычества так и не смогли наладить хорошие отношения с местными жителями. «Свой баран лучше чужого быка», – говорят узбеки, и с этим не поспорить.
Первое упоминание о народе юэчжи датируется 645 годом до н. э. В древнекитайском сборнике трактатов «Гуань-цзы» упоминается северо-западное племя юйчжи (нючжи), поставляющее китайцам нефрит, добываемый в горах Юэчжи в области Ганьсу. О том, что юэчжи изначально жили на севере области Ганьсу, пишет в своих «Записках» и известный древнекитайский историк Сыма Цянь. [31]
В период своего расцвета, который приходится на II век и первую половину III века нашей эры, Кушанское царство простиралось от Приаралья на северо-западе до Хотана [32] на востоке, но «колыбелью» его была Северная Бактрия, откуда все и началось. Основателем царства стал Куджула Кадфиз, предводитель одного из пяти племен иранского народа юэчжи, представителей которого греческие авторы называли асиями. Около 20 года нашей эры Кадфиз подчинил себе всех юэчжи, а затем завоевал Бактрию, часть парфянских земель, государство Арахозия, находившееся на юго-востоке современного Афганистана, и государство Гандхара, занимавшее север современного Пакистана. Кадфиз II (неизвестно, кем он приходился Куджуле Кадфизу, но скорее всего, сыном или внуком) около 87 года завоевал значительную часть северо-западной Индии, после начал чеканить монеты с изображением индуистского бога Шивы, демонстрируя свою приверженность к индуизму. Неизвестно, была ли эта демонстрация искренней или же Кадфиз II просто заигрывал с индусами, но очень скоро религиозная политика кушанских правителей изменилась. Сын и преемник Кадфиза II Канишка, правивший примерно с 100 по 125 годы, обратился к буддизму и даже созвал в Кашмире Четвертый буддийский собор, в котором приняло участие пятьсот монахов.
Нет ничего удивительного в том, что центр Кушанского царства переместился из Бактрии в Индию – индийские земли были густонаселенными и богатыми. Можно понять, почему Канишка сделал ставку на буддизм – пришельцы-завоеватели не могли «вписаться» в жесткую иерархическую структуру брахманской Индии с ее четырьмя варнами и многочисленными кастами.
Вообще-то на монетах, выпущенных в правление Канишки, помимо буддистской символики есть и индуистская, и зороастрийская, и эллинистическая. Монеты подсказывают, что Кушанское царство не было централизованным – в некоторых покоренных областях сохранялась власть местных правителей.
Канишка воевал с Парфией на западе и расширял свои владения на востоке, захватывая новые индийские земли. Настал день, когда кушанское войско вторглось в Уйгуристан (Восточный Туркестан), находившийся под властью китайской империи Хань. Попытка оказалась крайне неудачной – ханьский наместник Бань Чао не только изгнал кушанов из своих владений, но и захватил Фергану и Хорезм. Канишка был вынужден признать себя ханьским вассалом, но не исключено, что вассалитет был сугубо номинальным. В китайской истории известны случаи, когда за признание вассалитета воинственным соседям выплачивалась определенная дань. Какой был прок от такого «вассалитета», при котором сюзерен платит вассалу? Ответ прост – это делалось ради подтверждения величия китайского императора.
После смерти Бань Чао Канишка сначала вернул себе Хорезм и Фергану, а затем, в 105 году, снова вторгся в Уйгуристан и сумел захватить значительную территорию от Кашгара до Хотана. [33] В правление Канишки Кушанское царство достигло пика своего могущества. Не следует рассматривать Кушанское царство как примитивное государство, смыслом существования которого была лишь экспансия. Нет, то была могущественная империя, в которой основывались и благоустраивались города, прокладывались дороги, рылись оросительные каналы, развивались ремесла и торговля (обо всем этом можно судить по археологическим находкам). Отдельным «бонусом» объединения множества разных земель под единой властью стал интенсивный культурный обмен, которому способствовала схожесть языков у народов Средней Азии и Афганистана. Языком международного общения здесь оставался арамейский язык, получивший этот статус еще при Дарии I. Наряду с арамейским использовался и греческий, но он постепенно выходил из обращения и к концу IV века вышел окончательно, оставив о себе память в виде кушанской письменности, созданной на греческой основе.

Кушанское царство с зависимыми территориями в период правления Канишки
На фоне царившего в Средней Азии религиозного синкретизма начал широко распространяться буддизм. Известно, что при Канишке в Бактрах построили большой буддийский храм, а во время раскопок в регионе находили предметы буддийского культа (главным образом – терракотовые статуэтки), датированные II–V веками. Однако буддизм не укоренился среди среднеазиатских народов, он был религией знати, принимавшей буддизм ради того, чтобы угодить царю и его наместникам. О том, что в Бактрии и сопредельных областях последователей буддизма было мало, свидетельствует относительная малочисленность буддийских атрибутов среди археологических находок.
В начале III века в области Парс, находившейся под властью парфянских царей из династии Аршакидов, стал править некий Ардашир из знатного рода Сасанидов. Ардашир не был царским ставленником, он получил власть над Парсом самостоятельно, добавляя к своим владениям одну территорию за другой. Власть Аршакидов к тому времени существенно ослабла, и Парфия находилась на грани распада. Противоборство Артабана и Ардашира закончилось победой последнего. В 224 году последние силы Артабана были разгромлены, а сам он убит. Парфянское царство стало Царством иранцев (ариев) – так назвал свое государство Ардашир, но в истории укоренилось название «государство Сасанидов», которое мы и будем использовать.
Вскоре после своего воцарения Ардашир I, провозгласивший себя шахиншахом (шахом над шахами), отправился в поход на восток. «Он проследовал сначала в Сагистан, оттуда – в Гурган, а затем в Абрашахр, Мерв, Балх и Хорезм до внешних пределов Хорасана, а оттуда вернулся в Мерв, – пишет в «Истории пророков и царей» ат-Табари. [34] – Истребив множество людей и отослав их головы в храм огня Анаит, он вернулся из Мерва в Парс и остановился в Гуре. Там к нему пришли послы царя Кушана, царя Турана и царя Мукрана с выражением покорности».
Поход Ардашира запустил процесс распада Кушанского царства. Но его могильщиками стали не Сасаниды, а правитель эфталитов Вахшунвар, захвативший к 470 году бо́льшую часть кушанских и бывших кушанских земель.
Под властью эфталитов
Сведения об эфталитах приходится собирать по крупицам из разных источников – китайских, армянских, византийских, сирийских и пр., подобно сведениям о кушанах. Происхождение эфталитов неясно, но большинство историков склоняется к тому, что они были ветвью массагетов. Также их называют «белыми гуннами», что указывает на хуннское происхождение… Вполне возможно, что эфталиты были не единым народом, а конфедерацией иранских, тюркских, хуннских и монгольских племен, но происхождение их не так уж и важно. Важно то, что в 457 году правитель эфталитов Вахшунвар начал завоевание Средней Азии, которое закончилось к 484 году, а после Вахшунвар добавил к своим владениям Кашмир, Пенджаб и Хотан. Под властью эфталитов оказалось огромное государство на территории современных Средней Азии, Восточного Ирана, севера Индии и Пакистана, а также Уйгуристана. Хорезм в состав государства эфталитов не входил, с 305 по 995 год здесь правила династия Афригидов, исповедовавшая зороастризм.
От кушанов эфталиты унаследовали буддизм и основные принципы государственного строительства – они не только завоевывали новые земли, но и развивали то, что имели. Помимо буддизма в государстве эфталитов распространялось и пришедшее из Византии христианство, но большого влияния оно не имело, поскольку было религией низших слоев общества. При эфталитах Бактрия снова стала центральным регионом государства, наряду с афганским Кундузом, а бактрийский язык стал государственным. Подобно Кушанскому царству, государство эфталитов было конфедеративным – многие его области управлялись местными предводителями, признавшими сюзеренитет верховного правителя.

Государство эфталитов в конце V века
Вахшунвар был наиболее удачливым из эфталитских правителей, которому удалось не только создать мощное государство, но и подчинить сасанидский Иран, но… Но преемники Вахшунвара оказались более слабыми правителями, и во второй половине VI века шахиншах Ирана Хосров Ануширван (Хосров Бессмертный) в союзе с правителем Тюркского каганата Муканом смог сокрушить государство эфталитов – Хосров вернул себе все владения, захваченные эфталитами, а остальное досталось Мукану. В пламя иранско-эфталитского конфликта активно подливала масло Византия, которой было выгодно ослабление обоих могущественных соседей.
К 567 году от государства эфталитов ничего не осталось, разве что только воспоминания… Столь скорое падение – всего за каких-то четыре года – объяснялось не только мощным натиском тюрок, плечом к плечу с которыми воевало множество других племен, но и слабостью эфталитов, не сумевших за отпущенное им историей время сплотить свое весьма разномастное государство. Определенную роль сыграл и союз, заключенный тюрками с Хосровом Ануширваном. Принято считать, что от эфталитов произошли современные пуштуны и туркменское племя абдал, а также (отчасти) и таджики.
Тюркский каганат – одно из крупнейших государств в истории человечества
Прежде чем говорить об одном из крупнейших государств в истории человечества, нужно сказать несколько слов о происхождении этнонима «тюрк». Споры на эту тему не утихают по сей день. Периодически к старым версиям добавляются новые, одна оригинальнее другой, но большинство ученых отдает предпочтение двум версиям. Согласно одной «тюрк» происходит от слова «туру», означающего «законность» – подданные тюркского правителя-кагана назывались «турким будуным» – «народ, находящийся под моим правлением». Другая версия берет за основу слово «тюркон», которым называли молодых воинов, уже достигших возраста, который позволяет участвовать в сражении, и переносит это понятие на племена, объединившиеся под властью кагана.
Род Ашина, из которого вышли правители Тюркского каганата, жил в горах Алтая. Самое раннее упоминание этого рода содержится на стеле, найденной в середине ХХ века возле монгольского селения Бугут. На согдийском и жужаньском языках рассказывается о начальном периоде существования Тюркского каганата. «Эту стелу установили тюркские цари из племени Ашина…».
Жужани были одним из древнемонгольских племен. Жужаньский каганат существовал с 330 года до середины VI века, и род Ашина был в подчинении у жужаней – в частности, известно, что Ашина добывали для них железо. Покоренные жужанями племена время от времени восставали. В 542 году предводителем (каганом) племени Ашина стал Бумын, заключивший тайный союз против жужаней с императором монгольского государства Западная Вэй [35] Вэнь-ди. Одновременно Бумын-каган начал объединять вокруг себя кочевые племена, стремившиеся освободиться от власти жужаней, а когда почувствовал за собой достаточную силу, то искусно спровоцировал конфликт с жужаньским каганом Анагуем. Предводителю, претендующему на верховное лидерство, одной лишь силы было недостаточно, ее нужно было подкреплять репутацией справедливого правителя, верного данному слову (дипломатической бюрократии у кочевников не имелось, и все определялось устными заявлениями – если дал слово, так держи его). Выступление против Анагуя, которому в свое время приносились вассальные клятвы, должно было иметь вескую причину, и такой причиной стало оскорбление, нанесенное Анагуем Бумыну. Хитрый Бумын обратился к Анагую с заведомо невыполнимой, но при том весьма пристойно выглядевшей просьбой дать ему в жены одну из дочерей кагана. «Ты мой плавильщик руды, – ответил разгневанный Анагуй. – Как же ты осмелился сделать мне подобное предложение?!» Этого было достаточно… Вдобавок император Вэнь-ди выдал за Бумына свою дочь, возвысив его тем самым до своего уровня.
В 555 году Жужаньский каганат был сокрушен окончательно. Дело, начатое Бумыном, завершил его сын Кушу, принявший после прихода к власти имя Мукан-каган. В правление Мукана владения Тюркского каганата расширились на востоке до Желтого моря, а на западе – до Черного. Мир еще не знал столь огромного государства… Темпы распространения власти Тюркского каганата поражают не меньше, чем монгольская экспансия при Чингисхане, но надо понимать, что главным образом речь шла о покорении малонаселенных степных пространств и в ряде случаев тюркский сюзеренитет был сугубо номинальным – кочевые племена признавали власть каганата, отправляли кагану какие-то дары в виде выкупа за то, чтобы их оставили в покое, и продолжали жить своей жизнью. Сами тюрки тоже продолжали жить своей кочевой жизнью даже после покорения оседлой в большинстве своем Средней Азии.
В шестидесятых-семидесятых годах VI века Тюркский каганат достиг пика своего могущества. В Передней Азии в тот момент было три политических игрока – Византийская, она же Восточная Римская империя, Сасанидский Иран и Тюркский каганат. Союз Ирана с Тюркским каганатом выглядел логичным, особенно с учетом женитьбы Хосрова Ануширвана на дочери кагана Истеми, младшего брата Бумына-основателя. Но Хосров преследовал свой торговый интерес, препятствуя согдийским купцам, перешедшим под руку каганата, торговать шелком с Византией, и в целом больше склонялся к союзу с предсказуемой Византией против тюрок, нежели к союзу с непредсказуемыми тюрками против Византии. Что же касается Согда и прочих среднеазиатских земель, населенных иранскими народами, то Хосров заведомо рассматривал их как свои собственные и всячески старался отторгнуть от каганата, несмотря на то, что граница между иранскими и тюркскими владениями пролегала по Амударье… [36] Претензии на господство в Средней Азии были еще одним доводом в пользу союза с Византией, которой эти далекие территории были нужны как сухая лепешка после жирного плова. Короче говоря, обстановка толкала тюрков к антииранскому союзу с византийцами, и такой союз был заключен около 570 года. Союз не вызвал каких-то заметных политических перемен, но оказал сдерживающее влияние на иранскую экспансию в Средней Азии.
Как известно, хорошее начало пути не гарантирует хорошего завершения. Расцвет Тюркского каганата длился считанные годы. Внутренние противоречия и противостояние с новообразованной китайской империей Суй [37] ослабили каганат, а удельно-лествичная система престолонаследия, согласно которой право наследования переходило не строго по вертикали – от отца к сыну, а сначала по горизонтали – от старшего брата к младшему, и лишь после по вертикали, способствовала раздроблению государства. Точнее, раздроблению способствовала не столько сама система, дающая каждому мужчине из правящего клана право претендовать на верховную власть, сколько традиция раздачи уделов всем членам рода Ашина, что приводило к распространению сепаратистских тенденций («если мне не дано властвовать над всем каганатом, то хотя бы в своих владениях я стану полновластным правителем»). В результате единый тюркский каганат уже в 603 году распался на Западный, включавший в себя Среднюю Азию с бо́льшей частью современного Казахстана, и Восточный, владения которого находились на территории современных Северного Китая и Монголии. Если Восточный каганат имел более-менее централизованную систему управления, то Западный представлял собой федеративное государство, образованное племенными союзами. История не знает сослагательного наклонения, и постфактум всегда легко рассуждать, но можно с большой долей уверенности сказать, что для иранских народов Средней Азии было бы предпочтительнее оказаться под властью родственного Ирана, нежели совершенно чужого Тюркского каганата. В отличие от государства эфталитов или Кушанского царства, правители Западного каганата не заботились о развитии завоеванных территорий, стремясь только к регулярному получению дани с покоренных народов. В смысле развития Западный Тюркский каганат был абсолютно «непрогрессивным».

Янь Либэнь. Свиток тринадцати императоров. Ян-ди, император династии Суй. VII век
Плохие отношения с империей Суй наносили каганату двойной урон – как военный, так и экономический, и трудно сказать, что было хуже, ведь доходы от торговли шелком и чаем были сопоставимы с расходами на ведение перманентных боевых действий на востоке. Но династия Суй находилась у власти недолго – в 618 году знатный феодал Ли Юань, известный также как император Гао-цзу, основал династию Тан, у которой сложились довольно хорошие отношения с Восточным тюркским каганатом. Это отразилось и на Западном каганате, поскольку через него также шел торговый путь из Китая и ведущую роль в этой торговле, тянувшейся через Самарканд, Бухару и Мерв к Ирану, играли согдийцы. Тем не менее отношения между тюрками и китайцами снова обостряются, и уже около 630 года Восточный каганат попадает в зависимость от империи Тан, а в 659 году та же судьба постигает и Западный каганат.
Однако китайцам не удалось утвердиться в Средней Азии. В начале восьмидесятых годов VII века (или близко к тому) Бильге-Кутлуг из рода Ашина ненадолго возродил Восточный Тюркский каганат, и это отвлекло внимание танских правителей от Средней Азии – как говорится, «тому, чей дом горит, нет дела до происходящего в соседней деревне».
VII век – весьма важная веха в истории Узбекистана. В это время начался этногенез узбекской нации, главные роли в котором играли тюрки, находившиеся в тесном контакте с ираноязычным населением Маргианы, Согда, Хорезма и других областей. В доисламский период тюрки, подобно многим кочевым племенам Центральной Азии, поклонялись Великому Синему Небу, но в процессе ассимиляции с местным населением тюрки принимали зороастризм и прочие религии, особой приверженности к своей исконной вере у них не наблюдалось, к тому же культ Неба превосходно уживался с другими культами, поскольку небо тесно ассоциировалось с божествами. Среди знати, а также среди купцов был распространен буддизм, а с запада, из Византии, в Среднюю Азию пришло христианство несторианского толка, [38] которое, как и буддизм, не получило здесь широкого распространения.
В завершение главы нужно отметить одну характерную особенность среднеазиатских торговых городов в Раннем Средневековье [39] – они были небольшими. Так, например, Самарканд имел всего три с половиной километра в окружности (данные получены в ходе раскопок Афросиаба, древнего городища, расположенного в северной части современного города).
Глава третья
Арабское завоевание Cредней Азии
Арабская экспансия
Пророк Мухаммед объединил арабские племена, кочевавшие по Аравийскому полуострову, в единое мусульманское государство и заложил основы ислама, который арабы несли покоренным народам. Конечно же, арабы играли главенствующую роль на завоеванных землях. К тем, кто принимал ислам, завоеватели относились благосклонно и считали их равными себе, но при этом арабская знать не была склонна делиться властью с местной знатью, которая оказывалась в подчиненном положении.
В 632 году, вскоре после смерти пророка Мухаммеда, его последователи создали государство, названное Праведным халифатом. Главой Халифата стал Абу Бакр ас-Сиддик, один из ближайших сподвижников и тесть пророка Мухаммеда. Праведный халиф Абу Бакр воевал с арабами, не желавшими принимать ислам, а также с Византией и государством Сасанидов. Предание гласит, что в 629 году пророк Мухаммед отправил послание шахиншаху Хосрову II Парвизу [40] с призывом принять ислам, но Хосров разорвал послание, и пророк сказал, что «Аллах разорвет государство Хосрова так же, как Хосров разорвал мое письмо».
При внуке Хосрова Парвиза шахиншахе Йездигерде III, в конце 636 года, на юге Месопотамии состоялось решающее сражение между арабами и иранцами. Сасанидским войском командовал испехбед [41] Хорасана Рустам, тот самый «Хурмузда сын, воитель славный» из «Шахнаме», [42] а арабов возглавлял опытный военачальник Саад ибн Абу Ваккас, один из Десяти обрадованных раем. [43] Численный перевес был на стороне иранцев, но в битве, растянувшейся на четыре дня, победили арабы, которым помогли силы природы – на четвертый день в сторону иранского войска подул сильный ветер, несший с собой песок и пыль. Ослепленные люди и животные впали в панику и были истреблены. Тех, кто сумел спастись бегством, арабы догнали и добили. Путь в Иран был открыт…
Весной 642 года арабы взяли Нехавенд, в котором Йездигерд III собрал остатки своих войск, а в 650 году покорение Ирана было завершено взятием города Истахра, расположенного в области Фарс. Настал черед Средней Азии. В 651 году арабы подошли к Мерву, где нашел убежище Йездигерд. Город сдался без боя, а пытавшийся бежать шахиншах был убит в его окрестностях. С гибелью Йездигерда III закончилась история Сасанидского Ирана.
При словах «арабское войско» на ум первым делом приходят конные воины, вооруженные саблями и копьями. На самом же деле арабская конница подразделялась на легкую и тяжелую, в которой защиту (панцири и кольчуги) имели не только всадники, но и кони. Тяжелая конница была малочисленной, поскольку позволить себе крепкого выносливого коня и защитную амуницию могли только богатые представители племенной знати. Но конница составляла только половину арабского войска, другая половина была представлена пешими воинами-мавали (так называли принявших ислам представителей других народов). Также мавали могли служить и в кавалерии, если им было на что снарядиться. Таким образом, по мере своего продвижения арабское войско не уменьшалось, а, напротив, росло за счет присоединения мавали. Что могли противопоставить несущейся с востока лавине согдийцы или бухарцы? Ничего. После того как арабы сокрушили могущественный Сасанидский Иран, они стали считаться непобедимыми.
Закрепившись в Мерве, арабы стали совершать отсюда набеги на сопредельные земли, беспощадно грабя население. Арабские воины находились на полном самообеспечении. Жалование они получали в виде нерегулярных выплат из армейской казны и жили за счет военной добычи. В Коране есть отдельная «сура о добыче» («сурат ал-ганимат»), дозволявшая мусульманам в качестве законной добычи забирать имущество неверных, захваченное во время войны. Пятая часть военной добычи поступала правителям, которые делали из нее траты на вдов и сирот, а остальное поступало в казну и делилось между всеми воинами, причем пехотинцы получали четверть от поступившего, а всадники – три четверти. Неравный дележ имел большой смысл, так стимулировалось развитие кавалерии. Сумей обзавестись конем – и станешь получать в три раза больше добычи!
Такой дележ добычи сохранялся только при первых четырех праведных халифах, до 661 года, когда к власти в халифате пришла династия Омейядов. Основатель этой династии Муавия ибн Абу Суфьян [44] нарушил традицию, согласно которой власть в халифате передавалась не по родству, а согласно авторитету в мусульманской общине. Преемником Муавии стал его сын Язид, и власть Омейядов сохранялась до 750 года, когда их свергли представители рода Аббасидов. Изменение порядка престолонаследия было не единственной реформой Муавии. В частности, он потребовал от своего хорасанского наместника отправлять золото и драгоценности, то есть наиболее ценную часть добычи, в столичный Дамаск, в халифскую казну. Иногда добыча была настолько велика и разнообразна, что разделить ее не было возможности. Ат-Табари рассказывает о том, как в 716 году, после захвата очередной области, воины обратились к наместнику Ирака Йезиду ибн аль-Мухаллабу с просьбой выплатить им жалованье, но тот, кому Йезид поручил подсчет добытого, не смог исполнить поручение. «Там столько всего, что я не смог сосчитать, и все это в мешках, – сказал он Йезиду. – Пересчитаем мешки, обозначим, что в них, и пусть каждый воин берет сколько нужно пшеницы, ячменя, риса, кунжута и меда, и за каждым запишем, что он взял». Йезид согласился с дельным предложением. Действительно, когда всего очень много, проще учитывать взятое, чем пересчитывать всё и затем делить.
Принявшие ислам уравнивались в правах с арабами и платили положенную десятину-ушр, к которой добавлялся закят, выплачиваемый в пользу нуждающихся мусульман. Иноверцы выплачивали подушную подать джизью – выкуп за сохранение жизни, и харадж – налог за пользование землей и иной собственностью. По поводу размера хараджа, взимаемого в Средней Азии, у нас нет точных сведений, но по аналогии с Ираном можно предположить, что харадж составлял не менее трети собранного урожая (по шариатскому праву харадж является не поземельным налогом, а налогом на доход от земли, то есть – налогом на урожай).
Арабы придумали простую и действенную систему контроля за плательщиками хараджа – ежегодно в начале периода уплаты налога дехканину вешалась на шею свинцовая бирка, называемая «печатью», которая снималась после полной выплаты хараджа. За самовольное снятие печати полагалось серьезное наказание, вплоть до обращения в рабство. Арабам было удобно, а вот дехкане воспринимали печати как тяжелое оскорбление – их «клеймили» словно скот. Но что можно было поделать? Как говорится, если попал на чужой той, [45] то изволь притворяться веселым, даже если на сердце лежит печаль.
Уплативший положенное мог жить спокойно, масштабное ограбление населения имело место только при завоевании, а после арабы устанавливали и поддерживали твердый порядок, правда сверх положенного арабские наместники регулярно вымогали у подведомственного им населения богатые дары, но это не считалось предосудительным, ведь никто не запрещает принимать «добровольно» сделанные подарки.
Изначально арабские наместники Хорасана рассматривали Среднюю Азию как «дойную верблюдицу», бесконечный источник богатств, которые, надо признать, доставались арабам очень легко. Единственная попытка масштабного сопротивления была предпринята в 676 году, когда арабский военачальник Саид ибн Осман совершил поход на Бухару и Согд. Правители других областей прислали бухарцам военную помощь, но воины разбежались при виде наступающего арабского войска, и ибн Осман беспрепятственно вошел в Бухару. Грабеж сопровождался издевательствами. Саид ибн Осман взял в Бухаре восемьдесят знатных заложников, которых обещал отпустить после возвращения в Мерв, но не сдержал своего слова. Более того, он приказал одеть знатных бухарцев в простые одежды и отправил их рыть каналы. Заложники, возмущенные таким вероломством, смогли убить ибн Османа, а затем покончили с собой, не дожидаясь казни.
Арабы искусно пользовались разобщенностью местного населения и отсутствием сильной единой власти в среднеазиатских областях. Вот показательный пример. В 696 году хорасанский наместник Умейя ибн Абдаллах приказал наместнику Тохаристана Букайру выступить в поход на Мавераннахр, так арабы называли территории, лежавшие за Амударьей, [46] а Тохаристаном с конца IV века стали называть Бактрию.
Для того чтобы снарядить войско, Букайр… «сделал заем у жителей Согда и его купцов»! От этом пишет в «Истории пророков и царей» ат-Табари, и у нас нет причин подвергать его слова сомнению, поскольку «отец мусульманской историографии» [47] имеет репутацию правдивого рассказчика. Получается, что согдийцы ради получения выгоды оплатили интервенцию против своих же собратьев! Если не удивляться этому, то остается удивляться тому, почему арабы не захватили всю Среднюю Азию уже во второй половине VII века. Однако же не захватили – арабские набеги из-за Амударьи продолжались до начала VIII века.
В 704 году наместником Хорасана был назначен амбициозный, умный и энергичный Кутейба ибн Муслим, который сразу же начал готовиться к покорению Мавераннахра. «У мастера плов сам собой варится», – говорят узбеки, желая намекнуть на то, что умелый человек легко справляется с трудными задачами. Кутейба ибн Муслим начал с того, что в 708 году захватил Кеш (современный Шахрисабз). В 709 году ему покорилась Бухара, в 712 году – Хорезм с Самаркандом, а в 713-м – город Чач, известный сейчас как Ташкент. Годом позже покорение Средней Азии завершилось захватом Ферганской долины.
Жизнь под властью арабов
О налогах уже было сказано выше, осталось сказать о повинностях. Достоверно неизвестно, как решался вопрос с привлечением рабочей силы для строительства городов или рытья каналов в доарабский период, но при арабах все общественные работы стали повинностью дехкан. Именно дехкан, как наиболее многочисленной и привычной к физическому труду категории населения. По первому зову, вне зависимости от загруженности делами, дехканин был обязан явиться с инструментами и запасом провизии на указанный срок. Если прежде свободные земледельцы ощущали себя хозяевами на своей земле, то теперь и свободные, и зависимые были низведены до подневольного положения. Можно было улучшить свое положение принятием ислама, но на первых порах арабского владычества обращение среднеазиатских жителей в ислам шло туго. Отдадим арабам должное – они не насаждали веру в принудительном порядке, хорошо понимая, что принуждение приводит к неискренности, а от неискренности не происходит ничего хорошего. Жителям завоеванных арабами земель предоставлялась свобода выбора, и тот, кто принимал ислам притворно, без зова души, сурово осуждался. Впрочем, подчас в дело пускался подкуп. Согдийский историк X века Абу Бакр Мухаммед ибн Джафар Наршахи в своей «Истории Бухары» рассказывает о том, что Кутейба ибн Муслим после завоевания Бухары распорядился, чтобы каждому посетившему пятничную молитву в соборной мечети выплачивалось по два дирхема. [48] На эти деньги можно было купить шесть-восемь ман мяса, а ман был приблизительно равен восьмистам граммам. По сути, посещение пятничной молитвы давало бедняку пропитание на неделю, в этом и состоял расчет ибн Муслима.

Первое издание «Истории Бухары» Наршахи на французском языке. 1892
Первыми ислам обычно принимали купцы, которым пребывание в составе огромного халифата сулило большие выгоды, особенно с учетом того, что пророк Мухаммед считал торговлю достойным занятием (как и прочие способы приобретения жизненных благ дозволенным путем). Понятие воздержания – зухд – не предполагает огульного отказа от всех земных благ. Зухд – это в первую очередь отрешение от зла, от той скверны, которая распространена среди людей. Благочестивый торговец, приобретающий прибыль законным путем (без обмана и стяжательства) и жертвующий положенное в пользу неимущих, заслуживает всяческого уважения. Пророк Мухаммед говорил, что «кто зарабатывает дозволенным способом достаточное для того, чтобы прокормить семью и оказать помощь соседу, чтобы не было нужды просить у людей, тот встретит Аллаха с лицом, сияющим как полная луна». Следом за торговцами к исламу начала обращаться знать, а среди простонародья языческие культы сохранялись довольно долго – до конца VIII века, и надо признать, что зачастую принятие ислама было обусловлено не душевной потребностью, а стремлением избавиться от уплаты джизьи и хараджа.
Дольше прочих сохраняли приверженность своей вере сторонники манихейства, религиозного учения, созданного в середине III века. Манихейство, получившее в Средней Азии довольно широкое распространение, заслуживает того, чтобы ему уделили немного внимания. Это учение создал некий Сураик из знатного парфянского рода Аршакидов. Сураик проповедовал под прозвищем Мани, что в переводе с греческого означает «дух». Соответственно его учение назвали манихейством. Если у зороастрийцев Добро боролось со Злом, то в манихейской концепции мироздания существовали Свет и Мрак, никак не связанные между собой. Праведники следуют путем Света, а грешников поглощает Мрак, и каждый человек делает выбор своего пути… Адептов, в первую очередь, привлекала именно простота манихейской системы – люди любят простые решения и тянутся к ним всей душой.
И на покоренных землях, и в «сердце» халифата многие и многие были недовольны политикой Омейядов, которые с течением времени все сильнее обнаруживали свою узурпаторскую сущность. Надо признать, что омейядские правители в большинстве своем были людьми, больше полагавшимися на силу, нежели на согласие. Результат не замедлил сказаться: в 750 году представители рода Аббасидов, ведущего свое начало от дяди пророка Мухаммеда Аль-Аббаса ибн Абд аль-Мутталиба, свергли Омейядов на всей территории халифата за исключением территории Пиренейского полуострова, где впоследствии был образован Кордовский эмират, не имеющий никакого отношения к нашему повествованию. В Средней Азии Омейяды воспринимались как жестокие угнетатели со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до поддержки Аббасидов не только знатью, у которой всегда имелись свои потаенные и веские резоны, но и простым народом, которому было все равно, кому платить налоги. С Аббасидами связывались определенные надежды, но они не оправдались – новые правители оказались ничем не лучше прежних.
Весьма показательным оказалось восстание, поднятое в Бухаре уже в 750 году арабом Шариком ибн Шейхом ал-Махри. Шарик был шиитом, [49] что определяло его оппозиционные настроения. Для своего восстания он выбрал очень удобный девиз, пришедшийся по сердцу не только бухарцам, но и прочим жителям Средней Азии – не для того мы скинули иго Омейядов, чтобы стать рабами Аббасидов. «Был человек из племени арабов, который жил в Бухаре и прославился своей храбростью, – пишет в «Истории Бухары» Мухаммед Наршахи. – Он принадлежал к приверженцам шиизма и призывал людей признать халифат потомков повелителя правоверных Али, да приветствует его Всевышний. Он говорил: «мы теперь избавились от необходимости терпеть Марванидов [Омайядов], но нам не следует терпеть Аббасидов, нужно, чтобы наместники Пророка происходили из числа его потомков» (ни Омайяды, нм Аббасиды к потомкам пророка Мухаммеда не относились, ими являются только шиитские предводители, ведущие род от Али ибн Абу Талиба, двоюродного брата пророка Мухаммеда, женатого на его дочери Фатиме аз-Захре).
Примечательно, что Шарика поддерживали не только бухарцы с согдийцами, но и многие из арабов, но при этом правитель Бухары Кутейба ибн Тахшада сразу же занял сторону Аббасидов (как говорится – чем выше сидишь, тем лучше понимаешь, в какую сторону дует ветер). Восстание было жестоко подавлено, а сам Шарик ибн Шейх был убит в одном из сражений. У этого восстания есть одно «отдаленное последствие», если так можно выразиться – его никак не могут поделить между собой некоторые современные историки, узбекские и таджикские. В Средней Азии все настолько перемешано, что подчас невозможно провести четкую границу между узбекскими и таджикскими поселениями – то тут, то там будут встречаться анклавы. Как при этом можно определиться с национальной принадлежностью восстания, поднятого арабом в Бухаре в середине VIII века, когда этногенез узбекской и таджикской наций только-только набирал обороты? Правильнее всего будет считать это восстание бухарским, не вдаваясь в прочие детали. И вообще, на протяжении бо́льшей части нашего повествования мы не случайно ведем речь о Средней Азии, а не о земле узбеков, потому что границы между среднеазиатскими этносами, как только что было сказано, весьма зыбки и расплывчаты.
Другим крупным антиарабским восстанием в Средней Азии стало восстание под предводительством уроженца Мерва Муканны (Хашима ибн Хакима), участники которого известны как «люди в белых одеждах» – белый цвет одежд восставших противопоставлялся черному, принятому среди сторонников халифа. Муканна был последователем маздакизма, наиболее радикальной ветви манихейства, провозглашавшей идеи всеобщего равенства еще в те далекие времена. Это восстание растянулось на добрых семь лет – с 776 по 783 год [50]. После его подавления спокойствие воцарилось ненадолго. То там, то здесь вспыхивали новые восстания, более мелкого масштаба, но каждое из них при благоприятных условиях могло охватить весь Мавераннахр и перекинуться на Хорасан.
В чем была суть недовольства? Если посмотреть на ситуацию прагматическим взглядом, то может показаться, что жить под властью арабов было спокойнее – с одной стороны, исчезла угроза беспрестанных арабских набегов, а с другой, прекратились бесконечные междоусобные войны местных правителей-худатов, к которым добавлялись разборки мелких феодалов. Наконец-то жители Мавераннахра получили возможность жить спокойно, но вместо того, чтобы радоваться и платить джизью с хараджем, начали восставать… Где логика?
Во-первых, чужеземные порядки вызывают неприятие даже в том случае, если они лучше своих, недаром же говорится, что своя курица лучше чужого барана. Вдобавок некоторые порядки, например, ношение на шее свинцовых бирок, были оскорбительными. Во-вторых, отношение арабских наместников и чиновников к покоренному населению, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Арабы продолжали рассматривать местных жителей как источник дохода, не более того. Еще во время своих набегов арабы заслужили репутацию жестоких грабителей, а в начальный период своего правления всячески укрепляли ее, вместо того чтобы попытаться изменить в лучшую сторону.

Неизв. автор. Харун ар-Рашид в книге «Тысяча и одна ночь». XVI век
То, что горит, рано или поздно сгорит дотла. Халиф Харун ар-Рашид (тот самый, из сказок «Тысяча и одной ночи»), пришедший к власти в 786 году, оказался мудрее своих предшественников. Вместо того чтобы постоянно подавлять восстания, Харун ар-Рашид решил устранить их причину. Для этого он отправил в Хорасан и Мавераннахр своего визиря (и молочного брата) Фадль ибн Яхья Бармакида, происходившего из знатного иранского рода, одного из наиболее влиятельных в Бактрии-Тохаристане. Фадль объехал все мятежные области, где его встречали хорошо, как своего. Он уговаривал народ успокоиться, объяснял, что халиф желает блага своим подданным и в подтверждение этого провел кое-какие реформы – смягчил налоговое бремя, изменил некоторые порядки, убрал наиболее одиозных чиновников и начал привлекать в управленческий аппарат представителей местной знати.
Восстание Рафи ибн Лейса и возвышение саманидов
Язвой халифата было отсутствие постоянного контроля за действиями чиновников на местах. При справедливом Фадле ибн Яхья в Хорасане и Мавераннахре было спокойно, но стоило ему отбыть в Багдад, недавно построенную столицу Аббасидов, как арабские наместники снова начали притеснять население. Особой алчностью отличался Али ибн Иса ибн Махан, назначенный наместником в 796 году. Али ибн Иса не только устанавливал собственные поборы, но и беззаконно отнимал у людей имущество, движимое и недвижимое. Харун ар-Рашид долгое время не реагировал на жалобы хорасанцев, поскольку Али ибн Иса пользовался его неограниченным доверием. Достаточно сказать, что до назначения в Хорасан Али ибн Иса командовал гулямами халифа.
Гулямы (в переводе с арабского это слово означает «раб»), были войском, которое подчинялось лично правителю, в этом смысле их можно сравнить с европейскими гвардейцами. В основном гулямы набирались из рабов, но были среди них и свободные люди, желавшие попытать счастья на службе у правителя.
Когда халиф призвал Али ибн Ису к ответу, тот прибыл в Багдад с богатейшими дарами, по поводу которых халиф сказал Яхье ибн Халиду, отцу Фадла, что «можно только удивляться тому богатству, которое Али ибн Иса привез из Хорасана». Яхья, бывший некогда наставником и опекуном юного Харуна ар-Рашида, привык говорить своему повелителю правду в лицо. «Все это богатство отобрано у людей силой, – ответил он. – Если и я захочу добыть разные блага путем беззакония, то за один час соберу больше». Тем не менее Али ибн Иса вернулся в Хорасан и продолжил творить произвол. Чем больше было на него жалоб, тем богаче становились его подношения халифу. Харун ар-Рашид, вначале показавший себя мудрым правителем, со временем изменился в худшую сторону, можно сказать, что власть его развратила, а рядом уже не было мудрого советчика Яхьи ибн Халида – в 803 году Бармакиды попали в опалу.
Дурной пример, как известно, заразителен – глядя на Али ибн Ису, подчиненные ему чиновники действовали точно так же. Хорасан и Мавераннахр находились на грани разорения. Сказать, что люди были недовольны, означало не сказать ничего.
В 806 году согдийский араб Рафи ибн Лейс, потомок омейядского наместника Хорасана, поднял в Самарканде восстание против Аббасидов. История Рафи ибн Лейса была такова. Один знатный араб по имени Яхья ибн ал-Ашас взял в жены одну из дочерей своего дяди по отцу, которая был очень богатой. Оставив жену в Самарканде, Яхья отбыл в Багдад. Рафи решил жениться на этой женщине и подучил ее, как получить развод без согласия мужа. «Он подослал к ней одного, который сказал, что нет иного способа избавиться от мужа, кроме как объявить о своем исповедании многобожия [язычества] и представить свидетелей этого, [51] – пишет ат-Табари. – И она сделала это, и на ней женился Рафи».
Обманутый муж пожаловался халифу, и тот приказал Али ибн Исе «восстановить справедливость». Рафи принудили к разводу и бросили в темницу в Самарканде, откуда он бежал и обратился к Али ибн Исе, который к тому времени перенес свою резиденцию из Мерва в Балх, с просьбой о пощаде. Вроде как Али ибн Иса смягчился и позволил Рафи вернуться в Самарканд, но по возвращении тот собрал вокруг себя молодцов, напал с ними на резиденцию самаркандского наместника, убил его и провозгласил себя правителем. Самаркандцы, доведенные до отчаяния притеснениями Али ибн Исы и его ставленников, охотно поддержали Рафи.
Али ибн Иса отправил для подавления мятежа войско под командованием своего сына, которое было разбито восставшими. Разбили они и другое войско, более крупное, которое Али ибн Иса возглавил лично. Успехи самаркандцев вдохновили жителей других земель. Вскоре восстание охватило значительную часть Мавераннахра и перекинулось на Хорасан.
Угроза отпадения от халифата двух плодородных областей вынудила Харуна ар-Рашида сместить Али ибн Ису. По приказу халифа новый наместник Хорасана Хузайма ибн Аюн заковал Али ибн Ису в цепи и ежедневно приводил в таком виде в соборную мечеть Мерва на всеобщее обозрение. Все имущество Али ибн Исы было конфисковано. Хузайма ибн Аюн объявил о том, что незаконно отнятое имущество будет возвращено владельцам, которые смогут подтвердить свои права на него. Хорасан после этого успокоился, а за Амударьей восстание продолжалось и вскоре охватило весь Мавераннахр. Рафи ибн Лайс показал себя не только искусным военачальником, но и справедливым правителем, заботящимся о благе подданных. Это привлекало к нему людей, а смещение Али ибн Исы восставшие восприняли без энтузиазма – они хорошо помнили, сколь преходящей бывает справедливость халифа.
В марте 809 года Харун-ар-Рашид скончался, успев назначить наместником Хорасана своего сына аль-Мамуна, мать которого была персиянкой. Новым халифом стал другой сын – аль-Амин, рожденный знатной арабкой.
Действуя не только силой, но и уговорами, Аль-Мамун в 810 году смог погасить восстание, причем сделано было это мягким путем. Рафи ибн Лейс и все те, кто добровольно сложил оружие, получили прощение. Аль-Мамун хорошо усвоил урок, преподанный историей. Он понимал, насколько непрочны мир и спокойствие в среднеазиатских владениях халифа. Аль-Мамун не мог обеспечить навсегда справедливое управление в Хорасане и Мавераннахре – рано или поздно появится новый Али ибн Иса и старая история повторится, но мог сделать так, чтобы народное недовольство не направлялось против арабов. Под началом аль-Мамуна служили Асад ибн Саман и четверо его сыновей. Эти люди заслужили доверие аль-Мамуна тем, что помогли ему склонить Рафи ибн Лейса и его окружение к прекращению восстания. Одним из визирей аль-Мамуна был иранец Фадл ибн Сахл. Аль-Мамун назначил двоюродного брата Фадла Гассана ибн Ибада наместником Хорасана и приказал ему поставить правителями областей сыновей Асада ибн Самана. Нух ибн Асад стал правителем Самарканда, Ахмад ибн Асад – правителем Ферганы, Шашем (Ташкентом) и сопредельными областями стал править Яхья ибн Асад, а правителем Герата был поставлен Ильяс ибн Асад. С одной стороны, решение было правильным, поскольку Саманиды являлись своими для местного населения, пользовались уважением и доверием и никак не ассоциировались с арабами, но с другой, были созданы предпосылки для последующего отторжения Хорасана и Мавераннахра от халифата – если в чем-то выигрываешь, то в чем-то должен проиграть.
Шахристаны, кухендизы, рабады
«Шахристан» и «кухендиз» – это иранские термины, а «рабад» – арабское слово. Шахристаном называлась часть иранского или среднеазиатского города, окруженная укрепленной стеной. Арабы называли шахристан «мединой». Внутри шахристана мог находиться кухендиз, он же касба, городская цитадель, заключавшая в себе не только общественные, но и частные постройки, наличие которых в сердце города не должно никого удивлять – знатные и богатые люди предпочитали селиться в наиболее укрепленном месте, а к их домам лепились жилища «обслуживающего персонала». Снаружи к городской стене прилегал рабад, [52] пригородная окраина, которую узбеки называют «махаллят». Изредка и рабад обносился оборонительными стенами, как, например, было в богатом Самарканде, столице Согда. Но чаще всего рабад не был укрепленным. Наличие в городах двух оборонительных стен создает определенные проблемы историкам при чтении исторических документов. Не всегда понятно, что именно имел в виду автор – собственно шахристан или окруженный стеной рабад? А если речь идет о рабаде, то о каком – о том, что примыкает к шахристану, или же о предместье, находившемся вне стен? И как вообще быть с определением границы города? По какой стене ее считать? Но вообще-то грамотный подход предполагает проводить границу города по наружному периметру составляющих его поселений, поскольку то, что примыкало к стенам, было частью города, а не совокупностью пригородных селений. Но недаром же среди историков ходит такая шутка: «Если хочешь поссорить ученых между собой, то попроси их показать на карте границу древнего Самарканда».
Возьмем Самарканд за образец крупного старинного города (да простят нас Мерв и Хорезм!) и познакомимся с ним поближе. В трактате «Книга стран», написанном арабским географом Ибн аль-Факихом аль-Хамадани на рубеже IX и X веков, говорится: «Самарканд построил Искандер Двурогий [Александр Македонский]. Окружность его стен двенадцать фарсахов. [53] В городе двенадцать ворот, [54] и от ворот до ворот расстояние в один фарсах. На вершине стены бойницы и башни, предназначенные на случай войны. Все двенадцать ворот двустворчатые, деревянные. В дальнем конце еще двое ворот, а между ними жилище стражников. А когда ты пройдешь посевы, то остановишься в рабаде, где есть постройки. Затем ты попадешь в город, который тянется на пять тысяч джарибов. [55] Там четверо ворот… затем ты входишь во внутренний город, площадь которого две тысячи пятьсот джарибов. В этом городе соборная мечеть, кухендиз и резиденция правителя. В городе есть проточная вода. А внутри большой стены есть реки и каналы. У кухендиза железные ворота в начале и в конце».
Слово «кухендиз» переводится как «старая крепость». В дошедших до нас документах «кухендизами» называются крепости пяти городов: Балха, Бухары, Мерва, Нишапура [56] и Самарканда. В исторических художественных произведениях нередко можно встретить упоминания о содержавшихся в крепости преступниках. После постройки «больших» оборонительных стен кухендизы теряли свое военное значение, и их приспосабливали под тюрьмы – не стоять же таким крепким постройкам без дела. Древние свидетельства, касающиеся Самарканда, крайне ценны, ведь Чингисхан разрушил старый Самарканд практически до основания.
О том, насколько богат был древний Самарканд, можно судить хотя бы по размеру добычи, захваченной Кутейбой ибн Муслимом при завоевании города. Ат-Табари пишет: «Кутейба заключил с ними [самаркандцами] мир на условии [выдачи] ста тысяч голов, [разрушения] храмов огня и украшений идолов. Он взял обусловленное мирным договором, ему принесли идолов, и они были обобраны и поставлены перед ним: сложенные вместе, они возвышались как огромная башня, и он велел их сжечь. Неарабы сказали, что среди идолов есть такие, что сжегший умрет. Кутейба сказал на это: «Я сожгу их своими руками»… произнес «Аллах велик!», затем поджег их, и люди тоже подожгли, и идолы загорелись. Среди того, что от них осталось, нашли золота и серебра на пятьдесят тысяч мискалей». Один мискаль в халифате равнялся четырем с половиной граммам, следовательно в одних только ритуальных предметах, не считая прочих богатств, содержалось двести двадцать пять килограмм драгоценных металлов!
Самарканд традиционно принято сравнивать с Бухарой. Можно вспомнить хотя бы известное выражение: «В Самарканде плов вкуснее, зато в Бухаре люди добрее» (на самом деле люди везде одинаковые, а сравнивать самаркандский плов с бухарским нельзя, поскольку это совершенно разные блюда – рис для бухарского оши-софи варится отдельно и встречается с мясом и прочими компонентами только на блюде, а самаркандский плов, хотя и готовится в одном котле, не принято перемешивать, и мясо для плова самаркандцы нарезают крупными кусками). В Самарканде же принято подшучивать над медлительностью бухарцев: «Когда в Самарканде с базара возвращаются, в Бухаре только начинают торговать». В этом есть доля правды – жизнь в Бухаре спокойная, размеренная, неторопливая.
Наршахи в своей обстоятельной «Истории Бухары» пишет: «Все место, простирающееся от западных ворот крепости до ворот Маабид [ «ворот Поклонения»] в Бухаре называется Регистаном. [57] Здесь с давних пор, со времен неведения [т. е. с доисламских времен] располагались дворцы правителей. В правление династии Саманидов амир Саид Наср… приказал построить дворец в Регистане, и был построен великолепный дворец, обошедшийся очень дорого. У ворот своего дворца амир приказал построить здания для должностных лиц, у каждого из которых был особый диван [канцелярия] в собственном здании, у ворот царского дворца – диван визиря, диван мустауфи [распорядителя финансов], диван оплота государства [начальника, осуществляющего внутреннее управление], диван военного начальника, диван начальника почты, диван мушрифов [хранителей дворцового порядка], диван управляющего государственным имуществом, диван мухтасиба, [58] диван вакуфов [59] и диван судей. В таком порядке амир приказал выстроить (здания) диванов, и это было исполнено… В царствование Абдул-Малика [954–961]… амир упал с лошади и скончался. В ночь его кончины рабы ворвались во дворец и стали его грабить… Дворец был подожжен и сгорел дотла… В 350 [961] году стал править амир Садид-Мансур… он приказал вновь выстроить эти здания. Все, что было уничтожено пожаром, было возобновлено еще лучше прежнего, и амир Садид поселился в этом дворце. Не прошло и года, как в одну праздничную ночь, согласно древнему обычаю, развели большой огонь, и искра огня попала на крышу дворца, который повторно сгорел дотла… После этого Регистан остался в развалинах.
Другой царский дворец был в Джуи-Муллиан. В Бухаре нет места и жилища лучше, чем прекрасное райское Джуи-Муллиан, потому что вся эта местность занята дворцами, парками, цветниками, фруктовыми садами и водами, постоянно протекающими по ее земле…
От ворот Регистана до Даштака [60] стояли правильно расставленные и богато украшенные, высокие каменные постройки… искусно разбитые парки, благоустроенные бассейны и около них деревья, кроны которых образовывали подобие шатров… Сады были полны прекрасных плодов: груш, миндаля, орехов, черешни, винограда; одним словом, все плоды, какие произрастают в благоухающем раю, были и здесь и украшали сады своим прекрасным видом…
У Нурских ворот есть местность, называемая Карак-и-Алавиан… амир Мансур… построил здесь великолепный дворец, красота которого вошла в поговорку. Это было в 356 [957] году. Это место Карак-и-Алавиан оставалось имением правителя до царствования Насыр-хана сына Тамгадж-хана, который отдал эту землю улемам, [61] потому что она находилась вблизи города и изучающим шариат здесь было удобнее заниматься земледелием. Себе Насыр-хан, взамен этой, взял землю подальше от города.
Джуи-Муллиан и Карак-и-Алавиан застраивались до конца правления династии Саманидов… С падением Саманидов разрушились и дворцы. В Бyxapе уже не было резиденций правителя, а была только крепость».
При Саманидах харадж, уплачиваемый бухарцами, составлял 1 168 566 дирхемов и пять с половиной дангов (данг был шестой частью дирхема). К тому времени дирхем изрядно полегчал (инфляция существовала всегда) и весил примерно три грамма. Следовательно, бухарский харадж составлял более трех с половиной тонн серебра – неплохо, не правда ли?
Наршахи приводит интересную легенду, касающуюся чеканки монет в Бyxapе. Начало этому было положено в первой половине VII века, но к концу следующего столетия бухарские серебряные монеты, содержавшие чистое серебро, вышли из обращения, потому что торговцы предпочитали оставлять их у себя, а расплачивались гораздо более худшими по составу хорезмийскими дирхемами или прибегали к натуральному обмену. То, что не оседало в кубышках бухарских торговцев, вывозилось за пределы Бухары. В Бухаре возник дефицит монеты, создававший многие неудобства. Именитые бухарцы обратились к наместнику Хорасана Гитрифу с просьбой разрешить им чеканить новую монету, такую, которую не было бы смысла вывозить из Бухары. Рассматривались шесть материалов: золото, серебро, олово, железо, медь и даже… кожа. Остановились на серебре с большим количеством примесей, из-за которых монета быстро чернела. На монете выбивалось имя Гитрифа, и потому новые дирхемы прозвали «гитрифами» или «гитрифийскими дирхемами». Установился курс шесть гитрифов за один дирхем из чистого серебра, и правительство стало взымать харадж гитрифами по прежнему курсу и отказывались принимать в уплату серебряные дирхемы. Иначе говоря, «тихой сапой» харадж увеличился в шесть раз, но при этом официально его не повышали. Недаром же в народе говорили, что «лучше встретить семерых разбойников, чем одного саркара». [62]
Кстати говоря, процветание торговли в Бухаре, Самарканде и других городах Средней Азии принято связывать с расположением на оживленных торговых путях с Востока на Запад и обратно, но у этого процветания была и еще одна составляющая – соседство оседлого населения с кочевым. Кочевники не знали ремесел и ничего не выращивали, но зато поставляли мясо, шкуры, шерсть. «Симбиоз» был крайне выгодным для обеих сторон, но при этом каждая из них относилась к другой снисходительно – оседлые считали кочевников невежественными дикарями, а те, в свою очередь, противопоставляли свою вольную жизнь «рабству» земледельцев.
Итоги арабского владычества
Первое – арабы принесли в Среднюю Азию ислам, который довольно быстро стал здесь доминирующей религией. Второе – арабское завоевание повлияло на течение этнических процессов. Исчезли бактрийский, согдийский и хорезмийский языки вместе со своей письменностью, а заодно вышла из употребления и древнетюркская руническая письменность. [63] Основными языками оседлого населения Средней Азии стали иранский, развившийся до современного фарси (а впоследствии – до таджикского) и тюркский. Арабский язык, в отличие от арабского письма, здесь не укоренился, поскольку он был официально-канцелярским языком, которым владели только знатные и образованные люди, а основная масса народа говорила на тюркских и иранских диалектах.
Третье – основанная в двадцатые годы IX века в Багдаде халифом аль-Мамуном исламская академия «Дом мудрости» [64] дала мощный толчок развитию наук на всей территории халифата, в том числе и в Средней Азии.
Четвертое – в результате синтеза арабской культуры и культур коренных народов завоеванных земель родилась новая культура, вобравшая в себя лучшее от своих «родителей» и давшая миру таких гениев, как Алишер Навои, Лутфи и Дурбек. [65]
Абу Абдуллах Мухаммед ибн Муса Аль-Хорезми
Все знают, что такое алгебра, алгоритм и синус (ну хотя бы понаслышке), но далеко не все могут назвать имя человека, давшего миру эти понятия. Этого человека зовут Абу Абдуллах Мухаммед ибн Муса аль-Хорезми. Он родился в 783 году в Хорезме, как это видно из его имени, тридцать лет провел в Мавераннахре, а затем переехал в Багдад, где возглавил академию «Дом мудрости», основанную халифом аль-Мамуном (скажем прямо, что если бы аль-Мамун не сделал в своей жизни ничего выдающегося, а только основал «Дом мудрости», то он все равно бы заслужил право называться выдающимся правителем своего времени).
В Багдаде аль-Хорезми написал свои самые известные научные трактаты – «Книгу об индийском счете», «Краткую книгу о восполнении и противопоставлении», от арабского названия которой «Аль-китаб аль-мухтасар фи хисаб аль-джабр ва-ль-мукабала» произошло слово «алгебра», «Астрономические таблицы», «Книгу о построении астролябии», «Книгу о солнечных часах», «Книгу картины Земли», «Книгу истории», «Книгу о строительных инструментах»… В IX (!) веке аль-Хорезми вычислил длину окружности нашей планеты по экватору и ошибся совсем ненамного – 40 680 километров против реальных 40 075.

Неизв. автор. Ученые в багдадской библиотеке Аббасидов («Доме мудрости»). XIII век
Труды аль-Хорезми переводились на латинский и другие европейские языки. В европейских университетах по ним учились вплоть до конца XVIII века. Жаль, что не все труды великого ученого дошли до нашего времени, и больше всего, пожалуй, жаль, что у нас нет полной «Книги истории», которая представляла собой первый трактат по всемирной истории, написанный на арабском языке.

Первая страница «Краткой книги о восполнении и противопоставлении»
Латинизированное имя аль-Хорезми – Algorizmi или Algorizmus – стало нарицательным в средневековой Европе. Сначала так называли арифметику, основанную на десятичной позиционной системе счисления, а затем стали называть любое вычисление, совершенное по строго определенным правилам. В наше время «алгоритмом» принято называть порядок действий, необходимых для достижения конкретного результата. Аль-Хорезми можно назвать не только «Отцом алгебры», но и «Отцом алгоритмов».
Абу-ль-Аббас Ахмад ибн Мухаммед Аль-Фергани
Судьба Абу-ль-Аббаса Ахмада ибн Мухаммеда аль-Фергани отчасти схожа с судьбой аль-Хорезми. Родившись в Фергане в конце VIII века, он в зрелом возрасте переехал в Багдад и работал в «Доме мудрости», а в середине IX века переехал из Багдада в Каир, где и провел остаток своей жизни.

Памятная монета Узбекистана. Серия «Великие предки». Ахмад аль-Фергани. 100 сумов. 1999
Научные интересы аль-Фергани не простирались так широко, как у его современника и наставника аль-Хорезми, который был истинным энциклопедистом, но в астрономию аль-Фергани внес огромный вклад. Он первым открыл, что Солнце не является неподвижным и что Земля имеет форму шара, и помогал аль-Хорезми в расчете ее окружности. Он первым измерил угол наклона земной оси, создал метод вычисления солнечных затмений, позволяющий предсказывать эти явления, участвовал в составлении таблицы звездного неба, работал над усовершенствованием астролябии [66] и написал о ней трактат. Самой же известной работой аль-Фергани является «Книга о небесных движениях и свод науки о звездах», представляющая собой астрономическую энциклопедию своего времени. В Каире, на острове Ар-Рауда сохранился древний нилометр (сооружение для измерения уровня воды в Ниле), восстановленный в 861 году аль-Фергани.
В сборнике «Новая жизнь» Данте Алигьери, а также в произведениях других западноевропейских писателей можно встретить упоминания об «аравийском (арабском) летоисчислении», о котором европейцы узнали из переведенного на латинский язык трактата аль-Фергани «Астрономические элементы». В Европе этот ученый был известен как Альфраганус, а на Востоке его часто называли Хасибом («Считающим»).
Глава четвертая
Новые правители – тахириды, Якуб ибн Лейс Ас-Саффар и саманиды
Распад Аббасидского халифата
Начало распаду халифата положили Омейяды – в 756 году внук десятого омейядского халифа Хишама ибн Абд ал-Малика Абд ар-Рахман захватил испанский город Кордову и провозгласил себя эмиром. А в 929 году Абд ар-Рахман III провозгласил себя халифом.
В 777 году имам ибадитов Магриба [67] Абд ар-Рахман ибн Рустам отложился от халифата и основал государство Рустамидов. Ибадизм – это течение ислама, отличное от суннизма и шиизма. Если шииты считают, что верховная власть в мусульманской общине должна передаваться по наследству среди потомков пророка Мухаммеда, то есть среди имамов, являющихся потомками Али ибн Абу Талиба и его жены, дочери пророка Фатимы, а верховные правители суннитов непременно должны происходить из племени курайшитов, [68] то у ибадитов лидером общины может быть любой мусульманин, вне зависимости от его происхождения. Ибадиты ссылаются на следующий хадис [69] пророка Мухаммеда: «Если будет поставлен повелителем над вами эфиопский раб с вырванными ноздрями и установит между вами Божественное Писание и мою Сунну, то слушайте его и ему повинуйтесь».
В 789 году Западный Магриб стал шиитским эмиратом Идрисидов, а в 800 году севернее государства Рустамидов возникло независимое государство Аглабидов, которые признавали сюзеренитет аббасидских халифов только на словах, но не на деле.
Противоборство «иранца» аль-Мамуна с чистокровным арабом аль-Амином стало не только борьбой за власть, но и положило начало расколу в правящих кругах халифата – арабская элита, лишившаяся былого влияния, ненавидела иранских и тюркских «выскочек», на которых опирался аль-Мамун, а те, в свою очередь, ненавидели чванных арабов. Образно говоря, халифат, похожий на обветшавшее лоскутное одеяло, начал трещать по швам. Центральная власть в халифате давно уже не была крепкой, а распри среди правящей знати ослабляли ее еще больше.
Ржавчиной, точившей халифат изнутри, была система пожалования земельных наделов за службу, военную или гражданскую, или же в качестве награды. Земля, которой награждал халиф, становилась собственностью награжденного и могла передаваться по наследству. Наследуемые земли назывались «мульк». Служебные наделы, называемые «икта» (от «икта тамлик» – пожалование земли), давались в пожизненное пользование, а затем возвращались халифу, но держатели «икта» при помощи различных уловок старались превращать «служебные» земли в наследственные, и им это удавалось. В результате земельные владения халифа таяли, доходы его уменьшались, но это было только полбеды. Другой половиной беды стала тенденция к укрупнению земельных наделов: одни землевладельцы беднели и продавали свои земли другим, у которых постепенно формировались огромные наделы. Те, кто пребывал у власти, находились в выигрышном положении, ведь они могли не только покупать земли, но и отбирать их принудительно (как говорится – было бы желание, а повод всегда найдется). Земли – это доход, а деньги – это власть. Некоторые из подданных халифа сосредотачивали в своих руках такие наделы, что переставали считаться со своим повелителем. А тенденция к назначению наместниками представителей местной знати (весьма удобная на первый взгляд) создавала дополнительные предпосылки для сепаратизма.
Государство тахиридов
Основателем династии Тахиридов был наместник Хорасана Тахир ибн ал-Хусайн, происходивший из знатного иранского рода, ведущего свое происхождение от легендарного Рустама. Владением отца и деда Тахира был гератский город Бушенг, но Тахиру этого было мало. В начале IX века он поступил на службу к принцу аль-Мамуну, который собирал вокруг себя иранцев и тюрков, готовясь к противоборству с братом аль-Амином. Со временем Тахир настолько вошел в доверие к аль-Мамуну, что в 821 году был назначен наместником Хорасана, но пробыл в этой должности недолго – немногим более года. Смерть Тахира была скоропостижной – его нашли мертвым в постели, и принято считать, что он был отравлен по приказу халифа аль-Мамуна за то, что приказал исключить из хутбы [70] поминание имени своего повелителя. Новым наместником Хорасана стал сын Тахира Тальх ибн Тахир.
Сразу же возникают два вопроса. Первый – почему халиф предпочел тихо отравить мятежного наместника, вместо того чтобы казнить его за измену в назидание другим? Второй – почему после устранения Тахира халиф назначил наместником его сына? Вопросов два, но ответ один – аль-Мамун не хотел обострять отношения с иранской знатью, служившей главной опорой его власти. Открытый мятеж в Хорасане стал бы подарком для сторонников низложенного аль-Амина, которые затаились в ожидании своего часа. Проще было убрать непокорного и надеяться на то, что его сын окажется умнее отца.
Тальх ибн Тахир и впрямь оказался умнее своего отца. Соблюдая все вассальные формальности, начиная с поминания халифа в хутбе и заканчивая уплатой налогов, он фактически правил независимо, без оглядки на Багдад. Скорее всего, известное выражение «В Багдаде свой халиф, а в Хорасане – свой» появилось именно при Тальхе ибн Тахире.
Младший брат Тальха Абдаллах ибн Тахир, пребывавший у власти с 828 по 844 год, считается одним из лучших правителей Хорасана. Историк из дома Тахиридов Ибн Абу Тахир Тейфур в своей «Истории Багдада» приводит наставление, написанное Тахиром ибн ал-Хусайном Абдаллаху. «Оберегай своих подданных… – пишет Тахир. – Будь умеренным во всех делах, ибо нет ничего более полезного и достойного, чем умеренность… Никого из тех, кому ты поручишь управление частью вверенных тебе земель, не обвиняй по одному лишь подозрению, не выяснив предварительно обстоятельств… Помни, что в благожелательном отношении к другим ты обретешь силу и покой… и вызовешь в людях любовь и преданность. Но пусть твое благожелательное отношение не препятствует тебе… вникать в дела правителей… Провинившихся подвергай наказаниям в соответствии с их прегрешениями, не пренебрегай этим, не упускай и не откладывай этого… Помни, что богатство не приносит прибыли, если оно копится в казне, а, напротив, прибавляется тогда, когда тратится на нужды подданных… этим достигается благоденствие народа, этим достигаются слава и могущество».

Государство Тахиридов
Судя по отзывам современников, Абдаллах следовал отцовским заветам, и при нем от Мерва до Бухары, от Хорасана до Самарканда царила справедливость. Справедливое (или относительно справедливое) правление было его главным достоинством. Оно противопоставлялось арабскому произволу и привлекало подданных.
В 873 году, при внуке Абдаллаха Мухаммеде ибн Тахире, владения Тахиридов были поглощены могущественным государством Саффаридов, основателем которого, как следует из названия, стал медник Якуб ибн Лейс ас-Саффар. [71]
Государство саффаридов
Якуб ибн Лейс, впоследствии прозванный «ас-Саффар», поскольку в юности он был учеником медника, происходил из города Карнин, расположенного на юго-западе Афганистана.
Ремеслом Якуб занимался недолго. В четырнадцатилетнем возрасте он поступил в армию, точнее говоря – в ополчение некоего Салиха ибн аль-Надра, объявившего себя правителем города Боста. [72] Со временем Салих возвысился до правителя Систана, [73] но был свергнут одним из своих приближенных, которого в 861 году сверг 21-летний Якуб (можно только восхищаться способностями безродного молодца, сумевшего в таком возрасте стать правителем огромной области).
О том, как предпочитал действовать Якуб, можно судить хотя бы по такой истории. В 873 году Якуб прибыл в Нишапур к Мухаммеду ибн Тахиру и потребовал от него все его владения. Мухаммед, в свою очередь, потребовал от Якуба предъявить маншур [74] халифа и знамя, которое вручалось наместникам областей при их назначении. «Вот тебе маншур и знамя!», воскликнул Якуб, замахнувшись мечом. Ради спасения жизни Мухаммеду пришлось подчиниться.
Получив власть над землями Тахиридов, Якуб начал поминать их в хутбе, что было очень мудро. Таким образом безродный выскочка подчеркивал легитимность своей власти, якобы полученной от исконных правителей Тахиридов. Но кроме Тахиридов был еще и халиф, с войсками которого Якубу не раз приходилось сражаться…
В 876 году визирь Абу Ахмад аль-Муваффак, бывший реальным правителем халифата при своем племяннике халифе аль-Мутамиде, попытался примириться с Якубом по традиционному принципу «признание сюзеренитета в обмен на власть». Но у Якуба чрезмерно разыгрался аппетит. Восприняв это предложение как проявление слабости халифской власти, он пошел на Багдад. Под властью Якуба на тот момент находилась вся территория современного Афганистана, две трети территории Пакистана, бо́льшая часть Ирана, половина Таджикистана и по трети территорий современных Туркменистана и Узбекистана. Имея такую базу, можно было надеяться на победу в противоборстве с халифом. Однако надежды не оправдались – 8 апреля 876 года на подступах к Багдаду разномастное и плохо обученное войско Якуба было разгромлено армией халифа, имевшей численное превосходство. Якубу удалось бежать. Тремя годами позже он умер в Гондишапуре. [75]
С разгромом Якуба его государство распалось. Однако некоторые ученые продолжают историю государства Саффаридов до 900 года на том основании, что 879 году аль-Муваффак назначил правителем Хорасана, Фарса, Исфахана, Систана, Кермана и Синда родного брата Якуба Амр ибн Лейса. Но фактически Амр не был преемником Якуба, да и государство, созданное Якубом к моменту назначения Амра, находилось на стадии распада – ему пришлось собирать земли под свою власть заново. Дважды – в 885 и 890 годах – халиф смещал Амра, последний раз тот был утвержден в своей должности в 892 году. Иначе говоря, Амр не сразу пришел на смену Якубу, и его правление не было непрерывным.
Амр ибн Лейс обломал свои зубы об Мавераннахр, находившийся под властью династии Саманидов. Понимая, что на юг лучше не зариться, он захотел завладеть Мавераннахром и сумел добиться определенного успеха – в феврале 898 года халиф аль-Мутадид, сын визиря Аль-Муваффака, объявил низложенным наместника Мавераннахра Исмаила Самани. Но Исмаил с этим не согласился и победил в противоборстве с Амром. Весной 900 года Амр был захвачен в плен, а годом позже отправлен в Багдад к халифу аль-Мутадиду, который приказал его убить. Так история Саффаридов завершилась окончательно.
Бухарец Садид ад-Дин Нур Мухаммад Ауфи в первой половине ХIII века написал «Собрание рассказов и светочи преданий», включавшее более двух тысяч различных историй. Вот что рассказывает Мухаммад Ауфи об Исмаиле Самани и Амре ибн Лейсе (история приводится в сокращенном виде): «Когда справедливый эмир Исмаил Самани пленил Амра ибн Лейса и решил отправить его к халифу, Амр предложил Исмаилу спрятанные сокровища своего брата в обмен на то, чтобы остаться в Мавераннахре: «Я знаю, что повелитель правоверных меня убьет, но ты – нет!» Исмаил отказался, сказав: «Твой брат нажил богатство воровством и разбоем, и ты хочешь передать это богатство мне, для того чтобы в Судный день взыскали с меня?».
В чем был секрет Якуба ибн Лейса, позволивший молодому человеку столь быстро возвыситься, буквально выскочив «из грязи в князи»?
В том, что Якуб сумел воплотить в жизнь мечту мусульман о свободной и равноправной общине верующих. В своем войске он старался поддерживать строгую дисциплину, но при этом никого не удерживал силой – любой воин мог уйти в любой момент. Суд Якуб вершил открыто, на глазах у людей, и вообще вся его политика была максимально открытой. Сам он вел аскетичный образ жизни, обходясь только необходимым, – можно представить, как подобное поведение импонировало людям, насмотревшимся досыта на алчных правителей. Современники восхищались его щедростью – якобы он раздавал ежедневно нуждающимся тысячу динаров…
В завершение хочется привести еще один исторический анекдот, объясняющий возвышение фарси над арабским в правление Якуба ибн Лейса. Однажды некий поэт воспел Якуба в стихах, написанных на арабском языке, и прочел их ему в расчете на щедрую награду. Награды поэт не получил, потому что Якуб, не владевший арабским, не смог оценить его творчество. Другие поэты сразу же переключились с арабского на фарси, а за ними потянулись и сочинители прозы. Делопроизводство при Якубе тоже велось на фарси, так что арабский был вытеснен из обихода практически полностью.
Государство саманидов
Некоторые историки называют Саманидов династией таджикских правителей, но правильнее будет называть их иранской правящей династией, поскольку формирование таджикского этноса в VIII–IX веках еще не было завершено. С таким же успехом можно называть Саманидов афганскими правителями, отталкиваясь от того, что их предок Саман-худат [76] предположительно был родом из окрестностей Балха. Впрочем, в Средней Азии все очень сильно перемешано, не всегда можно понять, куда именно уходят чьи корни. Для нас важно то, что с 875 года иранцы Саманиды правили Мавераннахром, а с 900 года к их владениям добавился Хорасан и правление их длилось до 999 года.
Возвышение Саман-худата началось в Мерве, когда там в качестве наместника пребывал аль-Мамун. Под влиянием принца Саман-худат отказался от зороастризма и принял ислам. То же самое сделал его сын Асад ибн Саман, который пользовался расположением аль-Мамуна наряду с отцом. А четверо сыновей Асада, как уже было сказано выше, стали правителями областей в Мавераннахре.
Пока Рафи ибн Лейс создавал халифату одну проблему за другой, Саманиды всячески выражали халифу свою лояльность, которая была вознаграждена в 875 году, когда халиф аль-Мутамид назначил правнука Саман-худата Насра ибн Ахмада правителем Мавераннахра. Это назначение стало формальным подтверждением власти дома Саманидов над Мавераннахром, но важно было то, что Саманиды не ставили себя в оппозицию халифу и помогали ему в борьбе с Рафи ибн Лейсом и его братом Амром. Дотошные буквоеды, каковых среди историков всегда было много, отвергают термин «государство Саманидов» на том основании, что с формальной точки зрения Саманиды никогда не обладали политической и правовой независимостью. Но формальности формальностями, а реальность реальностью, разве не так? Правителей из дома Саманидов можно сравнить с японскими сегунами, военными диктаторами, правившими от имени императора. Император признавал полномочия каждого нового сегуна точно так же, как халиф давал маншур очередному Саманиду. Не халиф решал, кто из Саманидов будет править, а Саманиды ставили халифа перед фактом.
Будучи «наместниками под наместниками», то есть правителями земель в составе наместничества, Саманиды могли чеканить только медную монету – фельс, а чеканка серебряного дирхема была прерогативой Тахиридов, наместников первого ранга. Однако Наср ибн Ахмад начал чеканить свою серебряную монету, правда, с сохранением имени халифа, но тем не менее – свою, что дополнительно подтверждает его независимость. Впоследствии и имя халифа исчезло с саманидских монет.
Что же касается налогов (с Хорасана и Мавераннахра), общая сумма которых в середине Х века составляла более сорока миллионов дирхемов в год, то с ними дело обстояло следующим образом – халифы милостиво оставляли бо́льшую часть налогов в распоряжении Саманидов, поскольку те охраняли северные рубежи халифата (на деле – свои собственные границы) от тюрок-кочевников и должны были оснащать и содержать войско. Проще говоря, халифы довольствовались тем, что им давали, ведь «немного» все же лучше, чем «ничего». Кроме того, Саманиды вводили свои пошлины. Так, например, за тюркского раба, переправленного через Амударью, полагалось выплачивать от семидесяти до ста дирхемов.
Выражаясь современным языком, можно сказать, что владения Саманидов пользовались широкой автономией в составе аббасидского халифата. Настолько широкой, что Самарканд и Бухара стояли выше Багдада.
Вот весьма показательный случай, о котором рассказывает ал-Истахри [77] в «Книге путей стран». Однажды халиф аль-Мутасим, сын Харуна ар-Рашида от тюркской наложницы, прислал хорасанскому наместнику Абдаллаху ибн Тахиру гневное послание, в котором упрекал наместника за излишнюю самостоятельность. Абдаллах переслал это письмо самаркандскому наместнику Нуху ибн Асаду, под управлением которого находилась бо́льшая часть Согда. Нух ответил, что Абдаллаху ибн Тахиру нет необходимости беспокоиться по поводу угроз халифа, поскольку в Мавераннахре имеется триста тысяч селений, каждое из которых может снарядить одного пешего и одного конного воина, таким образом, один только Мавераннахр, без Хорасана, может выставить шестисоттысячное войско. Скорее всего, количество селений было преувеличено, но даже если допустить, что в реальности их было на треть меньше, численность войска все равно впечатляет.
При младшем брате Насра ибн Ахмада Исмаиле Самани, правившем с 892 по 907 год, государство Саманидов вступило в период своего расцвета. Исмаилу удалось объединить под своей властью Мавераннахр с Хорасаном (и надо признать, что этому весьма поспособствовала смута, устроенная Якубом ибн Лейсом, который отнял Хорасан у Тахиридов для того, чтобы передать его Саманидам).
Бухару, которую Исмаил избрал своей столицей, называли «Восточным Багдадом», и надо сказать, что никакого преувеличения в этом не было – по богатству и уровню культурного развития Бухара реально сравнялась с Багдадом. Разница была только в том, что в Багдаде доминировало арабское, а в Бухаре – персидское (в этом отношении Саманиды были рьяными патриотами). При Саманидах жил Абу Абдуллах Джафар ибн Мухаммед Рудаки (860–941), основоположник литературы на фарси, которого иранцы и таджики считают основоположником национальной поэзии. При этом Рудаки родился и жил в Панджруде, [78] значительную часть населения которого в то время составляли тюрки, и общение с ними оказало определенное внимание на его творчество. Да и сам Панджруд в те времена входил в зону влияния Самарканда, отчего Рудаки нередко называют Рудаки Самарканди. Узбеки чтут Рудаки, его произведения переводятся на узбекский язык, а в Самарканде есть памятник Рудаки и улица, названная его именем.

Государство Саманидов в середине Х века
Расцвет тюркоязычной литературы настанет немного позже – в XI веке, когда на смену Саманидам придут тюрки – в Хорасане станут править Газневиды, а в Мавераннахре – Караханиды. В те далекие времена образованных людей было мало, а читающих – еще меньше, поэтому развитие литературы определялось языком, на котором говорила знать и культурная элита. Если бы Рудаки писал свои стихи на одном из тюркских диалектов, то о нем никому не было бы известно.
Судьба государства Саманидов стала отражением судьбы халифата. Со временем в правящем клане начались раздоры, среди наместников росло стремление отколоться, а соседи-кочевники объединялись в крупные союзы, представлявшие собой грозную силу… В 962 году саманидский военачальник Алп-Тегин захватил Газни [79] и начал править там, формально оставаясь при этом саманидским наместником (знакомое дело). А на востоке земли Саманидов во второй половине Х века начали постепенно захватывать тюрки-караханиды… В конечном итоге граница между владениями Газневидов и Караханидов пролегла по Амударье, первым достался Хорасан, а вторым – Мавераннахр.
Богатства Мавераннахра
Известный арабский средневековый географ ибн Хордадбех [80] в своей «Книге путей и стран» (традиционное название для арабского географического трактата) приводит размеры хараджа, уплачиваемого различными областями халифата. О размере бухарского хараджа мы уже имеем представление, но давайте сравним его с тем, что платили другие области. Итак, о землях, которые находились по ту сторону Амударьи, то есть – о Мавераннахре, ибн Хордадбех сообщает следующее: «Бухара, в которой есть крепость, – 1 189 200 гитрифских дирхемов, ас-Сугд [Согд] и другие области, управляемые Нухом ибн Асадом, – 326 400 дирхемов, из которых на Фергану приходится 280 000 мухаммадийских дирхемов, на тюркские города – 46 400 дирхемов хорезмийских и мусаййабийских, а также хлопчатобумажной ткани «ал-кундаджийа» – 1187 [отрезов] на одежду, лопат и железа в слитках – 1300 штук в половинной доле [с Хорасаном]. Всего же [взимается харадж] в размере 2 172 500 дирхемов мухаммадийских, в том числе [харадж, наложенный] на ас-Сугд, на рудники в ал-Буттаме, на соляные копи в Кисее, на Кисе, на Насаф, на ал-Буттам и на другие округи ас-Сугда [в сумме] 1 089 000 дирхемов мухаммадийских, [на] Усрушану [81] – 50 000 дирхемов, из которых 48 000 дирхемами мухаммадийскими и 2000 дирхемами мусаййабийскими, [на] аш-Шаш и серебряные рудники – 607 100 дирхемов мусаййабийских и с Худжанда – 100 000 дирхемов мусаййабийских».
Не удивляйтесь разнообразию дирхемов. Следом за Бухарой низкопробную серебряную монету начали чеканить в других областях, так к гитрифским дирхемам добавились хорезмийские, мухаммадийские и мусаййабийские.
А «весь харадж [взимаемый] с Хорасана и с областей и провинций, присоединенных к [владениям] Абу-л-Аббаса Абдаллаха ибн Тахира – 44 846 600 дирхемов, а также верховых животных 13 голов, 2000 голов овец, 2000 рабов из пленных огузов ценой 600 000 дирхемов, хлопчатобумажной ткани «ал-кундаджийа» – 1187 (отрезов] на одежду, лопаты и слитки желез 1300 штук в половинной доле».
Фундаментом благосостояния Мавераннахра было сельское хозяйство. Здесь выращивали пшеницу, рис, ячмень, просо и, конечно же, хлопчатник, который был и остается очень выгодной культурой, ведь недаром же узбеки называют хлопок «белым золотом». Наряду с хлопчатником выращивали лен и коноплю. Три эти культуры давали не только волокна, но и масло, которое выжималось из их семян. Также масло делалось из кунжута, которым славился Хорезм. Широко были представлены бобовые – чечевица, горох и маш. Рядом с полями стояли сады, в которых, по выражению арабского географа аль-Макдиси, [82] «росло все, чего можно было пожелать, причем – в изобилии». С овощами дело тоже обстояло хорошо, ну а дыни уже в то время были своеобразной «визитной карточкой» региона. Аль-Истахри в «Книге путей и стран» пишет: «Мавераннахр столь изобилен, что дает своим жителям все необходимое и им не нужно привозить что-то из других стран» и дает характеристику отдельным областям, например: «Хорезм – плодородный город, изобилующий продовольствием и фруктами, в нем нет только орехов, и в нем производятся многие предметы одежды из хлопка и шерсти, которые вывозятся в отдаленные места». При Саманидах в Фергане добывали даже нефть, об этом тоже сообщает аль-Истахри. Нефть в то время, главным образом, использовалась для наполнения зажигательных снарядов – глиняных сосудов, которые при осаде метали в города, чтобы вызвать пожары. А еще аль-Истахри пишет, что «в Ферганских горах добывали асбест, бирюзу, железо, медь, золото и свинец».
Наряду с шерстяными и хлопчатобумажными тканями изготавливались и шелковые. В Уйгуристане уже в I веке нашей эры переняли шелководство от китайцев, а оттуда оно пришло в Среднюю Азию. Бо2льшая часть среднеазиатского шелка не могла сравниться по качеству с китайской продукцией, но в отдельных местах выделывались ткани наивысшего сорта. Особенно славился своими тканями, шелковыми и хлопчатобумажными, поселок Зандана близ Бухары. «Материя хороша и к тому же производится в большом количестве, – пишет о тканях из Зандана Наршахи. – Во многих селениях Бухары ткут такую же материю и называют ее «занданичи», потому что раньше всех начали выделывать эту материю жители этого селения. Бумажные материи оттуда вывозят во все области: в Ирак, Фарс, Кирман, Индустан и другие. Все вельможи и цари шьют из нее себе одежды и покупают ее по цене, равной цене парчи. Да сохранит Аллах это селение процветающим!»
Другое китайское изобретение – бумагу – в Самарканде при Саманидах усовершенствовали настолько, что самаркандская бумага на многие века стала эталоном. У китайской бумаги был один серьезный недостаток – ее рыхлость, из-за которой тушь проступала на оборотной стороне, да и рвалась такая бумага часто. Самаркандская же бумага была плотной, позволяющей писать на ней с обеих сторон. Качество бумаги и ее прочность позволили создавать богато украшенные рукописные книги, некоторыми из которых мы можем восхищаться и сегодня. В наше время о плохом товаре говорят, что он не стоит даже бумаги, в которую завернут, но в старину бумага стоила очень дорого, однако ее охотно покупали, поскольку папирус и пергамент стоили еще дороже и были не так удобны. «Когози абришемий» – бумага, сделанная из шелка, ценилась выше, чем бумага «нимкатоний», [83] в производстве которой использовались поровну шелк и кенаф. [84]
При всем изобилии, царившем в Мавераннахре, экспорт товаров тоже имел место. Так, например, аль-Макдиси пишет, что из Хорезма поступали «соболя, серые белки, горностаи, степные лисицы, куницы, лисицы, бобры, крашеные зайцы, козы, воск, стрелы, белая кора тополя, [85] колпаки, рыбий клей и рыбьи зубы, [86] бобровая струя, амбра, «кимухт», [87] мед, лесные орехи, соколы, мечи, кольчуги, береза, рабы из славян, бараны и коровы, – все это от булгар». [88] Закончив с импортом, аль-Макдиси переходит к местным товарам и в этом оказывается гораздо обстоятельнее своего коллеги аль-Истахри: «Там [в Хорезме] производится виноград, много изюма, печенье, кунжут, полосатые одежды, ковры, одеяла, прекрасная парча, покрывала «мульхам», [89] замки`, цветные одежды, луки, которые могут натянуть только самые сильные люди, особый сыр, сыворотка, рыба. Там строятся и отделываются суда, и также они строятся в Термезе». [90]
В Усрушане, в окрестностях поселений Минк и Марсманда, добывалась железная руда, причем в таком количестве, которое не могли переработать местные мастера. Часть железа вывозилась в Фергану, которая со временем стала центром производства оружия и скобяных изделий.
Прогресс караванной торговли при Саманидах привел к расширению ассортимента товаров, перевозимых караванами. Если раньше караваны возили только самые дорогие товары, дающие большую прибыль при относительно малом весе, то теперь, как следует хотя бы из приведенного выше свидетельства аль-Макдиси, в числе привозных товаров были кора для дубления кож или лесные орехи. Оживлению торговли с булгарами способствовали напряженные отношения булгар и халифата с хазарами, тюркоязычным кочевым народом, создавшим в середине VII века свой каганат, [91] простиравшийся от Днепра и восточной части Крыма до северо-запада сов�
© Шариф Махкамов, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023
- Нынче вольные песни – отрада сердец,
- Распрямилась страна силой гордого стана.
- Да звучат нашей радостью песни, отец, —
- Наше время велит петь сердцам неустанно!
- Нынче счастливы степи, раздолья, поля,
- И полны звучной песней родные просторы,
- И поет неумолчно родная земля,
- И гудят голосами и небо, и горы.
- Хамид Алимджан. Мечта певца[1]
Ключевые даты узбекской истории
VII–VI вв. до н. э. – на территории Средней Азии образуются первые государственные объединения.
VI–IV вв. до н. э. – Средняя Азия находится под властью Ахеменидов.
519 до н. э. – первое письменное упоминание о хорезмийцах, согдийцах, саках и бактрийцах в Бехистунской надписи Дария I.
329 до н. э. – начало завоевания Средней Азии Александром Македонским.
312–250 до н. э. – Средняя Азия находится в составе греко-македонского государства Селевкидов.
Середина III в. до н. э. – на территории Бактрии и Согдианы в результате распада империи Селевкидов возникает независимое Греко-Бактрийское царство.
Конец I в. до н. э. – IV в. н. э. – Средняя Азия находится в составе Кушанского царства.
Середина V в. – образование государства Эфталитов.
Середина VI в. – образование Тюркского каганата.
651 – первое вторжение арабов на территорию Средней Азии, установление господства Арабского Халифата.
874–999 – Средняя Азия находится в составе государства Саманидов.
999 – владения Саманидов разделены между Газневидами, которые получили Хорасан, и Караханидами, которые получили Мавераннахр.
1089 – завоевание Мавераннахра сельджукским султаном Мелик-шахом.
1219 – вторжение Чингисхана в Мавераннахр.
1370–1405 – правление Тимура.
1409–1447 – правление внука Тимура Улугбека.
1499 – вторжение кочевых племен во главе с Шейбани-ханом в Мавераннахр.
1583 – Абдулла-хан II из династии Шейбанидов провозглашен верховным ханом узбеков.
1865 – взятие русскими войсками Ташкента, Бухары, Худжанда, Джизака.
1868, май – взятие русскими войсками Самарканда.
1868, июль – заключение мирного договора между Российской империей и Бухарским эмиратом.
1873, август – взятие русскими войсками Хивы.
1880–1899 – в Средней Азии строится первая железная дорога.
1917, ноябрь – 1918, март – установление Советской власти на части среднеазиатских земель с образованием Туркестанской АССР.
1920 – образование Бухарской и Хорезмской народных советских республик.
1924, 27 октября – в результате так называемого национально-территориального размежевания образована Узбекская ССР.
1925, 13 мая – Узбекская ССР официально вошла в состав СССР.
1928 – перевод узбекской письменности с арабского алфавита на латинский.
1941–1943 – эвакуация в Узбекскую ССР более миллиона жителей западных областей СССР.
1943, ноябрь – образование Академии наук Узбекской ССР.
1966, 26 апреля – в Ташкенте произошло катастрофическое землетрясение.
1990, 24 марта – избрание Ислама Каримова президентом Узбекской ССР.
1990, 20 июня – принятие Верховным Советом Узбекской ССР Декларации о государственном суверенитете Узбекской ССР.
1991, 31 августа – Республика Узбекистан провозглашена независимым государством.
1991, 29 декабря – избрание Ислама Каримова президентом Республики Узбекистан.
1992, 8 декабря – принятие Конституции Республики Узбекистан.
1994, 1 июля – введение национальной валюты – сума.
2016, 14 декабря – избрание Шавката Мирзиёева президентом Республики Узбекистан.
Топ-25. Самые знаменитые уроженцы Узбекистана
АБДУРАИМОВ, БЕХЗОД (1990) – пианист-виртуоз, считающийся одним из лучших исполнителей современности.
АГАХИ, МУХАММАД РИЗА (1809–1874) – поэт и историк, автор исторических трактатов «Сады благополучия», «Сливки летописей», «Собрание султанских событий», а также лирического сборника-дивана «Талисман влюбленных».
АЛИХОДЖАЕВ, УЛЬМАС (1941–2015) – народный артист Узбекской ССР, известный актер кино.
АЛЬ-БИРУНИ (АБУ РЕЙХАН МУХАММЕД ИБН АХМЕД АЛЬ-БИРУНИ; 973–1048) – один из наиболее известных средневековых мыслителей, ученый-энциклопедист, владевший почти всеми науками своего времени.
АЛЬ-ФЕРГАНИ (АБУ-ЛЬ-АББАС АЛЬ-ФЕРГАНИ; ок. 798–861) – астроном, математик и географ, научно обосновавший шаровидную форму Земли и написавший первые трактаты по астрономии на арабском языке – «Книга о небесных движениях и свод науки о звездах», «Книга о началах науки астрономии» и ряд других.
АЛЬ-ХОРЕЗМИ (АБУ АБДУЛЛА МУХАММЕД ИБН МУСА АЛЬ-ХОРЕЗМИ; ок. 783 – ок. 850) – выдающийся средневековый ученый – математик, астроном, географ и историк, впервые выделивший алгебру как самостоятельную науку об общих методах решения линейных и квадратных уравнений.
АШРАФИ, МУХТАР (1912–1975) – композитор и дирижер, народный артист СССР (1951), один из основоположников современной узбекской музыки, автор известных балетов «Амулет любви» и «Стойкость», а также оперы «Дилором», созданной по мотивам произведений Алишера Навои.
БАБУР (ЗАХИР-АД-ДИН МУХАММЕД БАБУР; 1483–1530) – знаменитый полководец, основатель государства Бабуридов, а также ученый и поэт, автор знаменитого автобиографического труда «Бабур-наме».
ДЕВАНОВ, ХУДАЙБЕРГЕН (1879–1940) – первый узбекский фотограф и кинооператор, основатель национального кинематографа.
ДЖУРАЕВ, ШЕРАЛИ (1947) – певец, музыкант, поэт и композитор, народный артист Узбекской ССР (1987), автор более тысячи песен.
ИБН СИНА (АБУ АЛИ ИБН СИНА, известный на Западе как Авиценна; 980–1037) – один из наиболее выдающихся ученых средневекового исламского мира, философ и врач, автор трактатов «Книга исцеления» и «Канон медицины».
КАРИМОВ, ИСЛАМ (1938–2016) – первый президент Республики Узбекистан, занимавший этот пост с 1991 по 2016 год.
КАРИ-ЯКУБОВ, МУХИТДИН (1896–1957) – выдающийся оперный певец и деятель культуры, основатель и художественный руководитель Узбекского музыкального театра.
ЛУТФИ (1366–1465) – известный средневековый поэт-лирик, автор поэмы «Гул и Норуз»; творчество Лутфи было весьма популярно в народе, отдельные его стихи стали народными песнями.
МАШРАБ, БОБОРАХИМ (1657–1711) – выдающийся поэт и мыслитель, классик узбекской литературы.
МУКИМИ, МУХАММАД АМИНХОДЖА (1850–1903) – писатель и поэт, один из основоположников реализма в узбекской литературе, мастер острой сатиры.
МУХАММАД АЛЬ-БУХАРИ (также известный как ИМАМ АЛЬ-БУХАРИ; 810–870) – выдающийся исламский богослов и правовед, автор одного из шести канонических сборников суннитских преданий «Сахих аль-Бухари» («Достоверные предания-хадисы аль-Бухари»).
НАВОИ, АЛИШЕР (1441–1501) – поэт и мыслитель, один из основоположников узбекской литературы, автор классического сборника «Хамса» («Пятерица»), состоящего из пяти эпических поэм – «Смятение праведных», «Лейли и Меджнун», «Фархад и Ширин», «Семь планет» и «Стена Искандера».
НУРУДИНОВ, РУСЛАН (1991) – спортсмен-тяжелоатлет, олимпийский чемпион (2016), двукратный чемпион мира (2013; 2022), чемпион Азиатских игр (2018), двукратный чемпион Азии.
РАШИДОВ, ШАРАФ (1917–1983) – Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Узбекской ССР с 1959 по 1983 годы, внесший огромный вклад в экономическое и культурное развитие Узбекистана.
ТАДЖИЕВ, МИРСАДЫК (1944–1996) – композитор-основоположник, объединивший в своем творчестве узбекский вокально-инструментальный жанр маком с европейским симфоническим каноном.
ТИМУР (известный на Западе как Тамерлан; 1336–1405) – непобедимый полководец, основатель державы Тимуридов.
УЙГУР-МАДЖИДОВ, МАННОН (1897–1955) – театральный режиссер, актер и драматург, один из основателей узбекского театра, народный артист Узбекской ССР.
УЛУГБЕК (МУХАММЕД ТАРАГАЙ ИБН ШАХРУХ ИБН ТИМУР УЛУГБЕК ГУРАГАН; 1394–1449) – один из наиболее известных ученых своего времени (математик, астроном, просветитель и поэт), а также государственный деятель, правитель державы Тимуридов. Построил в окрестностях Самарканда одну из самых важных обсерваторий средневековья.
ЮЛДАШЕВ, БАХОДЫР (1945–2021) – выдающийся актер и театральный режиссер, основатель Театра сатиры имени Абдуллы Каххара и театра-студии «Дийдор» («Образ»).
Предисловие от переводчика
Республика Узбекистан – молодое государство, совсем недавно отметившее свое тридцатилетие. Но история Узбекистана уходит корнями в глубокую древность. Первые люди появились в благодатном регионе, известном ныне как Средняя Азия, еще в палеолите, первом историческом периоде каменного века – наиболее древние археологические находки относятся к мустьерской культуре. [2] На территории современного Узбекистана найдено несколько десятков стоянок древних земледельцев и скотоводов, которые свидетельствуют о том, что к концу третьего тысячелетия до нашей эры Средняя Азия была заселена довольно плотно и что расселение людей шло по направлению с юга на север. Характерной чертой местного земледелия стало искусственное орошение, возведенное в степень искусства; именно на орошении строилось благосостояние оседлого населения. Рытье каналов и управление ими – дело сложное, которым можно заниматься только сообща, поэтому земледельцы начали создавать крупные поселения. Если в других местах города основывали ремесленники и торговцы, то в Средней Азии это делали дехкане (так здесь называют земледельцев). Уникальной особенностью среднеазиатского региона является то, что оседлое население сосуществовало здесь с кочевым на протяжении тысячелетий…
С историей Узбекистану и повезло, и не повезло. Повезло в том смысле, что она богатая – есть о чем рассказать. А не повезло потому, что часто историками выбирался неверный подход. Прошлое Узбекистана «растаскивалось» по другим направлениям: держава Ахеменидов вместе с ее среднеазиатскими владениями изучалась в рамках курса истории Ирана, история Кушанского царства стояла особняком, а того же Тимура, тюрка, считавшего себя наследником Чингисхана, могли «привязать» к истории монгольских завоеваний или к истории тюркских народов…
Мало того, в советскую эпоху все исторические процессы изучались с марксистской точки зрения, согласно которой всё и вся определялось историей классовой борьбы. Подобный подход сужал кругозор историков и упрощал понимание исторических процессов, в результате чего создавалась неверная, искаженная картина прошлого. Так, например, восстание под руководством Махмуда Тараби, вспыхнувшее в Бухаре в 1238 году, историки советского периода предпочитали рассматривать с точки зрения классовых противоречий, поскольку крестьяне и ремесленники, возглавляемые человеком из народа, восстали против своих правителей. Но на самом деле это было восстание мусульман против иноземных захватчиков-монголов и поддерживавших их местных феодальных правителей – садров. Классовой борьбы там не было ни на медный пул (так тогда называлась мелкая монета), поскольку после свержения садров Махмуд Тараби провозгласил себя халифом, иначе говоря – политический строй не изменился.
Наиболее радикальные советские историки начисто отметали «темное» прошлое и уделяли внимание только «светлому» настоящему. При таком подходе история Узбекистана начиналась с установления советской власти в Средней Азии. А что было раньше? Да ничего интересного – ханы, эмиры да баи угнетали простой народ, и так продолжалось веками…
Современные узбекские историки нередко ударяются в иную крайность. Они преувеличивают значение тех или иных исторических процессов и чрезмерно расширяют рамки истории Узбекистана. Можно ли включать историю Империи Великих Моголов в курс истории Узбекистана на том основании, что Бабур – ее основатель – родился в Андижане? Вряд ли, ведь дело было в Индии и Пакистане.
Книга, которая предлагается вашему вниманию, избавлена от подобных недочетов и перегибов. В ней все по делу и все к месту. Особым достоинством автора является деликатный подход к изложению материала – излагается ход событий без навязывания каких-либо оценок. Вот вам факты и причины, а мнение составьте сами. Такой подход условно можно сравнить с традицией самостоятельного приготовления еды в чайхане – посетители готовят, что им хочется, из принесенных продуктов. Вот вам огонь, вот вам посуда, а что вы приготовите – дело ваше. С исторической достоверностью у автора тоже все в порядке. Если приводится версия, а не факт, то об этом непременно будет сказано.
Переводчик, по мере своих возможностей, старался следовать авторскому стилю, легкому, но в то же время содержательному, ведь одним из главных преимуществ любой книги является желание дочитать ее до конца, а не бросить на середине.
Хорошее предисловие должно быть кратким, ведь недаром же узбеки говорят, что за сладостями нельзя забывать о плове (если кто не знает, то узбекская трапеза начинается с чая со сладостями и фруктами и заканчивается так же). Пора отправляться в увлекательное путешествие по древнему и вечно молодому Узбекистану. Как хорошо, что мастерство рассказчика способно заменить машину времени, создать которую не позволяет второй закон термодинамики.
Кстати, знаете, почему узбеки ставят традиции выше законов? Потому что законы придумывают отдельные люди, а традиции создает народ.
Глава первая
Средняя Азия в древние времена
Исторический рубеж
VI век до нашей эры стал историческим рубежом, отделяющим дописьменную историю Средней Азии от письменной, задокументированной (пусть даже и не полностью, а иногда и просто отрывочно).
Документ документу рознь. Исторические свидетельства имеют ценность лишь в том случае, если они оставлены современниками, а лучше всего – очевидцами описываемых событий. Все прочее – спорно и не очень-то надежно. Вроде бы во второй половине IХ века до нашей эры Средняя Азия перешла под власть Ассирии, которой в то время правил сначала царь Нин, а затем его вдова царица Семирамида, которую принято отождествлять с реально правившей в 811–805 годах до н. э. царицей Шаммурамат. Об этом пишет Диодор Сицилийский, [3] живший в I веке до н. э. В «Исторической библиотеке» Диодора уделено много внимания войне Нина с непокорными бактрийцами после того, как он покорил все азиатские племена, кроме них и индийцев. Диодор опирается на «Персидскую историю» Ктесия Книдского, [4] написанную в конце IV века до н. э. Получается «пересказ пересказа», ведь Ктесий не был очевидцем покорения ассирийцами Средней Азии. Возможно, что никакого покорения на самом деле и не было, просто кто-то из ассирийских летописцев написал об этом, чтобы польстить своему правителю. Или, как вариант, легенда могла быть создана придворными для восхваления царя, некоторое время она переходила из уст в уста, а затем попала в анналы.
Неизв. автор. Диодор Сицилийский
В распоряжении современных историков нет никаких достоверных свидетельств, подтверждающих ассирийское присутствие в Средней Азии, но можно предположить, что местные племена заключали союзы с Ассирией и с враждовавшей с ней Мидией. Об этом можно прочесть у «отца истории» Геродота, [5] но его «История», созданная в V веке до н. э., тоже является пересказом легенд и сведений, сообщаемых ассирийскими и мидийскими источниками. Короче говоря, все очень туманно.
Бехистунская надпись. Между 522 и 486 до н. э.
А что достоверно?
Началом документальной истории Средней Азии считается трехъязычная надпись, высеченная на скале Бехистун (Западный Иран) по приказу персидского царя Дария I Великого. На древнеперсидском, эламском и аккадском языках рассказывается о походе царя Камбиса II, правившего до Дария, в Египет и о событиях, связанных с отсутствием царя в столичном Вавилоне. Нам в этом крайне содержательном документе важен только перечень подчиненных Дарию народов, в числе которых указаны хорезмийцы, согдийцы, саки и бактрийцы. Давайте познакомимся с этими народами поближе.
Хорезм и хорезмийцы
Сразу нужно уточнить, что «Хорезмом» называется и древнее государство, существовавшее с VII века до н. э. (так, во всяком случае, утверждают исторические источники), и среднеазиатский регион, центр которого находился в низовьях реки Амударьи, древняя дельта которой находилась на севере современного Туркменистана. Археологические находки свидетельствуют о том, что уже в начале III тысячелетия до н. э. на территории Хорезма жили люди. Археологическую культуру раннего железного века (VII–IV вв. до н. э.), получившую название Куюсайской по поселению, близ которого она была открыта [6] в 1953 году, ученые связывают с возникновением древнейшей государственности. Представители этой культуры были скотоводами, параллельно занимались богарным (неорошаемым) земледелием – в дельте полноводной реки можно было позволить себе не заботиться об искусственном орошении земель. Жили древние хорезмийцы в каркасных жилищах из прутьев, обмазанных глиной, которые могли наполовину утапливаться в землю. Принадлежность к железному веку указывает на то, что они умели изготавливать примитивные железные орудия, хотя и бронзовые наконечники стрел тоже не раз находили при раскопках. [7] Керамика тогда была лепной, до гончарной дело еще не дошло. Гончарное дело возведено у узбеков в ранг искусства, и невозможно представить, что когда-то в Хорезме, одном из основных гончарных центров Узбекистана, не умели обжигать глину. Но, тем не менее, так оно и было.
Фрагмент хорезмийской фрески. III век до н. э.
Гекатей Милетский, живший во второй половине VI века до н. э., в своем «Землеописании», служившим одним из основных источников для Геродота, пишет о городе Хорасмия, первой столице Хорезма, которая располагалась на месте развалин древнего города Кюзелигыр (север Туркменистана, недалеко от узбекско-туркменской границы). Впоследствии столицу перенесли на пятнадцать километров к западу, где был основан город Калалыгыр.
Основу населения древнего Хорезма составляли хорезмийцы, народ иранской группы. В современной Средней Азии иранцами считаются только таджики, но на самом деле у каждого узбека можно найти иранские корни, а у любого таджика – тюркские, настолько все перемешалось в среднеазиатском плавильном котле. Ряд ученых считает хорезмийцев потомками массагетов, ираноязычного кочевого народа, обитавшего по обоим берегам Каспия. Массагеты не упомянуты в Бехистунской надписи, но о них пишет Геродот: «Массагеты, как известно, племя многочисленное и храброе. Живут они на востоке от реки Аракс… Некоторые считают их скифами».[8]
Происхождение названия Хорезм весьма туманно. Можете выбрать, что вам понравится, из следующих вариантов: «Страна хурритов», [9] «земля-кормилица», «низкая земля» или «колыбель арийских народов» (последнее толкование широко распространено в ираноязычной среде, но, честно говоря, оно положено в котел вместе с мясом, [10] несмотря на то, что его приводит в своем «Толковом словаре» видный иранский лингвист Али Акбар Деххода).
Согдиана
В центре плодородной Зеравшанской долины [11] раскинулась Согдиана, или Согд – земля согдийцев, еще одного народа иранского происхождения. «С самаркандцем не торгуйся, пенджикентцу в долг не давай», гласит старинная народная мудрость. И, при всем уважении к упомянутым в ней людям, надо признать, что некое рациональное зерно в ней присутствует, ведь согдийцы, предки нынешних жителей Самарканда и Пенджикента, были искусными торговцами и ловкими ростовщиками, знающими, как взять за одну таньга семь. Бухарцы в этом совете не упоминаются, поскольку их не считают «настоящими согдийцами». Так всегда бывает – если существуют настоящие, то должны быть и ненастоящие, иначе первым будет обидно. Впрочем, существует и иное разделение Согда: Западный Согд (Бухарский оазис), Центральный Согд (Самарканд и Пенджикент), Южный Согд (Кеш-Шахрисабз и Нахшаб-Карши) [12] и Северо-Восточный Согд (восточный Узбекистан и северо-западный Таджикистан).
Согдийский шелковый парчовый фрагмент. Ок. 700
Подтверждением торговых талантов согдийцев может служить хотя бы то, что на протяжении длительного времени согдийский язык был основным языком общения между различными народами, жившими от Каспия до Тибета, а согдийская письменность легла в основу письма монголов, маньчжуров и уйгуров. Надо было хорошенько постараться для того, чтобы заслужить подобное уважение, не так ли?
О согдийцах упоминает Геродот, а Согдиана наряду с Хорезмом и Бактрией фигурирует в Бехистунской надписи: «Следующие страны достались мне, и волею Ахурамазды я стал править ими: Персия, Элам, Вавилония, Ассирия, Аравия, Египет, Лидия, Иония, Мидия, Армения, Каппадокия, Парфия, Дрангиана, Арейя, Хорезм, Бактрия, Согдиана, Гайдара, Сака, Саттагидиш, Арахозия, Мака, всего же двадцать три страны».
Согдиана, судя по наличию здесь городской культуры бронзового века, несколько старше Хорезма (или же тут археологам везло больше, чем там). Столицей Согдианы был город Мараканда (все сразу же узнали в этом древнем названии современное «Самарканд»?).
И еще о названиях. Согдиана – это эллинизированное название Согда, в котором так и слышатся саки, которых вместе с массагетами относят к восточной ветви скифских народов. Впрочем, с названиями древних народов всегда происходит путаница. «Если войти в Каспийское море, то справа живут скифы или сарматы, граничащие с европейскими странами… – пишет Страбон [13] в своей «Географии». – Слева живут восточные скифы, а также номады, область расселения которых простирается до Восточного моря и Индии». В древности греческие историки называли все северные народности скифами или кельтоскифами, но еще более древние историки различали их, называя племена, жившие над Эвксинским Понтом, Истром и Адриатическим морем, гиперборейцами, савроматами и аримаспами. Из племен, живших за Каспийским морем, одних называли саками, других – массагетами, не имея возможности сообщить о них ничего определенного, несмотря на то, что эти историки описывали войну Кира с массагетами… Большинство скифов, живущих к востоку от Каспийского моря, называются даями. Племена, живущие восточнее их, называются массагетами и саками, прочих же называют общим названием «скифы», но у каждого племени есть свое имя». В некоторых персидских летописях «саками» называют всех скифов, и Геродот пишет о том, что «персы всех скифов зовут саками». Если бы все упомянутые племена вели какие-то летописи, то в вопросе их определения можно было бы разобраться, а так приходится «гадать по бараньей лопатке» кто есть кто.
В священной книге зороастризма [14] «Авесте», созданной в середине I тысячелетия до н. э., Согдиана и Хорезм, наряду с Мервом, Гератом, Ишкатой и Поурутой, [15] относятся к Аирьяшаяне («Обиталищу ариев»), что служит подтверждением проживания здесь иранских племен с древнейших времен. Есть мнение, что мифическая прародина иранцев Аирйанэм-Ваэджа («Арийский простор») находилась то ли в Согдиане, то ли в Хорезме.
Бактрия
От Ферганской долины и Памира на севере до Гиндукуша на юге в древности простиралась область, называемая Бактрией по своей столице – городу Бактры, который в наше время известен как афганский Балх. Благодаря более чем удачному расположению на торговом пути с Востока на Запад, Бактры быстро развивались и стали одним из главных городов Средней Азии. Во времена Геродота здесь проживали около двухсот тысяч человек, а в VII–VIII веках, в период наивысшего оживления торговли по Великому шелковому пути, [16] население города увеличилось до миллиона.
Но не только торговля была залогом процветания Бактрии. Равнинная местность с хорошим климатом была невероятно плодородной. Плиний Старший [17] в «Естественной истории» пишет о том, что «в Бактрии зерна настолько крупны, что каждое из них сравнимо с нашим колосом», а Страбон упоминает Бактрию в числе плодородных земель Востока. Ряд известных в наше время культурных растений, например – пшеница, происходят родом из Бактрии.
В «Персидской истории» Ктесий пишет о том, что вавилонский царь Нин в течение семнадцати лет сделался владыкой всех прочих народов, кроме индов и бактрийцев, и что в Бактрии жило много воинственных мужей. Первый поход на бактрийцев оказался неудачным, и тогда Нин собрал огромное войско, состоявшее из миллиона семисот тысяч пехотинцев, двухсот десяти тысяч конных воинов и десяти с половиной тысяч боевых колесниц… Возможно ли было собрать такое войско в античные времена? Ктесий утверждает, что возможно… Впрочем, поход Нина на Бактрию, как и существование могучего древнебактрийского государства, вызывают у историков сомнения. Достоверно можно сказать следующее – что здесь издавна жили люди, создавшие в бронзовом веке развитую цивилизацию, что благоприятные климатические и экономические условия всячески способствовали развитию региона, и что бактрийцы были иранским народом (современные таджики являются их прямыми потомками). [18]
Маргиана
Местность, которую древние иранцы сначала называли «Моуру», а затем «Маргуш», широко известна под своим греческим названием «Маргиана». Мервский оазис, [19] райский уголок посреди пустыни, был заселен уже к концу III тысячелетия до н. э. Мерв принято считать древнейшим городом Средней Азии, но в 1972 году у старой дельты реки Муграб было обнаружено городище бронзового века, датируемое примерно 2300 годом до н. э. Поскольку городище находилось на невысоком холме, оно получило название Гонур-депе, что в переводе с туркменского означает «коричневый холм». Судя по огромным размерам (только центральная часть города занимает двадцать пять гектаров), наличию дворца и нескольких крупных храмов, Гонур-депе был столичным городом. Также на юге Туркменистана были найдены другие древние городища бронзового века – Алтын-депе («Золотой холм»), Намазга-депе («Молитвенный холм») и Улуг-депе («Великий холм»). Обильные археологические находки указывают на существование развитой древней цивилизации, некоторые находки из Улуг-депе относятся к раннему медному веку – V тысячелетию до н. э. В отличие от жителей других среднеазиатских государств, маргианцы полностью были оседлыми, но при этом поддерживали тесные торговые контакты с соседями-кочевниками, для которых равнинная Маргиана была доступнее окруженной горами Бактрии.
Начиная с семидесятых годов прошлого столетия в Мервском оазисе активно проводятся раскопки. Можно надеяться на то, что история Маргианы будет дополняться. Заветная мечта археологов – найти письменные документы – пока еще не сбылась, но ученые не теряют надежды.
«Эта страна богата виноградом, – писал о Маргиане Страбон. – Рассказывают, что здесь нередко встречаются корни лозы, которые у основания могут охватить только двое людей, а виноградные гроздья длиною в два локтя». Рассказчикам свойственно приукрашивать, но даже если допустить, что грозди маргианского винограда были длиною в локоть с небольшим, то есть около шестидесяти сантиметров, то картина все равно получается впечатляющей.
Завоевание Средней Азии Киром II Великим
В 560 или 559 году до н. э. вождем иранских оседлых племен стал Кир из династии Ахеменидов, основателем которой был полулегендарный Ахемен, правивший в VII до н. э. Кир II получил прозвище «Великий», потому что он создал великую державу, простиравшуюся от Египта и Ливии до Средней Азии. Достоверно неизвестно, когда именно Кир II завоевал Среднюю Азию, но скорее всего это произошло между 547 и 540 годами до н. э. В Согдиане Кир основал город Кирополис, [20] о местоположении которого историки спорят до сих пор и никак не могут прийти к единому мнению. Наверняка можно сказать лишь то, что Кирополис был северо-восточным форпостом ахеменидской державы. Не исключено, что он находился на месте современного таджикского Куруша, но это всего лишь предположение. Другой основанный Киром город, Киресхата, находился на месте современного таджикского Худжанда, [21] на берегу Сырдарьи в окружении гор. Античные авторы упоминают и о других городах. Все они были в первую очередь крепостями, оплотами центральной власти.
В утрате независимости нет ничего хорошего, но включение в состав могущественной державы способствовало более интенсивному развитию среднеазиатских областей – более оживленными становились торговля и ремесла, кроме того, с момента завоевания история Средней Азии вступила в письменный период. Отныне стало возможным судить о делах прошлого не по пересказам слухов, а по документам, пусть даже и не очень-то многочисленным.
Геродот пишет о том, что персидский царь Дарий I разделил свое государство на двадцать провинций-хшатра (греки называли их сатрапиями) и установил фиксированные подати, которых ранее не было. Дарий I происходил из младшей линии Ахеменидов и приходился Киру II довольно дальним родственником, которому для усиления легитимности своей власти пришлось жениться на дочери Кира Атоссе.
Адриан Колларт. Кир, царь Персии. Ок. 1590
Народы от бактрийцев до эглов, а также хорезмцы, согдийцы и арии платили дань в триста вавилонских талантов серебром. Упомянутые Геродотом эглы вызывают дискуссии историков. Одни считают, что речь идет об агулах, народе лезгинской группы, проживающем в юго-восточном Дагестане. Но вряд ли от этой области до Бактрии подать могла быть единой… Скорее всего эглы были одним из племен, обитавших к югу от Сырдарьи.
Триста вавилонских талантов – это немногим более десяти тонн чистого серебра, серебра высшей пробы. В современных ценах триста талантов тянут почти на девять миллионов долларов США. Саки и каспии (племена, обитавшие на восточном побережье Каспийского моря) платили дань в двести пятьдесят талантов. Размер налогов имеет важное научное значение, поскольку в большинстве случаев налоги устанавливаются исходя из экономического состояния региона. Это правило нарушается лишь тогда, когда правитель хочет наказать жителей какой-то области или, напротив, устанавливает им заведомо низкую дань в качестве привилегии или вообще освобождает от налогов.
Сколько же платили иные племена? Для греческих племен, живших на западе Малой Азии, Дарием была установлена дань в четыреста или пятьсот талантов. От Восточного Средиземноморья до Египта (за исключением Аравийской пустыни) дань составляла триста пятьдесят талантов. С Египта и граничащей с ним части Ливии взималось семьсот талантов плюс налог с рыбной ловли в Меридовом озере. [22] Наибольшая дань взималась с Вавилона и Ассирии, вносивших ежегодно тысячу талантов и пятьсот оскопленных мальчиков, а также с индийских золотодобывающих областей, которые платили триста шестьдесят эвбейских талантов золотом (тринадцать с половиной тонн!). Наименьшую дань в сто семьдесят талантов выплачивали племена, жившие на территории современного Афганистана, то есть граничившие с Бактрией и Согдианой. Следовательно, можно сделать вывод, что несмотря на хорошие климатические условия, плодородные земли и наличие торговых путей в Китай, среднеазиатские области в государстве Ахеменидов считались небогатыми.
Геродот также сообщает о вооружении разных племен. Бактрийцы носили на головах мягкие войлочные шапки и были вооружены луками, сделанными из тростника, и короткими копьями. Саки носили на головах высокие и плотные островерхие тюрбаны, а их вооружение составляли луки, кинжалы и двусторонние боевые топоры-сагарисы, достаточно легкие для того, чтобы держать их одной рукой, но при этом способные пробивать металлические доспехи. Напрашивается вопрос – почему у соседних народов, живших примерно в одинаковых условиях, было разное вооружение? Дело привычки. Обычно у соседей перенимается лучшее, а сагарис и копье примерно равнозначны. Наконечник копья весит меньше топора, что позволяет орудовать им быстрее, и даже у короткого копья, которое могут использовать и конники, и пехотинцы, древко длиннее рукояти топора, а дистанция имеет очень важное значение в поединке. Но зато копьем можно только колоть вперед, а у топора более богатая ударная техника боя, так что нельзя сказать, что одно оружие определенно лучше другого. Кстати говоря, персидские воины, бывшие костяком ахеменидского войска, имели лук, короткое копье и кинжалы.
Население среднеазиатских областей не раз восставало против власти Ахеменидов. В Бехистунской надписи упоминается о восстании в Маргиане. «Говорит Дарий царь: страна Маргуш стала мятежной. Одного человека по имени Фрада, маргушанина, они сделали вождем. После этого я послал к персу по имени Дадаршиш, моему слуге, сатрапу Бактрии, и сказал ему: «Иди и разбей войско, которое не называет себя моим». Дадаршиш отправился с войском и дал бой маргушанам. Милостью Ахурамазды мое войско наголову разбило мятежное войско… Затем страна стала моей».
Когда сын Дария Масист, сатрап Бактрии, восстал против своего брата Ксеркса I, он пытался найти поддержку у бактрийцев и саков, и, по мнению Геродота, непременно получил бы ее, если бы не был убит посланцами Ксеркса. Низкая лояльность бактрийцев и саков объяснялась не только стремлением к независимости, но и удачным расположением на окраине государства (поднимать восстания в центральных областях было гораздо сложнее, и подавлялись они меньшими силам).
Страбон сообщает, что у массагетов каждый мужчина женится только на одной женщине, но при этом они также пользуются женами других людей, причем не скрывая этого. А Геродот упоминает о царице Томирис, возглавившей массагетское войско после того, как ее сын Спаргапис был пленен Киром II. У римского автора Клавдия Элиана [23] можно прочесть о том, что у саков мужчина, желающий взять в жены девушку, должен сразиться с ней, и тот, кто победит, будет повелевать и властвовать. Эти сведения указывают на то, что у жителей Средней Азии в античные времена сохранялись некоторые черты матриархата, уклада более древнего, нежели патриархат.
Государство Ахеменидов
Править огромным государством из центра в старину было невозможно, потому что обмен информацией занимал много времени (из столицы в провинцию гонец мог скакать дольше месяца), а области были разнородными и подход к ним требовался разный. Вообще-то идеалом любого правителя является сосредоточение всей власти в своих руках, но волей-неволей приходится делегировать часть полномочий наместникам. В приграничных областях наместники обладали не только гражданской, но и военной властью, поскольку на них была возложена охрана рубежей. Искушение было велико, и окраинные сатрапы часто восставали против правителей, но государству Ахеменидов было суждено пасть под ударом извне, а не быть разрушенным изнутри.
Штандарт Кира II Великого, правителя державы Ахеменидов
Главными обязанностями сатрапов были сбор дани с подчиненного населения и поддержание порядка. Ахемениды предпочитали ставить наместниками провинций своих родственников или же представителей персидской аристократии. С одной стороны, подобный подход мог служить гарантией лояльности, а с другой, члены правящего клана или представители высшей знати могли вполне обоснованно надеяться на захват власти в государстве, так что выгоды и риски распределялись пополам.
Элитой государства Ахеменидов, наряду с персами, были покоренные ими мидяне, иранский народ, проживавший на северо-западе современного Ирана и юго-востоке Турции. В свое время, еще до Ахеменидов, Мидийское царство со столицей в Экбатане было могущественным государством, владевшим территорией современного Ирана, Армянским нагорьем, Северной Месопотамией [24] и восточной частью Малой Азии. Персидско-мидянская конница составляла основу ахеменидской армии, и все мало-мальски значимые должности в государстве Ахеменидов занимали персы или мидяне. Мощь ахеменидского войска заключалась в его многочисленности, но разнородный состав в какой-то мере ее ослаблял. Примечательно, что гарнизоны старались не комплектовать из местных уроженцев, что было весьма благоразумно и позволяло эффективно использовать войска против повстанцев, которые для воинов были чужаками.
Ахеменидские правители заботились не только о строительстве городов, но и об устройстве дорог. Благоустроенные дороги способствовали развитию торговли, ускоряли обмен информацией и позволяли быстро перебрасывать войска в случае войны или восстания. Геродот пишет о главной дороге государства протяженностью более двух тысяч километров, которая шла от Эгейского моря до Персидского залива: «На всем протяжении пути устроены царские стоянки и превосходные постоялые дворы, а весь путь проходит по населенным и безопасным местностям». Безопасность дорог обеспечивали военные патрули, и в этом отношении государство Ахеменидов выгодно отличалось от греческих государств, в которых путникам приходилось полагаться на милость богов и собственную удачу. Постоялые дворы располагались примерно через каждые тридцать километров, на расстоянии дневного пути.
В Средней Азии несколько раз находили дарики, золотые монеты, которые начали чеканить уже при Кире II вместо распространенного в те времена лидийского статера (расположенная на западе Малой Азии Лидия была пионером монетного дела, но Киру было как-то несообразно чеканить статеры после завоевания Лидии). В дословном переводе с древнеперсидского «дарик» означает «золотой»; неверно производить название монеты от имени Дария I, поскольку первые дарики были отчеканены еще при Кире.
Дарик
Весил дарик чуть меньше восьми с половиной граммов, и чеканить его мог только правитель, в то время как правом чеканки серебряной и медной монеты обладали сатрапы. Небольшое количество дариков, найденное в Средней Азии, привело некоторых ученых к выводу о слабом развитии здесь денежного обращения в ахеменидский период. Вывод этот довольно спорный, особенно с учетом того, что через Среднюю Азию пролегали оживленные торговые пути. Но, разумеется, за их пределами существовал и натуральный обмен, сохранившийся кое-где и по сей день, – двух овец можно обменять на трех коз, а за шесть или семь овец можно «купить» лошадь.
Письменных находок ахеменидского периода в Средней Азии пока еще не обнаружено, но можно с уверенностью сказать, что официальным языком документооборота здесь, как и по всей державе Ахеменидов, был древнеперсидский язык, а в качестве международных «обиходных» языков использовались арамейский и согдийский (согдийская письменность была создана на арамейской основе). Бумага пришла в Среднюю Азию только в конце VII века, когда арабы основали в Самарканде первое бумажное производство, а до тех пор в основном писали на глиняных табличках, гораздо реже – на пергаменте. Глина – материал недолговечный, и потому не стоит удивляться отсутствию древнейших письменных находок.
Сoгдийcкий тeкcт из пиcьмa мaниxeйcкoгo кpeдитopa. Между IX и XIII веком
Что же касается религиозных верований, распространенных в Средней Азии в ахеменидский период, то определенно можно сказать, что у местных народов существовал культ двух начал – огненного или солнечного мужского и водного женского, который впоследствии воплотился в культ бога света Митры и богини плодородия и любви Анаит. Также здесь получила распространение религиозно-философская концепция под названием зерванизм, согласно которой первоначальной субстанцией сущего было бесконечное время (Зрван). От Зрвана произошли зороастрийские бог света Ахурамазда и бог тьмы Ариман.
Завоевание Средней Азии Александром Македонским
Во время греко-персидской войны 480–479 годов до н. э., которая у историков носит второй или третий порядковый номер, Ксеркс I заложил мину замедленного действия под державу Ахеменидов, выпустив из своих рук Македонию, ничем не примечательное на тот момент греческое царство. Но недаром же говорят, что «пока караван дойдет до Багдада, многое может измениться». В 359 году до н. э. царем Македонии стал умный и амбициозный Филипп II, который превратил Македонию в сильное государство и объединил под своей властью другие греческие государства для борьбы против Ахеменидов. В 336 году до н. э. Филипп был убит одним из приближенных на свадьбе собственной дочери и новым царем Македонии стал его двадцатилетний сын Александр, которого на Востоке называют Искандером без добавления «Македонский» или «Великий», поскольку и так ясно, о ком идет речь. Впрочем, Александру лучше всего подошел бы эпитет «Стремительный», ведь для завоевания огромного государства Ахеменидов, простиравшегося от Ливии до Афганистана, ему потребовалось всего четыре года! В мае 334 года до н. э. Александр выступил против царя Дария III, а в мае 330 года до н. э. захватил Экбатану, летнюю резиденцию персидских царей и последний оплот Дария. «Александр одержал блистательную победу, – пишет в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарх, [25] – он истребил более ста десяти тысяч врагов, но не смог захватить Дария, который, спасаясь бегством, опередил его на четыре или пять стадиев». [26] Спастись Дарию не удалось – его закололи приближенные, то ли для того, чтобы он не попал в плен к преследовавшим беглецов македонянам, то ли в надежде на то, что тело царя остановит преследователей.
Вильгельм фон Каульбах. Битва при Саламине. 1868
В Среднюю Азию греки пришли в 329 году до н. э. и заняли ее, подавив сопротивление местных жителей. Сатрап Бактрии и Согда Бесс, участвовавший в убийстве Дария III, пользуясь своей принадлежностью к роду Ахеменидов, провозгласил себя царем Артаксерксом V, но по факту он так и остался сатрапом, поскольку далее Бактрии и Согда его власть не распространялась. В глазах Александра, который после смерти Дария III (по праву сильного) считал себя законным правителем всех ахеменидских владений, Бесс был мятежником, поэтому после пленения его ждала тяжелая участь – сначала ему отрезали нос и уши, а затем то ли обезглавили, то ли разорвали надвое между двух деревьев.
Александр не был жестоким и нередко проявлял милость к побежденным врагам, но с изменниками он поступал сурово. У нескольких античных авторов, в том числе у Страбона и у римского историка Квинта Курция Руфа, [27] можно прочесть об уничтожении Александром в Бактрии некоего «города Бранхидов», местоположение которого достоверно неизвестно, но видный узбекский (точнее – узбекистанский) историк Эдвард Ртвеладзе считал, что этот город находился на месте городища Талашкан-Тепе в Сурхандарьинской области Узбекистана, которая соответствует Северной Бактрии.
Бранхиды, потомки мифологического героя Бранха, получившего от бога Аполлона дар прорицания, были хранителями святилища Аполлона в Дидиме, близ Милета. Когда в Дидим пришел Ксеркс I, бранхиды выдали ему храмовые сокровища, иначе говоря – осквернили святилище. Боясь мести греков, они были вынуждены уйти вместе с отступившим персидским войском, и Ксеркс поселил их в Бактрии. Руф пишет, что бранхиды встретили Александра с радостью и сдались ему без сопротивления, однако Александр отдал их на расправу милетцам, служившим в его войске. Милетцы питали давнюю ненависть к изменникам-бранхидам, но, тем не менее, не смогли прийти к единому решению по поводу кары, и тогда Александр взял дело в свои руки – бранхидов истребили от мала до велика, их город разрушили и даже выкорчевали все деревья, чтобы это место превратилось в пустыню. «Если бы все это было сделано в отношении самих изменников, то выглядело бы справедливой местью, а не жестокостью, – пишет Руф. – Сейчас же вину предков пришлось искупать их потомкам, которые не видели Милета и потому и не могли предать его».
Хорезм, обретший независимость еще при Ахеменидах (неизвестно, когда именно и при каких обстоятельствах, можно только сказать, что произошло это в конце V века до н. э.), не был завоеван Александром. Античные историки пишут о том, что в 328 году до н. э., во время пребывания Александра в Бактрии, в его лагерь во главе полуторатысячного конного отряда явился правитель Хорезма Фарасман (или Фратаферн) и предложил заключить союз. Предложение было принято. Возможно, что Александр просто отложил завоевание Хорезма на будущее, но этого не произошло. В 324 году до н. э. Александр был вынужден повернуть назад, поскольку в его войске, утомленном длительным походом, начало зреть недовольство.
Карл Теодор фон Пилоти. Смерть Александра Великого. 1885
Александр Македонский не успел оставить заметного следа в Средней Азии, поскольку правил он недолго – в середине 323 года до н. э. в возрасте тридцати двух лет великий завоеватель скоропостижно скончался в Вавилоне. Мнения по поводу причины его смерти расходятся – одни историки считают, что Александра погубило тяжелое инфекционное заболевание, а другие склоняются к тому, что он был отравлен. Но восемь городов в Бактрии и Согдиане Александр основать успел. В наше время его бы назвали Александром Урбанизатором из-за склонности к основанию городов на завоеванных землях. В городах Александр видел источник благосостояния (торговцы и ремесленники давали казне больше, чем земледельцы) и оплот своей власти, поскольку основным населением городов становились греки.
Западные историки любят порассуждать о том, как «цивилизованные» греки принесли культуру в «дикую» Среднюю Азию. При этом они дважды грешат против истины. Во-первых, македонцы, занимавшие ключевые должности при Александре и во многом определявшие политику царя, были не очень-то цивилизованными по сравнению с афинянами или ликийцами. Вдобавок греческая культура вначале насаждалась острием меча, что совершенно не способствовало ее восприятию местным населением (недаром же узбеки говорят, что в руках врага даже сахар становится горьким). Во-вторых, население Средней Азии в IV до н. э. не было диким. Здесь существовала своя цивилизация, отличная от греческой, но довольно развитая. За подтверждениями развитости далеко ходить не нужно – можно взять хотя бы искусственное орошение земель, требующее больших инженерно-географических познаний, или вспомнить о находках, сделанных на территории Маргианы. Кроме того, до пришествия греков среднеазиатские земли находились в составе государства Ахеменидов, которое никак нельзя назвать «нецивилизованным». Античная персидская культура ничем не уступала греческой, разница лишь в том, что греческий канон лег в основу древнеримской культуры, ставшей фундаментом для всех современных западных культур. Да – определенное заимствование элементов греческой культуры было, это неизбежно происходит при сосуществовании народов, но культурный обмен и «принесли культуру» – это совершенно разные понятия.
