И все это Шекспир бесплатное чтение
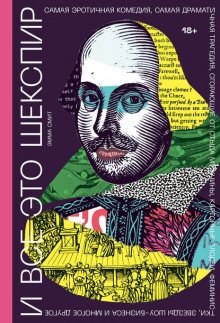
Emma Smith
This Is Shakespeare
Научные редакторы: Дмитрий Иванов, Владимир Макаров
Издано с разрешения Penguin Books Ltd. и Andrew Nurnberg Associates International Ltd. c/o Andrew Nurnberg Literary Agency
Original English language edition first published by Penguin Books Ltd., London
Text copyright © Emma Smith, 2019
The moral right of the author has been asserted
© Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2020
Посвящаю Элизабет Макфарлен
Предисловие научных редакторов
В России хорошая книга о Шекспире, где научность сочетается с доступным языком, встречается совсем не часто. (Если начать с конца, именно такие работы мы собрали в библиографии.) Долгие годы авторам приходилось пробиваться через стену советской цензуры, которой нужен был «прогрессивный» и «народный» Шекспир; потом ей на смену пришли мифы об аристократическом авторстве, и на их опровержение уходило и до сих пор уходит немало времени.
По многим причинам Шекспир в России, как и почти во всех странах, стал символом творчества как такового, а это одновременно хорошо и плохо. Хорошо потому, что проблемы шекспировской драмы легко находят отклик в последующих эпохах и ни одна его пьеса не устарела. Плохо потому, что Шекспира легко сделать «памятником», скучным изрекателем прописных истин, отнять у его героев многосторонность, у их поступков — неожиданность, у слов — многозначность. Нужны книги (и снова отсылаем вас к библиографии), которые приносят «освобождающее» движение от простого Шекспира к сложному, заставляют нас сочувствовать то одному герою пьесы, то другому, дают понять, что его мир не укладывается в рамки одной теории.
С похожими, хотя и не столь резкими проблемами сталкиваются и в англоязычном мире. Решить их можно, если перестать говорить о Шекспире как о недосягаемом «Барде», на фоне которого блекнет вся мировая культура. Царь Мидас из классического мифа прикосновением превращал все в золото. Прикасаясь по-мидасовски к Шекспиру, мы теряем из виду живую связь его с предшественниками и современниками. Но как окончательно стало ясно в последние десятилетия, связь эта была очень мощной. Шекспир писал совместно с другими драматургами, вносил изменения в старые пьесы, а его пьесы, в свою очередь, иногда правили драматурги следующего поколения. Шекспир отзывался на темы и жанры, создаваемые его современниками. Он продумывал роли под реальных актеров труппы, пайщиком которой был. Шекспир был человеком театра, а театр — дело коллективное.
Наверное, такой Шекспир нам сейчас нужен больше всего — не вещатель истин о природе человека, а собеседник, который не перестает нас удивлять. Таким вы его и увидите в книге профессора Оксфордского университета Эммы Смит — одного из самых известных шекспироведов нашего времени, автора многих книг и популярного лектора (на любом ресурсе англоязычных подкастов можно найти ее курсы Approaching Shakespeare и Not Shakespeare: Elizabethan and Jacobean Popular Theatre). В книге, помимо шекспировских героев, вам встретятся и современные персонажи, например Гомер Симпсон, — однако это не уступка нашей действительности, чтобы легче «объяснить нам Шекспира». Наоборот, прочитав книгу, мы понимаем, насколько Шекспир — и весь театр его времени — необходим современной культуре и как много важного для нас вышло с этих деревянных подмостков без занавеса и с выдвинутой в публику сценой.
Эмма Смит выбрала интересную форму для своей книги: перед вами двадцать отдельных рассказов о двадцати пьесах из все расширяющегося шекспировского канона (если в первом собрании было тридцать шесть шекспировских пьес, современные издания — с учетом соавторства — включают уже более сорока). Книгу можно читать в любом порядке: автор сознательно отказывается от избитой модели, согласно которой Шекспир с каждой новой пьесой якобы «совершенствует мастерство». Каждая драма нова и уникальна, при этом стоит в кругу схожих жанровых и психологических проблем. В каждую надо вчитываться, и совершенно необязательно при этом соглашаться с Эммой Смит, на что она, впрочем, и не претендует. Медленно и упорно, но одновременно легко и интересно она показывает нам, как открыть для себя шекспировскую пьесу, какое значение она имела в свою эпоху и что помогает ее понять в наше время.
И да, не стоит спрашивать, «что хотел сказать Шекспир». Говорить с ним лучше не так. Лучше удивиться, насколько разнообразны его театральный виртуальный мир и его герои. Фальстаф и принц Хел, Ромео и Джульетта, Шейлок, Кориолан, Просперо — все это сложное и яркое изобилие приходит к нам и остается с нами. И все это Шекспир.
Д. А. Иванов, к.ф.н., старший научный сотрудник филологического факультета МГУ им. М. В. ЛомоносоваВ. С. Макаров, к.ф.н., доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
Введение
Ну и почему вы должны читать очередную книгу о Шекспире?
Потому что он гениальный поэт и провидец, в чьих строках отражены и предугаданы судьбы всего человечества? Потому что его творчество учит нас вечным ценностям — терпимости и гуманизму? Потому что его метафоры невероятно сложны? Потому что до сих пор никому не удалось превзойти его в поэтическом мастерстве?
Не угадали!
Совсем не поэтому. Да, это дежурные слова, которые мы всегда говорим о Шекспире, но они и приблизительно не объясняют, чем его наследие ценно для XXI века. Мне интересен совсем другой Шекспир: проблемный, неоднозначный, во многом вылепленный культурой своего века, но при этом неожиданно близкий и созвучный нашему времени. То, что мы затвердили как попугаи еще со школьной скамьи: пятистопный ямб, поразительный словарный запас, «добрая старая Англия», божественное право королей и т. д. и т. п. — во-первых, неверно, а во-вторых, просто неважно. Все это не более чем дымовая завеса: она лишь отвлекает внимание от художественной и идеологической подоплеки шекспировских умолчаний, нестыковок и в особенности от пробелов и «слепых зон», которыми изобилуют его пьесы.
Проблема недосказанности настолько важна для предстоящего нам разговора, что хотелось бы отметить ее с самого начала. Драмы Шекспира в равной мере сотканы из того, что высказано и что не высказано — с прорехами посередине. Эта пунктирность заметна на любом уровне, начиная с элементарного — как выглядит Гамлет? А Виола? Или Брут? Прозаик, вероятно, описал бы внешность героя; драматург Шекспир ничего подобного не делает. Это значит, что в его пьесах нет тех «ключей» к образу, которых мы ожидаем от романа или фильма. От того, как мы представляем себе, например, Катарину в «Укрощении строптивой» (ранимой? обаятельной? дерзкой?), зависит наше прочтение этого весьма неоднозначного текста. А что можно сказать о навязавшемся ей в мужья Петруччо? Кто он — красавец, грубиян, неврастеник? Это тоже влияет на трактовку пьесы. С шекспировскими текстами интересно бывает поиграть в кастинг: мысленно представить в ролях кого-нибудь из современных актеров. Если выбрать на роль Гамлета энергичного Мела Гибсона (как сделал в 1990 году Франко Дзеффирелли), постановка сразу же приобретет специфический колорит; та же самая пьеса с Мишель Терри (театр «Глобус», 2018) или Бенедиктом Камбербэтчем (реж. Линдси Тернер, 2015) в главной роли будет выглядеть совершенно иначе. То, что мы ничего не знаем о внешности персонажей, лишь отдельный пример отсутствия авторского комментария в пьесе. Никакой «закадровый голос» не дополняет прямую речь персонажей. Сценические указания очень редки и почти нигде не поясняют, как именно совершается действие. Передает ли Ричард II в четвертом акте одноименной пьесы свою корону, скипетр и державу Болингброку с печальным выражением лица? Или злорадным? Или безумным? Да и вообще выпускает ли он из рук символы власти? Жесты, движения и позы действующих лиц нигде не прописаны; вся сцена открыта для зрительских и режиссерских трактовок. Конструкция шекспировских пьес скорее предполагает, чем утверждает; драматург чаще показывает, чем рассказывает; большинство образов и поступков поддается различному прочтению. Именно потому, что нам самим приходится заполнять «пустоты», Шекспир и продолжает жить в веках.
Нельзя забывать и о более крупных пробелах, связанных с этикой и мировоззрением. В интеллектуальном климате конца XVI века зрели радикально новые идеи (например: «Религию считаю я игрушкой»[1], — заявляет устами одного из своих персонажей современник Шекспира Кристофер Марло). Традиционные ценности и устои подвергались сомнению. Шекспир жил и творил в эпоху, когда европейцы осваивали новые земли, а научные открытия меняли представление человека об окружающем мире. Микроскоп впервые позволил увидеть то, что нельзя различить невооруженным глазом: в «Микрографии» Роберта Гука (1665) показаны крошечные объекты в многократном увеличении, например блоха размером с кошку. Телескоп, которым вооружились Галилей и прочие астрономы, привнес в сферу научного познания прежде немыслимо отдаленные небесные тела. Театральное искусство пыталось осмыслить культурные сдвиги, вызванные новыми открытиями. Порой в драмах Шекспира заметен разрыв между былыми представлениями о мире, управляемом высшими силами, и более современными идеями о человеческой воле как первопричине действий и событий. В его текстах соседствуют полярно противоположные, исключающие друг друга картины мира. Такие противоречия носят интеллектуальный или ценностный характер и позволяют взглянуть на одно и то же событие с нескольких точек зрения.
Неясность — отличительная и определяющая черта шекспировского текста. Он живет за счет своей неоднозначности, обретая непредсказуемые новые формы. Мы всякий раз творим Шекспира заново: неслучайно первое собрание его пьес, изданное в XVII веке, было обращено «к самым разным читателям от наиболее ученых до тех, кто читает лишь по складам»[2].
Его произведения захватывают нас именно своей неполнотой: чтобы обрести смысл, им нужны мы, дети пестрого, многообразного и лоскутного постшекспировского мира. Читать Шекспира — не пассивная форма досуга, а активное действие. Совершать его — значит задавать вопросы, ставить под сомнение прописные истины, ниспровергать авторитеты, заглядывать дальше концовки. Мне хотелось написать книгу о Шекспире для взрослых читателей, которым не нужен учебник или сборник школьных афоризмов. Не биографию (с исторической точки зрения о Шекспире уже не скажешь ничего нового, а в наши дни живет его творчество, но никак не сам покойный творец). Не пособие для подготовки к экзаменам (чтение Шекспира оставляет больше вопросов, чем ответов, поэтому его тексты очень плохо укладываются в учебные программы). Не упрощенный справочник «Шекспир для начинающих» (Шекспир сложен как сама жизнь, а не как головоломка в журнале или техническая задача вроде выбора режима для стирки). Я хотела написать книгу для читателей, театралов, студентов и всех, кто чувствует, что Шекспир когда-то прошел мимо них, и хочет наверстать упущенное.
Все мы знаем, что Шекспир занимает парадоксальное место в современной культуре. С одной стороны, он окружен благоговейным восторгом. Его цитируют, пародируют, ставят на сцене и спрашивают на экзаменах. Шекспир! С другой стороны, мы зеваем, возводим глаза к небу и тихонько сознаемся себе в культурной неполноценности: Шекспир может быть мучительной обязаловкой, от которой сводит скулы, когда сидишь в театре поздно вечером и тоскливо смотришь четвертый акт, понимая, что до конца еще не меньше часа (не будем лукавить, нам всем знакомо это чувство). Шекспир — памятник при храме культуры, а с памятниками не разговаривают и тем более не спорят, к ним молча возлагают цветы. Неужели кому-то и правда нравится все это читать?
Да, нравится, и я надеюсь, что моя книга поможет вам понять — почему. Я не собираюсь выбивать постамент у классика из-под ног, но буду рада, если вам откроется менее догматичный, менее завершенный, более живой и увлекательный Шекспир. Такой Шекспир, с которым можно выпить и поболтать, вместо того чтобы замирать в почтительном восторге. У меня нет грандиозного учения о Шекспире и уж тем более тайного знания о том, что он хотел сказать. (Признаюсь, я не особенно об этом переживаю и вам не советую.) Мне интересно, как и за счет чего пьесы Шекспира дают простор для размышлений о свободной воле, славе, экономике, дружбе, сексе, политике, частной жизни, радости, страданиях и еще тысяче вещей, включая само искусство. Каждая глава в книге посвящена отдельной пьесе и рассматривает ее в особом ключе. Для нашего разговора я выбрала те пьесы, которые больше всего меня вдохновляют. Некоторые из них очень знамениты, и вы бы разочаровались, не найдя их названий в книге о Шекспире. Другие менее известны широкой публике, но в них также есть богатый материал для осмысления (что вы знаете, например, о «Комедии ошибок»?). Мне хотелось дать читателю представление об эволюции тем и жанров в творчестве Шекспира на протяжении всей его жизни, поэтому пьесы будут обсуждаться в хронологическом порядке. При этом я старалась сделать каждую главу более или менее самодостаточной, чтобы вы могли, к примеру, прочесть одну из них перед походом в театр или начать с конца, если там найдется что-то интересное лично для вас.
Каждая глава так или иначе затрагивает проблему интерпретации — современной Шекспиру и современной нам. Иногда мы будем говорить об историческом контексте, а иногда оставим его за кадром. В одних случаях мы обсудим источники шекспировских сюжетов и влияние его эпохи, а в других рассмотрим, как его творчество воспринималось в иные исторические периоды, включая наши дни. Мы увидим Шекспира — драматурга-елизаветинца, обращенного к классическому наследию античной драмы и династическим проблемам, а также к современным вопросам идентичности и тотального скепсиса. Наш с вами Шекспир знает о социальной и расовой дискриминации не меньше, чем об Овидии. Он предельно близок современности, но его тексты — не просто зеркало для нашего зараженного солипсизмом[3] века. Его тексты в первую очередь ставят вопросы, а не дают ответы. Вот почему они остаются вечно острыми и провокационными, вот почему мы сами становимся творцами их смысла и почему они так настоятельно требуют нашего внимания. Я назвала книгу «И все это Шекспир» не для того, чтобы у вас в голове возник образ монумента, единой и цельной глыбы. Совсем наоборот: великого Шекспира создают наши интерпретации. Его творения живут за счет нашей готовности наделить их смыслом. И это все — чтение, осмысление, вопрошание, истолкование, оживление текста — и есть Шекспир.
Глава 1. «Укрощение строптивой»
«Укрощение строптивой» — одна из самых ранних и самых неоднозначных шекспировских пьес. Ожесточенные споры ведутся обо всем — от имени главной героини до гендерной идеологии. Начать главу с нейтрального пересказа сюжета тоже не получится, и вот почему.
Пьеса повествует о замужестве двух дочерей падуанского дворянина Баптисты — Катарины и Бьянки. Старшая, Катарина, — та самая строптивица из названия. Ее можно посчитать бойкой и независимой, одинокой и непонятой или же сварливой и неуживчивой — в зависимости от выбранной точки зрения. Отец (опять же смотря какую позицию выбрать — обеспокоенный вдовец или патриархальный тиран) решил, что младшая дочь Бьянка (прелестная, милая и кроткая девушка или безмозглая пустышка, которой так и хочется влепить затрещину, что, собственно, и делает ее сестра) не может выйти замуж, пока не будет просватана Катарина. Действие подготовлено, и на сцене появляется герой Петруччо: ловкий и сообразительный малый, который неплохо знает себя и хочет найти жену с умом и характером, или беспринципный охотник за приданым, садист и женоненавистник — с какой стороны посмотреть. Итак, Катарина и Петруччо — против воли Катарины — вступают в отношения, суть которых тоже целиком и полностью зависит от выбранной позиции: то ли между ними воздух искрится от сексуального притяжения с легким оттенком садо-мазо, то ли их союз лишен любви, пропитан цинизмом и обусловлен требованиями жестокого патриархального общества. Разнятся мнения и на другой счет: либо Петруччо применяет к жене отнюдь не шуточные пытки (морит голодом, лишает сна и всячески издевается, чтобы подчинить своей воле), либо все это потешная любовная игра, где взаимное нежелание уступить служит залогом равенства в их необычном браке. В финале пьесы Катарина — опять же в зависимости от точки зрения — либо сломлена, раздавлена и готова пасть к ногам мужа, твердя при этом патриархальную мантру о женской покорности, либо полна иронии, находчива и напоминает слушателям о взаимных обязательствах супругов, чтобы получить свою долю от изрядного выигрыша Петруччо.
Более того, сама линия «укрощения» показана нам как пьеса в пьесе: из пролога следует, что история Катарины и Петруччо — это сюжет представления, разыгранного для пьяного медника Кристофера Слая. Дворянин в компании слуг решил покуражиться и разыграть Слая, убедив его, что в действительности он лорд, а переодетый в женское платье паж — его супруга. Именно поэтому во всем спектакле при желании можно увидеть заведомо неправдоподобный, любительский фарс с мужчинами в женских ролях или поистине новаторскую пьесу, где женщины наряду с низшими классами показаны как жертвы корыстного женоненавистнического общества. Даже по поводу имен персонажей не утихают споры. Раньше критики называли главную героиню Кет, пока редакторы-феминистки не указали, что это некорректно. Когда Петруччо впервые встречается с женщиной, на которой вознамерился жениться, он приветствует ее словами: «День добрый, Кет. Так вас зовут, я слышал?»[4] (II, 1) На что та недвусмысленно отвечает: «Как вижу я, расслышали вы плохо. Меня зовут все люди Катариной» (II, 1). Однако Петруччо продолжает звать ее Кет, что, в зависимости от точки зрения, можно расценить как проявление грубоватой собственнической нежности или как микроагрессию закоренелого женоненавистника. Собственно говоря, и название пьесы можно трактовать по-разному: как пересказ сюжета, руководство к действию, иронический жест или даже сатиру.
Отклики на эту неоднозначную пьесу тоже всегда были противоречивыми. В конце XIX века Джордж Бернард Шоу настоятельно призывал к ее бойкоту и осуждению: «Ни один порядочный человек не сможет смотреть последний акт в дамской компании, не сгорев от стыда за отвратительное пари и монолог, в котором женщина объявляет мужчину венцом творения». Однако английская феминистка Жермен Грир, как ни странно, высоко оценила пьесу в своей знаменитой книге «Женщина-евнух». С ее точки зрения, Катарине «посчастливилось найти супруга, который достаточно мужествен, чтобы знать, чего хочет и как этого добиться». Кроме того, «когда женщина, подобная Кет, уступает мужчине, это дорогого стоит, ведь у нее есть и девичья гордость, и характер, и незаурядная сила воли». Вероятно, Грир смотрела киноверсию Франко Дзеффирелли 1967 года, где предлагается похожая трактовка пьесы. Дзеффирелли неслучайно взял на главные роли скандально известную пару Элизабет Тейлор и Ричарда Бёртона: режиссера вдохновлял их бурный роман, и союз Катарины с Петруччо показан как страстный поединок, в котором то бьется посуда, то во все стороны разлетается сброшенная одежда.
Многие критики и режиссеры силились сгладить, примирить противоречия в пьесе, однако для нас с вами сейчас важнее другое. «Укрощение строптивой» скорее ставит вопросы, чем отвечает на них. Проблема трактовки заложена в самой структуре текста и лишь обостряется с каждым новым прочтением. Уже в этой ранней пьесе сполна проявился шекспировский дар вопрошания и сомнения, а ее история отображает одну из характерных и неизбежных читательских реакций при встрече с творчеством драматурга. Мы сами вкладываем в произведение тот смысл, который считаем нужным. Частный вопрос — действительно ли Катарина укрощена и приручена в конце пьесы — обретает универсальное измерение: как нужно читать Шекспира?
Трактовка образа Катарины во многом зависит от пространного монолога, который она произносит в последнем акте пьесы. Несмотря на объем, я приведу его целиком отчасти потому, что контекст несет здесь важную смысловую нагрузку. Катарина обращается к остальным героиням пьесы с наставлением и ругает за то, что не подчинились мужьям:
- Стыдись! Расправь нахмуренные брови
- И грозных взглядов не кидай, не рань
- Супруга своего и властелина:
- Гнев губит красоту, как ниву — град;
- Как вихрь, он славу добрую развеет,
- И ничего приятного в нем нет.
- Сердитая жена — источник мутный,
- Противный, засоренный, безобразный;
- Им каждый погнушается; никто,
- Как бы ни жаждал, капли не проглотит.
- Муж — это господин твой, жизнь, защитник,
- Глава и повелитель; о тебе
- Печется он, трудам тяжелым тело
- На суше и на море подвергая.
- Он в стужу днем и в бурю ночью бдит,
- Пока в тепле ты почиваешь дома,
- И просит дани от тебя одной:
- Любви, приветливости, послушанья —
- Уплаты малой за огромный долг.
- Обязанности подданных к монарху
- И жен к мужьям их — сходны меж собой.
- И та, что своенравна и сварлива
- И честной воле мужа не покорна, —
- Кто, как не дерзостный бунтарь, она,
- Изменник любящему господину?
- На вашу глупость стыдно мне смотреть:
- Вы там воюете, где вы должны бы
- Молить о мире, преклонив колени;
- Повелевать, главенствовать хотите,
- Хоть долг ваш — покоряться и любить!
- Как слабо, нежно, мягко наше тело,
- Негодно для трудов и для борьбы, —
- Так, с ним в согласье, разве не должны
- Сердца и чувства наши быть нежны?
- Строптивые, бессильные вы черви!
- И я была заносчива, как вы,
- И вспыльчива; я резко отвечала
- На слово словом, выпадом на выпад.
- Теперь же вижу я, что наши копья —
- Соломинки: так силы наши слабы.
- С чем нашу слабость я сравнить могла бы?
- Чем кажемся сильней, тем мы слабей.
- Нет в гневе пользы нам; к ногам мужей
- Склонитесь, жены; пред своим готова
- Я долг исполнить, лишь скажи он слово.
Тон этой речи на удивление неясен. Сломлена ли героиня? Покорена, принижена, смирилась ли с подчиненной ролью? Кажется, ее слова о бесконечной женской слабости предполагают именно такое прочтение. Однако сам факт, что Катарине отведен непрерывный монолог из сорока пяти строк — во много раз длиннее всех остальных реплик в пьесе, — противоречит этой трактовке. Может быть, она заранее приготовила и отрепетировала речь о патриархальных ценностях и теперь декламирует ее с немалой долей сарказма? О чем говорят появившиеся под конец рифмы: слабы — могла бы, слабей — мужей, готова — лишь слово? О чеканной стройности ее новой картины мира или о том, что тирада давно заучена и отскакивает от зубов? Катарина так долго и упорно обличает собственный пол, что бесконечные повторы, возможно, придают ее речам ироническую окраску, опровергая видимый смысл. А уж называть женщин «строптивыми, бессильными червями» — не есть ли это явный и намеренный перебор? Может, она сговорилась с Петруччо, чтобы выиграть пари? Они не обменивались репликами с предыдущего акта, и мы не можем узнать, подстроено ли это выступление Катарины, и если да, то когда и как. Или Катарина в самом деле обучилась примерному поведению и раскаялась в прежних неблаговидных поступках? Вроде бы именно об этом она говорит, когда перечисляет обязанности женщин по отношению к мужьям. Или ее дух окончательно повержен?
Все эти трактовки складываются из отдельных деталей представления. Что делают остальные актеры во время длинного монолога Катарины и как они ее слушают — внимательно, насмешливо, смущенно? А Петруччо? Жена утверждает, что готова склониться к его ногам, но ее заявление будет звучать совершенно по-разному, если она в этот момент упадет перед ним на колени или же, к примеру, останется стоять, с вызывающим видом скрестив руки на груди. Список вопросов можно продолжать до бесконечности. Петруччо отвечает на монолог жены единственной короткой репликой: «Кет, поцелуй меня. Ай да жена!» (V, 2) (он по-прежнему не может осилить ее полное имя). Для ранних текстов Шекспира («Укрощение строптивой» впервые было издано в 1623 году в составе посмертного собрания сочинений, которое мы теперь называем Первым фолио) характерно почти полное отсутствие таких сценических указаний, где пояснялось бы, что происходит с персонажами и ка́к совершается действие: быстро, радостно, злобно и т. д. Именно поэтому пробелы приходится заполнять актерам, режиссерам, а заодно и читателям. Иногда современные редакторы узурпируют это право и вставляют собственные указания, объясняя, что происходит, по их мнению, на сцене. В последнем акте «Укрощения строптивой» обыкновенно добавляют сладко-сентиментальную (и возможно, слишком оптимистичную) директиву: «Они целуются». Таким образом, редакторы предполагают, что Катарина откликается на внезапный порыв Петруччо или же повинуется его команде. Но ведь возможны и другие решения: неохотный или безответный поцелуй, неловкая пауза без всякого поцелуя, отчуждение между супругами или холодное противостояние мужчин и женщин на сцене.
Многие полагают, что наши неоднозначные трактовки Шекспира (например, можно ли считать Генриха V хорошим правителем и есть ли в «Отелло» элементы расизма) вызваны несовпадением ценностных установок в разные исторические эпохи. Сторонники этой версии утверждают: на заре Нового времени представления о расах и этносах, о воинском долге или об отношениях между полами были совершенно иными. Мол, то, что нам сегодня кажется этически неприемлемым, тогда воспринималось как вполне естественное. При этом есть основания полагать, что полемика по поводу «Укрощения строптивой» велась уже современниками Шекспира, что видно по двум хронологически близким и генетически связанным произведениям.
Около 1610 года, спустя почти два десятилетия после шекспировской «Строптивой», Джон Флетчер написал к ней сиквел под названием «Награда женщине, или Укрощение укротителя». Флетчер был одним из драматургов труппы слуг короля и не раз сотрудничал с другими авторами, в том числе с Шекспиром в работе над пьесами «Два знатных родича» и «Генрих VIII». Полемический отклик на раннюю комедию Шекспира можно рассматривать как пример косвенного соавторства или знак принадлежности к одному профессиональному цеху. В любом случае Флетчер совершенно сознательно использовал и развил шекспировский сюжет. Главным героем у него вновь становится Петруччо — теперь вдовец. Пьеса открывается разговором гостей на свадьбе: они обсуждают второй брак Петруччо и заодно напоминают публике о его покойной первой жене. Траньо сообщает, что память о Катарине до сих пор мучает бедного вдовца: «Ведь он, чуть вспомнит первую жену <…> / С постели вскакивает и вопит, / Чтоб подали дубину или вилы, — / Так он боится, что ему на шею, / Восстав из гроба, вновь супруга сядет»[5] (I, 1). Но на этот раз, как уверяют друзья Петруччо, ему не грозит подобная участь, ведь новая жена, Мария, отлично знает свое место: она не смеет «сама, пока он не велел, / Ни есть, ни пить, ни молвить мужу „здравствуй“» (I, 1). Итак, в первой сцене зрителю рисуют картину патриархального брака с властным мужем и послушной женой.
Однако теперь Петруччо ожидает неприятный сюрприз. Якобы податливая и кроткая невеста намерена отомстить за всех сломленных мужьями женщин и дает обет: подчинить супруга своей воле. Задавшись такой целью, она в брачную ночь изгоняет Петруччо из спальни и возводит самые настоящие баррикады. Мария вполне буквально воплощает расхожую метафору из любовной поэзии того времени: ее девственное тело становится осажденной крепостью, которая не сдается на милость врага. Переговариваясь с мужем через запертую дверь, она напоминает о его былой репутации: «Вас все страшатся. Вы известны всюду / Как укротитель жен, смиритель женщин. / А вот теперь вас женщина смирит / И развенчает» (I, 3). Даже Бьянка (глуповатая младшая сестра из шекспировской пьесы, похоже, прозрела) с восторженным пылом поддерживает Марию: «Да укрепит / Тебя воспоминанье об обидах, / Чинимых деспотичными мужьями / Не первое тысячелетье женам! / Ты встала за святое дело» (I, 2).
Остроумный и явно женолюбивый ответ Флетчера на «Укрощение строптивой» свидетельствует о внутренних противоречиях, заложенных в шекспировском тексте. С одной стороны, Петруччо и его приятели с ужасом вспоминают бешеный нрав Катарины: похоже, в этой трактовке ее покорность мужу оказалась притворной. С другой стороны, Мария и ее подруги убеждены, что Петруччо — закоренелый женоненавистник, которого нужно хорошенько проучить. Пожалуй, есть глубокий смысл в том, что мужчины во второй пьесе помнят безудержную ярость Катарины, тогда как женщины видят в ней жертву деспотичного мужа. Флетчер не предлагает однозначного прочтения шекспировского финала, и эта реакция современника позволяет заподозрить, что вопросы возникали не только у последующих поколений. Сомнения в «торжестве» Петруччо над Катариной, видимо, присутствовали у публики изначально. В трактовке Флетчера Петруччо одновременно и укротил свою строптивицу, и потерпел фиаско. Да и сам факт появления сиквела, пожалуй, свидетельствует о том, что текст «Укрощения строптивой» не совсем полон или не воспринимался современниками как завершенный: с самого начала он провоцирует и обостряет дискуссию об отношениях полов, но не предлагает компромиссов и вердиктов. Как мы увидим еще не раз, пьесы Шекспира гораздо чаще вопрошают, чем дают ответ.
Чтобы пополнить список противоречий, рассмотрим еще одну версию того же сюжета. Как уже отмечалось выше, шекспировский текст комедии был впервые опубликован в 1623 году. Однако существует и другой текст под названием «Укрощение одной строптивицы», анонимно изданный в 1594-м. Установить его связь с шекспировской пьесой очень сложно. Сюжетная линия обнаруживает значительное сходство: главную героиню зовут Кет; она известна злым языком и вздорным характером; ее венчают с неким Ферандо, чтобы ускорить замужество ее более мягких и уступчивых сестер. В общих чертах история разворачивается примерно так же, как и в знакомой нам версии Шекспира: для укрощения непокорную жену морят голодом и лишают сна. При этом два важных отличия заставляют нас внимательнее вчитаться в шекспировский текст. Прежде всего стоит обратить внимание на финальную речь героини. В «Строптивице» Кет (по поводу усеченного имени здесь не возникает никаких конфликтов) приводит совсем другие причины, по которым жены должны подчиняться власти мужей: дескать, женская ущербность и греховность прописаны еще в Библии. В книге Бытия сказано, что Господь сотворил женщину из Адамова ребра и ее грехи навлекли проклятие на весь род человеческий. Все это мракобесие изрядно приправлено ложной этимологией. Приставка wo- в английском слове woman («женщина») этимологически восходит к слову wife («жена»), которое пришло из древнегерманского языка. Однако женоненавистники Позднего Средневековья любили «шутя» возводить эту приставку к слову woe («горе, беда»). Получалось, что женщина — Евино отродье — создана на погибель мужчине и это якобы проявляется даже в наименовании.
Финальный монолог в «Строптивице», исполненный презрения и ненависти к женщине, заставляет по-новому взглянуть на доводы, которые Шекспир вкладывает в уста Катарины. Она утверждает, что у мужа есть определенные обязанности перед женой, поэтому жена также должна признавать долг перед мужем. Подобная риторика взаимных обязательств была очень близка протестантам XVI века и лежала в основе дебатов о браке как «содружестве». В рамках этой традиции брак хоть и не считался союзом равных, все же наделял обязанностями обе стороны и налагал ограничения на личную свободу каждого из супругов ради соблюдения общих интересов. Жена должна была исполнять долг перед мужем, а муж — перед женой. Покорность и преданность жены оплачивались неустанной заботой супруга о ее благоденствии. Катарина рисует именно такую картину брачного союза: «Муж — это господин твой, жизнь, защитник, / Глава и повелитель; о тебе / Печется он, трудам тяжелым тело / На суше и на море подвергая» (V, 2). Конечно, здесь напрашивается очередной вопрос: станет ли Петруччо подвергать тело тяжким трудам «на суше и на море», если он — по собственному признанию — стремится лишь к тому, чтобы «женитьбой приумножить блага» (I, 2)? Тем не менее вполне очевидно, что речь Катарины подразумевает совершенно иной взгляд на брак, чем финальный монолог в «Строптивице», где женщина объявлена неудачным довеском к мужчине и виновницей всех человеческих бедствий. В этой версии за монологом следует сценическое указание: «Она падает на колени перед мужем». Здесь недвусмысленно прописан смиренный жест, который не обозначен в пьесе Шекспира, допускающей разные сценические решения.
Кажется, что в «Строптивице» покорность Кет не вызывает сомнений, ведь ее образ вписан в старомодную картину семейного союза, на смену которой пришла более равновесная концепция протестантского брака-содружества, отображенная в монологе шекспировской Катарины. Возможно, так оно и есть, но и здесь следовало бы поставить знак вопроса. Богатый материал для сопоставления двух пьес дает и рамочное повествование. Пролог в пьесе Шекспира начинается с того, что хозяйка таверны выкидывает мертвецки пьяного Кристофера Слая на улицу, где он падает и засыпает. В таком виде его замечает компания охотников. Во главе с лордом они решают сыграть с медником шутку: забрать его с собой, отмыть и обрядить в богатые одежды, а затем притвориться, будто он богатый дворянин, которому из-за долгой болезни отшибло память. Слай либо попадается на удочку, либо сам решает подыграть шутникам, признавая пажа Бартоломью своей супругой и восклицая: «Ей-богу, я и в самом деле лорд» (Пролог, 2). Затем к новоявленному «лорду» являются бродячие актеры и разыгрывают представление, якобы полезное для его здоровья: комедию, «что, разогнав все скорби, жизнь продлит» (Пролог, 2). Эта пьеса в пьесе, чье действие происходит в итальянской Падуе, и есть рассказ о двух дочерях Баптисты. Вероятно, Слай и Бартоломью смотрят представление с начала до конца, однако Шекспир о них быстро забывает. Они обмениваются репликами после первой сцены (Слай называет пьесу «славной вещицей») и больше ни разу не появляются. Читая текст, мы обычно не обращаем на это внимания, но для постановки такая конструкция очень неудобна.
Многие современные режиссеры апеллируют к анонимной «Строптивице», поскольку в ней прописана развернутая роль Слая-комментатора и в особенности ради финала, где закрывается скобка, открытая в прологе. В этой версии пьяный медник возвращается на сцену в собственной одежде: его будит трактирщица. Сонный, ошалевший от выпивки Слай требует принести еще вина и спрашивает, куда же делись актеры и почему он больше не лорд. Затем он заявляет, что видел самый странный и волшебный сон в своей жизни. Трактирщица пожимает плечами и советует ему идти домой: мол, жена будет ругаться, если он проведет ночь в питейном заведении. На что медник храбро отвечает: «Ругаться? И что с того? Теперь я знаю, как положено укрощать строптивых бабенок! Пойду к жене! Я и ее укрощу, коли она меня разозлит». Таким образом, финал «Строптивицы» предполагает, что пьеса, которую «посмотрел» Слай, была наглядным практическим пособием по усмирению жен. В шекспировской версии есть похожий момент: отправив спать голодную Катарину, Петруччо в одиночку выходит на сцену и заявляет: «Умело начал я свое правленье», а затем обращается к публике со словами: «Кто укрощать строптивых лучше может, / Пусть, благодетель, способ свой изложит» (IV, 1).
Должны ли мы принять бахвальство Слая как серьезную оценку всей пьесы? Или же трактовка, вложенная в уста пьяного медника, заведомо нелепа и ошибочна? Кто такой Слай: представитель толпы или жалкий простофиля, совершенно не разбирающийся ни в театральном искусстве, ни в тонкостях семейной жизни? Как завершенная рамочная конструкция влияет на восприятие истории Кет и Ферандо? Надо ли считать пролог и эпилог своего рода кавычками, зна́ком чистой условности сюжета? И что мы должны думать о шекспировской версии, где Кристофер Слай исчезает из поля зрения после первой сцены и не появляется в финале? Сохраняются ли здесь метки условности или понемногу стираются к середине пьесы? Нужно ли вообще воспринимать этот сюжет всерьез?
На любой из заданных вопросов возможен лишь частичный или косвенный ответ. Гораздо важнее с самого начала подметить, как много вопросов порождает шекспировский текст и как мало готовых ответов дает. Загадка финала — укрощена все-таки Катарина или нет — заложена в самой пьесе, а не возникает потому, что мы, современные люди, не приемлем того представления о роли мужчин и женщин, которое бытовало в елизаветинскую эпоху. Исторический багаж здесь ни при чем. Современные Шекспиру версии и трактовки того же сюжета, например «Укрощение одной строптивицы» 1594 года или более поздняя пьеса Джона Флетчера, а также структура и неоднозначность текста свидетельствуют, что вопрос о торжестве героя над героиней был актуален всегда. Пьесы Шекспира не выходят из моды, поскольку с их помощью каждое новое поколение читателей и зрителей осмысляет собственные злободневные проблемы. Сценическая история «Укрощения строптивой» в ХХ веке показывает это со всей наглядностью. Сначала суфражистки, затем неоконсерваторы, а потом и феминистки второй волны по очереди брали пьесу на вооружение и находили в ней нечто созвучное своим взглядам. В XXI веке гендерный конфликт выглядит совсем иначе, чем в XVI столетии, однако вопросов возникает ничуть не меньше.
Глава 2. «Ричард III»
Первые строки трагедии «Ричард III» — едва ли не самые знаменитые во всей пьесе: «Зима тревоги нашей позади, / К нам с солнцем Йорка лето возвратилось»[6] (I, 1). Под хрестоматийным глянцем теперь уже сложно заметить, насколько они необычны для шекспировского текста. Ричард — единственный из главных героев Шекспира, чей монолог открывает посвященную ему пьесу. Возможно, вы по собственному театральному опыту знаете, как долго и медленно Шекспир обычно подступает к основному сюжету — извилистыми путями, с помощью проходных персонажей, которые обсуждают нечто свершившееся или грядущее — очень важное, но пока неведомое зрителю (начать шекспировскую пьесу не самая легкая задача). В «Ричарде III» мы видим иную картину. В первом издании текст начинался с ремарки: «Входит Ричард, герцог Глостер, solus», то есть один. Сценическое указание предельно понятно: главный герой не просто первым выходит на сцену, но сразу же обращается к публике — уникальный случай для Шекспира. Иными словами, Ричард немедленно вовлекает в действие зрительный зал (а значит, и нас с вами).
В первом издании пьеса «Ричард III» характеризовалась как «трагедия», однако история восхождения Ричарда на английский трон и его последующей гибели на поле боя больше похожа на современную кинобиографию известного преступника. Исторические детали здесь не так важны, как сам извечный сюжет о взлете и падении. Ричард III приходит к власти во многом благодаря жестокости и цинизму. Краткое изложение пьесы, адресованное покупателям первого издания, намеренно подчеркивает кровавые детали: «Повествует о коварном заговоре против брата его, герцога Кларенса, о страшной участи невинно убиенных племянников, обо всей презренной жизни тирана и узурпатора и о заслуженно постигшей его гибели». Описание завлекательное, однако не совсем верное: шекспировский Ричард чаще искушает и соблазняет, чем прибегает к насилию. И в списке поддавшихся его чарам — от леди Анны до Бекингема, от лорд-мэра до легковерного короля Эдуарда — под номером первым идет сам зритель, сразу же подцепленный на крючок доверительного, остроумного, хлесткого монолога. Ричард стратегически грамотно обнажает перед нами свои недостатки: заявляет, что его «облик не подходит к играм», что он «слепленный так грубо» и «сделанный небрежно, кое-как», а потому не годится на роль любовника. Тут же он с некоторой гордостью сознаётся, что «умен, и лжив, и вероломен» и разжег смертельную ненависть между своими старшими братьями — герцогом Кларенсом и королем. В этот момент на сцене появляется Кларенс, и Ричард призывает себя к осторожности, а нас, публику, — к молчанию: «Нырните, мысли, в глубь души»[7] (I, 1).
Его откровенность шокирует, но она же и подкупает. Несмотря на то (а может, именно благодаря тому) что мы нисколько не сомневаемся в его корысти и себялюбии, Ричард немедленно привлекает нас в союзники. Доверительная близость со зрителем будет поддерживаться на протяжении всей пьесы с помощью саркастических комментариев и ремарок, смысл которых ясен только публике. Ричард не дает нам возможности проникнуться искренней симпатией к другим персонажам. Кажется, к нему благоволит даже само название пьесы, ведь Ричард, герцог Глостерский, становится королем Ричардом III лишь в четвертом акте, однако с самого начала текст не позволяет нам усомниться, что он получит корону. Даже ритм его первого монолога отображает властную силу, с которой он будет повелевать действием на сцене. В школе изучение Шекспира начинают с сообщения о том, что он писал пятистопным ямбом. Не знаю, насколько полезна эта информация. Ну да, шекспировский стих обычно звучит так: парам-парам-парам-парам-парам. Кажется, что тут может быть интересного? Однако ритм и размер у Шекспира становятся очень интересными, когда в них появляется сбой — намеренное отклонение от нормы. Знаменитая первая строка Now is the winter of our discontent («Зима тревоги нашей позади») начинается с очевидной аномалии. Ударение падает на первый слог — now, а не на второй, как требует классический пятистопный ямб[8]. Ричард везде наводит свой порядок, он сразу показывает нам, кто тут главный.
Пьеса «Ричард III» завершает драматический цикл о Войне Алой и Белой розы[9]; ей предшествует хроника царствования Генриха VI — короля, чье мертвое тело начинает кровоточить, когда убийца Ричард приходит соблазнить вдову его сына, леди Анну. Мы еще вернемся к вопросу о месте «Ричарда III» в ряду шекспировских хроник, а пока давайте отметим, как центральная роль Ричарда на подмостках отображает радикальные перемены в области политики и сценического искусства. В трилогии о Генрихе VI нет ни главного героя, ни основной линии сюжета — есть сумбурная борьба за власть и бесконечный конфликт интересов. Чтобы показать разброд и шатание той эпохи, драматург выводит на сцену множество персонажей (в постановках были задействованы почти все слуги лорда-камергера, то есть актеры труппы, сформированной в 1594 году восемью пайщиками, включая Шекспира). При этом ни один персонаж не получает ведущей роли и не возвышается над остальными. А вот Ричард III незамедлительно проявляет бульдожью хватку: он вцепляется и в зрителя, и в роль и не отпускает до самого конца. Авторитарная драматургия пьесы предельно точно передает стальную политическую волю героя.
Ричарду отведена ведущая роль. Ему принадлежит едва ли не треть всех строк — почти столько же, сколько Шекспир отдал Гамлету. Две трети эпизодов происходят с его участием; в общей сложности он находится на сцене не менее двух часов. Эта пьеса считается первой, которую Шекспир написал с расчетом на участие Ричарда Бербеджа — ведущего актера и пайщика слуг лорда-камергера. По крайней мере, в «Ричарде III» Бербедж впервые вышел на сцену в главной, звездной роли. В дальнейшем их творческий союз подарил миру Отелло, Лира, Макбета и Просперо. Здесь, в начале пути, необыкновенно удачно совместилось обаяние двух Ричардов: актера и героя. Ричард (король) и сам великолепный актер, причем настолько, что даже нельзя понять, есть ли истинное лицо под его бесконечными масками. Все свои роли он играет абсолютно сознательно и с удовольствием: реплики, обращенные к верному Бекингему при встрече с лорд-мэром и горожанами, когда Ричард выходит к народу в образе благочестивого отшельника, не оставляют ни малейшего сомнения в его любви к лицедейству. (В чем-то он полная противоположность ненавистнику театра Кориолану, о котором мы поговорим в главе 18.) Долгая история постановок «Ричарда III» — от Колли Сиббера до Дэвида Гаррика, от Лоуренса Оливье до Энтони Шера — показывает, что в этой роли практически невозможно переиграть: нарочитая театральность, позерство, показной надрыв и болезненное самолюбование лежат в основе образа. Тонкость не входит в арсенал Ричарда: его стиль — сплошная гипербола, сознательный перебор, почти маниакальный размах.
В Ричарде много отталкивающего, тем не менее (а может, именно потому) он притягивает, обольщает, соблазняет и других персонажей, и публику. Кажется, сама популярность пьесы свидетельствует о скрытом зрительском мазохизме. Устоять под его напором невозможно, что мы и видим на примере леди Анны. Ей, имеющей все основания ненавидеть герцога Глостерского — ведь он, по собственному признанию, «заколол» ее мужа и свекра, — отведена роль скептического зрителя, который должен решить: встать ли на сторону Ричарда или выступить против него. В итоге мы, конечно же, продаем душу дьяволу. Вместе с леди Анной мы поддаемся чарам и выбираем Ричарда. Своими речами он задним числом берет Анну в сообщницы, внушает, что она отчасти повинна в его преступлениях: «Я Генриха убил. / Но виновата в том твоя краса»; «Я заколол Эдуарда. / Но твой небесный лик тому виной» (I, 2). И вот мы уже так прочно опутаны его сетями, что поневоле усмехаемся циничному вердикту: «Она моя — хоть скоро мне наскучит» (I, 2). Публика смотрит на Ричарда как совращенная женщина — со смесью брезгливости и болезненного влечения. Пожалуй, неудивительно, что один из немногих исторических анекдотов о Шекспире, дошедших до наших дней, косвенно свидетельствует о популярности Бербеджа в роли Ричарда III. В дневнике студента одной из лондонских юридических школ Джона Мэннингема за 1602 год есть такая запись: «Одной горожанке Бербедж так приглянулся в роли Ричарда III, что после спектакля она попросила его прийти к ней той же ночью под именем этого короля. Шекспир, подслушав этот разговор, пришел раньше, и ему был оказан самый теплый прием. Когда же слуга принес весть о том, что у дверей дожидается Ричард III, Шекспир повелел передать ему: „Вильгельм[10] Завоеватель опередил Ричарда III“»[11]. Из этой забавной истории видно, какой мощный сексуальный отклик шекспировский Ричард вызывал у публики. Словно леди Анна, мы (мужчины и женщины) испытываем нездоровую, мучительную тягу к блистательному и беспощадному лицедею.
Однако обаяние Ричарда во многом осложняет Шекспиру драматургическую задачу. В главе, посвященной первой части «Генриха IV», мы поговорим о Фальстафе — тучном, проказливом антигерое, лишенном моральных устоев. Юный принц Гарри выступает в роли блудного сына: чтобы возвыситься и стать достойным наследником трона, он должен отринуть пагубное влияние Фальстафа и отдалить от себя прежнего собутыльника. Казалось бы, с этической точки зрения все предельно ясно, вот только публика обожает Фальстафа и готова до бесконечности наблюдать за похождениями старого плута. Мораль пьесы и удовольствие зрителя разошлись по разным полюсам. К тому времени, когда Шекспир взялся за «Генриха IV», у него уже был опыт подобной дилеммы благодаря «Ричарду III», ведь завершает историю Ричарда совсем не триумфальное восхождение на трон, к которому он так стремился. Нет, в конце пьесы Шекспир должен был показать гибель Ричарда в битве с графом Ричмондом, более известным публике под именем Генриха VII, основателя династии Тюдоров и деда королевы Елизаветы I.
Следовательно, граф Ричмонд играет важнейшую историческую роль. Он — злой гений Ричарда III, та сила, что вырывает у него английскую корону. Но Ричмонд символизирует и конец Войны роз — долгой и кровавой междоусобицы, вызванной свержением короля Ричарда II и омрачившей вторую половину XV столетия[12]. Ричмонд появляется на сцене лишь в последнем акте. Накануне решающей битвы короля Ричарда проклинают призраки его жертв, которые затем отправляются к Ричмонду и благословляют его на бой. Ричмонд женится на дочери покойного Эдуарда IV, Елизавете Йоркской, — племяннице Ричарда. В битве при Босуорте Ричард терпит сокрушительное поражение и гибнет; коронованный Ричмонд объявляет: «…мы конец положим / Войне меж Белой розою и Алой» — то есть между домами Йорков и Ланкастеров — и обещает Британии «чреду счастливых, безмятежных дней» (V, 5).
В середине ХХ века литературоведы были единодушны: с их точки зрения, в образе Ричмонда Шекспир показал избавление Англии от династической и политической смуты, которую изображал в предыдущих пьесах. Для того периода характерна трактовка Ю. М. У. Тильярда, полагавшего, что хроники несут в себе значительный элемент пропаганды и написаны с целью укрепить власть Елизаветы, доказать историческую легитимность правления Тюдоров. Победа Ричмонда при Босуорте в финале «Ричарда III» знаменует собой восхождение новой династии, а Тюдоры показаны как освободители, низвергшие тирана и узурпатора: «Издох кровавый пес» (V, 5), — заявляет Ричмонд в последней сцене. Под влиянием Тильярда в академических и театральных кругах надолго прижилась гипотеза, согласно которой «тюдоровский миф» у Шекспира достигает своего апогея с появлением Ричмонда: его победа символизирует божественное правосудие и воздаяние. По словам Тильярда, за чередой узурпаторов, сменявшихся на английском троне после свержения Ричарда II, за долгим периодом насилия и хаоса, посланным народу в наказание за политическое и этическое отступничество, приходит Ричмонд и восстанавливает расшатанное здание королевской власти под благословенной сенью Тюдоров. Тильярд пишет, что в этой пьесе Шекспир «выразил общую веру в то, что при Тюдорах сам Бог привел Англию в гавань мира и процветания».
Должна констатировать, что Шекспир не слишком убедительно смотрится в роли придворного лизоблюда, да и в подобной трактовке елизаветинской политики вообще и «Ричарда III» в частности можно найти немало спорных моментов. Не стоит забывать, что Тильярд писал в 1944 году, когда измученным войной британцам очень важно было прочесть у классика пророчество о грядущем избавлении от ужасов и страданий. Мы часто вкладываем в тексты Шекспира тот смысл, который нужен нам самим (наверное, именно поэтому в более спокойные времена легче разобраться в запутанной и кровавой подоплеке его исторических пьес). Кроме того, воцарение Тюдоров отнюдь не положило конец династическим проблемам: чего сто́ят хотя бы шесть жен Генриха VIII и его отчаянные попытки обзавестись наследником! А уж в 1590-х годах, когда даже самые оптимистичные и смелые политики перестали надеяться, что королева Елизавета на седьмом десятке выйдет замуж и родит ребенка, очень странно было бы изображать правление Тюдоров как единственную и притом сакральную альтернативу гражданской войне. Когда Шекспир начал карьеру драматурга, время Тюдоров — хоть об этом и не рекомендовалось говорить вслух — как династии подходило к концу: она исчерпала все свои ресурсы и осталась без наследников.
Когда современные литературоведы задумываются о роли шекспировских хроник в политических дебатах его эпохи, нередко звучит предположение, что в них отобразились тайные страхи елизаветинцев по поводу престолонаследия. Сторонники этой гипотезы отмечают, что в исторических пьесах Шекспир снова и снова с разных точек зрения показывает упадок монархии, переход власти из рук в руки. Следовательно, их нужно расценивать как летопись смутных времен, а не как памятник триумфаторам. Само обращение к истории в культуре второй половины XVI века можно рассматривать как знак тревоги и растерянности: взгляд назад вместо шага вперед. На исходе елизаветинской эпохи политическое будущее выглядело весьма туманно, поэтому многие предпочитали извлекать уроки из прошлого. И наконец, размытый образ Ричмонда в пьесе допускает множественные трактовки. В 2007 году художественный директор Королевской шекспировской компании Майкл Бойд предложил прочтение с весьма острым и напряженным финалом: Ричмонд произносит свою благочестиво-напыщенную речь, а его солдаты, обряженные в современную форму и бронежилеты, смотрят на зрителя сквозь прицелы автоматов. Что несет с собой Ричмонд — мир или военную диктатуру? История знает много тиранов, которые поначалу казались освободителями. Чем предстает его победа у Шекспира — триумфальной и закономерной развязкой драматического конфликта или очередной притчей о смене власти?
Итак, можно ли назвать Ричмонда истинным героем пьесы? Давайте перефразируем вопрос. Представьте, что вы актер высокого полета и отправляетесь на пробы к новой постановке «Ричарда III». Какую роль вам хотелось бы получить? Вот именно. С моей точки зрения, драматург осознанно и целенаправленно отводит Ричмонду весьма скромную роль — и по объему, и по значению. Мы знаем, что в хрониках Шекспир не отступал от фактов, хоть и позволял себе некоторые вольности, чтобы придать эстетичную форму рыхлому событийному материалу. Победители и побежденные, короли и претенденты на трон играют в его пьесах ту же роль, что сыграли в истории, даже если некоторые события опущены, сжаты или показаны в неверном хронологическом порядке. Генрих, граф Ричмонд, выиграл битву при Босуорте 22 августа 1485 года, убил короля Ричарда III и захватил английский престол. Шекспир признаёт этот исторический факт, но словно бы нехотя, скупо, даже не пытаясь придать Ричмонду яркие черты, изобразить его достойным противником Ричарда, расположить к нему зрителя или подтвердить законность его притязаний на трон. Ричмонд появляется лишь в финале пьесы и проводит на сцене не более пятнадцати минут. Для зрителя он просто не существует до четвертого акта, когда впервые упоминается его имя. Когда же наконец мы встречаемся с ним во второй сцене пятого акта, Ричмонд предстает технически необходимым, но эстетически неинтересным глашатаем, произносящим надгробное слово и объявляющим представление оконченным. Он должен появиться, но его фигура как будто не до конца принадлежит миру театра. Когда умолкает яркий, харизматичный, притягательный Ричард, спектакль уже не может продолжаться. Шекспир ясно дает понять: эта пьеса о Ричарде, а не о Ричмонде.
Итак, структура сюжета с начала и до конца направляет зрительские симпатии в одну и ту же точку. Ричмонд призван выступить в образе победителя, однако его роль ближе к тому, что в классическом театре называлось deus ex machina («бог из машины») — персонаж, который неожиданно появляется в самом конце и по мановению руки решает проблемы главных героев. Изначально термин употреблялся в негативном ключе: так, Гораций предостерегал драматургов против этого ходульного, неубедительного приема (все мы знаем его современную версию — «а потом я проснулся, и оказалось, что это был просто сон»). В хронике Шекспира кажется, что развязка нарочно сделана плоской и механистичной: она подчеркивает, что Ричарда — с его животным магнетизмом, яростной волей к власти и кипучей энергией — может победить лишь неумолимая, безликая сила истории, а не отдельно взятый соперник из плоти и крови. Ричмонд ему не ровня. Чтобы свалить этот колосс, нужно откровенное вмешательство свыше, из той самой громоздкой «машины». В экранизации Ричарда Лонкрейна (1995) действие шекспировской пьесы перенесено в профашистскую Британию 1930-х годов. Его Ричард (Иэн Маккеллен) отказывается капитулировать в финале и бросается с огромной высоты прямо в ревущее пламя битвы под бодрую песню Эла Джонсона I’m Sitting on Top of the World. Разительный контраст между изображением и звуковым фоном передает торжество несгибаемой воли Ричарда над его заурядными противниками. Единственное и довольно сомнительное достижение Ричмонда — в том, что он остается живым в конце шекспировской трагедии. Эта честь обычно выпадает на долю проходных персонажей (герцог в «Ромео и Джульетте», Фортинбрас в «Гамлете», Малькольм в «Макбете» — кому они нужны?).
Краткое появление Ричмонда нарушает исторический телос — от греческого telos, то есть «намерение, завершение, цель»; от того же корня происходит слово «телеология», обозначающее движение к этой цели. Место «Ричарда III» среди исторических пьес Шекспира схожим образом усложняет телос жанра. Шекспир писал хроники примерно так же, как Джордж Лукас снимал «Звездные войны»: все сюжетные линии двигались к одному моменту, за которым наступал «конец истории». Для Лукаса это момент, когда взрослый Люк Скайуокер стал джедаем и уничтожил Империю; для Шекспира — победа Ричмонда на поле битвы при Босуорте. Итак, развязка «Ричарда III» доводит исторический сюжет до точки, после которой продолжение невозможно. «О милосердный боже, притупи / Предательский клинок, который мог бы / Вернуть былое, чтобы вновь отчизна / Кровавыми слезами облилась», — молится набожный Ричмонд и обещает принести Англии «блаженный мир, беспечное довольство, / Чреду счастливых, безмятежных дней» (V, 5). Цель, конечно, весьма благая, но лишенная драматического потенциала. Кто пойдет на спектакль про «чреду счастливых, безмятежных дней»? А сюжеты из эпохи Тюдоров — материал взрывоопасный; лишь гораздо позже, в относительно стабильные и благополучные времена короля Иакова I Стюарта, Шекспир выступил соавтором пьесы «Генрих VIII». В итоге драматург избрал тот же путь, что и Джордж Лукас: развил проверенные, полюбившиеся зрителю темы, обратившись к более ранним частям истории. Вместо движения вперед мы получаем движение вспять; дойдя до конца, снова и снова возвращаемся к началу. Следующие пьесы — о Ричарде II и Генрихе IV — переносят нас дальше в прошлое и опять погружают в мир насилия, вражды и политической смуты. Гибель Ричарда III станет финалом, лишь если расставить пьесы в хронологическом порядке; но для елизаветинской публики, которая смотрела их по мере создания, победа Ричмонда была промежуточной, временной — почти как победа Ланкастеров при Шрусбери в первой части «Генриха IV» или недолговечный триумф английского оружия при Азенкуре в «Генрихе V». Она венчала лишь один эпизод, один вечер, проведенный в театре, но не всю историю. В следующий раз зрителя вновь ожидала кровавая сумятица и яростная битва за корону.
В ХХ столетии многие театры стали показывать шекспировские хроники полным циклом, чтобы зритель мог проследить исторический сюжет от самого раннего царствия — Ричарда II — до самого позднего — Ричарда III. При этом нет оснований полагать, что в шекспировские времена эти пьесы воспринимались как части единого целого или показывались в хронологическом порядке; вероятно, каждая из них считалась отдельной и самодостаточной. Традиция читать их как большую серию возникла благодаря тому порядку, в котором они размещены в первом собрании сочинений Шекспира. Сборник, который мы теперь называем Первым фолио, был составлен уже после смерти Шекспира, в 1623 году. Следовательно, мы не можем с уверенностью приписать ему организацию материала. Пьесы поделены на комедии, трагедии и хроники. В первых двух категориях нет никакого видимого порядка, однако исторический раздел тщательно выстроен; некоторые пьесы даже переименованы, чтобы подчеркнуть хронологический принцип. Они представлены как эпический цикл, а не набор отдельных произведений — «первый бокс-сет», как выразился театральный режиссер Тревор Нанн. Именно в Первом фолио «Ричард III» занимает финальную позицию; такой расстановкой исторических пьес и навеяно телеологическое прочтение Ю. М. У. Тильярда. Неудивительно, что в Фолио опущен список преступлений Ричарда, которым открывалось отдельное издание пьесы. Вместо него мы видим менее пространное заглавие: «Трагедия о короле Ричарде III; изображает высадку графа Ричмонда и сражение при Босуорте». Таким образом, появление Ричмонда назначается кульминационным моментом не только отдельно взятой пьесы, но и сквозного исторического сюжета с отчетливой моральной подоплекой: преступление — кровавая расплата — возвращение законной власти.
Повторюсь, единство сюжета и морали в хрониках — позднейшее изобретение, неведомое современникам Шекспира. Нельзя даже с уверенностью утверждать, есть ли такое единство в «Ричарде III». Безусловно, развязка пьесы предопределена историей, однако неизбежный конец откладывается до последнего. Отчасти в силу личного превосходства Ричарда над прочими персонажами, отчасти за счет ностальгических мотивов сюжет противится поступательному телеологическому развитию. Особенно наглядно этот сбой линейности проступает в женских образах пьесы.
В «Ричарде III» Шекспир отводит женщинам почетное место, хотя в позднейших хрониках героинь очень мало. Здесь мы встречаем мать Ричарда, герцогиню Йоркскую; королеву Елизавету — жену Эдуарда IV; леди Анну и даже королеву Маргариту, вдову Генриха VI. Появление Маргариты — намеренный анахронизм: в действительности она провела несколько лет в заточении после смерти супруга, а затем была выслана во Францию, где и скончалась. Шекспир воскрешает ее как символ прошлого, в первую очередь прошлого его собственных пьес о Генрихе VI, где она сыграла столь заметную роль. Образ Маргариты становится одним из тех структурных элементов, которые тянут сюжет вспять, прочь от телеологического разрешения в лице Ричмонда, напоминая Ричарду о жертвах его властолюбия. Женщины выходят на сцену, чтобы оплакать мертвых, и все их речи полны горьких воспоминаний. В первом акте Маргарита перечисляет Ричарду (и нам) его кровавые деяния: «Нет, сатана! Я все отлично помню: / Тобой убит мой муж, король наш Генрих, / Тобой убит мой бедный сын Эдуард». Ричард отвечает в том же тоне: «А вы в то время… / Злокозненно к Ланкастерам примкнули. <…> Я вам напомню, если вы забыли, / Кем прежде были вы и кем вы стали, / А также — кем был я и кем я стал» (I, 3). Борьба между Ричардом и хором скорбящих женщин — это отчасти и борьба за историческое прошлое, за право рассказать о нем от своего лица.
Таким образом, показательный диалог Ричарда и Маргариты обретает метатеатральное качество и представляет всю пьесу как версию истории, причем далеко не единственную и не бесспорную. Историки эпохи Тюдоров, начиная с Томаса Мора, писавшего в период правления сына Ричмонда Генриха VIII, усердно демонизировали Ричарда III — и шекспировский Ричард с готовностью подхватывает их трактовку: I am determined to become a villain («Надлежит мне сделаться злодеем») — заявляет он в первом монологе. Эту фразу можно истолковать двояко: слово determined («надлежит, суждено») обозначает и личное намерение, и волю провидения. Вопрос о том, сам ли Ричард вершит свою судьбу или же она предначертана свыше, рефреном проходит через весь текст пьесы. С ним связан и другой постоянный вопрос — о внешности героя. В первых строках Ричард не раз упоминает о своем уродстве: «Я, у кого ни роста, ни осанки, / Кому взамен мошенница природа / Всучила хромоту и кривобокость», «чей облик не подходит к играм, / К умильному гляденью в зеркала»; «Я сделанный небрежно, кое-как <…> / Что лают псы, когда я прохожу» (I, 1). Характер и степень его увечий заново определяются в каждой постановке, как и соотношение между внешним видом и внутренней сутью. Он уродлив, потому что порочен — или порочен, потому что уродлив?
Итак, в пьесе роль историков берут на себя женщины, свидетельствуя о прошлом и оплакивая его, как, например, при встрече Маргариты и Елизаветы в четвертом акте:
- Мой сын Эдуард! — Он Ричардом убит.
- Супруг мой Генрих! — Ричардом убит.
- Эдуард твой юный — Ричардом убит.
- Твой юный Ричард — Ричардом убит.
Женские причитания во многом враждебны телеологическому движению вперед. Прежде всего, они почти ничего не дают для развития сюжета — напротив, скорее, тормозят ход действия. В предыдущем эпизоде Ричард получает известие о наступлении Ричмонда; когда он снова выходит на сцену, из его уст раздается краткий деловой вопрос: «Кто преградить посмел нам с войском путь?» (IV, 4) Эта картина женского горя не имеет исторических источников, Шекспир намеренно добавляет ее «от себя». Как видно из вышеприведенного фрагмента, в риторике сцены преобладают повтор, цикличность, ретроспекция вместо линейного стремления к финалу. Даже в тот момент, когда сюжет вплотную приблизился к развязке, нас будто бы подхватывает обратным течением и тащит назад, из будущего в прошлое. У Шекспира история всегда противоречива, а движение вперед уравновешено движением вспять. Ричмонд победил, но кто его помнит?
Общество Ричарда III, «основанное в 1924 году с целью объективного изучения жизни и эпохи этого правителя», неоднократно пыталось оспорить шекспировский образ Ричарда. Однако точность портрета — дело второстепенное; намного важнее тот факт, что его яркость и обаяние подчас затмевают историческую правду. По воле драматурга зритель тянется к Ричарду и отдаляется от Ричмонда; как и самому́ Шекспиру, нам ничуть не интересно, что будет дальше. Ричард — а не исторический победитель — начинает и заканчивает пьесу.
Глава 3. «Комедия ошибок»
В конце XVIII столетия английский критик Джордж Стивенс писал о «Комедии ошибок»: «В этой пьесе мы находим скорее хитросплетение интриги, чем глубину характеров». Отзыв явно нелестный. Многогранные, сложные персонажи стали неотъемлемой частью того, что мы ценим в Шекспире, но такой подход к анализу нередко преуменьшает роль сюжета или в лучшем случае видит в нем только техническое средство для раскрытия образа. В комедии о двух парах близнецов и об их приключениях в древнем портовом городе Эфесе (территория современной Турции) сюжет, при всей относительной простоте, кажется важнее внутреннего мира героев. Разделенные в младенчестве, близнецы оказываются в одном городе, но не подозревают об этом. Проще говоря, когда на сцену выходит один из братьев, его всякий раз принимают за другого. В результате письма не доставляют по адресу, за покупки не платят, а жены путают мужей. На сцене и среди публики царит веселье или, цитируя отзыв о премьере пьесы в Грейс-Инн на Рождество 1594 года, «полная сумятица и неразбериха, отчего представление и назвали „Ночью ошибок“». В силу того что «Комедия ошибок» известна как одна из ранних пьес Шекспира, ее принято относить к ученическому, подражательному периоду в его творчестве. По утверждению критиков, автору еще только предстояло вырасти в того поэта, который подарил нам «Короля Лира».
В словах о незрелости пьесы есть доля истины. Прежде всего, ее первоисточник — комедия древнеримского драматурга Плавта «Два Менехма» (ок. 200 года до н. э.) — входил в обязательную программу чтения для школ елизаветинской эпохи. Именно поэтому «Комедия ошибок», как и другие ранние тексты Шекспира, например «Тит Андроник», многим обязана его юношескому кругу чтения и годам учебы. «Незрелые поэты подражают, зрелые присваивают», — писал поэт и драматург Т. С. Элиот; юный Шекспир предпочел удвоить заимствованное. В пьесе Плавта была лишь одна пара близнецов — эквивалент шекспировских Антифолов. Но в «Комедии ошибок» появляется вторая пара: слуги-близнецы Дромио. По шекспировским меркам пьеса очень коротка: у нее нет никаких побочных сюжетов, а основная линия быстро выходит к предсказуемой развязке, где близнецов расставляют по местам. В отличие от поздних комедий Шекспира, ее крайне сложно рассматривать в качестве инструмента обновления общества или «предохранительного клапана», позволяющего выпустить пар накопившейся будничной усталости. Здесь не обыгрываются темы гендерных ролей и сексуальности, как в популярных сюжетах с переодеванием женщин в мужское платье. Здесь нет интересных социологу маргиналов, внутригендерных сообществ, знаковых культурных деталей или ярких историко-социальных параллелей, хотя отношения между господами и слугами дают кое-какой материал для изучения быта и нравов шекспировской Англии. Словом, «Комедию ошибок» часто анализируют с точки зрения, чего в ней не хватает, или же выискивают зачатки тем и приемов, которые получат дальнейшее развитие в зрелом творчестве: повторное появление близнецов в «Двенадцатой ночи», единство времени в «Буре» (где сценическое время полностью совпадает с сюжетным) и т. п.
Однако до «Комедии ошибок» Шекспир успел написать около шести пьес, а также весьма популярную эротическую поэму «Венера и Адонис» и более мрачную «Лукрецию». На тот момент он был уже далеко не новичком в литературном цехе. Его следующую пьесу — «Ричард II» — никак не упрекнешь в незрелости, и не потому, что она написана позже, а потому, что дышит подлинным мастерством. Дебаты о взаимосвязи между хронологией творчества и художественной ценностью произведений нередко идут по кругу: «раннее» объявляется синонимом слабого и неглубокого, а недостаток эстетической глубины (иногда мнимый) считается признаком того, что текст создан в начале творческого пути. (В главе, посвященной пьесе «Буря», мы разберем сходные доводы с противоположным знаком: об эстетическом превосходстве «позднего творчества».)
По моему мнению, «Комедию ошибок» систематически недооценивают отчасти потому, что мы не умеем отдавать должное сюжету. Современная культура, позиция многих шекспироведов, театральная традиция и свойственный человеку нарциссизм внушают убеждение, что характер формирует судьбу. «Комедия ошибок» ниспровергает это гуманистическое представление о мире и словно бы предугадывает механистический опыт отчуждения, присущий эпохе модерна. Вспомните Чарли Чаплина у конвейера в фильме «Новые времена» (1936): вот вам нечто подобное комическому ужасу, который запечатлен в шекспировском тексте.
Но прежде чем говорить о почти индустриальном опыте разобщенности и отчуждения, нужно обратиться к проблеме персонажей. С моей точки зрения, не стоит утверждать, что Шекспиру в этой пьесе не удалось создать ярких, интересных образов (хоть я и не прочь иногда подловить его на слабостях и недочетах). Скорее, глубина характера не имела здесь принципиального значения. Схематичность образов может быть вполне осознанной, преднамеренной. Нам показан мир, где человек находится во власти высших сил, и роль этих сил мироздания берет на себя сюжет. Появление близнецов с самого начала опрокидывает наши представления о персональной идентичности и ее границах: близнецы одновременно отдельны и неотделимы друг от друга. Визуальный опыт встречи с ними заставляет усомниться в личной уникальности, в том числе нашей собственной. Два Антифола и два Дромио разделены ситуативно, но не в личностном плане: они выполняют разные функции в сюжете, но психологически их роли взаимозаменимы.
Эпизоды, когда нам кажется, что персонаж вот-вот обнаружит уникальные черты, обыкновенно кончаются ничем. Возьмем Антифола Сиракузского во второй сцене первого акта. Он только что прибыл в Эфес в поисках давно пропавшего брата и произносит короткий монолог. Казалось бы, монолог — очень интимная форма сценической речи: нам открывается внутренний мир героя, мы напрямую узнаём о его чувствах и переживаниях. Однако метафоры Антифола Сиракузского скорее разрушают, чем создают идентичность героя:
- …Я в этом мире то же,
- Что капля водяная, в океан
- Упавшая, чтобы другую каплю
- В нем отыскать, и в поисках таких
- Незримо пропадающая[13].
Образ капли воды в океане едва ли свидетельствует о четком самоопределении. Антифол не просто неотличим от брата-близнеца, на чем и строится сюжет комедии; речь идет о более глубоком, экзистенциальном переживании. Он неотличим и от всех остальных: не только от ближайшего родственника, на которого так похож, но и вообще от безликой людской массы. Наличие брата-двойника лишь подчеркивает его непримечательность, невыделенность из толпы. Индивидуальные черты совершенно стираются, что отражает и сложный, рваный синтаксис последних строк монолога:
- …Так же
- И я теперь, отыскивая мать
- И брата, сам в тех поисках, несчастный,
- Теряюсь.
В этих строках заключена фраза «Я сам теряюсь»; однако даже такое признание потери словно бы стирается и растворяется в тексте, разбавленное зависимыми оборотами. Наедине Антифол чувствует себя потерянным; нечто подобное мог бы сказать Эстрагон из пьесы Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо». Словно бы подтверждая, что краткий монолог Антифола передает скорее общность, чем индивидуальность, Шекспир вкладывает подобную риторику и в уста другого персонажа. Когда Адриана встречает, как ей кажется, своего мужа (который на самом деле не муж, что, с одной стороны, придает комическую окраску речам об их нерушимом союзе, а с другой — трагически воплощает метафору размытия индивидуальности), она использует похожие образы, напоминая о таинстве брака:
- Знай, что скорей ты каплю водяную
- Уронишь в глубь морскую и потом —
- Без примеси, без всяких изменений
- В величине — оттуда вынешь вновь,
- Чем от меня отторгнешься и вместе
- Не увлечешь меня с собою!
Брачный союз в такой трактовке предполагает полное растворение друг в друге, то есть опять же утрату индивидуальности, отказ от личных границ.
Идентичность в «Комедии ошибок» представляется не внутренним, а внешним свойством субъекта. Она складывается из наружных признаков и черт. В частности, идентичность подтверждается признанием окружающих: человек становится личностью, только когда включен в систему социальных отношений. Единственное отличительное свойство близнецов — происхождение: один из них Эфесский, а второй — Сиракузский, причем два города находятся в состоянии раздора и вражды. Однако в тот момент, когда мы знакомимся с Антифолом Сиракузским, он как раз находится в Эфесе, то есть фактически лишен идентичности. Давая обоим близнецам в каждой паре одинаковые имена (хотя Эгеон почему-то утверждает, что в детстве мальчиков все же звали по-разному), Шекспир словно говорит: имя собственное утратило свое предназначение. Оно подчеркнуто не выполняет свою задачу: отличать одного человека от другого. Имя как маркер личной идентичности перестает работать и в сюжете, и в ремарках. Читать «Комедию ошибок» в Первом фолио практически невозможно — в первую очередь потому, что разделение Антифолов и Дромио на Сиракузских и Эфесских, которое позволяет современному читателю хоть как-то сориентироваться в перипетиях сюжета, здесь отсутствует. Намеренно или нет, но опыт чтения пьесы в первоиздании отображал комический хаос, царивший на сцене.
Идентичность, понятая как внешнее качество, неразрывно связана с собственностью, имуществом. Неудивительно, что в «Комедии ошибок» реквизит обыгрывается активнее, чем в любой другой пьесе Шекспира. В разных сценах, где безнадежно перепутаны обе пары близнецов, фигурируют золотая цепь, веревка и кошель с деньгами. Эти предметы так или иначе подразумевают связь и взаимодействие, но они же символизируют личную идентичность. Когда ювелир видит на шее у Антифола свою золотую цепь, он немедленно признает в нем того, кто получил украшение, но не расплатился по счету; идентичность (ошибочно) устанавливается через вещь, а не по личным чертам и свойствам. Вообще в «Комедии ошибок» путаница чаще связана с реквизитом, чем с самими героями. Тот факт, что Дромио ничего не знает о деньгах, которые ему выдали, позволяет наконец распознать его — отличить от человека, которому деньги давали. Таким образом, индивидуальность в пьесе выражается через внешние признаки, а не внутренние качества. Уникальный, психологически сложный субъект здесь как будто и не нужен. Важно другое: воссоединить семью и вернуть каждому ее члену подобающее место в обществе. Сюжет движется к этой цели словно тонкий, безупречно отлаженный механизм. Как личности персонажи не имеют значения; роль каждого из них определяется взаимодействием со всеми остальными.
Здесь можно усмотреть постоянный мотив шекспировских комедий, где персонаж обретает себя благодаря социальным, экономическим и семейным узам, а сюжет стремится к всеобщему примирению и ликованию (словно в саге об Астериксе, где каждый эпизод заканчивается грандиозным пиром), тогда как в трагедиях герой обречен на одиночество и смерть. Однако, на мой взгляд, возможен и другой подход — скорее, в русле психоанализа. Применив его, мы обнаружим в «Комедии ошибок» нечто характерное для многих произведений Шекспира: тему внутреннего конфликта, раздробления одной личности на несколько граней-персонажей. В средневековой драме подобный прием назывался психомахия (буквально: «душевная борьба»). В пьесах жанра моралите персонажами часто становились не люди, а аллегорические фигуры — символы человеческих страстей, пороков и добродетелей. Так, в моралите XV века под названием «Всякий человек» (Everyman) изображалась подготовка души к праведной кончине. На сцене поочередно появлялись Добрые Дела, Мудрость, Красота, Родня и Скромность. Действо разыгрывалось не между героями, а между различными силами, которые владеют субъектом; все, показанное на сцене, происходило в человеческом сознании. Шекспира обыкновенно превозносят как драматурга, порвавшего со средневековой традицией в пользу более современного психологизма — раскрытия образов через внутренний мир героя. Однако «Комедию ошибок», возможно, стоит рассматривать как светскую форму психомахии. Тогда два Антифола и два Дромио, скорее, не пары персонажей, а образы одного разделенного «я», которое ищет не второго близнеца, а самое себя. В последующих комедиях Шекспира поиск себя предстает как поиск любви: «я» обретает полноту и завершенность при встрече с возлюбленным/возлюбленной. Но в «Комедии ошибок» солипсизм проступает более откровенно. Герои потеряли не братьев, а себя, о чем и заявляет Антифол Сиракузский. Ему нужны не столько мать и брат, сколько ощущение собственной полноценности.
В современных постановках роль обоих близнецов нередко отдают одному актеру, особенно в сценах с Дромио. Например, в экранизации Би-би-си 1983 года обоих Антифолов сыграл Майкл Китчен, а обоих Дромио — Роджер Долтри. Парадоксальным образом такое решение добавляет сюжету правдоподобия — разумеется, все путают персонажей, они же буквально на одно лицо! — и одновременно создает эффект пугающего отрыва от реальности. Чувство раздвоения обыгрывается и в более поздних пьесах Шекспира; как мы узна́ем из главы, посвященной «Сну в летнюю ночь», земных правителей Тезея и Ипполиту нередко делают двойниками волшебных Оберона и Титании. В пьесе, где так важна тема бодрствования и сна, подобная визуальная параллель наводит на мысль, что сказочный лес — это идеальное пространство подсознания. Здесь не просто разыгрывается театральное действо, но прорываются тайные наклонности и сбываются запретные фантазии афинян. Похожий мотив можно найти и в «Комедии ошибок». Антифол Сиракузский получает возможность безнаказанно вести разгульную жизнь. Очутившись в незнакомом городе, он встречает весьма радушную куртизанку, попадает в спальню к чужой жене, пользуется дорогими товарами, но не платит ни гроша. А кто бы отказался? Эфес для него — волшебный мир, где действия не влекут за собой никаких последствий: прелюбодеяние без кары и угрызений совести, золотая цепь без счета от ювелира. Как правило, сюжет заставляет одного брата пострадать за то, что натворил другой: Дромио достаются побои, а злосчастному второму Антифолу — выволочка от разъяренного партнера[14]. Расплата или совсем не наступает, или ложится на чужие плечи. Близнец словно бы нужен для того, чтобы один из героев мог исполнить тайные желания или дать волю подсознательным импульсам, сбросить оковы морали. Оказавшись в роли другого — пусть даже и поневоле, — персонажи получают возможность примерить на себя новый образ и новую жизнь.
Однако под конец сюжет недвусмысленно дает понять: такая свобода может быть только временной. Персонажей как будто затягивает в навязчивый, полный повторов сон, где идентичность размывается и рушится под грузом внешних обстоятельств. «Да где ж я? На земле, в аду, в раю? — вопрошает Антифол Сиракузский, когда незнакомая женщина называет его мужем. — Я сплю иль бодрствую? В уме иль помешался?»; «Уж не женился ли я как-нибудь во сне?» (II, 2) Адриана почти силком втаскивает супруга/деверя в дом и запирает дверь, велев слугам гнать любых посетителей. Когда возвращается настоящий муж, ему преграждают путь и сообщают, что он уже давно дома, ужинает в компании супруги. Перед нами аллегория самоотчуждения: идентичность зависит исключительно от мнения окружающих. Сцена весьма забавна, однако смех здесь отчасти призван снять драматическое напряжение. Обоим Антифолам приходится несладко: исполнение желаний, как и отстранение от желаемого, дорого обходится психике. И тревожное напряжение все растет, как подсказывает ремарка из Первого фолио: ближе к концу четвертого акта за кулисы «уходят все, так быстро, как только возможно, в испуге». Таким образом, ход действия ускоряется, как бешеный конвейер Чаплина в «Новых временах»; сюжет подхватывает напуганных, беспомощных героев и неумолимо тащит к неведомой развязке. Сам язык пьесы как будто намекает на вмешательство потусторонних сил: упоминаний о ведьмах здесь больше, чем в «Макбете», о колдовстве и чарах говорится чаще, чем в «Сне в летнюю ночь», а стольких отсылок к дьяволу нет ни в каком другом тексте Шекспира. Здесь либо предпринимается попытка найти сверхъестественную причину земным событиям (о причинно-следственных связях у Шекспира мы еще поговорим в главе о «Макбете»), либо ведется поиск ответа на вопрос: кто управляет сюжетом? В «Комедии ошибок» судьбу вершит сюжет, а не характер.
Сценическое указание «Уходят все, быстро…, в испуге» продиктовано развитием сюжета, который настиг ничего не понимающих Антифола и Дромио Сиракузских. Убегая от недовольных жителей Эфеса, они оказываются у местной игуменьи. Женщины (отвергнутая жена Адриана, безымянная куртизанка, которая принимает у себя Антифола Эфесского, когда его выгоняют из собственного дома, и игуменья Эмилия) выступают ключом к мужской идентичности. Женские персонажи в пьесе не могут позволить себе той же роскоши сомнения и самовопрошания, что мужчины; женское тело становится объектом мужского самоподтверждения. Не надо быть Фрейдом, чтобы заметить: в итоге все сюжетные узлы распутывает целомудренная монахиня — она же мать близнецов. Эмилия словно бы назначается гарантом идентичности и обещает: муж и сыновья, которых она не видела со дня рокового кораблекрушения, «будут награждены вполне» (V, 1).
Очевидный перекос в сторону сюжета роднит эту пьесу с весьма специфическим смеховым жанром — фарсом. Поэт-романтик и критик Сэмюэл Кольридж охарактеризовал «Комедию ошибок» как фарс, где герои попадают в «странные и смешные ситуации. Сюжету необязательно быть правдоподобным, достаточно, если он будет хотя бы возможным». Позднее, относя «Комедию» к жанру фарса, критики отмечали характерную организацию пространства в пьесе (двери, пороги, борьба за доступ в помещение — от спальни Адрианы до священной обители) или типичную динамику сцен: драматург Джон Мортимер писал, что фарс — это «трагедия, запущенная на тысячи оборотов в минуту». В «Комедии ошибок» стремительно мелькают и сменяются экзистенциальные ландшафты, которые будут подробно выписаны в позднейших трагедиях. В интервью газете The New York Times английский драматург Майкл Фрейн, автор известного современного фарса «Шум за сценой» (1982), говорит о своей пьесе словами, вполне применимыми к комедии Шекспира: «Главная тема — это подспудный страх, который испытывает любой из нас. Мы боимся опозориться, свалять дурака на публике, боимся, что с нас свалится личина важности и серьезности, что эмоции вырвутся наружу, что весь наш образ разрушится. Зритель наблюдает за личной катастрофой, которой панически боится сам, но только все это происходит на безопасном расстоянии — с актерами, а не с ним самим. Можно пережить и выплеснуть страх и тревогу, нисколько при этом не пострадав».
Причисляя «Комедию ошибок» к жанру фарса, можно отчасти разрешить вопрос о том, как относиться к главенству сюжета над персонажем. Однако перед нами тут же встает другой вопрос — о роли смеха в комедии. Может показаться, что комедия и смех — близнецы, рожденные в один и тот же миг; но на заре Нового времени бытовали иные представления. Поэт и придворный Филип Сидни призывал отличать «удовольствие» — приятный опыт созерцания комедии, в котором «заключается всегдашняя или сиюминутная радость», от «пренебрежительного смеха». Смех для Сидни — вульгарный, низменный отклик на то, «что не сообразно с нами или Природой». Его рассуждения доходчиво проясняют разницу между взглядами шекспировской эпохи и нашей собственной: «…мы получаем удовольствие, глядя на прекрасную женщину, однако мы и не помышляем смеяться. А смеемся мы над существами безобразными, которые, конечно же, не могут доставить нам удовольствие»[15]. Мысль о том, что смех может быть признаком отчуждения, а не отождествления, кажется странной и непривычной; однако она, вероятно, справедлива для «Комедии ошибок». Здесь стоило бы вспомнить о трудах философа, который намного ближе нам по времени и духу, — французского теоретика Анри Бергсона, чья книга «Смех» была впервые опубликована в 1900 году. Бергсон утверждал, что комизм неизменно проистекает из ситуации, в которой человеческое тело становится подобно механизму, автомату. По его словам, комическое «представляет живого человека картонным плясуном» и возникает, когда живое существо поневоле обретает черты машины. Смех рождается не из душевного тепла, а из столкновения с чем-то неестественным, застывшим: «Мы смеемся всякий раз, когда личность производит на нас впечатление вещи»[16].
В «Комедии ошибок» герои как раз подобны вещам: определяются по внешним признакам и с помощью реквизита; по мере развития сюжета их поступки всё больше напоминают отчаянную, дерганую пляску марионеток. И зрительский отклик — точь-в-точь по Бергсону — совершенно лишен сентиментальности. Комическое требует дистанции, холодности или, как выразился Бергсон, «кратковременной анестезии сердца». Иными словами, персонажи «Комедии ошибок» отчуждены не только от самих себя и друг от друга, но и от зрителя. Поставив сюжет над персонажем, Шекспир не дает нам проникнуться симпатией или состраданием и практически не предлагает яркого образа в узнаваемых обстоятельствах. Вместо этого «Комедия ошибок» обеспечивает бергсоновскую «анестезию сердца» — необходимое условие смеха. Иными словами, «Комедия ошибок» — образец чистейшего комизма в самом строгом смысле слова, ведь нам совершенно все равно, что будет с Антифолами или Дромио, да и не так уж важно, какой именно близнец сейчас на сцене. «Сердечный наркоз» держится в течение пяти актов.
Глава 4. «Ричард II»
«Ричард II» — пьеса о низложении одного монарха и воцарении другого. Изображение столь крупного и драматичного события примечательно тем, что мы так и не получаем ответа, на чьей стороне правда. Имел ли Болингброк право — моральное, политическое, личное, историческое — отнять власть у своего кузена Ричарда? Этот вопрос вплетается в словесную ткань пьесы, рефреном звучит в истории прочтений и постановок, и последующие хроники Шекспира принимают его на себя, словно тяжкое наследие. Кто такой Ричард — невинно убиенный король-мученик или бездарный, безответственный, никчемный правитель? Что олицетворяет собой Болингброк — силу, правоту, неумолимую поступь истории? Какой вывод нужно сделать из того, что пьеса, написанная на исходе долгого царствования Елизаветы, столь неоднозначно показывает свержение законного государя и осмеливается вопрошать, кто из претендентов на английский трон больше годится в короли?
«Ричард II» — яркий пример шекспировского интереса к политике при упорном нежелании принимать чью-либо сторону. Парадоксальным образом именно в силу строгого нейтралитета Шекспира так часто записывают в свой лагерь приверженцы самых разных идеологических течений (см. об этом в главе, посвященной «Юлию Цезарю»). Читая «Ричарда II», невозможно определить, какой точки зрения придерживался сам автор. С одной стороны, Ричард — законный король, но он оторван от реальности, эгоистичен и проявляет задатки тирана. С другой стороны, Болингброк — узурпатор, однако он прагматичен, наделен большим обаянием и пользуется популярностью.
Что должен был думать о пьесе современный Шекспиру зритель? Официальная елизаветинская мораль учила, что мятеж — страшный грех. Люцифер объявлялся «родоначальником всех смутьянов», а земные монархи — «помазанниками божьими». Таким образом, даже восстание против дурного правителя расценивалось как святотатство: «Бунтовщик хуже наихудшего из государей, а смута и безвластие хуже самой растленной власти»[17]. Можно предположить, что симпатии законопослушных современников Шекспира были на стороне Ричарда (хотя всегда стоит помнить, что как раз те самые идеи, которые громче всего скандирует некое сообщество, вероятно, вызывают сопротивление у многих его членов — иначе зачем так настойчиво их повторять?). При этом Болингброк выписан отнюдь не в черных тонах. В финале пьесы он получает корону, однако мы не видим проявлений божьего гнева. Создается впечатление, что цареубийство может остаться безнаказанным. Последующие хроники развенчивают эту иллюзию, но здесь, в отдельно взятой пьесе, воздаяние не настигает узурпатора. Не думаю, что Шекспир писал ради того, чтобы передать некое сообщение, идейный посыл. Напротив, в этой книге я хочу показать, как он ставит вопросы, вместо того чтобы предлагать ответы. Когда-то давно в Голливуде говаривали: «Хочешь передать сообщение — иди на телеграф». В театре раннего Нового времени придерживались аналогичных принципов. Тем не менее, посмотрев «Ричарда II» в театре «Куртина», зритель имел некоторые основания думать, что можно свергнуть с престола и убить законного государя, при этом выйдя сухим из воды.
Шекспир не скрывает и не преувеличивает недостатки Ричарда, и эта очевидная беспристрастность предполагает, что ни один из двух претендентов на трон не идеализирован. У Ричарда есть фавориты, которые, по словам Болингброка, «сосут все соки из народа»[18] (II, 3). Однако Буши, Бегот и Грин в пьесе Шекспира не так злокозненны и всемогущи, как в других версиях той же истории. Хронист Рафаэль Холиншед[19] — один из главных источников Шекспира — описывал падение Ричарда как результат его недостатков как правителя: «он был подвержен дурному влиянию и использовал неподходящие средства из-за своей юношеской взбалмошности и наглого злоупотребления властью». Казалось бы, какой богатый материал для сценического образа, однако Шекспир от него почему-то отказывается. Единственный пример произвола, который чинит Ричард, — это конфискация земель и казны Джона Гонта. И хотя в этой сцене король действует с откровенным и даже великолепным цинизмом: «Спешим к нему! — говорит он, услыхав о болезни Гонта. — Но, с помощью господней, / Надеюсь, слишком поздно мы придем!» (I, 4) — решение все же принимается не для того, чтобы оплатить дорогой монарший каприз, а ради снаряжения войск на борьбу с ирландскими мятежниками. Лондонцы елизаветинской эпохи прекрасно понимали и необходимость, и дороговизну подобной кампании, ведь и в 1590-е годы, когда была написана пьеса, в Ирландии по-прежнему шла война. В последнем акте шекспировский Ричард в стенах темницы произносит монолог, вызывающий невольное зрительское сочувствие. Стремясь придать монарху человеческое лицо, Шекспир отводит заметную роль его супруге, королеве Изабелле, практически забытой хронистами. Голоса простого народа, его жалобы на произвол властей в пьесе не слышны: здесь даже садовник изъясняется белым стихом и рассуждает о сложных политических материях.
Образ Ричарда как слабого правителя у Шекспира, очевидно, вдохновлен исторической пьесой его гениального современника Кристофера Марло «Эдуард II». Но если Марло изображает любовную связь между Эдуардом и его советником Гавестоном, то у Шекспира гомосексуальные отношения при дворе Ричарда остаются в тени и, кажется, не входят в список провинностей короля (хотя в современных постановках, например в телецикле Би-би-си «Пустая корона» (2012) с Беном Уишоу в роли Ричарда, эта тема порой выдвигается на первый план). Примечательна пылкая «оппозиционная» риторика Джона Гонта: его патриотическая тирада об Англии — священной земле, взрастившей великих венценосцев, немедленно стала хрестоматийной и входила в популярные сборники цитат начиная с 1600 года. Брошенный Гонтом упрек в том, что Ричард не правит страной, а сдает ее в аренду, «словно жалкое поместье» (II, 1), не оспаривается в пьесе, а высокомерное поведение его племянника-короля скорее подтверждает, чем опровергает обвинение. Однако позже, когда епископ Карлейльский отстаивает священное право королей на царствие, с его доводами опять же никто не спорит (его просто бросают в Тауэр). Выступления Гонта и епископа — одно против Ричарда, другое за него — не получают да и не могут получить ответа: пьеса предъявляет нам различные точки зрения, но не выносит окончательного вердикта. Не исключено, что здесь мы слышим отзвук гуманистического образования, полученного Шекспиром: школьников учили вести дискуссию in utramque partem (лат. «от лица обеих сторон»). На уроках риторики мальчики узнавали, как важно приводить взвешенные, убедительные аргументы в поддержку любого мнения. В образе Омерля, сперва горячо преданного Ричарду, но под конец перешедшего на сторону противника, словно олицетворен диспут, развернутый в пьесе. Под конец все персонажи — вплоть до Берберийца, любимого коня Ричарда, — признают неопровержимую мощь притязаний Болингброка.
Впервые пьеса была опубликована под названием «Трагедия короля Ричарда Второго», и многочисленные ранние издания (доказывающие ее популярность у современников) озаглавлены точно так же. Что изменится в нашей оценке Болингброка и драматического веса его действий, если читать этот текст как трагедию? Тогда уже сам Ричард будет оспаривать у него роль — если не морального светоча, то хотя бы центральной фигуры на сцене. Как и в случае короля Лира, Кориолана, Макбета или Ромео и Джульетты, смерть Ричарда заканчивает представление. Именно так решил выкроить исторический материал Шекспир: очевидно, ход событий на этом не замер, поскольку история, в отличие от трагедии, концовки не имеет. Как мы убедились, обсуждая Ричмонда в «Ричарде III», в заключительной сцене трагедии будущему отводится весьма скромное место. Когда в финале «Гамлета» на сцену выходит Фортинбрас или когда Эдгар (а может быть, герцог Альбанский[20]) пытается высказать нечто нравоучительное в конце «Короля Лира», мы прекрасно знаем: они просто тянут время. Свет в мире трагедии уже погас, и дальнейшее нас не волнует — да и есть ли оно вообще, это «потом»? Однако «Ричард II» обладает важным отличием от остальных трагедий: связью с бесконечным историческим процессом. История продолжается. Смерть одного монарха неизбежно означает коронацию другого: король умер — да здравствует новый король! Когда завершается царствование Ричарда, мы впервые слышим о «беспутном сыне» Болингброка — том самом, который затмит своего отца в «Генрихе IV» и «Генрихе V». Здесь же упоминание о нем подчеркивает, что у династии Ланкастеров есть будущее. Часть мифа о священной природе королевской власти — та, которую знаменитый медиевист Эрнст Канторович назвал «два тела короля»: одно физическое и бренное, второе символическое и вечное, — заключается в том, что смерть монарха не означает конец монархии. В этой схеме мироздания смерть одного конкретного правителя (например, Ричарда) фактически лишена трагизма: она необходима и неизбежна для возобновления монаршей роли. Наследственная монархия, как и сама история, фактически противоположна трагедии: она не может поставить индивида выше роли, которую он играет. Когда пьесу поместили среди прочих хроник Шекспира в Первом фолио 1623 года, ей изменили название: «Жизнь и смерть Ричарда II». Ход истории не оставляет места отдельно взятой трагедии.
Но попробуйте доказать это Ричарду, который определенно считает себя трагическим героем! Описывая происходящее со своей точки зрения, «король-поэт», как его иногда называли более благосклонные критики, прибегает к весьма ярким, эмоционально насыщенным образам и сравнениям. В частности, он уподобляет себя Христу, своего соперника — Иуде, а придворных — апостолам, которые молча наблюдали за предательством:
- Как будто люди эти мне служили,
- Кричали мне: «Да здравствует король!»
- Вот так лобзал Иуда. Но Христос
- Одним лишь из двенадцати был предан;
- Меня же предали двенадцать тысяч.
- И не остался верен ни один.
Метафоры в таких пассажах ясно показывают: сам Ричард считает поступки Болингброка греховным нарушением божественного порядка. Но, как сказала Мэнди Рис-Дэвис (хоть и по другому поводу), «а что ему еще остается?»[21]. Ричард изрекает клишированные жалобы и сетования, предпочитая говорить, а не сражаться. В третьем акте пьесы, получив известия о решительном натиске Болингброка и пленении своих союзников, он буквально упивается жалостью к себе и призывает свиту: «Давайте сядем наземь и припомним / Предания о смерти королей» (III, 2). Ричард, застрявший в жанре трагедии, — фигура пассивная, тогда как Болингброк твердо намерен вершить историю и потому активен. Ричард пытается вписать себя в трагедию через топос мученичества, и Шекспир отчасти ему помогает, вкладывая в его уста монолог трагического героя, где раскрываются его душевные метания: «В одном лице я здесь играю многих, / Но все они судьбою недовольны» (V, 5). Болингброк, напротив, монологов не произносит: его внутренний мир скрыт от нас, как и мотивы его поступков. Мы не знаем, например, в какой момент справедливое желание вернуть себе законное наследство превращается для него в борьбу за трон. Его роль — сплошное упражнение в недосказанности. На длинные оправдания Ричарда он отвечает краткими, прагматичными ремарками. Показательна сцена отречения, когда Ричард неохотно передает ему символы власти: королю отводится девять строк, за которыми следует лаконичный ответ Болингброка: «Но сами вы отречься пожелали» (IV, 1); следующая реплика Ричарда занимает три строки, а от Болингброка слышится лишь «Согласны ль вы отречься от короны?»; затем Ричард произносит речи длиной в двадцать четыре, шестнадцать, десять и шестнадцать строк, почти без участия других персонажей. В этой сцене он теряет власть над королевством, но ни на секунду не теряет власти над зрителем. Даже после того как Ричарда уводят за кулисы, в темницу, образ Болингброка остается размытым и схематичным. В финальной речи, где он берет на себя ответственность за смерть Ричарда и дает обет «смыть кровь» паломничеством на Святую землю, можно расслышать потрясение, ужас, раскаяние, удовлетворение или холодный прагматизм; неудивительно, что она по-разному звучит в каждой постановке.
Некоторые литературоведы полагают, что в основе пьесы лежит антитеза, противопоставление двух начал и двух героев. Ричард противопоставлен Болингброку, лирика — реализму, метафора — прямоте, государь-феодал — прагматичному руководителю, божественное право — реальной политике, рыцарский турнир — политическому убийству, средневековый мир абсолютной монархии — современному миру наживы и оппортунизма. Благодаря таким антитезам дворцовый переворот в пьесе символизирует исторический водораздел. Многие постановки — например, версия Майкла Богданова (1986), где Ричард являлся перед публикой в кричащих, щегольских одеждах эпохи Регентства, а Болингброк — в глухом темном сюртуке викторианского покроя, или экранизация Руперта Гулда (2012), где Ричард одет в шитую золотом тунику, а его оппонент закован в доспехи, — подчеркивают, что речь идет о столкновении двух миров и мировоззрений, а не о перетасовке наследников Эдуарда III[22]. (Ричард был сыном старшего сына Эдуарда; Болингброк — сыном его четвертого сына.) Однако в этих двух фигурах больше сходства, чем различия. Знаменитая постановка Джона Бартона из Королевской шекспировской компании 1973 года открывалась пантомимой, где актер, играющий роль Шекспира, короновал по жребию либо Ричарда Паско, либо Иена Ричардсона, назначая одного из них Ричардом, а второго, соответственно, Болингброком. С тех пор этот прием подхватили многие режиссеры: проводить жеребьевку и всякий раз заново решать, кто будет Франкенштейном, а кто чудовищем; кто Марией Стюарт, а кто Елизаветой I, кто Фаустом, а кто Мефистофелем. При постановке «Ричарда II» такое решение подчеркивает: между антагонистами больше общего, чем различного, а исход битвы зависит от воли случая (в действительности требования кассовых сборов нередко перебивают законы вероятности, ведь при непредсказуемом результате игры одни и те же букмекеры ставят на обоих игроков). Образ, который использует сам Ричард, — королевский венец «как колодец», а двое претендентов на трон «как два ведра, / Что связаны друг с другом общей цепью: / Одно из них пустое, вверх стремится, / Другое тонет, полное водой» (IV, 1), — предполагает нерушимое единство противников. Да и слова «брат» и «кузен» здесь употребляются чаще, чем в любой другой шекспировской пьесе, за исключением комедии «Много шума из ничего», в которой большинство персонажей связаны кровными узами. Постановка Деборы Уорнер (1995) с Фионой Шоу в роли Ричарда и Дэвидом Трелфоллом — почти что ее близнецом Болингброком подчеркивала их семейную близость и личное горе, вызванное политическими распрями.
Поведение Болингброка в роли короля поневоле наводит на мысль, что он лишь очередной отпрыск все того же семейного древа, а не правитель радикально новой формации. Стоит обратить внимание на его речь. Подобно «Ромео и Джульетте» и «Сну в летнюю ночь», написанным примерно в тот же период, «Ричард II» изобилует концевыми рифмами. (Мы часто называем шекспировский стих белым, то есть нерифмованным, но, как и многие школьные аксиомы, эта не всегда соответствует действительности.) В начале пьесы рифмовка устойчиво ассоциируется с самовластием Ричарда и недовольством окружающих его дворян:
- Так жил я, так умру. О мой король,
- За честь мою сразиться мне позволь!
- Кузен, подай пример: верни перчатку.
- О! Сохрани господь! Чтоб нашу схватку
- Я отменил на радость наглецу?
Тема этой сцены — назревающий раскол в рядах придворных; однако подспудное напряжение замаскировано размеренной, чинной рифмовкой, которая создает иллюзию гармонии, единства. Если вам трудно разобраться, что, собственно, происходит в первой сцене «Ричарда II», значит, вы все правильно поняли. Сцена повествует об умолчании, а не об откровенности. В воздухе зависает подозрение, которое по понятным причинам нельзя высказать вслух: возможно, сам король причастен к смерти герцога Глостерского. (Мотив темного, неведомого прошлого — один из самых важных в пьесе.) Рифма здесь служит своего рода предохранителем — она должна удержать взрывоопасную ситуацию в строгих формальных рамках. В сущности, рифмованный стих — это словесная форма, в которой воплощается королевская власть Ричарда. И напротив, Болингброк обыкновенно изъясняется белым стихом, однако вместе с короной к нему словно бы переходит и рифмованный слог, тяготеющий к двустишиям, особенно в финальном монологе. Здесь можно расслышать нечто наигранное, притворное: нотки фальши, которые иногда чудятся современному уху в рифмованных строчках; ощущение, что искреннее самовыражение подменяется ритмичной трескотней. То, что Болингброк сокрушается о гибели Ричарда в столь отточенной и строгой поэтической форме, придает его словам разом и зловещее, и фальшивое звучание:
- О горе! Неужели, боже правый,
- Чтоб вырос я, был нужен дождь кровавый?
- Пусть все разделят скорбь мою сейчас;
- Облечься в траур призываю вас.
- Сей тяжкий грех я на себя приемлю,
- Смыть кровь отправлюсь я в святую землю.
Когда новый король в пьесе начинает выражаться точно так же, как и прежний, здесь видится уже не беспристрастность Шекспира, а нечто более мрачное: невозможность подлинных политических перемен. По выражению автора новаторской книги «Шекспир — наш современник» польского режиссера Яна Котта, «история у Шекспира словно не движется — каждый из периодов начинается и заканчивается на одном и том же месте»[23].
Пантомима с жеребьевкой в постановке Джона Бартона 1973 года также выводила на первый план темы политического театра и театральной политики в пьесе Шекспира. Образ короля как актера — поэтический троп, неоднократно встречающийся в шекспировских хрониках и той культуре, что их породила. Известная фраза самой Елизаветы I «Воистину мы, государи, пребываем на сцене, вечно на виду у всего мира» красноречиво свидетельствует о зрелищности, характерной для монархии раннего Нового времени — эпохи, когда наука, искусство и политика равно черпали метафоры из театрального лексикона. Однако в речи Йорка, описывающей въезд Болингброка в Лондон в сопровождении свергнутого Ричарда, этот образ обретает неожиданную трактовку:
- Когда любимый публикой актер,
- Окончив роль, подмостки покидает,
- На сцене ж появляется другой,
- То на него все смотрят без вниманья,
- Зевают, слушая его слова.
- Так Ричард встречен был пренебреженьем…
Разница между старым и новым королями (а еще важнее между законным государем и узурпатором) оказывается не в том, что один из них подлинный, а второй — притворщик, один — оригинал, а второй — копия, как можно было бы ожидать от подобной аналогии. Нет, они отличаются друг от друга так же, как хороший, «любимый публикой» актер отличается от посредственного и неинтересного, который вслед за ним выходит на сцену. Оба короля уподоблены актерам, оба всего лишь играют роль; следовательно, по логике сравнения, ни один из них не может быть признан «настоящим», истинным монархом. Болингброк в таком случае просто более талантливый и убедительный лицедей.
Логика театра, где зритель предпочитает более яркого актера и освистывает менее «зажигательного», оказывается весьма коварной в применении к политике и королевской власти. В сущности, она подменяет право эстетикой: неважно, кто законный король, важно, кто лучше исполняет роль монарха, кому больше к лицу корона. Сам вопрос о том, можно ли оправдать свержение государя, — политически острый и провокационный. Беспристрастная позиция Шекспира делает пьесу крайне смелым политическим высказыванием — это жест, неразрывно связанный со злобой дня. Повествование о правлении Ричарда II обретало новое звучание в контексте елизаветинской эпохи.
Исторические пьесы были едва ли не самым популярным жанром английской драмы 1590-х годов. Они позволяли выразить тревогу о будущем страны и династии в яркой иносказательной форме. Словом, это были в большей степени пьесы о политической и культурной ситуации конца XVI века, чем изображенного периода. В драмах Шекспира и его современников снова и снова возникали образы слабых или поверженных королей, мятежных дворян, интриганов-советников; темы раскола, междуцарствия, гражданской войны. Невозможно назвать хотя бы одну историческую драму, которая показывала бы долгое и относительно мирное правление сильного монарха. Елизавета I под страхом смертной казни запретила обсуждать вопрос о ее преемниках, но пьесы и другие произведения на историческую тему позволяли косвенно, между строк говорить о том, что может случиться в конце ее долгого правления. К середине 1590-х годов королева-девственница разменяла седьмой десяток. Подданные шепотом гадали, кто же сменит ее на троне.
«Ричард II» играет особую роль в этом политическом сюжете. Во-первых, история публикаций наводит на мысль о том, что пьеса подвергалась цензуре. Пресловутая сцена, где Ричард на глазах у парламента передает Болингброку корону, державу и скипетр, отсутствует во всех изданиях, опубликованных при жизни Елизаветы. Многие шекспироведы усматривают здесь цензурные соображения: показывать низложение законного государя — да еще в виде псевдоправовой процедуры с участием парламента — вероятно, было чересчур смело для того периода. (В то же время пьеса вызывает больше сострадания к Ричарду именно благодаря этой сцене, ведь в ней король произносит такие трогательные речи и совершенно затмевает своего прозаичного соперника.)
Во-вторых, нам известно, что сценическое противостояние Ричарда и Болингброка напоминало современникам Шекспира о судьбе самого выдающегося и печально известного дворянина елизаветинской эпохи — Роберта Деверё, второго графа Эссекса, королевского фаворита и военачальника, не раз сражавшегося на стороне протестантов в религиозных войнах. После неудачного похода против ирландских повстанцев в 1599 году (упомянутого Шекспиром в «Генрихе V») Эссекс впал в немилость. С помощью горстки сторонников граф попытался силой вернуть себе положение при дворе и в феврале 1601 года поднял мятеж. Вскоре Эссекс был арестован и казнен за измену короне. Косвенным образом к его восстанию оказался причастен и шекспировский «Ричард II». Некий автор исторического трактата об этом периоде[24] посвятил свою работу Эссексу, в котором видел второго Болингброка, за что был брошен в Тауэр. Сторонники Эссекса заплатили труппе слуг лорда-камергера, куда входил Шекспир, и в канун неудачного мятежа заказали представление «Ричарда II». Вероятно, таким образом заговорщики хотели привлечь симпатии публики к опальному графу.
Когда восстание Эссекса было подавлено, слугам лорда-камергера пришлось объясняться перед королевским Тайным советом. Представитель труппы Огастин Филлипс утверждал, что актеры просто приняли заказ на старую пьесу из своего репертуара. И поскольку месяц спустя труппа снова выступала при дворе, ее участие в деле Эссекса — да и сама «крамольная» пьеса — очевидно, не вызвали особой тревоги у властей. Однако мысль о том, что драматическое произведение может быть использовано как инструмент политического воздействия (даже заранее обреченного на провал), будоражит умы современных историков театра. Уже знакомый нам Ю. М. У. Тильярд видел в хрониках Шекспира довольно-таки консервативный сюжет о преступлении, расплате, наказании, а затем возвращении законности (см. главу о «Ричарде III»). Мятежные сторонники графа Эссекса, напротив, усмотрели в «Ричарде II» радикальный вызов политической ортодоксии. Поклонников подобного бунтарского прочтения восхищает то, что действия узурпатора Болингброка в пьесе будто бы представлены с благожелательной точки зрения. Однако, по моим ощущениям, Шекспир допускает все эти толкования, не подписываясь ни под одним из них. Строгая, намеренная беспристрастность пьесы позволяет читателям, критикам, актерам и режиссерам найти в ней подтверждение собственной идеологической платформы; каждый из нас наделяет шекспировский текст тем смыслом, который хочет в него вложить.
Глава 5. «Ромео и Джульетта»
Несколько пьес Шекспира открываются прологом. Хор во вступлении к «Троилу и Крессиде» объявляет: «Пред вами Троя»[25], а за крепкими стенами Елена почивает в объятиях Париса. Пролог ко второй части «Генриха IV» спрашивает нас: видели ли вы первую часть и помните ли, чем она кончилась? Потерпите немножко, мы попытаемся показать эпическую битву в тесном пространстве сцены — уговаривает зачин к «Генриху V». Добро пожаловать в старый добрый мир легенд и сказаний — приветствует зрителя вступление к «Периклу». И только в «Ромео и Джульетте» пролог почему-то сразу пересказывает краткое содержание всей пьесы, включая смерть героев. В силу невероятно глубокого проникновения этого сюжета в ткань нашей культуры любой читатель хотя бы косвенно наслышан о пьесе, когда открывает первую страницу. Но даже если бы мы ровно ничего о ней не знали или перенеслись в 1595 год, когда зрители впервые увидели ее на сцене[26], к концу пролога мы бы уже понимали, чем кончится дело. «Верона», «две семьи», «раздор кровавый», «гибель четы влюбленной — часа на два займут, быть может, вас»[27] и т. д. и т. п. Две минуты сценического времени — и пьесу можно не смотреть.
Пожалуй, только в «Ромео и Джульетте» Шекспир с самого начала так недвусмысленно дает зрителю понять, что будет происходить на сцене:
- В двух семьях, равных знатностью и славой,
- В Вероне пышной разгорелся вновь
- Вражды минувших дней раздор кровавый,
- Заставил литься мирных граждан кровь.
- Из чресл враждебных, под звездой злосчастной,
- Любовников чета произошла.
- По совершенье их судьбы ужасной
- Вражда отцов с их смертью умерла.
- Весь ход любви их, смерти обреченной,
- И ярый гнев их близких, что угас
- Лишь после гибели четы влюбленной, —
- Часа на два займут, быть может, вас.
- Коль подарите нас своим вниманьем,
- Изъяны все загладим мы стараньем.
Выражаясь языком интернет-рецензий: «Осторожно, спойлер!». Или, в духе академической теории, перед нами развернутый пролепсис, то есть забегание вперед, флешфорвард. Таким образом, пьеса изначально носит выраженный телеологический характер: сюжет неотвратимо движется к заранее известной развязке. Для зрителя Ромео и Джульетта умирают прежде, чем появляются на сцене. Они — воплощение собственной скорбной участи. Хор повествует об их судьбе в жесткой форме сонета: четырнадцать строк, предсказуемая схема рифмовки, неотвратимое движение вперед, к заключительному двустишию. Язык пролога отображает идею рока, фатума: любовники рождены «из чресл враждебных, под звездой злосчастной», то есть их судьба заранее определена небесными силами и собственным наследием. «Весь ход любви их» обречен смерти еще прежде, чем они встречаются на балу у Капулетти. Следовательно, каждое слово и каждый образ в прологе передают ощущение неумолимо надвигающейся катастрофы. В сущности, она уже произошла; это мы теперь движемся к ней, зная, что изменить ничего нельзя. Режиссер Баз Лурман в знаменитом фильме 1996 года «Ромео + Джульетта» нашел необыкновенно удачное решение: пролог представлен как выпуск новостей. Сухая криминальная сводка, зачитанная ровным, хорошо поставленным, официально-скорбным дикторским голосом, прекрасно укладывается в строгую, парадную, даже педантичную форму сонета. У Шекспира ритмическая структура стиха несет ту же смысловую нагрузку: подчеркивает неизбежность развязки и тщетность любых попыток ее предотвратить. Перекрестная рифмовка усиливает эффект: как только ритм установлен, нам остается лишь дожидаться очередного созвучия. Если в конце строки встречается положительно или хотя бы нейтрально окрашенное слово, оно в большинстве случаев рифмуется с чем-то отрицательным: событья — кровопролитье, вновь — кровь, произошла — умерла. И формальная структура, и мрачный словарь помогают прологу выполнить пролептическую функцию (то есть послужить спойлером). Тема злого рока, неотвратимости и дурного предчувствия, впервые заявленная в прологе, неоднократно возникает и в позднейших сценах, например в первом акте, когда Ромео томится перед маскарадом: «Предчувствует душа, что волей звезд / Началом несказанных бедствий будет / Ночное это празднество» (I, 4).
Для чего нужно так полно раскрывать содержание пьесы в первых строках? Прежде всего следует вспомнить, что зрители и читатели раннего Нового времени, в отличие от нас, не ждали от сюжета резких поворотов и непредсказуемого финала. Оригинальность, уникальность замысла высоко ценится в искусстве XXI века, но в XVI столетии культура была иной. Гуманистическая система образования подозрительно относилась к новизне и художественному вымыслу как таковому: он считался врагом истины, а следовательно, и морали. Именно поэтому многие поколения поэтов и драматургов были воспитаны в убеждении, что подлинная задача художника слова — переводить и перерабатывать уже известные тексты и сюжеты. Зрителям и читателям этот творческий метод под названием imitatio дарил особое, эксклюзивное удовольствие: распознавать источники и ценить мастерство обработки. Так, в 1602 году, когда лондонский студент-правовед Джон Мэннингем побывал на представлении «Двенадцатой ночи», он сразу же отметил сходство пьесы с «Комедией ошибок» и «Двумя Менехмами» Плавта, о чем записал в своем дневнике. Однако в его заметках звучит отнюдь не жалоба на затертый, банальный сюжет, а скорее радость узнавания и гордость за собственную эрудицию и сообразительность. В те времена длинные тексты нередко предварялись кратким синопсисом: например, в аллегорической поэме Эдмунда Спенсера «Королева фей» (1590) каждая песнь открывается четверостишием, передающим ее основную идею. Очевидно, удовольствие читателю должны были приносить не запутанные сюжетные ходы с неожиданной развязкой, а вариации на хорошо знакомую тему.
Возможно, нашей культуре такие представления ближе, чем кажется. Посмотрите трейлер к любому фильму, и вам станет предельно ясно, что в нем происходит. Я нежно люблю интернет-подборки, где перечислены кинематографические клише: они показывают, что массовое искусство доставляет нам удовольствие именно потому, что оперирует легко узнаваемыми символами и нарративами. Вероятно, вам подобные списки тоже попадались на глаза. Например, если в начале фильма у главного героя есть друг или напарник, который с нежностью рассказывает о своей семье, значит, этого напарника обязательно убьют. Особенно если у него на столе стоит семейное фото и уж тем более если на фото есть любимая собака (она тоже не жилец). Если герой вступает в схватку с бандой, можете не сомневаться — он будет драться с каждым бандитом по очереди, один на один, а остальные при этом будут плясать вокруг и грозно потрясать кулаками. Главный герой не пикнет и ничем не обнаружит боли даже при самом жестоком избиении, но очаровательно поморщится, когда героиня попытается промыть рану у него прямо над правой бровью, и т. д. Итак, «Ромео и Джульетта» — плод культуры, где оригинальность и неожиданность не пользовались у публики особым спросом. Однако так ли уж сильно мы отличаемся от тогдашних зрителей и читателей?
Второй момент касательно спойлеров напрямую связан со спецификой жанра. Может ли вообще у трагедии быть спойлер? Если известно, что пьеса называется «Трагедия Ромео и Джульетты», будем ли мы ждать счастливого конца? Имеются отдельные предположения, что в эпоху Возрождения трагедии представляли на сцене, задрапированной черной тканью: тут уж зрителю совсем трудно было не догадаться, чем кончится дело. Французский драматург Жан Ануй, в середине ХХ века написавший новую версию древнегреческой трагедии «Антигона», вставил в пьесу рассуждение о природе трагедии, которое не имеет никаких параллелей с оригиналом Софокла. Хор у Ануя утверждает: трагедия — «дело чистое, верное, она успокаивает»[28], потому что здесь даже не нужно ничего делать. «Беспокоиться не о чем. Все пойдет само собой. Механизм сработан на совесть, хорошо смазан». Меня всегда завораживало зрелище падающих костяшек домино — всех этих сложнейших фигур, которые валятся от одного прикосновения пальца. Точно так же, по словам Ануя, трагедии «нужен лишь небольшой толчок, чтобы пустить в ход весь механизм». О трагедии нередко говорят, что роль человеческого фактора в ней сведена практически к нулю. Эту мысль прекрасно сформулировала литературовед Сьюзен Снайдер: мир шекспировской трагедии управляется неизбежностью конфликта между человеческим законом и законом мироздания — противоречием, заложенным в само́й природе человека или обстоятельствах его жизни. Путь назад невозможен, равно как и альтернативный исход. В противовес этой неизбежности Снайдер предлагает весьма полезный антоним «избежность» как основополагающий принцип шекспировских комедий, где вознаграждаются предприимчивость, гибкость и прагматизм. Развитие сюжета позволяет герою обойти препятствия, уклониться от ударов судьбы и благополучно добраться до финала, где ждет искупление, примирение или же брачный пир. Таким образом, неотвратимость и предопределенность, главенствующие в прологе к «Ромео и Джульетте», — это характерные черты самого́ жанра трагедии.
Итак, можно ли утверждать, что трагедия — жанр, в котором человеческая способность влиять на судьбу или окружение стремится к нулю? Вопрос о свободной воле трагического героя мы подробно обсудим в главе о «Макбете». Возможно, популярность трагедии на заре Нового времени имела сложную культурную подоплеку. В шекспировскую эпоху произошли серьезные сдвиги в философских представлениях о причинно-следственной связи событий в мире. Провиденциальные, теоцентристские воззрения средневекового христианства о том, что все в мироздании происходит исключительно по воле Божией, понемногу менялись под влиянием Макиавелли с его откровенным преклонением перед человеческой волей и предприимчивостью («Государь» пользовался широкой популярностью во второй половине XVI века) и трансформировались, к примеру, в идеи Томаса Гоббса с его «Левиафаном» (1651), объявляющим человека и его интересы первопричиной любого события. Фаталистический пролог к «Ромео и Джульетте», возможно, преследует особую цель: возложить ответственность на высшие силы и снять бремя вины с человеческих плеч. Смерть юных влюбленных — в меньшей степени итог бессмысленной межсемейной вражды, чем неизбежная, предначертанная трагедия. При этом слова герцога в финале: «Одних — прощенье, кара ждет других» (V, 3) — все же предполагают земное правосудие, направленное на конкретных виновников. Таким образом, пьеса движется от идеи фатума, злого рока и предопределенности к идее человеческой ответственности за содеянное. Однако если трагический исход известен уже в самом начале, то справедливо ли возлагать вину на отдельно взятого персонажа (причем, скорее всего, второстепенного)? Ромео и Джульетта родились под злосчастной звездой, так виноват ли аптекарь, который продал юноше яд? Или же он просто орудие судьбы, а его поступок — тот самый толчок, который запускает механизм трагедии?
В метафизическом смысле история Ромео и Джульетты уже произошла, уже написана, потому что таков жанр трагедии. В более приземленном смысле она уже существует потому, что, как и большинство шекспировских сюжетов, почерпнута из нескольких источников. Сюжет о несчастных любовниках, разведенных судьбой по двум враждебным лагерям, бытует в самых разных культурах мира и возник задолго до английского Ренессанса. Однако в первую очередь Шекспир использовал большую поэму Артура Брука[29], переведенную с итальянского языка под названием «Трагическая история Ромеуса и Джульетты» и впервые опубликованную в 1562 году. Поэма Брука также открывалась сонетом; возможно, это и подсказало Шекспиру идею для пролога. Но при сравнении разница между двумя зачинами оказывается весьма заметной.
Сонет у Брука — самый настоящий (и весьма подробный) синопсис: молодые люди влюбляются с первого взгляда и тайно женятся; Ромеус по ночам проникает в спальню Джульетты через балкон; через три месяца происходит ссора с Тибальтом и поединок; Ромеусу приходится бежать; Джульетте ищут мужа; она пьет зелье, и ее хоронят, посчитав мертвой; Ромеус, услыхав о смерти жены, выпивает яд; Джульетта приходит в себя и закалывается его кинжалом. Брук недвусмысленно дает понять, что влюбленные сами виновны в своих несчастьях. Он допускает вмешательство Любви как высшей силы, однако решающую роль все же отводит человеческой воле. Невоздержанность приводит героев к гибели. Здесь нет ни слова о судьбе, роке и злосчастных звездах; даже форма сонета — без рифмовки в последнем двустишии — не задает неумолимого ритма, как у его последователя. Итак, Шекспир существенно изменяет причину трагедии. У Брука отчетливо прослеживается моралистический, а точнее — антикатолический посыл. Молодые люди должны уступать воле родителей, в противном случае их ждут ужасные беды. В особенности им надлежит избегать старых сплетниц и хитрых монахов. (В целом поэма Брука изображает юных любовников с несколько большей симпатией, чем сулит пролог, но в начале явственно слышны назидательные нотки.) Мы видим, что Шекспир, как обычно, отказывается от нравоучений. Ни один читатель или зритель при всем желании не вынесет из «Ромео и Джульетты» мысль, что дети должны повиноваться родителям. Родители здесь начисто лишены морального авторитета в силу беспричинной и потому непростительной межсемейной войны, так что они никак не могут служить ориентиром.
В то же время интересно отметить, что Шекспир смог изменить конструкцию трагического сюжета, но не преобразил его настолько, чтобы юная пара бежала от родителей и благополучно поселилась в Мантуе. Трагедия все-таки неумолима. Законы рока, которым подчиняется фабула, в данном случае свойственны не только жанру вообще, но и первоисточнику в частности. О Шекспире часто говорят: он берет прозаическое сырье и добывает из него золото поэзии (переименовать Ромеуса в Ромео — гениальная находка?). Может быть, это и верно, однако Шекспир крайне редко вносит в сюжет радикальные изменения. Очевидно, первоисточники прочерчивают неотразимо притягательную для Шекспира сюжетную линию. (Важное исключение из этого правила — «Король Лир», о чем мы поговорим в главе 15.) Таким образом, фабула заранее обременена грузом наследия — законами жанра и канвой первоисточника. Неудивительно, что при таком громоздком багаже требуется пролог, который придаст форму всей конструкции. Кажется, сам драматург, как и его персонажи, становится заложником неумолимых сил: Шекспир тоже действует в рамках строго определенного, заранее известного сюжета, и здесь ему практически недоступна творческая свобода или та игровая «избежность», в которой Снайдер видит главное свойство комедии.
Можно констатировать, что пролог и сама пьеса соотносятся примерно так же, как поэма Брука и трактовка Шекспира. В обоих случаях первый текст носит разом и пророческий, и упреждающий характер: предсказывает дальнейшее и пролагает курс, которым до́лжно следовать. Писатель и критик эпохи Возрождения Джордж Патнем определял эту риторическую фигуру как «перестановку, перемену мест», словно в английской поговорке, где телега ставится впереди лошади. Греки называют подобный прием гистеропротероном. Если телега стоит впереди лошади, это часто свидетельствует о спешке. Действительно, поспешность и опрометчивость — важный мотив в пьесе, чей сюжет во многом движим юношеским пылким нетерпением. Герои безоглядно устремляются навстречу судьбе, не слушая наставлений брата Лоренцо: «Кто слишком поспешает — / Опаздывает, как и тот, кто медлит» (II, 5).
Многое в пьесе происходит слишком скоро, преждевременно; поскольку речь идет о неопытной юной паре, невольно напрашивается параллель с чересчур быстрой кульминацией любовного акта. Если — как утверждают многие теоретики — удовольствие, которое дарит нам сюжет, распадается на те же стадии предвкушения, возбуждения и разрядки, что и сексуальное удовлетворение, то в «Ромео и Джульетте», очевидно, происходит сбой. Кульминация — и в любви, и в сюжете — наступает слишком рано: в конце второго акта юная пара заключает поспешный тайный брак. То, что в комедии стало бы финалом — свадьба, — здесь оказывается в середине, поэтому двигаться к счастливому концу уже невозможно. Как сказали бы древние греки, налицо структурный гистеропротерон: телега стоит впереди лошади. Можно вкратце сравнить «Ромео и Джульетту» с другой шекспировской пьесой, написанной примерно в тот же период, — комедией «Сон в летнюю ночь». В начале пьесы герцогу Тезею не терпится жениться. Все произведение словно бы предназначено, чтобы заполнить время и облегчить Тезею ожидание свадьбы и брачной ночи с Ипполитой. В конце представления феи благословляют брачное ложе, и молодожены уходят со сцены, очевидно готовые предаться супружеской любви.
В «Ромео и Джульетте», напротив, никто не умеет ждать и растягивать предвкушение. Хор выкладывает нам всю историю, едва мы устроимся в кресле. В первом акте мы узнаем, что Джульетте нет еще четырнадцати лет. Поначалу ее отец призывает Париса к терпению: «Пускай умрут еще два пышных лета — / Тогда женою сможет стать Джульетта» (I, 2). Однако затем он уступает: теперь свадьба должна состояться не через два года, а буквально на днях. «Какой сегодня день?» — спрашивает Капулетти у Париса. Выясняется, что сегодня понедельник. «В среду будет слишком рано», — заявляет отец и назначает венчание на четверг. «Я хотел бы, чтоб четверг был завтра», — говорит Парис. Вопрос Капулетти «По сердцу ль вам поспешность?» (III, 4) представляется чисто риторическим.
Джульетта сходит с ума от нетерпения, дожидаясь Ромео:
- Быстрей, огнем подкованные кони,
- К палатам Феба мчитесь! Ваш возница,
- Как Фаэтон, на запад гонит вас
- И ускоряет ход туманной ночи.
Ее речь обретает сбивчивый, как будто запыхавшийся ритм; первая строка (в оригинале Gallop apace, you fiery-footed steeds) начинается с ударного слога — Gallop, — что, строго говоря, характерно не для ямба, а для хорея (то же самое мы наблюдали в первом монологе Ричарда III). Как будто сами слова торопятся, бегут наперегонки и выбиваются из чинного размера. Метафоры, которые Джульетта использует, чтобы передать свое волнение, красноречиво свидетельствуют: она не просто чересчур нетерпеливо ждет Ромео. Ей слишком не терпится пережить взрослый опыт:
- …День мне скучен,
- Как ночь нетерпеливому ребенку,
- Когда наутро праздника он ждет,
- Чтоб наконец надеть свою обнову.
Выбранный ею образ напоминает о детстве и отчетливо высвечивает разрыв между настоящим и тем скороспелым будущим, в которое она готова ринуться с головой.
Раньше было принято считать, что Шекспир изобразил в «Ромео и Джульетте» страстное романтическое чувство, поскольку для елизаветинцев ранние браки были обычным делом. В основу этого убеждения легли исторические свидетельства о помолвках, заключавшихся между детьми знатных семейств: малолетних сыновей и дочерей использовали, чтобы обеспечить прочные династические узы. Однако средний возраст для вступления в брак в конце XVI века был, вероятно, ненамного ниже, чем сегодня в западных странах — 24–25 лет. Таким образом, любому зрителю шекспировской эпохи было ясно: Джульетта еще слишком молода. И хоть в пьесе не сказано, сколько лет Ромео, разница в возрасте, видимо, невелика. По этой причине юношу, скорее всего, тоже считали недостаточно созревшим для брака. Возраст Джульетты намеренно и неоднократно подчеркнут в комическом монологе кормилицы: «Вот, помнится, одиннадцать годов / Тому минуло, в год землетрясенья, / Как я ее от груди отняла» (I, 3). Следовательно, мы, зрители, непременно должны заметить эту деталь. Шекспировских персонажей, чей возраст указан так точно, можно пересчитать по пальцам одной руки. В наше время ни одна актриса — ровесница Джульетты — не сможет сыграть эту роль в профессиональной постановке, в чем пришлось убедиться продюсерам База Лурмана в 1996 году. Изначально на роль Джульетты отобрали четырнадцатилетнюю Натали Портман, однако закон запрещал снимать девочку этого возраста в любовных сценах. Ромео — Леонардо Ди Каприо, которому тогда было двадцать два, — получился трогательно долговязым, нескладным и слегка неуклюжим переростком. Налицо весьма удачная кинематографическая попытка оживить и очеловечить образ, который иначе может показаться плоским и схематичным; однако это же очеловечивает суматошный сюжет, который движется слишком быстро и требует замедления. Как весьма мудро заметил брат Лоренцо, «тем, кто спешит, грозит паденье» (II, 2). Увы, почтенный монах настолько ослеплен выпавшей ему честью объединить враждующие семьи, что сам поддается нетерпению и запускает маховик трагедии. Гистеропротерон — та самая инверсия, перестановка, о которой писал Патнем, — прослеживается на психологическом, риторическом и сюжетном уровнях. Спойлер в исполнении хора фактически можно рассматривать как синекдоху — стилистический прием, при котором часть обозначает целое. Пролог предвосхищает и характеризует весь сюжет пьесы: стремительный, безоглядный, опрометью рвущийся к финалу и подгоняющий сам себя. Даже заявленные «два часа» сценического времени сразу же запускают часовой механизм. В действительности представление почти невозможно уложить в озвученный лимит, однако он сам по себе усугубляет ощущение лихорадочной спешки.
До сих пор мы предполагали, что сюжет «Ромео и Джульетты» изначально принадлежит к жанру трагедии. Однако возможно и альтернативное прочтение. Может быть, бешеный темп действия заставляет героев проскочить мимо мира комедии и уносит их к трагическому финалу. До благополучной комедийной развязки не хватает буквально нескольких минут. С все той же характерной поспешностью Ромео выпивает яд чуть раньше, чем Джульетта приходит в себя. Возможно, пьеса становится трагедией по ходу действия, а не с самого начала. В эпоху Реставрации ее даже иногда представляли с альтернативной счастливой развязкой[30]. Юные влюбленные, мечтающие соединиться в браке, — типичные герои комедии. Родители, настроенные против их союза, тоже характерны для комического сюжета, где молодые люди обыкновенно преодолевают все преграды, в том числе сопротивление старших. Эгей в «Сне в летнюю ночь», к примеру, — классический отец-тиран, недовольный выбором дочери. Однако его возражения в конце концов перечеркивает воля Тезея: правитель Афин приказывает ему смириться, и молодая пара отправляется под венец, как и подобает в финале комедии. В «Ромео и Джульетте» точкой невозвращения, когда комический сюжет подчиняется мрачным законам трагедии, обычно признают гибель Меркуцио — опять же результат поспешного и неловкого вмешательства Ромео в его поединок с Тибальтом. Развитие сюжета уводит нас из шумного, многолюдного мира первых сцен (Верона — как раз такой пестрый южный город, где обычно разворачивается действие шекспировских комедий), а влюбленные вынуждены оставить за спиной веселых спутников — Меркуцио и кормилицу. Понемногу мы заходим всё дальше и дальше в пустынный мир трагедии и под конец попада́ем в тесное зловещее пространство семейного склепа.
Если «Ромео и Джульетта» — пьеса, которая имела шанс кончиться по-другому (гонец брата Лоренцо не попал бы в чумной карантин или Джульетта очнулась бы минутой раньше), то наличие пролога нужно, вероятно, рассматривать в ином свете. Если перед нами и впрямь трагедия, которая переросла комическую матрицу (как выразилась бы Сьюзен Снайдер), пролог звучит явным предостережением зрителю. Вроде бы все еще может кончиться хорошо, но вам уже сказали, что не кончится. Не надейтесь. Все эти комические элементы на самом деле вписаны в трагический сюжет. Даже если кажется, что неотвратимое можно предотвратить, а неизбежного избежать, пролог загодя избавляет от сладких иллюзий.
И последнее примечание к этой истории о трагической неизбежности. До наших дней дошло несколько ранних изданий «Ромео и Джульетты» с вариациями, которые свидетельствуют о том, что пьеса претерпела ряд изменений в первых постановках. В Фолио добавляется еще одно отличие: там нет пролога. В первом собрании сочинений Шекспира (том самом, чьи составители хвастались полнотой и точностью каждого текста) пьеса начинается с уличной драки между слугами Монтекки и Капулетти. Ни единого слова о злосчастных звездах и обреченной любви. Без упреждающего фаталистического пролога-спойлера, без гистеропротерона, без того извращенного успокоения, которое Жан Ануй связывал с трагической неизбежностью, — перед нами совершенно иная пьеса.
Глава 6. «Сон в летнюю ночь»
В нашей культуре комедия «Сон в летнюю ночь» считается самой «детской» и сказочной из всех шекспировских пьес: эльфы, смешная ослиная голова, зачарованный лес, стройная рифмовка. С этого текста обычно начинается школьное знакомство с Шекспиром, и многочисленные переложения и адаптации — от прозаического пересказа Чарлза и Мэри Лэм в начале XIX века до диснеевского мультсериала «Мышиный дом» в конце XX — окончательно убедили нас, что пьеса как нельзя лучше подходит для юного зрителя. Возьмем, к примеру, Пака — ну кто его не знает? Задорный и лукавый дух, сказочный слуга царя Оберона, он носится над волшебным лесом, словно фея Динь-Динь в костюме Зеленого человека. У него стройные, легкие ноги танцора, обтянутые тугим трико, как правило, обнаженная грудь, на молодом лице сияет обаятельная плутоватая улыбка. Он хвастливо обещает: «Мне сорока минут вполне довольно, / Чтоб землю опоясать»[31] (II, 1) — и завершает пьесу извинением-эпилогом:
- Если тени оплошали,
- То считайте, что вы спали
- И что этот ряд картин
- Был всего лишь сон один.
- Наше слабое творенье
- Расцените как виденье,
- И погрешности тогда
- Мы исправим без труда.
Конечно, Пак не так выполняет приказ Оберона, но ведь это понятная и простительная ошибка: откуда же он мог знать, что в лесу бродят сразу двое юношей и оба одеты по афинской моде? Да, он любит проказы (английское прилагательное puckish, образованное от его имени в XIX веке, означает «шаловливый, лукавый, капризный»), но никому не причиняет зла. Он наблюдает за миром людей с бесстрастной, отрешенной мудростью: «Слабый разум смертным дан!» (III, 2) Короткие, рифмованные реплики и забавные жесты делают его самым ярким персонажем пьесы, которую с викторианских времен принято считать восхитительно невинной и жизнерадостной.
Однако в культуре елизаветинских времен Пак представал отнюдь не в образе милого и ручного шалуна. Сам Шекспир называет своего персонажа Робин-плут или Робин Славный Малый (Robin Goodfellow). Под этим именем в английском фольклоре был известен довольно-таки злонравный хобгоблин, едва ли не бес. Поэт Эдмунд Спенсер занес Пака в список «нечистых духов», а в народных сказаниях он прославился «безумными выходками и безудержным весельем», как гласит некая книжица 1628 года издания. На титульном листе этого сборника преданий красуется гравюра, где Робин-плут изображен в виде огромного пляшущего сатира с вздыбленным фаллосом, волосатыми ногами с раздвоенными копытами, с мощным мужским торсом и бородатой головой с рогами. Этот Пак воистину «веселый озорник ночной» (II, 1), символ сексуальной удали и плодородия, а совсем не балетный плясун с детского утренника.
Школьное прочтение «Сна в летнюю ночь» выхолостило изначально куда более сладострастную пьесу. Сновидения здесь по части скорее доктора Фрейда, чем доктора Сьюза[32], а благочинные свадебные сцены обрамляют пространство, где сбываются весьма смелые фантазии и бытуют рискованные сексуальные практики — от скотоложства до педерастии, от обмена партнершами до садомазохизма. На самом деле эта пьеса совсем не для детей, как убедились школьники, попавшие на неожиданно откровенное представление Королевской шекспировской компании. Шокированные учителя были вынуждены срочно вывести класс из зала, а после жаловались прессе: «Мы увидели совершенно не то, что ждали. Там были слишком откровенные сцены. Эта постановка буквально перечеркнула всю программу религиозного и сексуального воспитания в нашей школе». Прежде критики усматривали в этой комедии (как принято считать, впервые представленной на свадьбе какого-то аристократа) подлинный гимн брачным узам. В действительности же отношение к браку здесь скорее сардоническое. Чтобы в полной мере оценить «взрослую» версию «Сна в летнюю ночь», нужно разглядеть нарисованные Шекспиром картины темных страстей и опасных желаний.
С самого начала пьеса представляет романтические условности в довольно-таки циничном свете. Афинский герцог Тезей с нетерпением ждет новолуния и свадьбы, но сам признает в разговоре с невестой: «Тебя мечом я сватал, Ипполита, / Твою любовь жестокостью снискал» (I, 1). Царица амазонок ничего не отвечает. Отталкиваясь от этого эпизода, многие режиссеры выводят пленную Ипполиту в цепях или изображают холодной, полной презрения невестой поневоле. В отдельных постановках можно усмотреть намек на сексуальное подчинение и даже насилие. В телеверсии Би-би-си (2016; реж. Дэвид Керр, адаптация Рассела Дэвиса) Ипполита предстает перед публикой в смирительной рубашке и кожаном наморднике. Образ невесты-пленницы сразу же навевает мысль о супружестве как форме рабства (во всех смыслах — от сексуального до бытового). Как раз в этот момент появляется Эгей и выносит на суд герцога дело своей непокорной дочери Гермии, которая хочет замуж за Лизандра, а Эгей выбрал ей в женихи Деметрия. Как мы видим, в этом случае брачный выбор тоже жестко ограничен и любовь смыкается с принуждением. Эгей грозит убить дочь «как это предусмотрено законом», если она не подчинится его воле. Гермия заявляет, что ее душа не согласна склониться под «насильственным ярмом» брака с Деметрием (I, 1). За отказ ей грозит суровая кара, и молчаливое присутствие Ипполиты при этом разбирательстве довершает картину Афин как патриархального мира, глубоко враждебного к женским желаниям. Неудивительно, что лес, куда бегут влюбленные, ассоциируется с образами властных, могущественных женщин — от само́й царицы эльфов Титании до упомянутой вскользь Елизаветы I: «прекрасной весталки» или «царственной жрицы», «чей престол на Западе» (II, 1).
Однако, в отличие от остальных шекспировских комедий, где героини обычно знают, чего хотят и как этого добиться (вспомним Розалинду, Виолу или Елену в пьесе «Все хорошо, что хорошо кончается»), здесь женские желания отнюдь не правят сюжетом. Подруга Гермии Елена влюблена в Деметрия, который прежде отвечал ей взаимностью, но затем воспылал страстью к Гермии и, выражаясь словами его соперника, «позорно изменил». Итак, теперь налицо два героя и две героини, и все готово к началу действия. Далее следуют всевозможные приключения и перипетии, ведь, как философски подмечает Лизандр, никто еще не видал и не слыхал, «чтобы когда-либо струился мирно / Поток любви» (I, 1). Тем не менее в конце пьесы все разрешается благополучно, и молодые пары женятся. Однако стоит отметить: если в поздних романтических комедиях Шекспир тщательно прорабатывает образы влюбленных, то здесь обоих героев как будто выхватили наугад с кастинга по подбору актеров. Трудно даже запомнить, кто с кем остается в финале, да и вообще отличить Деметрия от Лизандра. Если учесть, что Гермия согласна облачиться в монашескую рясу и «навек замкнуться в темный монастырь» (I, 1), лишь бы не выходить замуж за Деметрия, особенно важным оказывается, что ее страстное предпочтение так слабо подкреплено самой пьесой. Для стороннего глаза Деметрий и Лизандр фактически идентичны. Шекспир снова и снова подчеркивает не уникальные черты каждого из молодых людей, а их взаимозаменимость. «Деметрий — человек весьма достойный», — говорит Тезей Гермии, убеждая ее склониться перед волей отца. «Таков же и Лизандр» (I, 1), — отвечает девушка. Сам Лизандр настаивает скорее на своем равенстве с соперником, чем на превосходстве: «Мой государь, я родовит, как он; / Богат, как он» (I, 1).
В других пьесах Шекспира неудачливые соперники часто предстают нелепыми или недостойными: к примеру, глуповатый Клотен — претендент на руку Имогены в «Цимбелине» или Феба, вздыхающая по переодетой мужчиной Розалинде в комедии «Как вам это понравится». Любовные треугольники выглядят отчетливо неравносторонними: второго поклонника не поощряют ни сюжет, ни сам объект романтических чувств. Однако «Сон в летнюю ночь» предъявляет нам двух скорее схожих, чем различных героев с одинаковым статусом и одинаковым правом на любовь к Гермии — да и к Елене, если уж на то пошло. Когда Пак неловко применяет любовное зелье, внимание обоих мужчин переключается с Гермии на Елену, и они снова оказываются неразличимы в своем противостоянии. Даже сам Лизандр признаёт, что ничуть не выше Деметрия. Обыкновенно романтическая комедия видит ценность в определенном сочетании пары, но здесь нам как будто говорят: одно ничуть не хуже и не лучше любого другого. (При этом стоит отметить: несмотря на игривую вольность в вопросах пола, которую мы наблюдаем в «Двенадцатой ночи», написанной пять или шесть лет спустя, здесь Шекспир явно не допускает и мысли, что проказы Пака могут — о ужас! — вызвать гомосексуальное влечение.)
Итак, «Сон в летнюю ночь» — не столько романтическая комедия, в которой юноша встречает девушку, сколько пародия на романтический сюжет, где юноши слепо мечутся от девушки к девушке, обнаруживая подлинную цену своим чувствам. Нелепые условности жанра становятся объектом пародийного снижения, особенно мотив любви с первого взгляда, сатирически обыгранный на примере Пака с его приворотным зельем. В описании цветка, из которого добыт любовный эликсир, легко заметить непристойный подтекст: «…молочно-белый западный цветок, / Теперь багровый от любовной раны; / У дев он прозван „праздною любовью“» (II, 1). Багровый от любовной раны — куда уж ясней? «Чьих сонных вежд коснется сок его, / Тот возгорится страстью к первой твари, / Которую, раскрыв глаза, увидит» (I, 1). Перед нами фармацевтическая пародия на романтическую комедию, где глаза становятся главной эрогенной зоной, а чувственный трепет вызван не столько речью (см., например, словесный флирт в комедии «Много шума из ничего»), сколько зрительным контактом.
С помощью зелья Пак перетасовывает афинских влюбленных, однако самый безудержный разгул на сцене начинается, когда Оберон смазывает им веки спящей Титании. Разъяренный отказом уступить ему юного пажа, Оберон пытается унизить ее с помощью «праздной любви»:
- Что увидишь, встав от сна,
- Тем останься пленена
- И томись, любви полна.
- Будь то барс, медведь иль кот,
- Рысь, кабан, — пусть облик тот
- Страстный пыл в тебе зажжет.
- Пробудись, когда урод
- Близко к ложу подойдет.
Тот самый «урод», которого Титания принимает за любовь всей своей жизни, и впрямь оказывается наполовину животным: это бойкий афинский ткач-актер Моток[33] с ослиной головой на плечах. Охваченная безудержной страстью, Титания увлекает его в свои волшебные чертоги.
В викторианских изданиях Шекспира можно увидеть иллюстрации, где царица и ее придворные эльфы сидят в увитой цветами беседке и поглаживают уши дремлющего создания с ослиной головой. Картина сэра Эдвина Ландсира «Сон в летнюю ночь» (1851) — яркий образчик подобной иконографии: Титания, в прозрачном, но вполне целомудренном одеянии, припала к плечу своего ослоподобного кавалера под взглядами фей, эльфов и жутковатого в своем неестественном любопытстве белого кролика (который, возможно, подсказал Льюису Кэрроллу один из самых узнаваемых образов жутковатой книги о сне — «Алисы в Стране чудес»). Все очень пристойно и благообразно. Но если действие любовного зелья должно было заставить Титанию отказаться от юного подопечного, то неужели оно сводилось к этим безобидным, идиллическим грезам? «Идем и свяжем милому уста» (III, 1), — говорит Титания своим эльфам (надо же как-то остановить поток болтовни, иначе Моток не пригоден ни к чему другому). «Ведите гостя в мой приют спокойный» (III, 1). Может, она хочет просто почесать его за ушком? Ну да, конечно! Страстная царица эльфов, околдованная любовным зельем; мужчина с головой осла; уединенная зеленая беседка — давайте сложим два плюс два. Спящего Мотка утомили явно не приготовления к герцогской свадьбе. Вся сцена опасно балансирует на грани неназываемого — скотоложства — и наводит на нечестивые мысли о любовнике с ослиными атрибутами. (Это, вообще говоря, библейский образ, прекрасно известный шекспировской публике: в Книге пророка Иезекииля о блуднице сказано: «И пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть — плоть ослиная, и похоть, как у жеребцов»[34].) Здесь зашифрован запретный акт, словно бы взятый прямиком со страниц любимой книги Шекспира — «Метаморфоз» Овидия, классического руководства по межвидовым связям. Получеловек-полуосел Моток — гротескная, комическая версия Минотавра, чудовищного полубыка, обитавшего в критском лабиринте и убитого Тезеем. В шекспировской комедии эта мрачная деталь из биографии «герцога афинского» деликатно замалчивается, но не совсем: образ удалого ткача переводит зловещую легенду в разухабистый фарс.
Титания, конечно же, называет свою одержимость любовью: «О, я люблю тебя, люблю безумно!» (IV, 1) В XVI столетии, как и в наши дни, это слово вмещало в себя целую палитру эмоций и ощущений — от романтического томления до ненасытного сексуального влечения. Если воспринимать беседку Титании не как идиллический уголок с детской картинки, а как обитель запретных удовольствий, становятся заметны и другие эротические мотивы пьесы. К примеру, образ мальчика-пажа, столь милого и Оберону, и Титании, тоже не совсем невинен. Эпитеты, которые использует Пак, недвусмысленно свидетельствуют о том, что мальчик (у Шекспира он сам не появляется, но в постановках пьесы его нередко выводят на сцену) выступает объектом горячего интереса обоих супругов. Пак подчеркивает, что юный паж на редкость красив и мил, что Оберон ревнует его к Титании, а царица эльфов не желает отказываться от пажа, поскольку находит в нем необычайную радость[35].
Красивый паж, вызывающий влечение и у женщин, и у мужчин, — мотив, знакомый нам по более поздним шекспировским комедиям, где героини переодеваются в мужское платье. Здесь же образ прелестного мальчика возникает практически мимоходом. Однако он, вероятно, все же играет немаловажную роль: символизирует запретные желания и ту угрозу, которую они представляют для брака. Борьба Оберона и Титании за юного пажа оборачивается яростным разладом. Супружеская ссора в царстве эльфов влечет за собой катастрофические последствия для «изумленного мира» людей: природная стихия бушует, посевы гибнут на корню, времена года поменялись местами. От любви произошло «племя бед», а ведь в глазах елизаветинцев рождение увечного ребенка символизировало греховность его родителей или порочность их союза.
Наряду с невинными викторианскими образами девочек-эльфов, восприятие пьесы во многом сформировано утверждением, что она сочинялась для свадьбы одного из английских вельмож. Эта версия не подтверждена никакими историческими фактами, и конкретное торжество, к которому комедия была приурочена, установить так и не удалось. Вероятно, здесь мы снова сталкиваемся с литературоведческим мифом, который просто внушает то, во что нам хочется верить. Называть «Сон в летнюю ночь» гимном супружеству — значит загонять пестрый карнавал чувственности в жесткий корсет морали, видеть в пьесе восхваление консервативного института брака вместо картины запретных фантазий. В действительности комедия исследует разрыв между мощными, безрассудными порывами плоти, с одной стороны, и патриархальной прагматикой брака — с другой. Брак структурно необходим как елизаветинскому обществу, так и сюжету романтической комедии; однако здесь он показан в качестве бледной, конвенциональной изнанки тех яростных, безответных, пугающих страстей, которые так настойчиво предъявляет нам пьеса.
Буйное и безудержное животное начало — вот та стихийная сила, которую в действительности высвобождает «Сон в летнюю ночь», а затем пытается упрятать обратно, в благопристойные рамки супружества. Сон — один из способов уступить соблазну, пережить то, что запретно наяву. Когда перепуганная Гермия рассказывает свой сон об измене Лизандра, в описании явственно сквозит мотив грехопадения, библейский образ змея-искусителя: «Мне снилось, что змея ест сердце мне, / А ты с улыбкой смотришь в стороне» (II, 2). Тревожное видение следует за разговором о том, как обуздать вожделение в опасно вольном, беззаконном мире леса: «Будь скромен, ляг подальше в стороне, / Так, чтобы нас пространство разделяло, / Как юноше и девушке пристало» (II, 2). Пак, лесная вольница и стихия плоти совместно ополчаются против моральных устоев, и Гермия начинает воспринимать чувственное влечение как опасную, разрушительную силу. Однако в пьесе не только Гермия спит и видит сны: Лизандр, Елена, Деметрий, Титания и Моток тоже в какой-то момент засыпают. Именно поэтому можно предположить, что случившееся с ними далее на самом деле произошло во сне. (Вспомним обморок Дороти, перед тем как родной Канзас исчезает в облаке пыли и смерч уносит девочку в целлулоидную страну Оз[36].)Проснувшийся ткач клянется, что велит сложить балладу о своих похождениях и назвать ее «Сон Мотка», а Робин-плут — он же Пак — под конец советует публике считать, «что этот ряд картин / Был всего лишь сон один» (V, 1). Подобно современному Голливуду, театр раннего Нового времени превратился в фабрику грез и снабжал зрителя упоительными фантазиями, после которых тот с неохотой возвращался в серый повседневный мир. Но и фантазии бывают разными: иногда, проснувшись, испытываешь немалое облегчение.
Томас Нэш — современник, вдохновитель и вероятный соавтор Шекспира, сочинил о сновидениях целый трактат, который помогает нам лучше понять представления елизаветинской эпохи. С точки зрения Нэша, во сне человек погружается в некую первобытную стихию: «Первозданный хаос, из коего был сотворен наш мир, открывается нам в ночных виденьях. В них перепутан всякий вид, и род, и пол, и все страны света, и все состоянья». Смешение различных миров в шекспировской пьесе — герцогский двор и волшебный лес, человек и животное, знать и простонародье, эльфы и смертные, мужчины и женщины — можно рассматривать как символ той первоначальной энтропии, в которую, по словам Нэша, нас заново окунают сновидения. Нэш также предполагал, что сны пародируют то, что человек видит наяву: «Из тех образов, которые запечатляются в памяти за время дня, ночью складываются несуразные, словно дрессированная обезьянка, фигуры и движутся подобно куклам в балагане либо же ином нелепом и праздном заведении». Несуразные фигуры в нелепом и праздном балагане? Можно ли точнее описать смехотворное действо под названием «Прегорестная комедия и прежестокая смерть Пирама и Фисбы» (I, 2)?
Пьеса о злосчастных любовниках Пираме и Фисбе в постановке Питера Клина и афинских ремесленников занимает почти весь финальный акт «Сна в летнюю ночь». На сцене она, как правило, смотрится невероятно смешно: нелепейшие декорации и костюмы, хромой стих, язвительные комментарии публики, нарочито ходульный сюжет, гротескно убогое исполнение. Однако и эта вещица показывает любовную страсть как опасную, разрушительную силу. Если на Гермию во сне нападает змея, то Фисбу атакует лев. Возможно, он символизирует ее собственное животное начало или плотские желания возлюбленного, который заявляет: «Лев изнасиловал любезную мою!» (V, 1) — и поднимает с земли окровавленный плащ, свидетельство то ли смерти, то ли утраченной девственности. Самоубийство Пирама, решившего, что Фисба мертва, в очередной раз подтверждает: страсть ведет к гибели (и вызывает в памяти развязку «Ромео и Джульетты»). Хронология шекспировских пьес недостаточно ясна, поэтому нельзя с уверенностью утверждать, что́ мы здесь видим: более позднюю автопародию или комедийный набросок, из которого впоследствии выросла трагедия. В любом случае для современного театра «Пирам и Фисба» — драматургически сложный фрагмент, поскольку юмор здесь может показаться натужным и даже истерическим, отчаянной попыткой завуалировать темное начало и направить бурную, разрушительную сексуальную энергию в русло фарса. Истинная тема пьесы — желания, которые могут оказаться гибельными, — снова и снова выходит на первый план. Комические приемы служат здесь не для того, чтобы обыграть романтические клише, а чтобы заглянуть в бездну, которая кроется под ними. Неслучайно Ян Котт называет эту комедию «наиболее эротичной из всех пьес Шекспира», добавляя, что нигде, «кроме „Троила и Крессиды“, эротика не является такой откровенной».
Мотив сладострастия как темной обратной стороны брака прослеживается в парных структурах, образующих сюжет «Сна в летнюю ночь». Две юные пары лишь часть той системы зеркальных отражений, которая характерна для всей пьесы. Прежде всего отметим обилие рифмованных двустиший: более половины строк в комедии рифмуются, и эффект созвучия усиливается за счет риторических повторов и синтаксических параллелей. Словесный ритм подхватывает нас в первых же сценах. (Неудивительно, что «Сон в летнюю ночь» часто перелагали на музыку самые разные композиторы, от Генри Пёрселла до Мендельсона и Бриттена.) Диалог Елены и Гермии в первом акте — с парной рифмовкой и параллельной структурой фраз — подчеркивает зеркальное сходство, почти полную тождественность двух героинь:
- Когда я хмурюсь, он нежней всего.
- А я улыбкой только злю его.
- Мои проклятья в нем родят любовь.
- Мои мольбы в нем охлаждают кровь.
- Чем я враждебней, тем влюбленней он.
- Чем я влюбленней, тем враждебней он.
В третьем двустишии реплики фактически повторяют друг друга, а для рифмовки используется одно и то же слово — местоимение «он». Речевые границы окончательно стираются, а вместе с ними размывается индивидуальность образов, что мы неоднократно наблюдали в пьесе. Настойчивая рифмовка, синтаксические и риторические параллели создают отчетливое эхо, раздвоение звукового ряда. Язык Шекспира — подлинный микрокосм: на уровне отдельной реплики, фразы, метафоры нередко отображаются ключевые мотивы и образы всего произведения.
На более крупном — сюжетном — уровне зеркальность комедии проявляется и чисто зрительно. Во многих пьесах Шекспира персонажей больше, чем было актеров в его труппе, поэтому сюжет в них выстроен так, чтобы некоторые актеры могли играть сразу по две роли (подробнее эта техника разбирается в главах, посвященных «Гамлету» и «Комедии ошибок»). Но в некоторых случаях подобное «раздвоение», кажется, имело не только практический, но и художественный смысл. Немаловажно, что сюжет «Сна в летнюю ночь» построен так, чтобы одни и те же актеры могли играть Тезея с Ипполитой, правителей Афин, и Оберона с Титанией, властителей сказочного леса. Две царственные четы изначально связаны меж собой: Оберон и Титания обвиняют друг друга в пособничестве Ипполите и Тезею; однако эти роли взаимообратимы. Побежденная Ипполита заново обретает силу в образе пылкой Титании, а благополучный самодержец Тезей, превратившись в Оберона, сталкивается с лукавым, непокорным слугой Паком-Робином. У сдвоенных ролей есть и чисто технические последствия. Мы видим, например, что Пак произносит явно «лишнюю» речь, когда сцену расчищают после представления «Пирама и Фисбы». Содержание реплики менее значимо, чем ее длина: за это время Тезей с Ипполитой должны сменить костюмы и вернуться к зрителю Обероном и Титанией.
Отождествление правителей несет важнейшую смысловую и структурную нагрузку в пьесе. Царство эльфов становится темным миром, полуночной изнанкой дневного мира афинского двора. Роль Филострата — распорядителя церемоний при дворе Тезея — нередко объединяют с ролью проказника Пака. Вероятно, афинских ремесленников, которые ставят «Пирама и Фисбу», играли те же актеры, что и придворных эльфов Титании — следовательно, Пила, Дуда и Рыло переодевались в костюмы Паутинки, Мотылька и Горчицы. Только представьте себе кучку грубоватых простолюдинов в виде очень даже земных, рослых сказочных существ — и романтический флер, окутывающий волшебное лесное царство в пьесе, окончательно растает.
Сновидения, сексуальность, смерть превращают «Сон в летнюю ночь» в комедию с неожиданно взрослыми темами. Юмор здесь служит для косвенного отображения запретных, извращенных или чрезмерных желаний, под конец загнанных в рамки брачных союзов, которые, вероятно, будут не столь опасны, но и не столь упоительны, как сумрачные лесные грезы, вытесненные и впредь подавленные. Возможно, детям и впрямь рановато смотреть эту пьесу.
Глава 7. «Венецианский купец»
У Бассанио крупные проблемы. Этот безрассудный повеса взял денег под венецианский кредит своего лучшего друга Антонио, чтобы отправиться в Бельмонт и завоевать руку дамы, которую он без обиняков называет «богатой наследницей». Его поход за «золотым руном» непременно должен увенчаться успехом. Однако по прибытии в Бельмонт обнаруживается небольшая загвоздка. Чтобы жениться на прекрасной Порции, нужно сделать верный выбор. Соискателю руки предъявляются три ларчика — золотой, серебряный и свинцовый. В одном из них лежит приз — портрет Порции, что означает успех. Помимо Бассанио в Бельмонт прибывают еще несколько женихов. Сначала мы наблюдаем за промахом принца Марокканского и заодно узнаем: «Не все то злато, что блестит»[37] (II, 7); затем принц Арагонский выбирает серебряный ларец и тоже ошибается. Бассанио, самый нищий из этих экзотических претендентов, мудро останавливает выбор на невзрачном свинцовом ларце и срывает брачный джекпот. «Лотерейный» сюжет занимает почти четверть пьесы; самые длинные монологи посвящены тяжкому философскому выбору между золотом, серебром и свинцом. Тем не менее читатели и зрители нередко воспринимают эту линию как побочную. По крайней мере, с XIX века главной и наиболее интересной фигурой пьесы — к добру или худу — считается ростовщик Шейлок, единственный еврей среди центральных персонажей Шекспира. Однако титульный лист первого издания пьесы напрямую связывал линию Шейлока с брачной лотереей. Изначально пьеса была опубликована под заголовком: «Превосходнейшая история о венецианском купце, о чрезвычайной жестокости еврея Шейлока по отношению к сказанному купцу, у которого он хотел вырезать ровно фунт мяса, а также о получении руки Порции посредством выбора из трех ларцов». Неожиданный выбор Бассанио — свинцовый ларчик — помогает проследить важнейшие мотивы и образы «Венецианского купца»: взаимосвязь романтики и прагматики, структурные метафоры долга, кредита и расплаты, особую трактовку комедийного жанра.
Почему же соискатель, который добивается руки Порции именно ради богатства, указывает на грошовый ларец? Очевидно, он читал волшебные сказки. Любой, кто знаком с этим жанром, понимает, что следует выбирать. Один из самых распространенных сюжетов — в фольклоре и мифологии любых народов — испытание героя, которое часто предполагает выбор из трех вариантов (пойти направо, прямо или налево; вручить яблоко самой красивой из трех богинь; загадать три желания и т. д.). В статье о символике «Венецианского купца» Зигмунд Фрейд отмечал, что Шекспир «перевернул» гендерные роли своего источника — популярного средневекового сборника легенд «Римские деяния» (Gesta Romanorum), где женщина выбирала между ларцами из золота, серебра и свинца, чтобы выйти замуж за сына императора. Фрейд полагал, что три ларчика символизируют три разных женских образа и что подобная троица отсылает нас к античным богиням судьбы — мойрам или паркам. Бассанио выбирает свой удел, буквально заглядывая в глаза смерти. Вид свинцового ларчика навевает венецианскому плейбою мрачные картины бренности и тления:
- Так, эти золотые кудри-змейки,
- Что шаловливо с ветерком играют
- Над мнимою красавицей, нередко
- Принадлежат совсем другой головке,
- И череп, что их вырастил, — в могиле.
Таким образом, испытание выбором приобретает легко узнаваемую форму, и если прежде Бассанио уподоблял себя мифическому Ясону в поисках золотого руна, то теперь он, несомненно, видит себя героем волшебной сказки.
И конечно же, он просто обязан выбрать свинец, ведь нам уже показали содержимое других ларцов. Математическая вероятность всякий раз одинакова: если марокканец указал на золото, это еще не значит, что Бассанио не повторит его выбор. Но по законам жанра три соискателя непременно должны выбрать разные ларцы. Мы уже знаем, что скрывают золото и серебро; теперь нам, как и Бассанио, пора заглянуть под свинцовую крышку.
Разумеется, мы не хуже Бассанио знаем законы: в третий раз повезет. Но, может быть, ему не помешает и поддержка самой невесты. Лотерея изначально представлена как патриархальная отцовская попытка определить судьбу дочери. Первому жениху — принцу Марокканскому — Порция объясняет: «Я в выборе руковожусь не только / Взыскательным советом глаз девичьих; / Притом моя судьба, как лотерея, / Мне запрещает добровольный выбор» (II, 1). Завещание покойного отца превратило Порцию в сказочную принцессу, к которой женихи-рыцари приходят за испытанием. Однако то же самое условие позволяет ей отделаться от неугодных поклонников и отдать руку тому, кто ей, как мы уже знаем, милей всех остальных. (Красноречивый контраст: сцены с ларчиками и женихами перемежаются картинами бегства Джессики — непокорной дочери, которая нарушает волю отца, Шейлока. И здесь краденое приданое обретает вид ларца, падающего из окна прямо в руки ее никчемного возлюбленного.) Когда Нерисса напоминает Порции, как еще при жизни ее отца их навещал один венецианец, «ученый и воин», та сразу же отвечает: «О, да. Это был Бассанио». И торопливо добавляет, чтобы скрыть излишний пыл: «Кажется, его так звали?» (I, 2)
Словом, Порция уже наметила Бассанио себе в мужья, а заморские женихи предстают откровенно непригодными кандидатами в контексте пьесы, где так много сказано об этнических различиях и смешанных браках. Ремарка, которую Порция бросает вслед выбывшему из соревнования принцу Марокканскому, вызывает у современных зрителей и читателей острый дискомфорт: «Что ж! / Вот так бы всем, кто с ним по виду схож» (II, 7). Шекспироведы, влюбленные в светлый образ Порции, потратили немало сил в попытках доказать, что слово сomplexion («вид») здесь не имеет отношения к расе и цвету кожи. Однако поверить в это крайне затруднительно, ведь и сам марокканский жених при первой встрече явно ожидает неприятия и просит: «Не презирай меня за черноту; / Ливреей темной я обязан солнцу» (II, 1). Очевидно, у Порции, невзирая на мнимую покорность воле отца, есть собственные пожелания к успешному кандидату в мужья. Когда она велит музыкантам заводить песню для сопровождения выбора Бассанио, первые три строки оканчиваются словами, рифмующимися с английским lead — «свинец»[38]. Случайно ли это? Возможно, невеста сознательно подсказывает жениху правильный выбор? Фраза с рифмой на lead встречается и в реплике Порции, обращенной к принцу Марокканскому: I am not solely led («[В выборе] руковожусь не только») (II, 1). Эта версия тоже не по нраву поклонникам Порции, однако давайте задумаемся: неужели женщина, которая способна переодеться в платье законоведа и командовать венецианскими властями, в самом деле позволит покойному родителю из гроба навязать ей супруга?
Пусть на первый взгляд Бассанио кажется не тем, кто предпочтет непритязательный свинец золоту или серебру, но в итоге он делает именно такой выбор. Здесь можно усмотреть миниатюрное отображение (или, как сказали бы елизаветинцы, эмблему) мотивов и побуждений героя, а также той роли, которую его любовные устремления играют в сюжете и символике комедии. Этот расчетливый риск — инвестиция в свинец — не более чем романтический вариант азартной погони за наживой, финансовой игры, на которой основана коллизия пьесы. Как и венецианский купец Антонио — персонаж, вынесенный в заглавие, Бассанио знает: чтобы сорвать большой куш, надо рисковать. Желание и готовность пойти ва-банк — важнейший мотив пьесы, где дружба и любовь постоянно выражаются через коммерческие отношения. Меркантилизм и порожденная им практика ростовщичества образуют соединительную ткань повествования в «Венецианском купце». В отличие от большинства шекспировских комедий, где на сцену выходят отцы, дочери, братья, сестры и кузены, в этой пьесе практически не показаны семейные отношения — кроме безрадостного примера Шейлока и его дочери Джессики, а также слуги Гоббо и его отца. В отсутствие кровных уз главной скрепой становится золото: любая взаимосвязь имеет скорее деловой, чем эмоциональный характер. Когда Бассанио, к примеру, нужны деньги, он идет к Антонио, который идет к Шейлоку, который идет к своему партнеру Тубалу; все эти персонажи объединены серией транзакций, совершенных через посредников. Бассанио ни разу не встречается с Тубалом, однако успех его сватовства целиком и полностью зависит от инвестиций последнего. В стерильном мире наживы плодятся и размножаются только деньги. «Иль ваши деньги — овцы и бараны?» — презрительно бросает Антонио в ответ на рассказанную Шейлоком притчу о хозяйственном Иакове. «Не знаю; я пложу их так же быстро» (I, 3), — гордо заявляет ростовщик.
Брачные планы Бассанио объединяют мир Венеции с миром Бельмонта. Весь сюжет пьесы основан на его желании показаться богаче, чем он есть, чтобы поправить расстроенные дела. Для этого ему необходимо взять ссуду. Дорогое сватовство — своего рода финансовая авантюра, подпитанная кредитом венецианских банков и движимая надеждой на большой барыш. Подобно торговым судам, посланным на Восток за ценным грузом, который с лихвой окупит стоимость экспедиции, Бассанио отплывает к богатым берегам при поддержке венчурного капитала и ждет баснословной прибыли. Сам он с готовностью признаёт себя ненадежным заемщиком и объясняет: «Как сильно я дела свои расстроил, / Ведя пышней гораздо образ жизни, / Чем позволяла скромность средств моих» (I, 1). Однако в этом цветистом заявлении есть и нечто хвастливо-уклончивое — попытка пустить пыль в глаза, набить себе цену, как и в самой кампании сватовства. Убеждая приятеля поддержать деньгами его затею, Бассанио апеллирует к детским воспоминаниям:
- Еще в дни школы, потеряв стрелу,
- За ней я тотчас вслед пускал другую —
- И в ту же цель, следя усердней только, —
- Чтоб первую найти; рискнув двумя,
- Я часто обе находил.
Тот же самый прием — послать новую порцию денег вослед уже потраченным, словно одну стрелу вдогонку другой, — и тот же самый авантюрный подход мы видим в сватовстве Бассанио. Доступ к Порции обходится ему в три тысячи дукатов; такую сумму не могут сразу собрать ни Антонио, ни даже Шейлок. Пожалуй, в пересчете на современные деньги речь идет о займе в триста тысяч фунтов стерлингов. Столь весомый взнос объясняется тем, что конкуренты Бассанио — люди далеко не бедные. В сценических указаниях ко второму акту принц Марокканский описан как «мавр в белых одеждах, в сопровождении свиты» — несомненно, его выход на сцену должен произвести сильное впечатление на Порцию и зрителя. В тот самый миг, когда принц Арагонский выбывает из состязания, опрометчиво выбрав серебряный ларчик с ироническим девизом «Со мной получишь то, чего достоин ты» (II, 7), слуга сообщает Порции, что к вратам спешит еще один поклонник и везет богатые дары: «Апрельский день не возвещал так нежно / Роскошнейшего лета приближенье» (II, 9). Эпитет «роскошнейший» звучит здесь с отчетливой ноткой иронии. Зритель, наблюдавший за выдачей ссуды, точно знает, во сколько обошлась вся эта роскошь: три тысячи дукатов и фунт человеческой плоти в залог. Светлые, радостные образы весны и лета — и демонстративное потребление[39]. Не самое уютное соседство.
Эпизоды с выбором ларчика полны метафор азартной игры, рискованных инвестиций, финансовой спекуляции. Романтические отношения здесь монетизируются так же легко, как и любые другие. Возможно, в этой сцене Бассанио вполне буквально понимает девиз свинцового ларчика: «Со мной ты всем рискнешь, отдав все, что имеешь» (II, 9) — и видит в нем чисто материальный смысл. До сих пор такие благородные порывы, как самопожертвование и щедрость, казались чуждыми его характеру. И в самом деле, его готовность — искренняя или расчетливая — последовать этому девизу предстает в совсем ином свете, если вспомнить, что собственного имущества у него вообще-то нет, только заемное. Спекуляция Бассанио обеспечена чужими деньгами, следовательно, и любое его пожертвование будет сделано в кредит. Несложно отдать все, что имеешь, когда оно и так не твое.
Мотивы азарта и финансового риска многократно встречаются в пьесе — от ветхозаветного пособия по разведению овец, которое цитирует Шейлок, до похождений Джессики, промотавшей в Генуе «восемьдесят дукатов зараз» (III, 1). И хотя Карл Маркс в первую очередь ценил Шекспира за элементы экономической критики в истории мизантропа Тимона Афинского, возможно, ему стоило обратить больше внимания на «Венецианского купца». В товарах и персонажах, объединенных сетью финансовых спекуляций, очень мало «потребительской ценности». Салерио упоминает о шелках и пряностях, которыми Антонио торгует в Венеции, однако в основном экономика пьесы сводится к вычислению и обсуждению меновой стоимости. Стоит ли бирюза обезьянки? Стоит ли фунт человеческой плоти три тысячи дукатов? Даже самый мощный гимн человечности, знаменитый монолог Шейлока, словно бы заимствует структуру конторской книги. «Если нас уколоть — разве у нас не идет кровь? Если нас пощекотать — разве мы не смеемся? Если нас отравить — разве мы не умираем? А если нас оскорбляют — разве мы не должны мстить?» (III, 1) Взятая отдельно, эта речь обыкновенно воспринимается как воззвание к общечеловеческим ценностям и манифест равноправия. Однако в контексте пьесы, посреди стенаний Шейлока о мотовстве дочери и первых слухов о разорении Антонио, монолог представляется скорее попыткой установить или выторговать некое ценовое равновесие в мире прибыли, убытков и финансовых спекуляций. Если получил это — отдай то. Здесь приход, тут расход. Взял столько, должен столько: кредит и дебет. Благодаря синтаксическому параллелизму фразы Шейлока словно бы качаются туда-сюда, как чаши весов.
Таким образом, презренное ремесло Шейлока, ростовщичество, — всего лишь одно из частных проявлений спекулятивной экономики, которая лежит в основе сюжета. Сам Шейлок не столько полноценный персонаж и уж тем более не реально существующий иудей, сколько фигура, олицетворяющая власть денег и дух стяжательства. Вероятно, в каком-то смысле он назначен козлом отпущения: пьеса словно бы карает его за всеобщую страсть к наживе. Это делают все, но позор выпадает только на долю Шейлока. И вполне возможно, что его неумолимая враждебность к Антонио с самого начала имеет не только религиозную («он ненавистен мне как христианин»), но и экономическую подоплеку:
- Но больше тем, что в жалкой простоте
- Взаймы дает он деньги без процентов
- И курса рост в Венеции снижает.
Шейлока нередко обвиняют в смешении родственных чувств с любовью к золоту: «О дочь моя! Мои дукаты! Дочь / Сбежала с христианином! Пропали / Дукаты христианские!» (II, 8) Впрочем, стоит вспомнить, что это не его слова, а довольно-таки злобный и ничем не подтвержденный рассказ Саланио о реакции «собаки-жида» на известие о побеге Джессики. Шейлок и впрямь весьма точно указывает ценность и стоимость похищенного имущества: «Пропал брильянт, за который я заплатил во Франкфурте две тысячи дукатов! <…> Две тысячи червонцев — в одном этом брильянте, и еще другие драгоценные камни!» (III, 1) Брак — удовольствие недешевое, с чем, несомненно, согласились бы и Джессика, и Бассанио. Однако ростовщик признает и другой вид ценности — сентиментальный: он сознается Тубалу, что «за целую обезьянью рощу» не отдал бы перстень, который «получил… от Лии, когда еще был холостым» (III, 1).
Шейлоком движет не одна любовь к золоту; в противном случае он принял бы предложение Порции. «Наместо трех шесть тысяч я даю!» — заявляет Антонио в зале суда. Шейлок презрительно отвечает:
- Когда б во всех дукатах этих каждый
- На шесть частей делился по дукату —
- Я б не взял их, а взял бы неустойку.
Структура пьесы недвусмысленно показывает, что награда за рискованную игру — преумножение капитала — приходит вместе с выигрышем в брачной лотерее. Новости о том, что корабли Антонио потерпели крушение, обрамляют сцену, в которой Бассанио выбирает «правильный» свинцовый ларец. Женитьба его друга Грациано на прислужнице Порции Нериссе — своего рода бонус к брачному призу, доставшемуся Бассанио, — незамедлительно служит поводом для новой ставки на прибавление в бюджете и семействе: «Мы с ними побьемся об заклад, у кого родится первый мальчик — на тысячу червонцев» (III, 2). Тут же в Бельмонт прибывают Джессика и Лоренцо с письмом Антонио, и Бассанио объявляет себя полным банкротом в личностном плане: «…меньше я имею, чем ничто. / Себя всего я другу заложил, / А друга — злейшему его врагу, / Чтоб денег мне достать» (III, 2). Сама Порция осознаёт, что муж обойдется ей недешево: «Так дорого купив, я вас не выдам» (III, 2). Слово «дорого», конечно, подразумевает силу чувства, но с неизбежностью несет и финансовые коннотации. Теперь Порции нужно оплатить долги, в которые Бассанио залез, чтобы получить ее в жены. Однако, по крайней мере, она явно не намерена отдавать бразды финансового правления в руки расточительного мужа.
Невероятный успех инвестиций Бассанио сопровождается полным крахом вложений Антонио. «Ужель погибло все, без исключенья? — не веря своим ушам, спрашивает Бассанио. — Из Триполи, из берберийских стран, / Из Мексики, двух Индий, Лиссабона, / Из Англии?» (III, 2) Однако между миром романтических чувств и миром торговли существуют и иные связи. Купец — посредник между оптовыми поставщиками и розничными покупателями; точно так же венецианский купец Антонио играет роль романтического посредника между Бассанио и Порцией. Антонио, его друг и невеста друга образуют странный треугольник. Загадочная печаль Антонио в начале пьесы многим критикам и режиссерам кажется легко объяснимой: он не смеет высказать запретную любовь к Бассанио. (В главе, посвященной пьесе «Двенадцатая ночь», мы подробнее рассмотрим тему гомоэротических желаний в комедиях Шекспира, особенно в применении к персонажам по имени Антонио.) Он разом и благодетель, который сводит друга с невестой, взяв роковую ссуду, и преграда на пути к их счастью, ведь его злоключения вынуждают Порцию и Бассанио расстаться сразу после свадьбы.
Письмо Антонио к другу — краткий, но блистательный образчик пассивной агрессии: «…между нами — все долги уплачены, и я только хотел бы увидеть тебя перед смертью. Однако поступай по своему усмотрению; если твоя любовь ко мне не побудит тебя приехать, пусть не побуждает и мое письмо» (III, 2). Бассанио сразу же мчится на выручку, вооружившись несметным приданым молодой жены.
Богатая невеста Порция не только благоразумна: «Пойдем же в храм; меня вы назовете / Женой, а там — скорей в Венецию, к другу!» (III, 2), но и необычайно щедра. Проявление ее щедрости так тесно связано с изначальным долгом в три тысячи дукатов, что ответ Порции на скорбное письмо Антонио, кажется, сулит невероятную прибыль от капиталовложения: «Шесть ему вы заплатите / И выкупите вексель; вдвое, втрое», «Дам золота, чтоб в двадцать раз покрыть / Ничтожный долг!» (III, 2) Умножаем три тысячи на двадцать и получаем шестьдесят тысяч дукатов. Если изначальная сумма по нынешнему курсу равнялась тремстам тысячам фунтов, с процентами она достигает шести миллионов[40]. Речь идет о баснословных, невероятных — в прямом смысле слова — деньгах. Тщательный подсчет вложений и доходов, столь важный при сватовстве Бассанио к Порции, теперь, кажется, неактуален. Вместо него на наших глазах вздувается финансовый пузырь. Безоглядный любовный порыв оказывается несовместим с сухим прагматизмом. Происходит стремительный перерасчет меновой стоимости, который подготавливает нас к новому — этическому — пафосу сцены в судебном зале. Кажется, цель такой перемены — показать Шейлока в неприглядном свете, выставить его единственным корыстолюбцем среди персонажей комедии. До сих пор все образы и все отношения в пьесе так или иначе определялись стремлением к выгоде; однако теперь именно еврей-ростовщик оказывается повинен во всеобщем стяжательстве.
Финансовые перипетии достигают кульминации в венецианском зале суда, куда мы переносимся в четвертом акте. Втайне от Бассанио Порция является на суд в обличье законоведа Бальтазара и ведет процесс, в ходе которого истец Шейлок требует взыскать с должника фунт плоти, причитающийся ему по условиям ссуды. Шейлок неумолим и твердо намерен получить свое. В витиеватой речи о природе милосердия Порция при помощи риторики старается подменить финансовые интересы христианской общины более благовидными и более абстрактными этическими понятиями. «Милость» предстает в качестве небесной супервалюты, превыше земных реестров прихода и расхода, поскольку дарует двойную благодать «тем, кто дает и кто берет ее» (IV, 1) и присуща самому́ Богу. Вмешательство Порции помогает вознести христианское сообщество на моральный пьедестал и загнать Шейлока в угол. При этом он сам играет ей на руку, надевая стереотипную маску мстительного еврея, точащего нож о подошву. Шейлок назначен злодеем на этнических, религиозных и юридических основаниях, как будто только он один во всей пьесе стремился к наживе и теперь должен понести наказание. Весьма примечательный факт: в первом печатном издании «Венецианского купца» 1600 года имя Шейлок в сценических указаниях заменяется словом «еврей» (начиная с третьей сцены третьего акта). Персонаж утрачивает личную идентичность под грузом религиозных и этнических стереотипов. Некоторые шекспироведы усматривают в этой сцене аллегорический отказ от ветхозаветного мщения в пользу христианской жертвенности. Но в глазах современного зрителя этот суд воплощает в себе нечто куда более простое и до тошноты знакомое: правовую систему, зараженную расовыми предрассудками и религиозной нетерпимостью. По венецианским законам еврей, проливший хотя бы каплю христианской крови, должен был отдать казне все имущество и земли; если возникало подозрение, что он замышлял убить венецианца, дож был вправе послать его на казнь. На этом фоне ода милосердию из уст Порции звучит уже не так убедительно. Под конец Шейлоку удается сохранить жизнь, однако власти конфискуют состояние ростовщика — отчасти в пользу его беглой дочери и зятя, а его самого́ вынуждают сменить веру.
Не только ростовщик, но и сам венецианский купец оказывается чужим на празднике жизни в финале пьесы: как нередко бывает, у противников куда больше общего, чем кажется на первый взгляд. Для Антонио не находится места в мире семейной идиллии; ему не с кем пойти к алтарю, чтобы печаль, снедавшая его в начале пьесы, сменилась покоем и довольством. Почему центральный треугольник пьесы так и остается неуравновешенным? Возможно, причина действительно в подспудной тяге Антонио к Бассанио — не исключено, что взаимной. Другое объяснение проистекает из само́й «экономики» пьесы, основанной на принципах купли-продажи. Заглавный персонаж — купец — служит посредником, добавляя веса и ценности Бассанио как товару, проданному богатой наследнице Порции, а подпитанная кредитом брачная кампания требует инвестиции в три тысячи дукатов, чтобы принести многократную прибыль. Впрочем, главный выигрыш все же достается Порции. Бассанио усвоил и накрепко запомнил урок: отныне и впредь его главный долг — перед женой, а не перед другом. Однако Антонио не готов сразу отойти на второй план в жизни Бассанио. В финале пьесы он вновь предлагает себя в качестве живой гарантии супружеской верности: «Я тело заложил свое для счастья / Его <…> теперь я душу / Отдам в залог того, что ваш супруг / Уж не нарушит верности обетов» (V, 1). Метафоры кредита, залога и поручительства, привычно взятые из сферы финансовых транзакций, с трудом переводятся на язык нежных чувств. В наши дни «Венецианский купец» прочитывается как удивительно современная пьеса о потребительских отношениях, романтическом и коммерческом азарте и темных транзакционных сетях кредитного финансирования.
Глава 8. «Генрих IV» (Часть первая)
«Генрих IV» (Часть первая) — это историческая пьеса, которой очень не хочется быть исторической пьесой. Она с неохотой изображает героические деяния, битвы и политические интриги да и вообще часто игнорирует заглавного персонажа, короля. Она весьма вольно трактует исторические факты и свидетельства хронистов. Бражничать в таверне ей интереснее, чем вершить судьбы мира при дворе. Благодаря таким особенностям возникает необычный и притягательный образчик исторического жанра. «Генрих IV» (Часть первая) — это история о монархе, который, отняв корону у собственного кузена Ричарда II, теперь пожинает горькие плоды: междоусобицы, заговоры, мятеж. Над головой Генриха сгущаются тучи. Первая серьезная угроза — восстание под предводительством харизматичного военачальника Хотспера, поддержанное его отцом, графом Нортемберлендом, его зятем Мортимером — одним из претендентов на английский престол, валлийцем Глендауром и шотландцем Дугласом. Генриху противостоит коалиция знати, выражающая интересы значительной части англичан и соседних народов, не готовых признать его законным правителем. Но, пожалуй, еще бо́льшую опасность для королевской власти представляет непокорный нрав наследника, принца Хела, который тяготится жизнью при дворе и предпочитает ей общество пройдохи Фальстафа и злачные места Лондона. Основа сюжета — постепенное примирение, сближение отца и сына; кульминационным моментом становится битва при Шрусбери, где Хел защищает отца от врагов и в поединке убивает Хотспера.
Титульный лист первого издания пьесы заманивает читателя наиболее яркими моментами: «История Генриха Четвертого с битвой при Шрусбери между королем и лордом Генри Перси по прозванию Горячая Шпора Севера[41]. С занимательными похождениями сэра Джона Фальстафа». «Занимательные похождения» здесь, как и в самой пьесе, грозят подорвать и затмить мрачную серьезность военного и политического конфликта. В шекспировские времена эта хроника стала настоящим бестселлером и переиздавалась семь раз в течение двадцати пяти лет после появления[42]. Что еще важнее, за ней последовали два отдельных «сиквела». Первый, озаглавленный «Генрих IV (Часть вторая)», был опубликован два года спустя, вследствие чего предыдущую пьесу стали называть «Часть первая». Для читателей и зрителей тех времен эта первая часть была отдельным, самостоятельным произведением, хоть и отсылала к более далекому прошлому, к истории Ричарда II, а также в будущее, к царствованию Генриха V. О популярности первой части хроники свидетельствует тот факт, что она, словно современный блокбастер, породила сиквел, пытавшийся повторить успех оригинала. (Как и в большинстве знакомых нам случаев, затея провалилась: первая часть всегда ценится потому, что раньше мы такого не видели.) Однако «Часть вторая» не единственный спин-офф популярной пьесы. Впоследствии Шекспир отступил от строгих канонов исторического жанра и перенес комедийных персонажей во главе с Фальстафом из Лондона в частный быт городка Виндзор, написав искрометных «Виндзорских насмешниц».
История этих сиквелов наглядно свидетельствует, что театр раннего Нового времени уже использовал в качестве маркетингового хода обратную связь со зрителем, чтобы монетизировать успех лучших постановок. Однако еще больше она рассказывает о причинах популярности «Генриха IV». Все сиквелы объединяет один элемент, и это не образ короля или даже принца Хела, не батальные сцены, не история политических интриг. Нет, общий знаменатель — Джон Фальстаф. Тучный, прожженный жизнью кутила и мошенник. Создав этого антигероя, Шекспир дал жизнь культурному явлению, которое верой и правдой послужило ему еще в двух пьесах. Успех первой части «Генриха IV» — это триумф Джона Фальстафа.
Так в чем же секрет его обаяния? Почему елизаветинцы с легкостью подмечали и узнавали Фальстафов среди современников, хотя не находили, к примеру, Гамлетов? Почему именно этот персонаж в глазах публики оказался живее любого другого шекспировского героя? Пожалуй, главная и самая колоритная черта Фальстафа — его чрезмерная полнота. В первых же адресованных ему словах принц Хел заявляет, что у Фальстафа «ожирели мозги от старого хереса»[43] (I, 2); в дальнейшем его ненасытный аппетит постоянно служит предметом шуток и каламбуров. Все прозвища и описания Фальстафа напоминают о его немалых габаритах: «пузан» (II, 2), «пузатый ублюдок», «мошенник этот жирный», «мешок, набитый требухой» и «жирный, словно сало» (II, 4). «Сколько лет, Джек, ты не видал своих собственных колен?» — язвительно спрашивает Хел, когда Фальстаф винит «печали да огорчения» за то, что он «раздувается, как пузырь» (II, 4). Когда же принц во время одной из проказ велит Фальстафу лечь на землю ничком, тот огрызается: «А у вас есть рычаги, чтобы снова поднять меня на ноги?» (II, 2) В одной из важнейших сцен второго акта, когда Хел и Фальстаф в таверне разыгрывают беседу принца с его отцом-королем, тучность Фальстафа и ее символическое значение становятся главным предметом разговора. Озвучивая отцовское недовольство, Хел (он изображает короля) гневно обрушивается на Фальстафа (играющего роль самого Хела): «…тобою овладел бес в образе толстого старика; приятель твой — ходячая бочка» (II, 4). Принц разражается чередой цветистых эпитетов, призванных подчеркнуть жирность Фальстафа: «Зачем ты водишь компанию с этой кучей мусора, с этим ларем, полным всяких мерзостей, с этой разбухшей водянкой, с этим пузатым бочонком хереса, с этим мешком, набитым требухой, с этим невыпотрошенным зажаренным меннингтрийским быком…» (II, 4) При этом Фальстаф изо всех сил пытается дать отпор фэтшеймингу[44]: «…если тучность заслуживает ненависти, то, значит, тощие фараоновы коровы достойны любви» (II, 4), делая отсылки к библейскому сну Иакова — семи тощим коровам, вестницам голода. Вся пьеса пестрит образами и метафорами, подчеркивающими обжорство, неповоротливость и особенно тучность Фальстафа. Он хорошо упитан — да, это факт, который невозможно не признать.
Здесь стоит ненадолго отвлечься и поразмыслить, насколько это детальное и даже назойливое описание внешности нехарактерно для шекспировского текста. Мало кто из героев Шекспира наделен специфическими, узнаваемыми чертами. Про Кассия в «Юлии Цезаре» нам говорят, что он «тощ» и у него «в глазах холодный блеск»[45] (I, 2), а про аптекаря в «Ромео и Джульетте» известно, что он «изглоданный жестокой нищетой»[46] (V, 1). Мы знаем, что Джульетте вот-вот сравняется четырнадцать; про Гермию и Елену из «Сна в летнюю ночь» сказано, что одна из них блондинка, а вторая — брюнетка, одна высокая, а вторая — миниатюрна (впрочем, кто все это упомнит?). Кроме горсточки штрихов, которые в основном развивают некую тему, а не создают индивидуальный портрет, припомнить почти нечего. В отдельных случаях описание внешности откровенно противоречит нашим представлениям о персонаже: так, в момент рокового поединка с Лаэртом Гертруда говорит, что Гамлет «тучен и одышлив»[47] (V, 2), а матери Калибана — ведьме Сикораксе — отчего-то приданы голубые глаза. Эти обмолвки столь явно выбиваются из образа, что многие издатели и критики предпочитают делать вид, будто их не существует и в текст просто вкралась некая ошибка. Однако по большей части Шекспир просто не описывает внешность персонажей: кажется, она для него не слишком важна. Мы знаем, что, сочиняя пьесы, он мысленно подбирал на роли вполне конкретных актеров — слуг лорда-камергера — членов труппы, участником, драматургом и пайщиком которой был сам. Однако Шекспира, видимо, больше интересовало их актерское мастерство, чем внешние данные. И каков же вывод? Полнота Фальстафа — самая последовательная и развернутая физическая характеристика, какую мы находим у Шекспира; иными словами, Фальстаф — самый материальный, осязаемый и буквально самый весомый из его образов.
Эта подчеркнутая телесность обретает дополнительный смысл, если вспомнить об источниках шекспировских хроник. На первый взгляд Фальстаф кажется внеисторическим персонажем, самоустранившимся от «серьезных» политических и военных тем, которые мы ожидаем найти в исторической пьесе. Однако у него был и реальный прообраз с весьма бурной и печальной судьбой — дворянин-лоллард[48] сэр Джон Олдкасл, рыцарь и друг Генриха V, казненный за ересь в начале XV века. История его жизни и смерти изложена в монументальном труде Джона Фокса об английских протестантах «События и памятники наших последних и опасных дней» (Acts and Monuments, 1563), известном больше под названием «Книга мучеников»; в елизаветинские времена Олдкасл считался героем, умершим за веру. Существует множество свидетельств тому, что в первоначальном тексте пьесы — и возможно, в ее первых постановках — Фальстаф именовался Олдкаслом. В первом акте принц Хел называет Фальстафа my old lad of the castle (в буквальном переводе: «мой старый парень из замка»). Реплика имеет смысл лишь в том случае, если в ней зашифровано имя Олдкасл. Эпилог ко второй части «Генриха IV» дразнит зрителя, намекая, что Фальстаф одновременно является и не является Джоном Олдкаслом: «…насколько я знаю, Фальстаф умрет от испарины, если его еще не убил ваш суровый приговор; как известно, Олдкасл умер смертью мученика, но это совсем другое лицо»[49]. Итак, настоящий Олдкасл был набожным и добродетельным человеком (нет никаких оснований полагать, что он страдал от ожирения); неудивительно, что его потомки-елизаветинцы возмутились, увидев нарисованную Шекспиром карикатуру, и вынудили драматурга сменить имя персонажа. (В Полном собрании сочинений У. Шекспира, вышедшем в издательстве Оксфордского университета, снова фигурирует имя Олдкасл, однако я и впредь буду называть его Фальстафом, поскольку публика знает его как сэра Джона Фальстафа.) Главные соперники слуг лорда-камергера — труппа слуг лорда-адмирала — даже обратили шекспировскую бестактность себе на пользу, поставив пьесу под названием «Сэр Джон Олдкасл», куда более лестную для героя и его потомков.
Таким образом, тучный Фальстаф — отчасти насмешка над благочестивым Олдкаслом: отъявленный гедонист подменяет собой аскета, плотское начало одерживает разгромную победу над духовностью. Фальстафу ближе пир, чем пост. На потеху принцу Хелу из кармана храпящего сэра Джона извлекается счет за ужин, и начинается бурное веселье: «Возмутительно! Всего на полпенса хлеба, при таком невероятном количестве хереса» (II, 4). В литературной критике существует давняя традиция, которая рассматривает телесность Фальстафа как основное проявление его характера. Образ Фальстафа — весомый краеугольный камень в истории изучения шекспировских персонажей и даже в истории шекспироведения как такового. В 1777 году был опубликован «Опыт о драматическом характере сэра Джона Фальстафа» Мориса Моргана — первая полноценная монография о творчестве Шекспира[50]. Морган попытался защитить объект исследования от морализаторских нападок одного из самых авторитетных в XVIII веке английских критиков и деятелей культуры Сэмюэла Джонсона: «Тучный рыцарь не произносит ни единого благого слова, и при всей потешности его облика ничто в нем не способно вызвать уважения» (1765). Полемизируя с этим убийственным суждением, Морган положил начало трактовке образа, которую брали на вооружение актеры от Генри Ирвинга до Лоуренса Оливье и развивали литературоведы от Уильяма Хэзлитта до Гарольда Блума. Последний, утверждая, что Шекспир создал современного человека, в качестве примера подробно разбирает двух шекспировских персонажей. Первый, вполне предсказуемый, — Гамлет; однако вторым неожиданно избран Фальстаф. В одном из интервью Гарольд Блум не только описывает Фальстафа как «самого умного героя всей западной литературы», но и подмечает в нем нечто философское, общечеловеческое: «Фальстаф — это жизнь! Фальстаф — это благодать!»
Тучность Фальстафа не столько индивидуальная черта, сколько метафора: словно это громадное тело оказывается слишком велико для отдельно взятого человека и обретает символическую функцию. Он и сам стремится к расширительной, неоднозначной трактовке. Когда Фальстаф с принцем по очереди изображают разгневанного короля, происходит, в сущности, битва истолкований. Кто такой Фальстаф — «почтенный Порок» и «седое Безбожие», «мерзкий, чудовищный совратитель молодежи», «седобородый сатана» (II, 4) или же просто веселый старик? Любит ли он принца (в одной из трактовок пьесы Фальстаф выступает заместителем отца, источником человеческого тепла, на которое так скуп замкнутый, снедаемый заботами король) или просто использует его в расчете на милости и привилегии? Фальстаф в роли Хела становится собственным адвокатом: «…что касается милого Джека Фальстафа, доброго Джека Фальстафа, преданного Джека Фальстафа, храброго Джека Фальстафа <…> не разлучайте его, не разлучайте с вашим Гарри. Ведь прогнать толстого Джека — значит прогнать все самое прекрасное на свете» (II, 4).
Таким образом, притязания Фальстафа на любовь Хела (и зрителя тоже) основаны на утверждении, что Фальстаф являет собою — ни много ни мало — все лучшее в мире. Неудивительно, что он круглый, как глобус, — и это в век, упоенно открывающий для себя шар земной! Если он и впрямь символизирует плотскую, гедонистическую радость бытия, то его место скорее в ряду архетипических фигур вроде распорядителя бесчинств[51], воплощения карнавала, чья миссия — менять местами телесный верх и низ, разрушать привычные иерархии, подвергать осмеянию моральные устои. Возможно, здесь уместна аналогия с Гомером. Нет, в данном случае я имею в виду не слепого древнегреческого поэта, а мультипликационного Гомера Симпсона. Все мы знаем, что Гомер — неудачник, растяпа, никудышный отец и криворукий сотрудник атомной станции. Вот вам несколько отборных гомеризмов: «Лиза, если тебе не нравится работа, не надо бастовать. Ты просто ходи на нее каждый день и делай все через одно место. Это наш американский метод»; «Сынок, во всех этих соревнованиях главное не победа и не проигрыш. Главное — хорошенько надраться. Если что-то тяжело дается, на кой оно нужно?»; «Дети, вы хорошенько постарались, и ни черта не получилось. Вывод? В другой раз не надо стараться».
Эти его перлы так забавны потому, что идут вразрез с основными культурными нормами. Все мы слышали — да и сами изрекали — прописные истины: «Главное не победа, а участие», «Если не получилось, пробуй снова и снова». Мы смеемся, когда очередной перл Гомера обманывает наши ожидания. Он берет набившее оскомину высокопарное клише и приставляет к нему собственную концовку — весьма прозаичную или даже циничную. В этом секрет его обаяния: он откровенно не дотягивает до высокой моральной планки, которую ставит наша культура, и тем самым словно бы выдает индульгенцию нам, зрителям. А теперь давайте вспомним рассуждения Фальстафа в первой сцене пятого акта. Готовится сражение между королевским войском и мятежниками под командованием Хотспера. Посреди всеобщего хаоса Фальстаф на минутку остается один и произносит краткий монолог. Мы его уже ждем. К этому эпизоду нас готовили мотивы покаяния и возрождения, ранее неоднократно звучавшие в пьесе. Кажется, вот сейчас должен настать момент истины, когда никчемный, трусоватый пропойца внезапно окажется героем. Именно сейчас Фальстаф обнаружит в себе честь, доблесть и благородство — как тот вечно пьяный летчик, жертвующий собой для спасения Земли от пришельцев в фильме «День независимости» (1996; реж. Р. Эммерих). Он ухватится за последний шанс на искупление, отринет корысть и себялюбие в пользу истинных ценностей и неожиданно для всех совершит великий подвиг.
«Что же такое честь?» — вопрошает Фальстаф в этот момент ожидаемого нравственного подъема. И тут на нас выливается ушат холодной воды: «А что, если честь меня обескрылит, когда я пойду в бой? Что тогда? Может честь приставить мне ногу? Нет. Или руку? Нет. Или унять боль от раны? Нет. Значит, честь — плохой хирург? Безусловно. Что же такое честь? Слово. Что же заключено в этом слове? Воздух» (V, 1). Фальстаф называет этот манифест своим «катехизисом»[52] — только его символ веры служит не для того, чтобы затвердить благочестивые и заезженные дефиниции, а для того, чтобы сбить пафос и подменить самозабвенный духовный порыв заботой о слабой, уязвимой плоти. Подобно Гомеру, Фальстаф начинает на высокой, патетической ноте, дожидается, когда у нас включатся моральные рефлексы, — и тогда вываливает низменную, запретную правду. Столь приземленный образ, конечно же, был оскорбителен для памяти мученика Джона Олдкасла; немудрено, что пьеса возмутила его потомков.
Итак, популярность Фальстафа во многом объясняется его беззастенчивым, даже бесстыдным себялюбием. В его образе словно воплотился вольный, антиморализаторский дух, из-за которого проповедники той эпохи называли театр «дьявольской синагогой». Однако фигура Фальстафа — неотъемлемая часть сюжетной конструкции, основанной на темах покаяния, искупления и возвращения к благодати. Первая часть «Генриха IV», как и многие драматургические и прозаические произведения 1590-х годов, обыгрывает библейский образ блудного сына. Притча о блудном сыне приведена в Евангелии от Луки. Иисус рассказывает ученикам о том, как младший сын некоего богатого человека забрал свою долю наследства еще до смерти отца и промотал ее, ведя беспутную жизнь в городе. Окончательно разорившись, юноша осознал, что даже слуги его отца живут лучше, чем он, и решил вернуться в родной дом, но не сыном, а наемным работником. Однако по его возвращении отец был так обрадован, что велел заколоть откормленного тельца и устроить пир, чем весьма огорчил старшего сына, который не видал такой награды за верность и прилежание. Эта тема очень важна для первой части «Генриха IV»: страсть молодого принца к беспутству и кутежам, его непокорность воле отца делают аллюзию предельно ясной. Библейский мотив подсказывает дальнейшее развитие сюжета: как и в евангельской притче, безрассудный повеса должен взяться за ум.
Уже в начале пьесы нам дают понять, что принц Хел намерен стратегически разыграть карту «блудного сына». В конце второй сцены первого акта принц произносит неожиданный монолог. Только что он болтал и смеялся с собутыльниками, особенно с Фальстафом, и их прозаические реплики разительно контрастировали с размеренным, чинным стихом придворных речей. Но вот завсегдатаи таверны уходят, а Хел остается на сцене и подробно рассказывает зрителю о дальнейших планах:
- Я знаю всех вас, но до срока стану
- Потворствовать беспутному разгулу;
- И в этом буду подражать я солнцу,
- Которое зловещим, мрачным тучам
- Свою красу дает скрывать от мира,
- Чтоб встретили его с восторгом новым,
- Когда захочет в славе воссиять,
- Прорвав завесу безобразных туч,
- Старавшихся затмить его напрасно.
- Когда б весь год веселый праздник длился,
- Скучней работы стали б развлеченья;
- Но редки празднества — и в радость всем.
- Лишь необычное бывает мило.
- Так я, распутные повадки бросив
- И уплатив нежданно старый долг,
- Все обману дурные ожиданья,
- Являя людям светлый образ свой;
- И, как в породе темной яркий камень,
- Мой новый лик, блеснув над тьмой греховной,
- Величьем больше взоров привлечет,
- Чем не усиленная фольгой доблесть.
- Себе во благо обращу я злое
- И, всем на диво, искуплю былое.
В монологе виртуозно обыгран контраст между разгульным образом жизни, который ведет наследник престола, и его твердым намерением бросить распутные повадки, когда настанет час. Подобно солнцу — традиционному символу королевской власти — он позволяет тучам до поры затмить свое великолепие, чтобы тем ярче воссиять перед изумленным народом. Словно драгоценный камень, который сверкает и переливается на темном фоне, раскаявшийся принц притянет к себе восхищенные взгляды. Новый Хел будет желанным и долгожданным, как редкий праздник. Принц явно думает о библейской истории блудного сына. Он говорит языком религии — упоминает о греховной тьме и об искуплении, — но также и языком коммерции: называет грядущее преображение уплатой старого долга, упоминает любимый маркетинговый ход ювелиров, желающих подороже продать камень, и т. п. Хел изображает себя товаром, которому надо бы набить цену. Его речь — пособие по успешной манипуляции. Он тщательно подготавливает почву для своего звездного часа — расчетливый блудный отпрыск, который прекрасно знает: чем ниже он падет сейчас, тем бо́льшую радость доставит своим возвращением. Его монолог уложен в тот же самый белый стих, что и придворные речи в предыдущей и последующей сценах: Хел словно заявляет о преемстве, правах наследника. Мол, я прохлаждаюсь в таверне, но знаю, где мое законное место. Со временем я оставлю забавы и займу его. Можно трактовать это выступление как залог династической стабильности: не стоит переживать из-за «некоролевских» эскапад принца Уэльского, все под контролем, порядок будет восстановлен. Однако есть в этой сцене и нечто весьма неуютное. Евангельский блудный сын впал в грех из-за прискорбной, однако понятной и простительной человеческой слабости. Он истово предавался пороку, а затем столь же истово и чистосердечно раскаялся. Принц Хел действует по заранее составленному плану.
С точки зрения морали и сюжетной структуры пьеса, вероятно, должна бы закончиться раскаянием Хела и примирением сына с отцом. В каком-то смысле она так и заканчивается. В решительной битве при Шрусбери Хел честно принимает на себя обязанности принца Уэльского. Он сражается бок о бок с отцом и защищает его при атаке Дугласа (шекспировская вольность: в хрониках эпохи нет эпизода с отражением атаки; напротив, Дуглас ранит короля). Благодарность Генриха IV не знает границ: «Ты искупил свою дурную славу»[53] (V, 4), — говорит он, подхватывая тему искупления из монолога Хела; очевидно, пробил час намеченного преображения. В сущности, отец и сын уже продемонстрировали, что между ними больше сходства, чем различия (что, как и во многих семьях, лежит в основе конфликта). Король Генрих распекает сына, который, по его мнению, «истрепал свой образ средь гуляк» (III, 2), примелькался всем и оттого не пользуется должным уважением. Очевидно, и принц, и король согласны, что мудрому и дальновидному государю следует тщательно дозировать публичное присутствие. Однако в заключительных сценах пьеса разом являет нам обещанное преображение героя и уклоняется от него. Король Генрих и Фальстаф — две совершенно несовместимые отцовские фигуры, но принц Хел должен каким-то образом примириться с обоими.
Тема воображаемых или реальных отношений между отцами и сыновьями очень важна для первой части «Генриха IV». Перед нами не только король Генрих и его наследник Хел, но и Нортемберленд и его наследник Хотспер. При этом в начале пьесы, когда король Генрих вслух завидует Нортемберленду и желает, чтобы «сказка обернулась былью, / И по ночам порхающая фея / Младенцев наших в люльках обменяла» (I, 1), его мечта о другом, лучшем сыне в некоторой степени оправдывает мечту Хела о другом отце. Беспутный карнавальный мирок Фальстафа дышит теплом и весельем (ну и конечно, парами хереса) — всем тем, чего не найдешь в аскетичном, изнемогающем под бременем войны королевском совете. В битве при Шрусбери, когда Дуглас сражается сначала с Генрихом IV, а затем с Фальстафом, мы видим, как две эти фигуры параллельно движутся к развязке, хотя ни разу не появляются на сцене одновременно. Несмотря на то что Хел встает на сторону отца-короля, он все же не торопится окончательно порвать с Фальстафом. Ему предоставляется возможность обличить Фальстафа: бесстыдного и бесчестного труса, который присваивает себе честь победы над Хотспером, колет мечом его труп и волочит к королю, надеясь получить награду. Однако Хел сознательно упускает шанс и решает промолчать. В финальной сцене он по-прежнему мечется между двумя отцами.
Преображение Хела пока под вопросом, что явственно следует из «сиквела» пьесы. Во второй части «Генриха IV» принц на время воссоединяется с Фальстафом, чем удручает венценосного родителя. Возможно, здесь сходятся воедино чисто физическая величина и неотразимое обаяние персонажа. Фальстаф слишком весом — в буквальном и переносном смысле, чтобы Хел смог вот так просто от него избавиться. Этический пафос пьесы, очевидно, конфликтует с драматической энергией. С точки зрения морали Фальстаф должен быть посрамлен и отвергнут. С точки зрения драматургической целесообразности его обязательно нужно сохранить. Возможно, Шекспир поневоле перестарался: позволил антагонисту Фальстафу выйти на первый план. Многие современные постановки «Генриха IV», где ему отводится центральная роль, генетически восходят к блистательной трагикомедии Орсона Уэллса «Полуночные колокола» (1965) — экранизации обеих частей пьесы, где Фальстафа сыграл сам Уэллс. Повышенное внимание к антигерою Фальстафу нарушает моральный телос притчи о блудном сыне, подменяя его коммерческим ходом, направленным на удовлетворение публики.
Финал первой части «Генриха IV» — это вовсе не конец. Хел помирился с отцом и в кои-то веки повел себя как истинный наследник престола. Он покончил с соперником, повстанцем Хотспером, и занял его место. Однако битва при Шрусбери — это еще не вся война; в последней сцене король идет раздавать приказы войску, чтобы продолжить бой с мятежниками. Точно так же Фальстаф остается неразрешенной и, вероятно, неразрешимой проблемой. Как выражаются экономисты, он слишком велик, чтобы рухнуть. В какой-то момент Фальстаф все же падает: при Шрусбери, в поединке с Дугласом, он валится на землю среди погибших воинов и притворяется мертвым. Хел произносит прощальную речь над телом Хотспера, а затем вздыхает о Фальстафе, не преминув напоследок упомянуть о его тучности: «Столь жирной дичи смерть не поражала» (V, 4). Принц покидает сцену, очевидно убежденный в смерти приятеля. За его уходом следует весьма выразительная ремарка: «Фальстаф восстает»[54]. Вот уж кто поистине восстает из мертвых, обретая почти божественный дар бессмертия — здесь он словно бы олицетворяет неистребимый дух само́й жизни, как сказал бы Гарольд Блум. Оставляя за спиной нагромождение тел, он сопротивляется историческому процессу, который должен был умертвить и его. Одна из первых фраз, обращенных Хелом к Фальстафу: «На кой черт тебе знать, который час?» (I, 2), — теперь обретает вполне серьезное звучание: Фальстаф и впрямь неподвластен времени. К истории он имеет примерно такое же отношение, как и к портрету мученика-лолларда Джона Олдкасла. Он как будто пребывает в ином измерении — не том, где живут остальные персонажи пьесы. Грузная туша Фальстафа высится посреди сцены живым вызовом историческому прагматизму с его стройными причинно-следственными конструкциями. Его фигура — антиисторическое «архитектурное излишество», заслонившее собою исторический сюжет. Фальстаф угрожает принципам преемственности, которые обеспечивают исторический прогресс, и тем самым тормозит ход истории. Из-за него мы пока не готовы к царствованию преображенного Хела — великого короля Генриха V. Вместо этого мы вновь получаем щедрую порцию Фальстафа во второй части «Генриха IV».
Глава 9. «Много шума из ничего»
У Шекспира есть блистательные злодеи. Ричард III, Яго в «Отелло», Эдмунд в «Короле Лире» — неутомимые адепты зла, которые возвели беззаконие в ранг персонального кредо. Они манят и ужасают нас в равной мере, затягивая прочих персонажей в свой нигилистический мир, демонстрируя болезненную, мучительную сложность отношений между палачом и жертвой. Они олицетворяют собой чудовищное обаяние зла, которое всегда на шаг опережает добро. На сцене из них всегда получаются великолепные, харизматические фигуры. Ну, почти всегда. Дон Хуан, злодей комедии «Много шума из ничего», кажется, не вышел ста́тью. Критики, обозвавшие Киану Ривза в солнечном фильме Кеннета Браны (1993) «картонным злодеем», кажется, проглядели суть образа. Картонный злодей — не Киану Ривз, а его персонаж, дон Хуан. Актер безупречно передает его ходульность. Так почему же все обитатели шекспировской Мессины попадаются на удочку этого бюджетного Яго, этого недозрелого Эдмунда, этого контрафактного Ричарда — и что их общая легковерность говорит нам об условностях этой романтической комедии?
Для начала разберемся, какую роль дон Хуан играет в сюжете. В начале комедии мы наблюдаем встречу двух гендерно различных миров: войско под командованием дона Педро возвращается в Мессину — город, где живут в основном старики и молодые женщины. Одним из отрядов командует дон Хуан, обозначенный в списке действующих лиц как «побочный брат» дона Педро. Сам он не подает голоса, пока к нему не обращается мессинский губернатор Леонато. Это молчание — типичный штрих к портрету шекспировского злодея. Мы помним Яго и Эдмунда как немногословных наблюдателей: они молчат, смотрят со стороны и собирают информацию, чтобы потом вернее завлечь жертву в сети. Мы узнаём, что между доном Хуаном и его законным братом доном Педро произошла некая ссора, однако теперь они примирились. (Неизвестно, была ли недавняя война вызвана этой ссорой — о ее причинах нам ничего не сказано.) Дон Хуан сам признаёт, что чужд ораторского искусства: «Благодарю. Я не люблю лишних слов, но… Благодарю»[55] (I, 1). Далее наше внимание переключается на сватовство Клавдио к губернаторской дочке Геро и на шутливую перепалку Беатриче с Бенедиктом — бравым офицером из войска дона Педро.
В третьей сцене мы наблюдаем, как дон Хуан, уже в полноценном амплуа злодея, разговаривает со своим приспешником Конрадом. Дон Хуан являет картину угрюмой меланхолии, сознаваясь, что у печали его нет границ. Презирая «намордник» — то есть унизительный мирный договор, навязанный ему братом, — дон Хуан выбирает путь радикальной откровенности. В отличие от тех шекспировских злодеев, которые сознательно носят маску (или даже, подобно Яго, в открытую утверждают: «Я — не я»[56]), дон Хуан заявляет, что неспособен на притворство: «Я не умею скрывать свои чувства: когда у меня есть причина для печали, я должен быть печальным и ни на чьи шутки не улыбаться» (I, 3). Он очень своеобразный злодей: его отличительная черта — не коварство и скрытность, а полная прозрачность сути: «…Никто не станет отрицать, что я откровенный негодяй» (I, 3). В этот момент приходит известие о скорой женитьбе Клавдио — «правой руки» дона Педро. Дон Хуан незамедлительно отмечает: «Пожалуй, тут есть на чем сорвать мою досаду. Этот юный выскочка — причина моего падения, и, если я хоть как-нибудь сумею насолить ему, я буду очень счастлив» (I, 3). Раз Клавдио занял место дона Хуана подле его брата, дон Хуан постарается испортить ему свадьбу.
Как мы уже видели, простая схема романтической комедии — «парень встречает девушку» — устраивает Шекспира далеко не всегда. Иногда парень действительно встречает девушку в самом начале, но дальше все становится очень сложно. Например, «парень встречает девушку, чем сильно злит других парней — своих приятелей» или даже «парень встречает девушку и соглашается на этот вариант, потому что парень, которого он действительно любит, недосягаем». Вообще, романтические комедии эпохи Возрождения, включая и шекспировские пьесы, создавались преимущественно для мужской аудитории. Неудивительно, что центральное место в них отводится отношениям между мужчинами. «Много шума из ничего» — яркий образчик шекспировского броманса[57], как дает нам понять дон Хуан. Дон Педро уже обещал Клавдио добиться руки Геро от его имени, так что сватовство обретает вид договора между Клавдио, доном Педро и Леонато — практически без участия самой Геро. Жених с невестой впервые обмениваются репликами лишь в сцене венчания, а в победоносном заявлении дона Педро: «Знай, Клавдио, я посватался от твоего имени, и прекрасная Геро согласна. Я переговорил с ее отцом — он тоже согласен. Назначай день свадьбы» (II, 1) — явно кое-чего не хватает. Например, недвусмысленного согласия девушки. Геро молчалива отчасти потому, что ее голос не имеет значения. Она лишь предмет сделки между всесильными мужчинами; ее присутствие укрепляет сеть мужских взаимоотношений, на которых держится сюжет пьесы.
Маскарад дает дону Хуану возможность для козней и интриг. Он притворяется, будто принял ряженого Клавдио за Бенедикта, и нашептывает, что дон Педро в действительности сам хочет взять Геро в жены. Судя по реакции, наивный Клавдио сразу и безоговорочно верит этой искусной лжи: «Так, значит, принц хлопочет за себя!» (II, 1) Более того, молодой человек быстро находит оправдание для принца: «…растает верность / В крови от чар колдуньи-красоты» (II, 1). Словом, виновата Геро. Клавдио рационализирует ситуацию, чтобы его отношения с доном Педро не пострадали от мнимого предательства. Вскоре истина торжествует, однако дон Хуан не сдается и плетет интриги против Клавдио, надеясь облегчить собственные терзания: «…каждое препятствие будет лекарством для меня» (II, 2). На сей раз его вмешательство должно непоправимо запятнать честь Геро. Дон Хуан планирует привести Клавдио и дона Педро к балкону, где камеристка по имени Маргарита изобразит хозяйку в объятиях любовника. Он заранее готовит почву, намекая, что «девушка нечестна» (III, 2), и обещает предъявить доказательства. Клавдио клянется осрамить Геро при всех прямо в церкви, если обвинение подтвердится, и дон Педро поддерживает его решение, тем самым подтверждая, что союз Клавдио и Геро на самом деле альянс между Клавдио и доном Педро: «А я, который был твоим сватом, присоединюсь к тебе, чтобы опозорить ее» (III, 2). Ни одному из них не приходит в голову удивиться, с чего это вдруг дон Хуан так печется об их чести и репутации; никто не вспоминает о его былых выходках. Побочный сын дон Хуан ведет себя как ублюдок в старинном и в современном значении этого слова, однако все остальные, кажется, в упор не замечают прозрачного намека на его подлинную сущность.
Итак, дон Хуан не прилагает особых усилий, чтобы скрыть злонравие; с самого начала пьесы на нем стоит клеймо бастарда, то есть незаконнорожденного; его первая попытка расстроить свадьбу Клавдио с треском проваливается. Так почему же Клавдио и дон Педро так легко ему верят? Причина здесь скорее жанровая, чем психологическая. В классической «новой» комедии Плавта и Теренция, к которой нередко обращался Шекспир, был стандартный набор персонажей с однотипными сюжетными функциями: влюбленные; хитрые слуги; хвастливые воины. Как правило, в «новой» комедии важную роль играл и «установитель запретов», персонаж-помеха, например упрямый отец, который не дает согласия на брак влюбленной пары. Эту фигуру можно увидеть и в «Двух веронцах», «Венецианском купце» или «Сне в летнюю ночь»; борьба с отцовской волей составляет значительную часть комедийного сюжета. Однако в комедии «Много шума из ничего» привычная роль вредителя словно бы отдана на сторону. Патриарх семейства Леонато счастлив выдать дочь за Клавдио. А уж поженить Беатриче с Бенедиктом мечтают, кажется, все герои без исключения. (Между делом можно отметить: «Много шума из ничего», пожалуй, первая шекспировская комедия, где главная помеха счастью героев скорее психологическая, чем внешняя. Препятствия, которые нужно преодолеть ради благополучного финала, кроются в характерах, а не в обстоятельствах. В основе линии Беатриче и Бенедикта лежат не сложные перипетии сюжета, а очень даже близкие нам личностные проблемы: эмоциональная незрелость, страх перед обязательствами и т. п., — вот почему она представляется такой современной.) В отсутствие других вредителей эту роль берет на себя дон Хуан: его соперничество с другими мужчинами на время уводит сюжет от счастливой гетеросексуальной развязки. Иными словами, ему верят потому, что в пьесе нужен камень преткновения — чисто функциональный элемент, который замедлит ход действия и отложит неминуемый финал в виде свадебного пира.
Вредитель — стандартный персонаж для шекспировской комедии, однако дону Хуану отводится несколько иная роль, нежели у антагонистов в первоисточниках, которыми пользовался Шекспир. История добродетельной женщины, ставшей жертвой навета, — расхожий сюжет в литературе раннего Нового времени (Шекспир пользуется им в самых разных пьесах — от «Виндзорских насмешниц» до «Зимней сказки»). В поэме, которая вдохновила Шекспира в данном случае — «Неистовом Роланде» Ариосто, — мотивом клеветы выступает мужская ревность. Аналоги дона Хуана отвергнуты героиней и потому стремятся очернить ее. Шекспир и сам не прочь использовать мотив любовного соперничества между мужчинами; примером могут служить заглавные пары персонажей в «Двух веронцах» и «Двух знатных родичах». Однако здесь мы наблюдаем иную расстановку сил. Бернард Шоу назвал дона Хуана «подлинным, прирожденным злодеем, у которого нет иного мотива кроме любви к дурным делам», но, возможно, некий мотив у него все же есть. Дон Хуан запускает ход сюжета, где узы между мужчинами сами по себе служат основной преградой на пути к финалу. Его разрушительные поступки очевидным образом вписаны в более широкую картину мужских взаимоотношений и той угрозы, которую они представляют для комедийной развязки.
Почти во всех шекспировских комедиях изображен судьбоносный момент, когда юноша должен отринуть узы привязанности к друзьям своего пола ради романтического гетеросексуального союза. Молодые люди елизаветинской эпохи многое узнавали про этот обряд инициации как раз из театральных постановок. Так, в заключительной сцене «Венецианского купца», когда Порция устраивает Бассанио допрос с пристрастием и вынуждает сознаться, что он отдал обручальное кольцо, она, в сущности, доносит до супруга и молодых зрителей важное послание: теперь ты со мной. В главе, посвященной комедии «Двенадцатая ночь», мы увидим, как эта дилемма удобным образом снимается для Орсино, чья любовь к переодетому «Цезарио» благополучно перетекает в форму брака. Счастливчику Орсино не приходится выбирать между другом и возлюбленной — он получает сразу обоих. Однако ни в одной пьесе эта драма мужских метаний не изображена так откровенно, как в «Много шума из ничего». Проведя бо́льшую часть пьесы за флиртом и шуточными перепалками, Беатриче и Бенедикт, которые якобы ненавидят друг друга, наконец признают свои истинные чувства в разгар скандала со злополучной свадьбой Геро. «Клянусь, что я люблю тебя», — говорит Бенедикт. «…Я уж готова была поклясться, что люблю вас», — отвечает Беатриче. Едва они успевают открыть друг другу сердца, наступает момент рокового выбора. «Прикажи мне сделать что-нибудь для тебя», — предлагает Бенедикт, опьяненный взаимным чувством. Беатриче незамедлительно отдает суровый приказ: «Убейте Клавдио!» (IV, 1) Конечно, он вполне оправдан с сюжетной точки зрения: Клавдио только что проявил небывалую жестокость к отвергнутой невесте, Геро. Однако причинно-следственные связи здесь отнюдь не столь однозначны. Можно утверждать, что разрыв между Бенедиктом и Клавдио не просто подсказан ходом этого конкретного сюжета, а продиктован логикой романтического сюжета вообще. Выбрать Беатриче — означает убить Клавдио.
Цена, которую должен заплатить Бенедикт, высока, однако вполне предсказуема в контексте пьесы. То, что любовь и брак полагают конец некоторым видам отношений между мужчинами, ностальгически отмечено в первых же сценах. Когда войско возвращается в мирный город, ритуалы мужского братания заменяются перестрелкой остротами между Беатриче и Бенедиктом. Бравые воины, которые еще вчера бесстрашно отправлялись на вылазки в стан врага, сегодня раз за разом упражняются в искусстве подслушивания и подглядывания под балконом Геро. В финальном эпизоде долгоиграющего романтического ситкома «Друзья» воссоединение гетеросексуальных пар, которым завершается сюжет, как будто обрывает однополые дружеские отношения. Их утрата обозначена через демонтаж настольного футбола в холостяцкой квартире Джоуи — важнейшего символа мужской дружбы. Нечто подобное происходит и у Шекспира. Как только мужчины переключают внимание с дружбы на любовь, между ними возникают трения. Бенедикт сокрушается из-за Клавдио, который теперь предпочитает «женственные» тамбурин и флейту боевым трубам и барабанам и обдумывает фасон нового колета, вместо того чтобы носить доспехи. Прежние мужские забавы окончены; теперь Клавдио больше интересует прекрасный пол. С подачи дона Хуана он начинает опасаться, что его друг дон Педро добивается Геро для себя. Воинский кодекс чести — сначала братья, девушки потом — вступает в конфликт с динамикой романтического сюжета.
Дону Хуану верят потому, что мужчины в мире этой пьесы вообще гораздо больше склонны доверять другим мужчинам, нежели женщинам. Когда Клавдио у алтаря обвиняет Геро в неверности, он обращается не к ней, а к ее отцу, словно бы подчеркивая, что брак — в первую очередь сделка между мужчинами: «Возьмите ж дочь обратно, Леонато. / Гнилым плодом не угощайте друга» (IV, 1). Позорен не столько сорвавшийся брак, сколько нарушенный договор между друзьями мужского пола. Леонато верит обвинителю дочери на слово и в пылу стыда — столь же острого, сколь недолговечного — восклицает: «Не открывай глаза для жизни, Геро!» (IV, 1) И только Беатриче ни секунды не сомневается в честности кузины.
Пожалуй, стоит отметить отсутствие одной фигуры в этой сцене, где гендерная политика так жестко разводит персонажей по окопам. В ранних текстах комедии есть указания, что Шекспир изначально планировал включить в состав действующих лиц не только отца, но и мать Геро и даже придумал ей имя — Инногена. Первое издание пьесы, опубликованное в 1600 году, открывалось ремаркой: «Входят Леонато, губернатор Мессины, его супруга Инногена, его дочь Геро и племянница Беатриче, в сопровождении гонца». Затем призрак Инногены появляется в указаниях к еще одной сцене. Однако у Инногены нет ни единой реплики, и большинство шекспироведов полагают, что в ходе работы над пьесой образ оказался лишним и исчез, а ремарки случайно перекочевали в первое издание из черновиков. Эта история не лишена интереса в контексте шекспировского отношения к матерям вообще (они, как правило, отсутствуют; представим себе королеву Лир, старую герцогиню из комедии «Как вам это понравится» или миссис Просперо в качестве возможных героинь для второго сборника феминистской поэзии Кэрол Энн Даффи[58]). Как бы то ни было, устранение материнского образа оставляет двух молодых героинь без всякой поддержки. Сцена сорванного венчания подчеркивает их беспомощность и уязвимость в сугубо патриархальном мире. Что сказала бы Инногена мужу, который отрекся от дочери по навету неопытного вояки и угрюмого злопыхателя? Вероятно, такой сдвиг в расстановке сил между мужским и женским лагерями был бы Шекспиру совсем некстати; словом, исчезнувший образ Инногены показывает нам гендерную политику пьесы в действии.
Несмотря на то что прямоте и искренности мужских отношений нанесен серьезный удар, в финале можно сказать, что мужское братство все же выстояло. Женская сексуальность с ее предполагаемым коварством — явно «неуютная» тема в пьесе. В самом начале Леонато шутит насчет своего отцовства, отвечая на невинный вопрос дона Педро «Это, вероятно, ваша дочь?» сомнительной остротой: «По крайней мере ее мать не раз мне это говорила» (I, 1). Даже после того как непорочность Геро доказана, а козни дона Хуана изобличены, супружеская измена остается главной темой мужских разговоров (причем в центре внимания скорее отношения мужа и любовника, чем любовника и жены). «У вас, принц, унылый вид. Женитесь, женитесь! — под занавес говорит Бенедикт выполнившему свою миссию дону Педро. — Плох тот посох, у которого на конце нет рога» (V, 4). Разумеется, он намекает на символическое «украшение» рогоносца. В конце пьесы женская неверность провозглашается неотъемлемой частью брака, хотя именно такие воззрения едва не увели сюжет от счастливой развязки.
Словно признавая неснятое подспудное напряжение, последние строки пьесы возвращают нас к дону Хуану: он «схвачен / И приведен под стражею в Мессину» (V, 4). В некоторых постановках его выводят на сцену в цепях и кандалах, чтобы показать: зло пресечено и наказано. Дон Хуан, безусловно, олицетворяет собой атмосферу недоверия в пьесе, однако он далеко не единственный источник подозрений. В конце концов, он в самом прямом смысле играет незначительную роль: на его долю приходится около четырех процентов строк в пьесе. Но в то же время он выступает символом чего-то большего и, вероятно, именно потому представлен побочным сыном. Лежащее на нем клеймо бастарда свидетельствует: женщины способны искать — а некоторые и находят — удовольствия вне супружеской постели. Незаконнорожденный дон Хуан — живое обоснование страхов по поводу женской неверности. Его статус подтверждает худшие мужские опасения в пьесе.
Неудивительно, что сплетенная им интрига сулит и персонажам, и зрителям пикантную, если не порнографическую, сцену в спальне Геро — зрелище, которое должно раз и навсегда закрепить стереотипный образ женщины как прирожденной изменницы. Отныне она «дочь Леонато, ваша Геро, чья угодно Геро» (III, 2). Однако в действительности мы не видим запретного свидания: никаких фигур в освещенном окне спальни или на балконе, никакой дешевой, сальной версии «Ромео и Джульетты». Издевательское обещание дона Хуана: «Не стану больше порочить ее, пока вы сами не увидите все. Потерпите до полуночи — дальнейшее само за себя скажет» (III, 2) — понапрасну будоражит зрительскую фантазию. Следом за стиснутыми челюстями и играющими желваками Клавдио и принца нам показывают комическую сцену с учениями неуклюжих стражников под началом глуповатого Кизила, затем свадебные приготовления Геро и ее камеристок, затем опять Кизила с его ватагой и, наконец, церковь, где должно состояться венчание. Ключевой эпизод с мнимой изменой Геро в сценарии отсутствует. При этом никаких технических препятствий к его изображению нет, и в прозаических источниках сюжета мы видим тщательно продуманную и прописанную конструкцию с окном и приставной лестницей. Остается предполагать, что, подобно исчезнувшей фигуре матери, этот эпизод удален вполне осознанно.
Такой выбор, как и устранение Инногены, влечет определенные драматургические последствия. Давайте задумаемся о том, что происходит, когда сцену мнимой измены все-таки включают в постановку — это поможет понять, почему ее нет в авторской версии. В целом недостающий эпизод вставляют ради того, чтобы вывести пьесу к счастливому концу. Режиссер словно бы хочет сказать зрителю: ошибка Клавдио понятна и простительна, дон Хуан придумал убедительную ложь, не надо слишком строго судить юношу за легковерность. Мы видим то же самое, что видит он (или думает, что видит). Доказательства и впрямь выглядят весомо. Можно ли винить бедного обманутого Клавдио? Как правило, такое прочтение сопровождается иными режиссерскими вольностями — например, добавляется сцена, где Клавдио страдает из-за мнимой смерти Геро, или же удаляется малоприятный эпизод, в котором ничуть не опечаленные Клавдио и дон Педро подшучивают над пожилым отцом и дядюшкой невесты. Когда у юного Роберта Шона Леонарда в фильме Кеннета Браны трогательно дергается кадык, хочется немедленно простить этому Клавдио поспешные обвинения.
Однако в шекспировской версии никакой сцены под окном или балконом спальни Геро нет; следовательно, Клавдио не получает никакого зримого подтверждения словам дона Хуана. В этом Шекспир решительно расходится со своими источниками: его Клавдио куда более легковерен и жесток, чем герои-любовники, о которых читал он сам. Клавдио предпочитает публично опозорить Геро в день свадьбы, нежели обвинить ее с глазу на глаз. Более того, он представляет себе эту сцену еще до того, как получает доказательства измены: «Если я увижу этой ночью что-нибудь такое, что помешает мне жениться на ней, я завтра в той самой церкви, где хотел венчаться, при всех осрамлю ее» (III, 2). Словом, если линия Беатриче и Бенедикта с их любовными пикировками выглядит вполне узнаваемой и актуальной, то линию Клавдио и Геро гораздо сложнее сделать приемлемой для современного зрителя. В телевизионном цикле компании Би-би-си «Шекспир на новый лад» (2005) действие этой комедии перенесено в редакцию телеканала. В этом современном антураже прекрасно прижились все: вечно препирающиеся Беа и Бен — дикторы новостей; по-мальчишески неуклюжий Клод — спортивный комментатор; очаровательная Геро — ведущая прогноза погоды. Однако есть один элемент, который никак не вписывается в новую картину. Геро не может простить Клода и с распростертыми объятиями принять его обратно (или, точнее, в современном контексте такой конец уже не будет счастливым). Именно поэтому Би-би-си вкладывает в уста персонажей такой диалог:
КЛОД. Может, когда ты немножко подумаешь, мы сможем вернуться к тому, на чем остановились?
ГЕРО. К свадьбе? Да я за тебя не выйду и через миллион лет!
КЛОД. Ну ладно, может, не в обозримом будущем, но…
И все же, какой бы незавидной и жутковатой участью ни представлялся брак, он необходим с социальной точки зрения, что скрепя сердце признает Бенедикт: «Нет, мир должен быть населен!» (II, 3) Словно в голливудской эксцентрической комедии (вроде «Воспитания крошки» и «Его девушки Пятницы» Говарда Хоукса), вечные перепалки Бенедикта и Беатриче служат формой любовной прелюдии. Мы чувствуем, что герой с героиней должны быть вместе, ведь их игривые диалоги свидетельствуют о подлинной близости. Нужно лишь немного помочь им, подтолкнуть в нужном направлении. Примечательно, однако, какая мощная кампания разворачивается для того, чтобы превратить этих двух закоренелых холостяков, этих потенциальных одиночек в пару. Их изначальный отказ от норм и традиций раззадоривает всех остальных. Оба заявляют, что не собираются вступать в брак, — и целое сообщество пускается во все тяжкие, лишь бы их переубедить. А уж в тесном мирке Мессины личная жизнь всегда на виду. Почти все эпизоды и разговоры в пьесе слышит или наблюдает кто-нибудь посторонний: от первых слухов о сватовстве Клавдио до неосторожной болтовни Борачио, которая приводит сюжет к благополучной развязке. Зрительское присутствие повышает степень прозрачности и обозримости этого мира, где неприкосновенная личная жизнь часто приносится в жертву принудительной общности (почти в духе Оруэлла, только на комический сицилийский манер).
Если не мотивы, то средства, за счет которых достигается романтическая развязка в этой линии, удивительно напоминают тактику дона Хуана. Иными словами, и мессинские благожелатели, и мессинские вредители избирают один и тот же образ действия. Подобно Клавдио и дону Педро под окном спальни Геро, Беатриче и Бенедикт искренне считают, что случайно подслушали спектакль, который в действительности был нарочно поставлен, чтобы донести до них определенную (дез)информацию. Помимо всего прочего, Беатриче слышит, как ее упрекают в гордыне и высокомерии за отказ выйти замуж. (Мимоходом можно отметить, что намеренное одиночество — удел, который заказан комическим героиням Шекспира. Вспомним Оливию в «Двенадцатой ночи», Катарину в «Укрощении строптивой» или Изабеллу в комедии «Мера за меру» — всех героинь, которые изначально чурались брака, но в итоге оказались у алтаря, приведенные туда настойчивым сюжетом.) В сущности, Беатриче слышит, что должна вести себя женственнее — в традиционном понимании женственности. Сцена, в которой кузина перечисляет заблуждения и недостатки Беатриче, фактически зеркальна воображаемой сцене «прелюбодеяния» Геро. Оба эпизода исподволь устанавливают некую норму, эталон женского поведения, который используется для оценки героинь. Самоотречение Геро, безропотно принимающей новое сватовство Клавдио, показывает, как послушно она извлекла урок из проступка, которого не совершала, но тем не менее словно бы записывает на свой счет: «Та [Геро] умерла запятнанной, а я / Живу и, так же как жива, невинна» (V, 4). И Геро, и Беатриче познают смирение перед лицом обмана.
Итак, дону Хуану верят и персонажи, и сюжет, потому что через всю пьесу проходят две «силовые линии», обеспечивая повествовательное напряжение. Первая укрепляет и восстанавливает узы между мужчинами и, следовательно, противоречит духу комедии. Вторая заставляет мужчин присягнуть на верность женщинам и таким образом подчиняется законам комического жанра. Дон Хуан подталкивает сюжет в сторону трагедии, и в какой-то момент пьеса поддается — предъявляет нам монаха и безумную затею: исправить сложную семейную ситуацию, инсценировав смерть девушки. Этот прием замечательно сработал в «Ромео и Джульетте» — пьесе, тогда уже прекрасно известной публике. Подобно другим злодеям, и не только в комедиях, дон Хуан олицетворяет собой альтернативное мировоззрение — не то, которое победит в итоге. Однако, когда противоположные убеждения и системы ценностей сходятся в битве, мы видим, что версия дона Хуана все же находит некоторую поддержку в коллективном (под)сознании. Мужчины в пьесе ищут оправдания, предлога, который позволил бы им соскочить с крючка брачных обязательств; дон Хуан обеспечивает этот предлог. В конечном счете ему верят потому, что все мужчины в пьесе — кроме Бенедикта — втайне питают слабость к его женоненавистнической картине мира.
В итоге коварную интригу дона Хуана разоблачают самые неожиданные «сыщики»: туповатый пристав Кизил (чью роль исполнял лучший комик слуг лорда-камергера, актер Уилл Кемп) и его столь же недалекие помощники. В каком-то смысле они недостойные противники для главного злодея, но в то же время сама их глупость есть триумф комического начала. Дон Хуан понимает: вредитель-женоненавистник обязательно окажется на проигравшей стороне романтической комедии. Ему просто нужно немного выждать и нарастить злодейские мышцы. На горизонте уже маячит новый псевдоитальянский мир, куда более гостеприимный к антиромантическим интриганам: мир, где уже не будет докучных стражников, — Венеция «Отелло».
Глава 10. «Юлий Цезарь»
Есть правила, которым обыкновенно подчиняются шекспировские трагедии. Во-первых, они названы именем главного героя: «Макбет», «Король Лир», «Отелло». Иногда протагонистов бывает двое: «Ромео и Джульетта», «Антоний и Клеопатра». Во-вторых, канва сюжета в основном следует биографическому принципу: действие заканчивается со смертью главного героя или героев. Когда Макдуф убивает Макбета, а у короля Лира разрывается сердце, мы инстинктивно чувствуем: до конца осталось недолго. Пьеса не может продолжаться без центральной фигуры, у нее просто нет больше жизненных сил. Однако «Юлий Цезарь» — исключение из правил. В этой трагедии Шекспир идет на эксперимент: выстраивает действие вокруг героя, который гибнет в разгар драматических событий. Более того (или менее того), сам Цезарь появляется всего лишь в пяти сценах, хотя его призрак и память о нем тревожат остальных героев и после его смерти в третьем акте. Кульминация пьесы приходится на середину. Сюжет подводит нас к основному событию — политическому убийству, а затем предъявляет его последствия: затухающие толчки после землетрясения. Конструкция пьесы нарушает принцип телеологии: действие движется не к концу как к закономерному итогу, а к середине.
Это наблюдение может показаться очевидным и тривиальным, однако здесь мы видим структуру, отличную от той, что Шекспир обычно применяет для подобных сюжетов. Он неоднократно изображает убийство монарха или видного политического деятеля, но наиболее показательны два примера — один более ранний, другой более поздний, чем «Юлий Цезарь». Историческая пьеса «Ричард II» завершается смертью Ричарда, что, как мы помним из главы 4, влечет за собой серьезные последствия драматургического характера. Во-первых, сюжет выстраивается как трагический, ведь он организован вокруг жизни и смерти главного персонажа. Во-вторых, нам не показывают непосредственного воздаяния за убийство правителя. Новый король Генрих заявляет, что душа его исполнена скорби, однако до финала остаются считаные секунды, и наказание просто не успевает настигнуть виновного. Итак, сюжет «Ричарда II» подготавливает и выводит нас к сцене убийства. Более поздняя трагедия — «Макбет» — показывает аналогичное событие под другим углом: эта пьеса повествует именно о расплате. Король Дункан гибнет в начале второго акта; далее мы во всех подробностях лицезреем распад власти и распад личности, неотвратимо следующие за убийством. Таким образом, «Макбет» структурно и этически противоположен «Ричарду II». «Юлий Цезарь» находится между этими двумя полюсами; мертвое тело Цезаря словно бы символизирует роковой раздел между прелюдией к убийству и временем пожинать его плоды.
С этими структурными моментами связана и проблема названия. Пьесы «Ричард II» и «Юлий Цезарь» названы именами убитых государей; «Макбет», разумеется, носит имя убийцы. В середине ХХ века литературоведов отчего-то интересовал вопрос: не лучше ли было назвать пьесу «Трагедия Брута»? В самом деле, сцена, в которой Брут рассуждает о грядущем убийстве, во многом предвосхищает «Макбета». Будучи один, в собственном саду, Брут начинает монолог будто бы с конца: «Да, только смерть его»[59] (II, 1). Далее он ищет и находит оправдание убийству — не в том, что Цезарь уже сделал, а в том, что может сотворить в дальнейшем:
- Пусть будет он для нас яйцом змеиным,
- Что вылупит, созрев, такое ж зло.
- Убьем его в зародыше.
Если Брут в этот момент замышляет убийство Цезаря, то Шекспир замышляет историю Макбета. Как и его шотландский «преемник», Брут не может заставить себя назвать убийство убийством и говорит обиняками. Первая фраза монолога в саду «Да, только смерть его» отчетливо перекликается со словами Макбета: «Когда конец кончал бы все, — как просто! / Все кончить сразу!»[60] (I, 7) Брут рассуждает о смерти Цезаря, но не смеет вслух произнести, что станет ее причиной. Макбет стыдливо называет убийство государя «делом»[61]. Параллели возникают и в дальнейшем. Так, Брут признаётся:
- Я сна лишился с той поры, как Кассий
- О Цезаре мне говорил.
- Меж выполненьем замыслов ужасных
- И первым побужденьем промежуток
- Похож на призрак иль на страшный сон.
Похоже, Шекспиру уже грезится истерзанный бессонницей Макбет, который «зарезал сон» (II, 2). Жена Брута Порция, подобно леди Макбет, рвется к мужу в союзницы, но все же не перерастает той роли, которая обыкновенно отведена женщинам в английских исторических пьесах, и остается на задворках политической жизни, как жена Хотспера в первой части «Генриха IV». Сама структура пьесы — полутрагедии-полухроники — оставляет широкий простор для этических разночтений. Подобно симпатиям римского народа, фокус сюжета в итоге смещается с заговорщиков на мстителей. Драматический расклад меняется так же стремительно, как и расстановка политических сил, и ни одному персонажу не удается занять место Цезаря как средоточия пьесы.
Как мы уже отмечали в главе о «Ричарде II», обязательным упражнением для всех школьников-елизаветинцев была дискуссия in utramque partem, то есть от лица обеих сторон. Пожалуй, это был необычайно полезный опыт для будущего драматурга. В стандартный набор тем для обсуждения входило и убийство Цезаря, в частности вопрос о том, можно ли оправдать действия Брута. Данте поместил Брута вместе с Кассием и Иудой в самый центр своего Ада. Таким образом, в конце XVI века заговор против Цезаря воспринимался как один из самых этически спорных эпизодов классической истории. Эта моральная дилемма уже присутствует в сознании убийц Цезаря; иными словами, хоть события пьесы и представлены словно бы в режиме реального времени, в них наперед заложена дальнейшая перспектива. Все мы — и зрители, и герои — знаем эту историю еще до ее начала. Цезарь, Брут и прочие персонажи — заложники своей посмертной славы. Следовательно, в основе пьесы лежит своего рода двойное ви́дение. Действие происходит параллельно сейчас — в настоящем времени — и тогда, в прошедшем; перед нами разом и история, то есть события в прошлом, и современный рассказ об этих событиях. «Убьем его бесстрашно, но беззлобно. / Как жертву для богов его заколем, / Но не изрубим в пищу для собак» (II, 1), — призывает Брут собратьев-заговорщиков. Вопрос о том, как представить свое деяние и как оно будет истолковано, возникает еще на стадии подготовки. Убийство Цезаря изначально было задумано как пьеса политического театра: смонтированное, срежиссированное, по определению постановочное действо.
Трагедия «Юлий Цезарь» — это и картина события, и комментарий к нему, что признают и сами убийцы над окровавленным телом жертвы:
- …Римляне, склонитесь,
- Омоем руки Цезаревой кровью
- По локоть и, мечи обрызгав ею,
- Идемте все немедленно на форум
- И, потрясая красное оружье,
- Воскликнем все: «Мир, вольность и свобода!»
- Склонясь, омойтесь. Ведь пройдут века,
- И в странах, что еще не существуют,
- Актеры будут представлять наш подвиг.
- И снова кровью истечет наш Цезарь,
- Лежащий здесь, у статуи Помпея,
- Как прах ничтожный.
- Да, и каждый раз
- Нас, совершивших это, назовут
- Людьми, освободившими отчизну.
Едва совершенное, убийство Цезаря уже подлежит вольному пересказу и творческой интерпретации. Преступление незамедлительно обращается в сырье для драматического сюжета. «Страны, что еще не существуют» — это Англия 1599 года: настоящее и будущее иронически перемешиваются; обагренные кровью убийцы словно бы позируют на камеру истории.
С самого начала в «Юлии Цезаре» необыкновенно важен мотив надлежащего истолкования событий. Кальпурнии, жене Цезаря, снится вещий сон — яркий образчик этого толковательного процесса:
- Ей снилось, будто статуя моя
- Струила, как фонтан, из ста отверстий
- Кровь чистую и много знатных римлян
- В нее со смехом погружали руки.
- Сон кажется ей знаменьем зловещим,
- И, на колени встав, она молила,
- Чтобы остался я сегодня дома.
Наше собственное знание о судьбе Цезаря придает этому сну любопытное качество — разом и пророческое, и ретроспективное, что вообще характерно для рассуждений о будущем в исторической драме. Однако это видно стороннему взгляду; внутри самой пьесы Деций ловко перетолковывает сон как метафору:
- Но этот сон неверно истолкован,
- Значение его благоприятно:
- Из статуи твоей струилась кровь,
- И много римлян в ней омыло руки, —
- И это значит, что весь Рим питаем
- Твоею кровью и что знать теснится
- За знаками отличья и наград.
- Вот все, что сон Кальпурнии вещает.
Он предлагает заведомо неправильную интерпретацию, намереваясь убедить Цезаря пойти на Капитолий, где тот как раз и обратится в фонтан крови, в котором омоют руки убийцы. Деций весьма убедителен в своем обмане. Интерпретации бывают не столько верные и неверные, сколько убедительные и неубедительные. Важно то, чему верят.
Толкование сна Кальпурнии наглядно показывает, как интерпретация может затмить и подменить собой само явление или событие. Здесь мы фактически вступаем на территорию французского постмодерниста Жана Бодрийяра с его знаменитым утверждением, будто никакой войны в Персидском заливе в действительности не было и показанное нам по телевизору не более чем бесконечная цепь медийных симулякров, за которыми кроется пустота. Шекспир и впрямь нередко обыгрывает пустоту за нашими интерпретациями: отказывается показать событие, подменяя его позднейшими версиями и альтернативными прочтениями. Именно этот прием используется в начале пьесы. Брут и Кассий обсуждают склонность Цезаря к деспотизму и тирании под звук оваций и приветственных криков. Они трактуют этот шум как ликование толпы, подносящей корону своему вождю, Цезарю. Цезарь — за сценой — несколько раз отвергает предложенный венец, однако это не рассеивает подозрений в его адрес. Поскольку сами мы не видим происшедшего, то не можем судить, был ли это хитрый политический ход (на самом деле Цезарь хочет короноваться, но знает, что такие желания нельзя проявлять перед народом) или же он искренне не хочет становиться правителем. Когда Каска добавляет к этому свою версию: «…как мне показалось, он едва удержался, чтобы не вцепиться в нее [корону] всей пятерней» (I, 2), верное суждение представляется уже не столько невозможным, сколько ненужным: в конце концов, во что верит и во что хочет верить народ?
Эта бесконечная череда интерпретаций — можно сказать, герменевтическая прослойка пьесы — подготавливает нас к самому знаменитому акту перетолкования в «Юлии Цезаре»: монологу Марка Антония («Друзья, сограждане, внемлите мне…»). Ступив на трибуну, Антоний мастерски переманивает толпу на свою сторону и опровергает доводы Брута, предоставив новую информацию о Цезаре. Он рассказывает о завещании Цезаря, согласно которому тот оставил каждому римскому гражданину по семьдесят пять драхм, а все свои виллы и сады повелел на веки вечные открыть для народных гуляний. Интересно, что мы так и не получаем тому подтверждения: свиток с завещанием, которым размахивает Марк Антоний, служит скорее реквизитом, чем доказательством. Мы не можем убедиться лично, но, как показывает речь Марка Антония, нас можно убедить. Эта длинная сцена замедляет ход действия после кровавой суматохи убийства. Антоний подчеркивает логическое противоречие между многочисленными свидетельствами щедрости Цезаря и заявлениями Брута о его властолюбии, прибегая к знаменитому риторическому повтору: «Брут весьма достойный человек» (III, 2). Простое повторение этой фразы служит одной главной цели: предложить альтернативную трактовку события. С каждым разом смысловой оттенок немного изменяется, пока наконец фраза не обретает прямо противоположное ироническое значение: по версии Антония, Брут — человек отнюдь не достойный.
Тема истолкования и перетолкования получает неожиданный поворот в сцене, которая часто отсутствует в современных постановках. После гибели Цезаря на сцене происходит еще одно убийство — предельно, подчеркнуто непохожее на весомое, в чем-то даже парадное историческое событие, явленное нам на Капитолии. Персонаж, которого мы ранее не видели и не слышали, подвергается нападению плебеев на улице Рима. Ему устраивают краткий допрос: кто он такой и отчего бродит по городу? Он называет имя и род занятий: поэт Цинна. Имя Цинны уже упоминалось в пьесе в связи с заговором. Несчастный поэт безуспешно пытается объяснить, что он другой Цинна и не имеет отношения к заговорщикам. Толпа бросается за ним в погоню с криками: «Рвите его! Рвите его!» (III, 3) Дальнейших сценических указаний по поводу его судьбы нет, однако принято считать, что поэт Цинна гибнет в бессмысленной кровавой вакханалии, символизирующей хаос и беззаконие смутных времен.
Пожалуй, вполне закономерно, что в пьесе о борьбе за право рассказывать историю Рима мелькает фигура поэта. Злополучный Цинна появляется в контексте конфликтующих версий, врывается на сцену в вихре коротких, рубленых фраз — какой контраст с длинными, плавными, закругленными ораторскими периодами Марка Антония! После исторически неизбежной, тщательно подготовленной гибели Цезаря, которую нам столь подробно, убедительно и красноречиво истолковали, мы вдруг видим случайное, трагически нелепое убийство. Смерть Цинны — часть структурного контраста. Она символизирует действие без слов или неспособность слова оказать должное воздействие. Мольбы Цинны кратки и беспомощны, в отличие от блистательного образчика ораторского искусства, который мы только что прослушали. Однако незамедлительным результатом возвышенной речи Антония становится варварский разгул толпы: «друзья» и «сограждане», которые внимали его трактовке убийства Цезаря, — это те самые плебеи, что теперь нападают на Цинну.
Кроме того, гибель Цинны словно бы в миниатюре воспроизводит основное событие пьесы. Первые слова поэта — о недавнем сне — сближают его с Цезарем и Кальпурнией:
- Мне снилось, что я с Цезарем пирую.
- Предчувствия гнетут воображенье;
- Я не хотел из дома выходить,
- Но что-то тянет прочь.
Плебеи набрасываются на него всей толпой, намереваясь «разорвать»: точно так же, как заговорщики стаей накидываются на Цезаря. Во многих отношениях эта сцена — отзвук убийства Цезаря, небольшой повторный толчок после разрушительного политического землетрясения. Переклички создают пародийный эффект. В эпизоде есть элементы гротескного юмора, тесно переплетенного с ужасом и абсурдом. Плебеи обрушивают на Цинну град вопросов: «Как твое имя?», «Куда идешь?», «Где ты живешь?», «Женат ты или холост?» За ними следует череда взаимоисключающих требований: «Отвечай всем прямо», «Да, и коротко», «Да, и толково», «Да, и правдиво, это будет лучше для тебя» (III, 3). Сцена исполнена мрачного комизма. Легко заметить, что между репликами нет ни малейшего зазора: поэт не может вставить ни слова. Когда Цинна пытается ответить на все вопросы разом, кажется, что он говорит свысока, а плебеи на его фоне смотрятся глупо и нелепо. Пожалуй, к этой сцене прекрасно подходит изречение Карла Маркса о том, как повторяется история. Маркс припоминал: «Гегель где-то отмечает, что все великие исторические события и личности появляются, так сказать, дважды. Он забыл прибавить: в первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса». Может быть, поэт Цинна и есть фарсовая ипостась трагического Цезаря? Какой цели служит здесь комический элемент: обеспечить публике и актерам эмоциональную разрядку после великих потрясений или подчеркнуть гротескную, но в прямом смысле убийственную серьезность разбушевавшейся толпы? Контрастирует ли этот эпизод со сценой убийства Цезаря или, напротив, поясняет ее? Как выглядит деяние Брута и его пособников на фоне бессмысленного убийства Цинны: больше походит на жертвоприношение или на кровавую бойню? Смерть поэта, безусловно, символична в свете предыдущих актов истолкования — вот только что именно она символизирует? В этой сцене отсутствуют анализ и комментарий, на которые так щедры остальные эпизоды пьесы. Ни у кого, включая зрителя, нет времени разгадывать ее смысл, поэтому убийство Цинны словно бы зависает в воздухе: эмблема без девиза, притча без морали.
Очевидно, что гибель поэта — следствие трагического стечения обстоятельств: ему не посчастливилось быть тезкой одного из заговорщиков. Сами того не подозревая, плебеи заботятся о драматургической гигиене: в конце концов, пьесе не нужны два персонажа с одинаковым именем, это сбивает зрителей с толку. Нечто подобное происходит и в другой шекспировской пьесе, написанной все в том же урожайном 1599 году, — комедии «Как вам это понравится», в которой, уж кажется, нет ничего общего с «Юлием Цезарем». Одна из главных сюжетных линий этой пасторальной комедии посвящена ссоре между двумя братьями де Буа: злодеем Оливером (старшим) и благородным Орландо (младшим). Однако в начале пьесы упоминается еще и средний брат Жак. Налицо «технический сбой», ведь в комедии уже есть один Жак, и очень даже видный: меланхоличный придворный старого герцога, живущий вместе с ним в Арденнском лесу, как в стане Робин Гуда. В финале пьесы, когда на сцене наконец появляется Жак де Буа, его тезка тут же спешит откланяться. Драматургическая мораль очевидна: одно имя — один персонаж. И если имя делят два героя, один из них должен уйти, как говорит принц Хел Хотсперу в финале первой части «Генриха IV». Именно поэтому второму Цинне нет места в «Юлии Цезаре». Иногда зритель и вовсе не узнаёт имена некоторых персонажей — может быть, они не имеют значения, а может быть, их нужно до поры до времени скрыть. Однако в «Юлии Цезаре» имена играют особую роль и упоминаются постоянно. Все они уже знакомы нам из истории, и имя Цинны отнюдь не единственное, в котором изначально заложен приговор. В силу наших исторических познаний каждый персонаж в пьесе становится заложником своего имени: такова цена посмертной славы, в особенности дурной.
Цинну убивают отчасти из-за имени, но еще и за то, что он поэт. Шекспировский поэт невиновен; когда плебеи намереваются разорвать его «за плохие стихи» (III, 3), нет никаких оснований полагать, что они знакомы с его творчеством. Сцена словно бы предполагает, что ремесло поэта по определению аполитично; следовательно, поэт — заведомо невинная жертва. Шекспир уделяет этой детали — профессии Цинны — гораздо больше внимания, чем его исторические источники. При работе над «Юлием Цезарем» он использовал английский перевод «Жизнеописаний» греческого писателя и историка Плутарха; однако сцена убийства Цинны, кажется, навеяна другим литературным источником — «Метаморфозами» Овидия. В гибели Цинны видна отчетливая параллель с историей мифического Орфея, разорванного «кровавыми руками» на куски толпой обезумевших вакханок:
- Сбились, как птицы, вокруг, что ночную случайно приметят
- Птицу, незрячую днем; в двустороннем театре не так ли
- Ждет обреченный олень, приведенный для утренней травли,
- Вскоре добыча собак![62]
Итак, Цинна предстает случайным прохожим, невинной жертвой, угодившей в паутину событий, к которым не имеет никакого отношения. Действительно ли Шекспир представлял роль поэта именно так? Существует ряд упоминаний о поэтах и поэзии в его пьесах этого периода, имеющих комический оттенок: вспомним нескладные вирши Орландо, сочиненные в Арденнском лесу, или потуги французского дворянина из «Генриха V», мечтавшего посвятить сонет своему коню, или же «Хромой сонет — его ума творенье — в честь Беатриче» (V, 4), который торжествующие друзья предъявляют в качестве неопровержимого доказательства нежных чувств Бенедикта в финале комедии «Много шума из ничего». Словом, поэты и их сочинения показаны с мягкой иронией: поэзия — ремесло негероическое. Однако в этих образах, вероятно, есть и элемент саморефлексии, черты автопортрета. В конце концов, именно в этот период имя Шекспира начинает появляться на титульных листах его пьес. Отныне он и сам принадлежит к гильдии творцов.
Идентичность Шекспира как признанного, известного автора окончательно сформировалась к моменту публикации «Юлия Цезаря», когда вопрос о роли поэта в политической жизни английского общества стоял необыкновенно остро. Если стихотворец когда-то и мог вообразить себя сторонним наблюдателем на политической сцене, то в 1599 году, после резкого ужесточения правил цензуры, с этой иллюзией пришлось расстаться. Епископский запрет коснулся многих литературных жанров, в первую очередь сатиры. Многие книги были публично сожжены в самом оплоте английского издательского дела — Стейшнерз-Холле[63], располагавшемся во дворе собора Святого Павла. Среди них были произведения Джона Марстона, Джозефа Холла и Томаса Мидлтона; под запрет попало целиком творчество Томаса Нэша и Гэбриэла Харви. Ужесточились также правила публикации драматических произведений: отныне любая пьеса могла быть напечатана лишь с дозволения уполномоченных лиц. Наконец, английская история становилась строго регламентированным жанром и поступала под контроль высочайшей инстанции в стране: «Ни одна история Англии не может быть напечатана без одобрения Тайного совета Ее королевского величества». Вероятно, этот указ самым непосредственным образом повлиял на творчество Шекспира. После девяти пьес, написанных на материале английской истории, драматург неожиданно обращается к Античности — едва ли это случайное совпадение. В отличие от большинства шекспировских пьес, «Юлий Цезарь» поддается весьма точной датировке. В сентябре 1599 года швейцарский путешественник по имени Томас Платтер смотрел эту пьесу в театре «Глобус», о чем записал у себя в дневнике. (К сожалению, он весьма скупо делится впечатлениями: сообщает, что представление было «превосходное», в спектакле «было занято около пятнадцати человек», а когда пьеса закончилась, «они танцевали на удивление изящно и непринужденно, как у них было заведено: двое были одеты как мужчины и двое как женщины». Это любопытный эпилог к торжественно-серьезному финалу, где победители — Антоний и Октавий — признают, что поверженный Брут «римлянином был самым благородным» (V, 5).) Свидетельство Платтера позволяет заключить, что пьеса была поставлена всего через пару месяцев после выхода Епископского запрета. Возможно, эпизод с убийством поэта Цинны появился в ответ на ужесточение правил цензуры. То, что первой жертвой смены режима становится поэт — а может быть, и сама поэзия, — вероятно, имело особый резонанс в суровой атмосфере конца века.
Несмотря на то что сцена с участием Цинны так коротка, она как будто всеми силами стремится высказать нечто о роли поэта в жизни общества. Даже стихотворец — сторонний наблюдатель — поневоле оказывается втянут в политику. А на случай, если мы вдруг упустим эту идею, в пьесе прописана попытка номер два. После гибели Цинны перед нами появляется второй поэт; в современных изданиях его без лишних церемоний так и величают — «Другим поэтом». У нас уже был другой Цинна, и вот теперь извольте — другой поэт. Что-то не ладится во второй половине пьесы; причем не только у Брута и Кассия, но, кажется, и у Шекспира. И заговорщики, и драматург настолько поглощены тактическими задачами — как убить Цезаря, как выстроить блистательный монолог Марка Антония, — что совершенно упускают из виду стратегию. Вторая часть пьесы изобилует повторами, причем скорее фарсовыми, в точности по Марксу: две версии смерти Порции; день рождения Кассия, который совпадает с днем смерти; два невесть откуда взявшихся поэта. Некий стихотворец — тот самый «другой поэт» — вторгается в шатер к Бруту и Кассию, которые едва успели примириться после ссоры, и козыряет талантами, складывая немудрящую рифмовку: «Любовь и дружба быть меж вас должны, / Поверьте мне — я больше жил, чем вы». Кассий с презрением отмахивается: «Ха-ха! Рифмует циник очень плоско!» (IV, 3) — и гонит поэта прочь. Словом, другой поэт введен в пьесу без всякой необходимости. Как и злосчастный Цинна, он не получает ни единого шанса повлиять на ход событий. Но если он столь бессилен и беспомощен, зачем он здесь вообще? Поэты отчего-то настойчиво рвутся в пьесу, и их двойное присутствие, вероятно, свидетельствует о спорной роли поэзии в политической драме. В произведении, выстроенном вокруг проблемы истолкования, поэт Цинна и его безымянный коллега привлекают внимание к роли искусства во время смуты, прошлой или настоящей: после убийства Цезаря и после выхода Епископского запрета.
Глава 11. «Гамлет»
Ни одна шекспировская пьеса не породила большего количества кино- и телеверсий, чем «Гамлет». В каких только декорациях ни снимали этот сюжет: от удушливого черно-белого Эльсинора Лоуренса Оливье (1948) до современного корпоративного небоскреба, по которому бродит мрачный Итан Хоук в фильме Майкла Алмерейды (2000). В исполнении Асты Нильсен (1921) Гамлет предстает переодетой женщиной (а Горацио ждет немалый шок, когда он щупает грудь смертельно раненного принца и внезапно переосмысляет свои чувства к бывшему соученику). Вишал Бхарадвадж в своем фильме «Хайдер» (2014) переносит действие пьесы в раздираемый гражданской войной Кашмир, и даже диснеевский «Король Лев» (1994) заимствует образы и мотивы из самой знаменитой истории всех времен и народов. Одна из моих любимых экранизаций «Гамлета» — экспериментальный фильм Селестино Коронадо (1976). В дальнейшем Коронадо стал известным танцором, хореографом и постановщиком, однако эту его малобюджетную дипломную работу студента Королевского колледжа искусств незаслуженно обходят вниманием. В картине нетривиально все, начиная с подбора актеров. Юная Хелен Миррен играет разом Гертруду и Офелию, Квентин Крисп — Полония. Самого Гамлета играют близнецы Дэвид и Энтони Мейер; они же заняты в роли Лаэрта. Сомнения и терзания принца Датского проявлены через вполне буквальное раздвоение личности: один Гамлет распекает Гертруду за неверность, в то время как второй пытается припасть к ее груди, но в финальном поединке с Лаэртом становится очевидно, что Гамлет сражается против части себя.
Претенциозный артхаусный китч, скажете вы? Не без этого. Однако у этого фильма, как у любой по-хорошему провокационной адаптации, есть одно важное достоинство: он заставляет заново перечитать и осмыслить первоисточник. А ведь правда, в шекспировской пьесе всегда было два Гамлета. Не в том смысле, что принц разделяется на две конфликтующие половины, как изображают близнецы Мейер у Коронадо; однако Шекспир символически удваивает своих Гамлетов, давая покойному королю и его смятенному сыну одно и то же имя. Первый Гамлет, о котором мы слышим в пьесе, — это вовсе не принц, а предыдущий правитель Дании, «наш храбрый Гамлет»[64] (I, 1). Этот Гамлет убит еще до начала пьесы: мертвец, который никак не может почить с миром. «…В призраке неупокоившегося отца вновь оживает образ почившего сына»[65], как сказал Джеймс Джойс в «Улиссе». Стражники, признавшие, что призрак «совсем такой, как был король покойный» (I, 1), решают известить о его появлении некое лицо, и Горацио их поддерживает:
- То, что мы ночью видели, не скроем
- От молодого Гамлета; клянусь,
- Что дух, немой для нас, ему ответит.
Гамлет — наш Гамлет, тот, чье имя, по нашим представлениям, носит пьеса, — в действительности «молодой Гамлет», Гамлет II, Гамлет-младший. К его имени нужно приставлять уточнения, чтобы избежать путаницы. Это имя мертвеца. Сама его идентичность обращена в прошлое. На первый взгляд случайное и маловажное решение Шекспира — назвать сына в честь отца — в итоге придает ретроспективный поворот этой вроде бы самой современной из его пьес.
«Гамлет» — ностальгическое произведение, обращенное в прошлое? Такая мысль многим покажется недопустимой, ведь мы привыкли считать эту пьесу самой современной из всех шекспировских. Зигмунд Фрейд и Карл Маркс находили в ней подтверждение своим теориям психологического и экономического устройства нашей эпохи. Культовые философы — Лакан, Ницше, Адорно — обращались к Гамлету в поисках современной идентичности, тогда как Альфред Пруфрок в поэме Т. С. Элиота заявлял: «Нет! Принцем Датским мне, увы, не быть»[66]. В книге «Шекспир — наш современник» польский режиссер Ян Котт представлял себе Гамлета в черной водолазке читающим Сартра и Беккета. С тех пор как Дэвид Гаррик вышел к восхищенным зрителям в парике (в XVIII веке парики носили все, так что этот Гамлет был одет по новейшей моде; при этом в его прическе был запрятан хитрый механизм, благодаря которому волосы принца вставали дыбом при встрече с призраком отца), каждая эпоха одевала Гамлета на свой лад. Вспомним Стратфорд-на-Эйвоне 1960-х годов и похожего на студента Дэвида Уорнера с длинным полосатым шарфом на шее или Дэвида Теннанта в джинсах и кроссовках образца 2009 года[67]. Монологи Гамлета давно стали для нас эталоном саморефлексии, мучительной работы беспокойного ума, а его образ — портретом современного человека в процессе эмоционального и интеллектуального становления. Мы так привыкли видеть «Гамлета», который предвосхищает современность, — пьесу, чья значимость и популярность неизмеримо возросли за четыре века с момента создания, что нам уже сложно разглядеть в ней элемент ретроспекции. Однако «Гамлет» с болезненной настойчивостью — удивительной для пьесы, которой суждена такая долгая и насыщенная жизнь, — снова и снова разворачивается вспять, и ключевой элемент этого цикла — имя героя.
Как и во многих других случаях, Шекспир черпает имена персонажей из своих источников. Мы не можем с точностью установить все, которыми он пользовался при работе над пьесой. К слову, литературоведы до сих пор спорят о так называемом пра-«Гамлете» — утраченной дошекспировской пьесе на этот сюжет. Однако можно с уверенностью утверждать, что Шекспир читал хронику Саксона Грамматика о данах. Там он обнаружил историю некоего принца, который притворился безумным, после того как дядя убил его отца; он был сослан на Британские острова, а затем вернулся и отомстил узурпатору трона. Мы знаем, что имя Амлет пришло из этой хроники — вероятно, через французский перевод[68], выполненный в 1570-х годах. Если имя героя действительно почерпнуто из источников, значит, Шекспир позволяет себе одну весьма примечательную вольность: называет Гамлетом и покойного отца, и живого сына. Ни в одном историческом источнике это бремя прошлого, эта психологическая связь двух поколений не подчеркиваются так явно, как в его пьесе. Например, у Саксона Грамматика принц Амлет — сын короля Горвендила. Чтобы мы уж точно заметили этот прием, Шекспир его дублирует: воинственное, но блеклое отражение Гамлета, норвежский принц Фортинбрас, — тоже сын героического Фортинбраса-отца, и на него также возложен долг мести. Видимо, он был столь хорош, что его назвали дважды[69], как пел Джерард Кенни о Нью-Йорке.
Итак, дух отца — это первый Гамлет в пьесе (возможно, названной как раз в его честь[70]). Впервые увидев призрак, Гамлет зовет его собственным именем: «К тебе взываю: Гамлет, повелитель, / Отец, державный Датчанин, ответь мне!» (I, 4) Явление духа незамедлительно обращает пьесу вспять. С самого начала Гамлет буквально одержим прошлым. В напряженной первой сцене Марцелл спрашивает: «Ну что, опять сегодня появлялось?» (I, 1); слово «опять» подразумевает настойчивый повтор, постоянное возвращение прошлого. Горацио полагает, что тень олицетворяет собой более воинственную Данию — добрые старые дни, когда датчане под командованием Гамлета-старшего побеждали норвежцев и громили поляков[71]. Однако рассказ призрака о том, как при жизни он мирно спал в своем саду, вызывает ассоциацию с библейским золотым веком. Блаженная чистота и безмятежность навеки уходят после убийства Авеля Каином, что признаёт и Клавдий, когда безуспешно пытается молиться: «О, мерзок грех мой, к небу он смердит; / На нем старейшее из всех проклятий — / Братоубийство!» (III, 3) Итак, прежний король Гамлет символизирует прошлое: семейное, политическое, культурное и хронологическое. И его появление уводит Гамлета из будущего в былое.
Во второй сцене пьесы мы наблюдаем двух молодых людей, избирающих себе жизненный путь. Лаэрт, сын Полония, просит дозволения отплыть во Францию и получает согласие (отец предполагает, что там он будет занят пьянством, руганью, поединками и распутством). Гамлет, напротив, поддается на уговоры и решает бросить университет, оставшись дома; в этом решении он сразу же проявляет себя вечным ребенком: «Что до твоей заботы / Вернуться для ученья в Виттенберг, / Она с желаньем нашим в расхожденьи» (I, 2). Задержка в развитии Гамлета — мотив, неоднократно подхваченный режиссерами. В постановке Грегори Дорана (2009) с Дэвидом Теннантом в главной роли явление призрака в спальне Гертруды разыграно в духе идиллического семейного портрета: родители сидят рядышком на кровати, а сын пристроился на полу у их ног — скорее как ребенок, чем как взрослый молодой человек. Настоятельные призывы духа «И помни обо мне» повелевают сыну присоединиться к нему в минувшем. Но сама структура пьесы ясно свидетельствует о том, что прошлое недостижимо: оно лежит за пределами сцены, поскольку убийство короля происходит еще до начала сюжета.
Благодаря общему имени отец и сын словно не до конца различимы: молодой Гамлет никак не может обрести автономную идентичность. Это психологическое наложение образов иногда получает буквальное, физическое воплощение на сцене или экране. В одной из рецензий на постановку британского режиссера Ричарда Эйра (1980) в театре Ройал-Корт упоминается, как «Джонатан Прайс превращает сцену встречи Гамлета с призраком в свой первый монолог, озвучивая и реплики принца, и реплики покойного короля — для последних актер использует глубокий „чревовещательский“ голос». Лоуренс Оливье также озвучивал реплики привидения в фильме 1948 года. Такое раздвоение роли наводит на мысль о психологическом отождествлении сына с покойным отцом. Повтор имен очевиднее, чем мы обычно готовы признать, и роднит «Гамлета» с мотивами политического и духовного преемства, столь важными в исторических пьесах Шекспира 1590-х годов. Во многих отношениях «Гамлету» генетически ближе не поздние трагедии — «Отелло» или «Макбет», а предшествующая ему первая часть «Генриха IV». В ней мы тоже находим историю принца, который вынужден жить в тени отца-тезки (причем заметно, с какой недюжинной лингвистической изобретательностью скрывается тот факт, что принц — он же Гарри, он же Хел — в действительности тоже Генрих: это имя, как и корону, можно унаследовать лишь после смерти отца).
Итак, когда Клавдий говорит Гамлету, что затянувшийся траур по отцу противен естеству, он не просто показывает себя циником. Он выражает иное мировоззрение, иное понимание телеологии. Клавдий смотрит вперед, Гамлет — назад. Заведенный природой порядок включает в себя смерть отцов, наставляет он одетого в черное принца, «и отец твой потерял отца; / Тот — своего» (I, 2). Беды случаются, время проходит, сын переживает отца. Успокойся и двигайся дальше. Прагматический линейный подход Клавдия к вопросам наследия и прогресса очень отличается от повторяющегося и даже зацикленного «И помни обо мне», которым определяется роль Гамлета в пьесе. Гамлет склонен скорее к бездействию и отрицанию, чем к действию или развитию: он разрывает отношения с Офелией, оставляет университет, просит актеров представить старомодный монолог, «если он жив в вашей памяти» (II, 2); он теснее связан с мертвыми, чем с живыми. В самом знаменитом визуальном образе пьесы — Гамлет держит в руках череп шута Йорика — с кристальной ясностью отразилась суть произведения и героя, равно завороженных прошлым.
По крайней мере, с момента выхода «Толкования сновидений» (1900) Зигмунда Фрейда неспособность Гамлета сдвинуться с мертвой точки осмыслялась преимущественно в психоаналитическом ключе. В трактовке самого Фрейда закомплексованный истерик Гамлет «может все, только не исполнить месть по отношению к человеку, который устранил его отца и занял место последнего возле его матери, к человеку, на деле реализовавшему его вытесненные детские желания». Психоаналитическая традиция объясняет этот паралич воли эдиповым комплексом. Однако его можно рассматривать не только как личную особенность или состояние самого Гамлета, но и как культурное явление, напрямую связанное с историческим контекстом, породившим трагедию.
Частью политического багажа пьесы, написанной около 1600 года, несомненно, был вопрос о престолонаследии. Бездетной Елизавете I уже под семьдесят. Большинство англичан не застали ее предшественников; очевидных преемников у королевы-девственницы нет, что, как мы отмечали в главе о «Ричарде II», всерьез беспокоит ее подданных. Историческая драма того времени снова и снова обращается к династическим проблемам, а «Гамлета» многое роднит с пьесами этого жанра. Вспомним, что в хрониках Шекспира женщины остаются на обочине истории, а снова и снова разыгрываемая смена власти происходит насильственным путем — и всегда «по мужской линии»: брат восстает против брата, сын — против отца. В этом контексте «Гамлет» выглядит запоздалой исторической пьесой с апокалиптическим финалом. По неизвестным причинам сам Гамлет, хоть и явно взрослый, не наследует корону после смерти отца. В пьесе не говорится ясно о том, почему вместо него на престол восходит дядя, однако в политической и культурной атмосфере, где престолонаследие было одной из самых горячих тем, эта загадка наверняка не осталась незамеченной. На глазах у зрителя происходило саморазрушение королевской династии, в результате чего страна попадала в руки чужеземцев. Под конец долгого правления Елизаветы именно такая участь могла постичь Англию. Шекспировский Фортинбрас вторгается в Данию и, не пролив ни капли крови, в самый нужный момент умудряется попасть в тронную залу и подобрать корону. «На это царство мне даны права» (V, 2), — заявляет он, ссылаясь на некий давний пакт. Из главы о «Ричарде III» мы помним, как мало внимания в этой пьесе уделено историческому победителю, Ричмонду. Он выигрывает битву за королевство, но фактически не участвует в битве за сцену и зрителя. То же самое можно сказать о Фортинбрасе: в этой фигуре нет ничего примечательного, и многие постановки с легкостью обходятся без нее. Будущее в «Гамлете» интереса не вызывает. На фоне политических тревог, омрачивших конец елизаветинской эпохи, такой финал смотрится крайне уныло.
Подобно елизаветинской культуре в целом, пьеса обращена скорее назад, чем вперед: заглядывать в будущее, в Англию после Елизаветы, было строжайше запрещено законом. С этой же ретроспективной направленностью связан и вопрос религии. В «Гамлете» есть странный момент, который давно вызывает недоумение исследователей. Что в протестантской пьесе делает католический призрак, который говорит о католическом чистилище? В середине XVI века, с восхождением Елизаветы на английский престол, протестантизм окончательно приобрел статус государственной религии, а католики были существенно ограничены в правах и вытеснены в подполье. Среди отличий протестантской доктрины от католической есть два принципиально важных пункта. Первый — это вопрос о пресуществлении хлеба и вина и о телесном присутствии Христа в таинстве причастия. Второй обладает гораздо бо́льшим драматургическим потенциалом: проблема существования, природы и достоверности призраков и явлений. Участь, описанная духом отца Гамлета: «…томиться посреди огня, / Пока грехи моей земной природы / Не выжгутся дотла» (I, 5), отсылает к запретному образу чистилища, да и само присутствие призрака идет вразрез с протестантской доктриной, согласно которой никто по собственной воле не может вернуться из загробного мира. Горацио, питомец протестантского университета в Виттенберге — городе, где Мартин Лютер в 1517 году впервые бросил вызов католической церкви, выражает взгляды, более сообразные с духом Реформации. Он ставит под вопрос намерения призрака и уговаривает Гамлета остаться, не идти на призыв отца, мол, дух может «принять какой-нибудь ужасный облик, / Который в вас низложит власть рассудка / И ввергнет вас в безумие» (I, 4). Религиозные убеждения самого́ Шекспира до сих пор вызывают множество споров: мы очень мало знаем о взглядах драматурга, однако точно известно, что его отец однажды был оштрафован за непосещение церкви (что нередко было знаком тайной приверженности католической вере). А если Гамлет тоже сын-протестант, преследуемый духом отца-католика, как пишет литературовед Стивен Гринблатт в знаменитом исследовании «Гамлет в чистилище» (2001)? Конечно, пьеса в некоторой степени отображает особую поколенческую проблему детей Реформации, над которыми нависает тень католического прошлого. Однако в убийстве Гамлета-старшего трудно усмотреть аллегорию религиозного переворота. Воображение Шекспира работает иначе, чем, к примеру, у его современника Эдмунда Спенсера, который начинает свою поэму «Королева фей» (1590) встречей Рыцаря Красного Креста с прекрасной целомудренной Уной — или истинной верой, — гонимой чудовищным заблуждением, или ложью и невежеством, принявшим при помощи колдовства облик женщины в алом — Дуэссы, католической церкви. Все эти грандиозные символы очень далеки от шекспировской поэтики. Тем не менее ностальгический уклон «Гамлета» отчасти можно объяснить специфической религиозной атмосферой конца XVI столетия.
Еще один элемент ретроспекции в пьесе связан с историей театра. В «Гамлете» много отсылок к одному из самых знаменитых «блокбастеров» елизаветинской эпохи — «Испанской трагедии» Томаса Кида: имя Горацио, появление призрака, образ сходящей с ума женщины, убийство в саду. Оттуда же позаимствован драматический прием «сцены на сцене». Мы давно привыкли видеть в Шекспире мага-алхимика, способного добыть поэтическое золото из любого творческого сырья, а в «Гамлете» — один из главных и бесспорных шедевров мировой литературы. Однако все это позднейшие оценки, потому что в 1600 году Шекспир еще не оставил своих предшественников так далеко позади. Слава Кида затмевала его собственную. Дух «Испанской трагедии» преследует «Гамлета»: даже описание призрака, в начальной сцене выступающего «грозным шагом», напоминает о сценическом образе Эдварда Аллена. Аллен был лучшим трагиком конкурирующей труппы слуг лорда-адмирала и играл главного героя в пьесе Кида, Иеронимо. После Фрейда сложно обойти стороной эдипов комплекс, рассуждая об отношениях Гамлета с семьей; могучая фигура театрального «отца» Томаса Кида заставляет задуматься о той же проблеме в отношениях «Гамлета» с его литературными родичами.
Театральная ретроспекция в «Гамлете» уходит и дальше, в предысторию лондонских театров, которые стали новшеством зрелищной индустрии елизаветинской эпохи. Придворный театр XVI века обыкновенно чередовал пантомиму и декламацию. В пьесах, подобных «Горбодуку» Томаса Нортона и Томаса Сэквилла, которая была представлена перед королевой Елизаветой в 1561 году, действие поначалу разыгрывалось в виде пантомимы и описывалось в сценических указаниях перед каждым актом, а затем уже произносились речи героев. Именно так устроена и «пьеса в пьесе» «Убийство Гонзаго». В Эльсинор приходит труппа бродячих актеров, и Гамлет показывает себя подлинным знатоком их искусства. Они вместе припоминают забытый героический монолог о Трое, после чего труппа разыгрывает сцену, весьма точно повторяющую убийство Гамлета-старшего. Здесь вводится развернутое сценическое указание, где во всех подробностях описана первая часть представления — пантомима: «Входят актеры — король и королева; весьма нежно королева обнимает его, а он ее. Она становится на колени и делает ему знаки уверения. Он поднимает ее и склоняет голову ей на плечо; ложится на цветущий дерн». Далее следуют убийство короля и сватовство отравителя к королеве, которая поначалу «как будто недовольна и несогласна, но наконец принимает его любовь». Затем пьеса повторяет уже показанное, на сей раз вербально. Этот драматургический разрыв между речью и действием весьма уместен и актуален в контексте «Гамлета», где отношения между словом и делом так часто ставятся под вопрос. Возвращаясь к проблеме ретроспекции, отметим, как вставная пьеса предъявляет зрителю устаревшую драматическую форму — словно кусочек янтаря, в котором застыло древнее насекомое. В экранизации Кеннета Браны (1996) бродячих актеров играют звезды старшего поколения: Джон Гилгуд, Джуди Денч, Чарлтон Хестон. Брана удачно находит современный вариант ностальгии по славному прошлому театра (и кино), по прежней манере постановки, по возвышенному старомодному стилю. Это прошлое Гамлета-старшего и Йорика, Приама и Гекубы, Кида и Аллена, и «Гамлет» снова и снова усердно наводит нас на мысль, что раньше было лучше.
Проблема престолонаследия, религиозные потрясения, технические инновации в театре — на этом фоне возникают ностальгические настроения, отображенные в пьесе. Такое прочтение позволяет отринуть солипсизм и разглядеть в «Гамлете» документ и симптом своей эпохи, а не предвестье нашей. Имя соединяет Гамлета с минувшим и не пускает в будущее, обрекая на жизнь в прошедшем времени, на безысходную вторичность. Эхо отцовского имени запускает череду отзвуков и повторов, от которых никак не может отделаться номинальный герой пьесы.
И последнее. Как быть с возможной связью Гамлета с некоей фигурой из реальной жизни Шекспира, а именно — неоднократно высказанной гипотезой, что имя Гамлет могло быть навеяно именем Гамнета, юного сына драматурга? Гамнет и Джудит Шекспир, родившиеся в 1585 году, были названы в честь друзей семейства — Гамнета и Джудит Сэдлер (вероятно, они были и крестными родителями близнецов). Историки отмечают, что в завещании Шекспира, где упоминается Гамнет Сэдлер, его имя записано как Hamlett. Что до Гамнета Шекспира, то мальчик умер в 1596 году в возрасте одиннадцати лет. Фрейд с уверенностью проводил параллель между Гамнетом и Гамлетом, считая, что Шекспир написал трагедию под влиянием двойной утраты: отца (который скончался в 1601 году) и маленького сына. В этой трактовке, как и вообще в анализе шекспировских текстов, Фрейд — прямой наследник викторианской школы биографической критики. XIX век предложил прочтение шекспировских пьес в тесной связи с предполагаемым эмоциональным состоянием автора. Поворот от комедий к трагедиям расценивался как следствие личной драмы (некоторые полагали, что виновницей была эта авантюристка, Смуглая леди сонетов), а образ Просперо из трагикомедии «Буря» воспринимался в качестве шекспировского автопортрета. В довершение картины биографическая школа XIX века изобрела так называемую проблему авторства, выросшую из ощущения, что жизнь Шекспира не может полностью объяснить его творчество, и породившую альтернативное прочтение его пьес, отстранившее Шекспира от его сочинений (Фрейд также придерживался этой точки зрения). Обращаясь к биографии Шекспира, мы до сих пытаемся извлечь психологический портрет из его произведений.
Так может ли биографический материал помочь при чтении «Гамлета»? Очевидно, эта пьеса повествует о горечи утраты и бесконечно оглядывается в прошлое, где осталось нечто невозвратимое. Гипотеза о том, что имя Гамлета напоминает о маленьком Гамнете Шекспире, предполагает скорее личную боль, чем отзвук общих умонастроений конца XVI века. Такое прочтение таит в себе двойную выгоду. Во-первых, эмоциональный ландшафт пьесы удобнее рассматривать сквозь призму семейной утраты; во-вторых, и сам Шекспир, оставивший жену с детьми в Стратфорде ради лондонской карьеры, предстает в куда более благовидном свете. (Даже самым доброжелательным биографам сложно изобразить его примерным семьянином.) Невозможно установить, приезжал ли Шекспир на похороны сына в Стратфорд 11 августа 1596 года: свидетельств его присутствия не обнаружено. Однако мысль о том, что его горе приняло форму поэтического шедевра, помогает снять обвинения в родительской безучастности. Иными словами, ассоциация Гамлета с Гамнетом идет на пользу и пьесе, и драматургу.
Однако в эту картину укладываются далеко не все детали. Узы между отцом и сыном — ключевой шекспировский мотив, возникший в его творчестве задолго до смерти Гамнета. В одной из его ранних хроник — третьей части «Генриха VI» — ужасы гражданской войны запечатлены в эпизоде, снабженном ремаркой: «Входит сын, убивший отца; в другую дверь входит отец, убивший сына»[72]. Самую знаменитую сцену родительского горя во всем творчестве драматурга мы находим в хронике «Король Иоанн», где Констанция оплакивает сына Артура:
- Оно [горе] сейчас мне сына заменило,
- Лежит в его постели и со мною
- Повсюду ходит, говорит, как он,
- И, нежные черты его приняв,
- Одежд его заполнив пустоту,
- Напоминает милый сердцу облик.
- Я полюбила горе — и права[73].
Мы до сих пор одержимы фантомной психологической биографией Шекспира. Многие литературоведы датируют пьесу «Король Иоанн» 1596 или 1597 годом, исходя из одного убеждения, что этот монолог мог быть написан только после смерти Гамнета, когда отцовское горе было еще свежо. Однако есть вполне достоверные свидетельства, что хроника написана на несколько лет раньше. Творческое воображение Шекспира вполне способно представить горечь утраты и без непосредственного опыта ее переживания. Смешивать Гамлета с Гамнетом в каком-то смысле означает недооценивать талант драматурга, с одной стороны, и переоценивать роль автобиографического начала в творчестве — с другой. Вряд ли стоит искать в текстах Шекспира его автопортрет, как бы ни был велик соблазн. Эмоциональный надрыв «Гамлета» — дань скорее умонастроениям конца елизаветинской эпохи, чем душевным терзаниям его творца. Пожалуй, именно этот широкий контекст и позволяет каждому новому веку перечитывать — или переписывать — пьесу на свой манер.
Глава 12. «Двенадцатая ночь»
«Любовь питают музыкой; играйте / Щедрей, сверх меры, чтобы, в пресыщенье, / Желание, устав, изнемогло»[74] (I, 1). Первые строки комедии «Двенадцатая ночь, или Что угодно» недвусмысленно дают понять: эта пьеса о желании. Все главные герои сладостно грезят недостижимым. Орсино томится по Оливии, Оливия томится по Цезарио; Мальвольо желает Оливию, Оливия желает Себастьяна; Орсино пылает страстью к Цезарио; Виола пылает страстью к Орсино. Однако мы рассмотрим всю эту сложнейшую сеть желаний и томлений с точки зрения, казалось бы, второстепенного персонажа — Антонио. Возможно, тогда нам легче будет разобраться, как устроена пьеса и отчего ей придан лукавый второй заголовок «Что угодно». Вспомним знаменитую анаморфическую картину Ганса Гольбейна «Послы» с искаженным черепом внизу; чтобы увидеть в нем трехмерную оптическую иллюзию, нужно встать в стороне и смотреть на полотно под строго определенным углом. Точно так же взгляд на пьесу сквозь призму вроде бы незначительной детали позволяет увидеть, как Шекспир выстраивает свои драматические тексты, как работает с условностями комедийного жанра и как возможные смыслы «Двенадцатой ночи» меняются с течением времени.
Впервые мы встречаем Антонио в начале второго акта: он и его спутник Себастьян кажутся последними недостающими фрагментами, без которых пьеса не смогла бы повернуть в сторону комедии. Мы уже познакомились с иллирийским герцогом Орсино, томно влюбленным в саму любовь: он словно герой елизаветинского сонета, который, пожалуй, обратился бы в паническое бегство, если бы идеализированная дама сердца сошла бы вдруг с пьедестала и решила ответить ему взаимностью. Оливия гонит его прочь под предлогом длительного траура по отцу и брату. Кроме того, мы повстречали молодую женщину, выброшенную на берег кораблекрушением. Назовем ее Виолой, хотя если бы мы смотрели пьесу в театре, то очень долго не знали бы ее имени (об этом чуть позже). Брат героини пропал без вести, и она решила поступить на службу к Орсино, переодевшись в мужское платье. «Юноша» Цезарио пришелся настолько по душе герцогу, что тот отправил его с любовным посланием к Оливии. Однако, как признается нам Цезарио, он(а) совсем не хочет сватать Оливию для герцога, потому что влюблен(а) в него сам(а). Встреча Цезарио с Оливией только усугубляет путаницу: вместо того чтобы проникнуться страстью к герцогу, непреклонная красавица обращает внимание на его бойкого посланца. Помимо этого любовного треугольника мы наблюдаем напряженную обстановку в доме Оливии: суровый дворецкий Мальвольо враждует с шутом Фесте. И не нужно прилагать особых усилий, чтобы догадаться: вечно пьяный дядюшка Оливии сэр Тоби Белч, его приятель и незадачливый кавалер хозяйки сэр Эндрю Эгьючийк и разбитная камеристка Мария — это комедийная бомба с тикающим часовым механизмом.
Итак, в этот мир, где переплетаются любовные томления, слезы недавней утраты и веселые пирушки, вступает Себастьян — близнец Виолы, якобы утонувший при кораблекрушении. Легко понять, почему Шекспир вводит его в пьесу именно в этот момент. Появление Себастьяна гарантирует благополучную комическую развязку: он тот четвертый свободный персонаж, благодаря которому треугольник Орсино — Цезарио — Оливия превратится в две любовные пары. Кроме того, он — Цезарио во плоти, который позволит Виоле вернуться к своей истинной сути. В конце концов, это переодевание в мужское платье выглядит малообоснованным: странное решение для знатной молодой женщины, понаслышке знакомой с одним из местных вельмож. Гораздо резоннее было бы попросить герцога прислать на берег одеяла и чашку горячего бульона, чем наниматься к нему на службу в мужском костюме и под вымышленным именем. Однако подходить к сюжетам Шекспира с позиции здравого смысла непродуктивно: его пьесы не всегда — и не только — реалистичны, а персонажи чаще подчинены сюжету, чем наоборот (мы поговорим об этом в главе о «Мере за меру»). Виола должна одеться в мужское платье, потому что иначе не будет пьесы: это необходимое условие для всех последующих событий.
Но поступкам Виолы можно подобрать и более глубокое психологическое объяснение. Примеряя образ погибшего брата, она словно бы возвращает ему жизнь, о чем сама говорит в конце третьего акта:
- …в зеркале моем
- Мой брат поныне жив; он был лицом
- Точь-в-точь как я и был всегда одет
- В такой же вот наряд, в такой же цвет.
Если суть комедии как жанра — в прославлении бытия, в победе жизни над смертью, отличающей ее от трагедии, то дублет и облегающие штаны-чулки Виолы становятся символом этого жизнеутверждающего начала.
Итак, фигура Себастьяна необходима сюжету; но поскольку его единственная миссия — ждать выхода на замену сестре, его собственный образ должен остаться предельно размытым и схематичным. Ему нельзя становиться полноценным персонажем, потому что тогда не выйдет комедийной развязки. Он, в сущности, просто двойник, дублер, только «правильного» пола. Именно это заставляет задуматься о фигуре его спутника, Антонио. Роль Антонио в пьесе неразрывно связана с Себастьяном, потому и проблематична, ведь их отношения не позволяют совсем оставить образ Себастьяна без индивидуальных черт. Антонио не дает Себастьяну предстать перед нами всего-навсего «запасным» близнецом нужного пола, который вдруг появляется откуда ни возьмись на сцене, чтобы распутать любовную неразбериху. В результате клубок эротических желаний закручивается еще туже.
Когда Антонио и Себастьян впервые появляются перед нами в начале второго акта, они уже готовы расстаться. Первым говорит Антонио: «Остаться дольше вы не хотите? И не хотите, чтобы я шел с вами?» (II, 1) Себастьян отвечает отрицательно: он предпочитает нести свои невзгоды в одиночку. Затем он сознаётся Антонио, что в действительности не тот, за кого выдавал себя в пути, а Себастьян, сын Себастьяна из Мессалины и брат девушки, погибшей при кораблекрушении. Судя по реакции Антонио, прежде спутники держались на равных, однако теперь выясняется, что статус Себастьяна гораздо выше: «Вы меня извините, сударь, что плохо за вами ухаживал», «позвольте мне быть вашим слугой» (II, 1). Себастьян отказывает ему и уходит; оставшись в одиночестве на сцене, Антонио произносит краткий монолог. Белый стих контрастирует с обыденной прозой предыдущих реплик, обозначая сильное чувство, подтвержденное содержанием речи:
- Да будет милость всех богов с тобою!
- Ко мне враждебны при дворе Орсино,
- Не то бы скоро я тебя настиг.
- Но все равно опасность не беда;
- Ты дорог мне, и я пойду туда.
В этом кратком эпизоде прослеживается та же связь между служением и романтической любовью, что и в сложных отношениях Орсино с Цезарио-пажом и Оливии с Цезарио-посланником; связь, которая позже будет обыграна вновь (на сей раз жестоко), когда дворецкому Мальвольо внушат, будто хозяйка прониклась к нему нежными чувствами. В этой сцене смешение любви с покорностью просто бросается в глаза. Диалог Антонио с Себастьяном поневоле наводит на мысль о расставании любовников. Только послушайте Себастьяна: не ходи за мной, дело не в тебе, а во мне, я еще не оправился от смерти отца и сестры, я не тот, за кого ты меня принимаешь. А теперь жалобно вступает Антонио: ты больше не хочешь меня видеть? Скажи мне, куда ты идешь, я сделаю для тебя что угодно. Прости, что я не понял, как тебе тяжело. Стоит ли удивляться, что в постановке Линдсея Познера (Стратфорд-на-Эйвоне, 2001) Антонио и Себастьян разговаривают, одеваясь по разные стороны смятой двуспальной кровати.
Однако шекспироведы обычно бывают более осторожны в трактовках, нежели театральные режиссеры, и как минимум два исторических факта не позволяют однозначно истолковать эмоциональный накал этой сцены между Себастьяном и Антонио в качестве свидетельства гомосексуальных отношений. Во-первых, история сексуальности свидетельствует о том, что до XVIII века не существовало понятия устойчивой ориентации, будь то гомо- или гетеросексуальная (возможно, наш век возвращается к этой традиции скептицизма). «Делать» в данном случае не означало «быть»: если мужчина спал с другим мужчиной, это расценивалось как отдельный биографический эпизод, но не постоянный признак. Историки уверяют, что бинарные модели сексуальности, а также идентичности, определяемой половым поведением, возникли уже после эпохи Возрождения. Таким образом, во времена Шекспира не было «геев» в привычном для нас понимании. Во-вторых, важный исторический момент — это высокая ценность, которая приписывалась мужской дружбе на заре Нового времени. За гуманистическими идеалами дружбы стояла долгая традиция, восходившая к Цицерону; дружеский союз превозносился в выражениях, которые в наши дни скорее использовались бы для описания гетеросексуального брака. С точки зрения философа Мишеля де Монтеня, приземленная обыденность супружества не идет ни в какое сравнение с духовной близостью друзей-мужчин. Монтень называет брак «сделкой, которая бывает добровольной лишь в тот момент, когда ее заключают (ибо длительность ее навязывается нам принудительно и не зависит от нашей воли), и, сверх того, сделкой, совершаемой обычно совсем в других целях». В дружбе, напротив, он видит «возвышенный союз», «духовную близость и единение» душ, «прочную и длительную связь»[75]. Можно вспомнить и небольшой анонимный памфлет о дружбе, написанный, очевидно, с целью распространить этот идеал за пределами культурной элиты: в нем друг характеризовался как alter ego, то есть другое «я». Шекспир обращается к этой культурной традиции в нескольких комедиях (см. также главу 7 о «Венецианском купце») и прежде всего в двух пьесах, где само название подсказывает, что главная тема — не романтическая любовь, а мужская дружба: «Два веронца» и «Два знатных родича» (последняя написана в соавторстве с Джоном Флетчером).
Итак, Антонио и Себастьян — просто близкие друзья. Наверное. Однако слова Антонио «Ты дорог мне» (I do adore thee so) (II, 1) дышат неожиданно страстным пылом. Глагол adore («обожать, поклоняться, обожествлять») появляется затем в подложном письме Оливии к Мальвольо, где употреблен в контексте эротической любви («Могла б командовать я страстью»[76] (II, 5)), и в ностальгическом вздохе сэра Эндрю Эгьючийка: «Меня однажды тоже обожали» (II, 3). (Шекспир с удивительным мастерством подбирает мелкие штрихи, благодаря которым даже проходные и эпизодические персонажи обретают живое, эмоциональное измерение.) Сэр Тоби использует тот же глагол, когда хвастается, что в него влюблена Мария. Беглого взгляда на контексты этого слова в творчестве Шекспира — при помощи онлайн-поиска или сводного словоуказателя — достаточно, чтобы заметить у глагола adore две устойчивые коннотации: религиозного поклонения или страстной романтической любви. Итак, в словах Антонио скорее слышится eros, чем philia — греческие термины очень полезны, когда нужно отличить эротическую любовь от нежной дружбы. Некоторые критики считают самоочевидным, что Себастьян не отвечает и не может ответить ему взаимностью. Возможно, их трактовка вызвана несколько наивным убеждением, что мужчина, который охотно связывает жизнь с женщиной, не может в то же время желать другого мужчину. Однако в само́й пьесе столь твердой уверенности, кажется, нет.
Давайте снова взглянем на Антонио с Себастьяном — на этот раз в пятом акте. Между их расставанием и воссоединением произошло множество событий. Себастьян выходит на сцену, чтобы опровергнуть всеобщее убеждение, будто Оливия обвенчалась с Цезарио, а Цезарио поколотил сэра Тоби (в обоих случаях истинным «виновником» был Себастьян). Затем он официально и учтиво обращается к молодой жене: «Я очень огорчен, что мною ранен / Ваш родственник» (V, 1) — и, не заметив Виолу, поворачивается и приветствует Антонио с куда бо́льшим пылом: «Антонио, мой дорогой Антонио! / Каким терзаньем был мне каждый час, / С тех пор как мы расстались!» (V, 1) Что здесь такого важного? Дело в том, что в этих словах нет никакой необходимости. У Антонио очень маленькая роль: он появляется всего в четырех сценах. В двух диалогах с его участием, которые включают в себя около трех четвертей всех его строк, он выражает привязанность к Себастьяну и дает юноше деньги. В остальных двух сценах Антонио нужен, чтобы распутать линии близнецов. Его вмешательство в нечаянную дуэль Виолы с сэром Эндрю, когда он принимает девушку за Себастьяна, и последующий арест, когда он просит у Виолы свой кошелек, — сюжетные ходы, с помощью которых понемногу разъясняется путаница. Гневная тирада Антонио, обращенная к мнимому Себастьяну (а на самом деле к его сестре Виоле), впервые дает девушке понять, что брат, возможно, уцелел при кораблекрушении. Безусловно, Антонио вносит свою лепту в развитие сюжета, однако его страстная преданность Себастьяну явно избыточна для этой роли. Шекспир нередко ставит действие превыше характеров, однако здесь мы видим нечто иное. Антонио обладает такими качествами, которые на самом деле не нужны действию.
Впрочем, сделаем оговорку: нужны, но чисто тематически. Тяга Антонио к Себастьяну перекликается с тем влечением, которое Орсино испытывает к Цезарио, а Оливия к Виоле. Иными словами, сюжет пьесы все-таки сложно «выровнять» и уложить в привычную комедийную схему, где все линии направлены к гетеросексуальному союзу. В свете вышеизложенного лукавый подзаголовок «Двенадцатая ночь, или Что угодно» обретает весьма дерзкое звучание: что угодно, с кем угодно и как угодно. Вспоминая восхитительно двусмысленный финал другой истории с переодеванием — фильма Билли Уайлдера «В джазе только девушки» (1959), можно добавить: у каждого свои недостатки. Многие критики стараются убедить нас, что Орсино привлекает сокрытая женственность Цезарио: «…голос твой, / Как голос девушки, высок и звонок; / Ты словно создан женщину играть» (I, 4). В таком случае развязка пьесы, когда тайна Виолы наконец раскрывается, должна вызывать у Орсино вздох облегчения: ах вот в чем дело! Подобную трактовку мы находим в весьма обаятельной киноверсии Тревора Нанна (1996): Тоби Стивенс в роли Орсино и Имоджен Стаббс в роли Виолы-Цезарио невольно тянутся друг к другу и едва не целуются под одну из песен Фесте, когда Орсино отшатывается, потрясенный собственным влечением к другому мужчине. Обнаружив, что его паж — переодетая девушка, герцог незамедлительно успокаивается: так вот откуда взялась эта тяга к ней (или к нему).
Конечно, в современном фильме, где роль Виолы исполняет Имоджен Стаббс, зрителю обеспечена отрадная гендерная однозначность. Мы прекрасно знаем, что Цезарио в действительности женского пола, поскольку «его» играет женщина; таким образом, в кадре всегда присутствует и Виола. Однако в елизаветинском театре физическая женственность не помогала публике разобраться в смешении полов. Все роли исполняли мужчины, поэтому под мужским костюмом Цезарио в действительности скрывалось мужское тело юного актера. Следовательно, физическое подтверждение обретала вовсе не женственность Виолы, а мужественность Цезарио. В художественном мире пьесы вымыслом должен быть образ Цезарио; однако на сцене, куда нет хода женщинам, фикцией становится скорее образ Виолы. Мы видим ее в женском платье лишь несколько минут — сразу после кораблекрушения, во второй сцене первого акта. После этого она появляется только в мужском костюме. До воссоединения близнецов в финале пьесы никто не знает ее имени, поэтому, следя за действием, мы не находим женской идентичности, которую могли бы связать с образом героини. Даже после разоблачения она не переодевается в женское платье, а Орсино продолжает величать ее мужским именем: «Цезарио, идем; / Я буду звать вас так, пока вы мальчик» (V, 1).
Но даже если мы верим (или предпочитаем верить), что Орсино влечет к женщине в неубедительном мужском наряде, это ничем не поможет нам в случае Оливии, с которой происходит то же самое. Точнее, здесь тяга к собственному полу обретает иную «окраску», и отношения между двумя женщинами — или даже между двумя мужчинами-актерами, играющими женские роли, — дают новый пример гомоэротического влечения. Помня, как беглый обзор коннотаций глагола adore в произведениях Шекспира помог нам разобраться в тонких нюансах смысла, можно исследовать и употребление имени Антонио. В пьесе «Венецианский купец» это имя также отдано персонажу, искренне и горячо привязанному к мужчине, которому он помогает деньгами и чью свадьбу наблюдает в финальной сцене. Образ Антонио в «Двенадцатой ночи» во многом перекликается с этой более ранней картиной мужской дружбы — «возвышенного союза», по Монтеню, который структурно и аффективно противопоставлен гетеросексуальному браку, однако в конечном счете помогает его заключить.
Итак, запретное желание все же вписано в комедию переодеваний, и фигура Антонио помогает отчетливее это разглядеть. Его образ не дает с легкостью отмахнуться от иных проявлений однополого эроса в пьесе. В этом контексте особую значимость приобретает и название той лондонской таверны, которую Шекспир перенес в Иллирию, чтобы поселить в ней Антонио и Себастьяна. Как говорится, «Слона»-то мы и не заметили: в пространстве романтической комедии эта вывеска, вероятно, символизирует альтернативный гомоэротический ландшафт[77].
Кроме того, роль Антонио в пятом акте позволяет понять, как устроены концовки шекспировских комедий. Перечисляя различия между комедией и трагедией, младший современник Шекспира и горячий защитник театра драматург Томас Хейвуд приходит к такой формулировке: «В комедии turbulenta prima, tranquilla ultima; в трагедии tranquilla prima, turbulenta ultima — комедия начинается со злоключений и заканчивается примирением; трагедия начинается штилем, а завершается бурей». Конец венчает дело и определяет жанр. Неотъемлемая часть комедии — счастливая развязка. У Шекспира (если не в жизни) счастливая развязка обыкновенно предполагает свадьбу, а еще лучше — несколько бракосочетаний сразу. Он и сам посмеивается над этим клише в озорной и проницательной комедии «Бесплодные усилия любви», где героини решают выждать год и лишь затем идти под венец:
- Не так, как в старых фарсах, мы кончаем:
- В них Дженни получает Джек, а нам
- Достался лишь отказ от наших дам[78].
«Двенадцатая ночь», несомненно, выводит нас к свадебному пиру. Налицо три пары: Оливия и Себастьян, Орсино и Виола-Цезарио, а также Мария и сэр Тоби, который женится на ней «в награду» за помощь в глумлении над Мальвольо. Однако в длинной заключительной сцене наряду с этими парами выведены и персонажи, для которых подобная развязка невозможна. В финале «Двенадцатой ночи» очень заметно, что счастье выпадает не всем, и явственное наличие обделенных роднит пьесу с так называемыми мрачными комедиями, которые Шекспир напишет в следующие два-три года жизни («Мера за меру» — яркий образец этого пограничного жанра).
Среди антикомедийных фигур финала, конечно же, особо примечателен дворецкий Мальвольо. Его амбициозная мечта жениться на Оливии, беспощадно обыгранная в подложном письме Марии, явлена нам во всех подробностях. Фантазия Мальвольо уравнивает обладание госпожой с обладанием эксклюзивными предметами роскоши, доступными лишь аристократу: кресло под балдахином, расшитый бархатный халат (по английским законам того времени носить бархат дозволялось исключительно высшей знати), а также новейший и супермодный гаджет эпохи Возрождения — карманные часы. Послание, якобы написанное рукой Оливии, целенаправленно питает эти грезы о социальной мобильности: «…иные родятся великими, иные достигают величия, а иным величие жалуется» (V, 1). Под величием здесь, конечно же, подразумевается благородное происхождение, титул, богатство, власть и положение в обществе. При всей игривости в вопросах пола есть прегрешения, которых в этой пьесе не прощают. Мальвольо пересекает куда более опасную черту — социальную, и возмездие не заставляет себя ждать. Кара начинается с публичного унижения (выход в желтых чулках с подвязками крест-накрест и с непривычной, застывшей улыбкой на лице) и заканчивается уже совсем нешуточным заточением в темницу. Можно от души посмеяться, когда, опасаясь за здоровье дворецкого, Оливия заботливо спрашивает: «Не хочешь ли ты лечь в постель, Мальвольо?», на что он отвечает с неуместным и неоправданным пылом: «В постель! Да, дорогая, и я приду к тебе» (III, 4). Однако затем смех становится откровенно жестоким. Когда Фесте навещает Мальвольо в темнице и пытается убедить беднягу, что тот сошел с ума, шутка, пожалуй, заходит чересчур далеко. Финальный выход Мальвольо — с клятвой отомстить «всей вашей шайке» — словно бы подтверждает, что сообщество, включая и театральную публику, ополчилось против него и его устремлений. Что угодно в пьесе обретает вид коллективного насилия. В отличие от временной «смены пола», выход за рамки сословной иерархии влечет за собой суровое наказание. Из всех персонажей только Виола в финале получает именно то, чего хотела, то есть вознаграждается за переодевание в мужское платье. Развязка напоминает: несмотря на бурную реакцию моралистов, игры с гендерной идентичностью в театре шекспировской эпохи воспринимались гораздо спокойнее, чем игры с рангами и титулами.
Мальвольо — самый заметный среди тех, кто обделен радостью в финале пьесы, хотя шут Фесте также остается без пары и завершает представление на меланхолической ноте: песней о дожде, который «хлещет каждый день» (V, 1). Впрочем, Фесте с самого начала был одиночкой — скорее наблюдателем, чем участником событий. Самым примечательным и самым чужеродным для комической развязки элементом нужно признать немое присутствие Антонио. В середине пятого акта он произносит самую длинную из своих речей, выражая боль от мнимого предательства Себастьяна — «неблагодарного мальчика», который отплатил за спасение жизни хитростью и лицемерием. В действительности гневная тирада обращена к Виоле, однако ошибка Антонио ничуть не умаляет эмоционального накала его слов. Затем, будто бы выбившись из сил, он со стороны наблюдает за развитием сюжета. В оставшиеся двадцать минут сценического времени Антонио произносит лишь четыре строчки.
Здесь полезно было бы задуматься о театральной логистике. Брать актера на такую маленькую роль — странная роскошь. Из того, что мы знаем о практике распределения ролей в шекспировской труппе, можно заключить, что в представлениях «Двенадцатой ночи» было занято четырнадцать актеров. Трое из них исполняли сразу по две-три небольшие роли, однако роль Антонио сложно совместить с другими выходами, потому что он присутствует в финале, где на сцене разом собираются двенадцать актеров. Итак, хоть слов у него и мало, само наличие этого персонажа дорого обходится с драматургической точки зрения. В других пьесах Шекспир вполне успешно использовал «совместительство», экономя ресурсы труппы. Иногда ему даже приходилось корректировать сюжет из практических соображений. Например, шут в «Короле Лире» исчезает без всяких пояснений — наверное, потому, что актер был нужен для другой роли (возможно, Корделии). В финале комедии «Как вам это понравится» герцог Фредерик не является в Арденнский лес, чтобы покончить с изгнанниками: видимо, игравший его актер выходил на сцену в роли старого герцога. У Шекспира — драматурга, которому выпала редкая удача работать с постоянной и хорошо известной труппой, — роль Антонио выглядит странным, трудно объяснимым излишеством. Остается лишь предположить, что молчаливое присутствие Антонио в финальной сцене принципиально важно для пьесы.
Молчание персонажа легко упустить из виду, читая текст. В отсутствие реплик можно просто забыть, кто участвует в сцене. Однако на театральных подмостках молчание игнорировать нереально: фигура актера сама по себе исполнена смысла. Актеры играют даже тогда — и особенно тогда, — когда не говорят. В пьесах Шекспира есть «немые» моменты, которые до сих пор вызывают ожесточенные споры: молчание, которым Сильвия в финале комедии «Два веронца» встречает предложение Валентина уступить ее похотливому Протею; молчание Изабеллы в ответ на брачное предложение герцога в «Мере за меру»; безмолвие другого Антонио — персонажа «Бури» — в ответ на слова Просперо о примирении. Каким же должен предстать наш Антонио в финале «Двенадцатой ночи»? Уязвленным и отвергнутым? Радостным и доброжелательным? Разгневанным? Печальным? Шекспир не оставляет нам никаких указаний; очевидно одно — персонаж выведен на сцену не случайно.
Нортроп Фрай, один из виднейших представителей структуралистской школы и исследователь мифов в творчестве Шекспира, отмечает, что в развязке комедии всегда есть нотка горечи. «Это чувство отчуждения, которое в трагедии переполняет нас ужасом, почти неизбежно олицетворено в некоей фигуре… Мы редко ощущаем родство с этим персонажем, потому что ему самому́ не нужны никакие узы; мы можем даже презирать или ненавидеть его, но присутствие его неизменно». Кажется, это описание идеально подходит к туманному образу Антонио в финальной сцене: он присутствует, не требуя понимания или зрительской симпатии (например, не бросает реплик в сторону), и молчаливо стоит на страже границ жанра. Как и в сцене спасения Себастьяна из морской пучины, так и теперь Антонио обеспечивает сюжету благополучную развязку; отныне он становится фигурой отчуждения, чье присутствие, по словам Нортропа Фрая, скрепляет комедию.
Антонио — персонаж, который кажется избыточным, даже лишним с точки зрения драматургии, но в действительности несет важную структурную и тематическую нагрузку. Его присутствие в финале пьесы заставляет увидеть развязку со стороны, под новым углом, а его «внеположность» свадебному ликованию финала осложняет сюжетный переход от гомоэротизма к гетеросексуальности. Страсть Антонио не вмещается и не укладывается в «брачную» развязку, характерную для романтической комедии. Сэмюэл Пипс, лондонский театрал и мемуарист второй половины XVII века, счел пьесу «пустой», а ее название «ни к чему особо не относящимся», однако он упустил из виду один важный момент. Пьеса названа в честь праздника двенадцатой ночи, которым заканчивался сезон рождественских увеселений, и в финальной сцене есть нечто тоскливое: ощущение, что праздник кончился, вместо того чтобы начаться, как семейная жизнь молодых пар. «Часы мне говорят: я трачу время» (III, 1), — подмечает Оливия посреди упоительной для нее беседы с Цезарио. С завершением пьесы бьет последний (или почти последний) час несбыточных желаний и грез, которыми она нас манит. Как подтвердит Антонио, в этой концовке есть и сладость обретения, и горечь потери.
Глава 13. «Мера за меру»
«Шекспир неудачно выбрал сюжет и под пыткой загнал его в рамки комического жанра, что явственно следует из нелепой интриги и неправдоподобных положений, кои ему пришлось добавить, дабы изобразить под конец три или четыре свадьбы вместо одной доброй казни, как следовало ожидать». Шарлотте Леннокс, одной из первых женщин — комментаторов творчества Шекспира, решительно не нравилась пьеса «Мера за меру». В книге «Шекспир проясненный» (1753) она вынесла беспощадный приговор заумному сюжету, который, с ее точки зрения, имел одну цель — «заморочить зрителя шарадами без ответов» — и потому в конечном счете не сумел «воздать каждому по грехам и заслугам». Мысль о том, что вынужденная или «платная» близость не лучшая тема для комедии и что подобный материал можно втиснуть в формат жанра лишь насильственным образом, неоднократно высказывали критики Шекспира. Да, эта пьеса кончается свадьбой, однако что же делать, если она выглядит как утка, но крякает не совсем по-утиному? Что она такое?
На этот вопрос есть легкий ответ: комедия. Она была поставлена в первые годы правления Иакова I, но ее текст был опубликован лишь после смерти Шекспира, в собрании сочинений 1623 года, где пьесы впервые были разделены на три жанра: «Ма́стера[79] Уильяма Шекспира комедии, хроники и трагедии». «Мера за меру» попала в число комедий; таким образом, первые читатели получили пьесу с готовым жанровым ярлычком. Действительно, при желании между ней и другими текстами комедийного раздела несложно проследить родственные связи. Свадьба нескольких пар в финале? То же самое мы видим в «Двенадцатой ночи» или «Сне в летнюю ночь». Мотив переодевания, личины, скрытого имени? Напоминает «Двух веронцев» или «Как вам это понравится». Под занавес является «бог из машины» и расставляет все по своим местам? Смотри «Комедию ошибок». Не все герои счастливы в финале? Да-да, в «Венецианском купце» тоже так было. Высокородные семейства и комические фигуры простолюдинов? Ну, это прямо «Много шума из ничего». Героиня не то добровольно меняет убеждения, не то вынуждена говорить прямо противоположное тому, что думает? Точь-в-точь Катарина из «Укрощения строптивой». Словом, комедия как она есть.
В то же время в пьесе немало рассуждений о смерти, как и в «Гамлете». В ней поднимается вопрос о природе власти и качествах мудрого государя — совсем как в «Ричарде II» и первой части «Генриха IV». Фоном для действия служит не идиллический зеленый ландшафт комедии, а вполне реалистичная городская среда: мы видим темницу, зал суда, публичный дом, городские ворота. Интимная близость, несомненно, предшествует браку, а не подразумевается как таинство, которое совершится за деликатно закрытыми дверями супружеской опочивальни после окончания представления. Иными словами, «Мера за меру» вбирает в себя весь творческий опыт Шекспира. В результате возникает произведение, которое словно бы бунтует против жанровых канонов и раздвигает привычные границы комедийного формата.
Прежде всего Шекспир выбирает сюжет, который вроде бы не пригоден для комедии. История Изабеллы, отказавшейся уступить домогательствам градоправителя Анджело в обмен на помилование для брата, почерпнута из нескольких источников. Первый — фольклорный сюжет, который бытует во многих культурах и образует то, что в литературоведении принято называть мифологемой. Другие источники установить проще: это пьеса Джорджа Уэтстона «Промос и Кассандра» (1578) и новелла из сборника итальянского писателя Джамбаттисты Джиральди, которого чаще называют Чинтио. В том же самом 1604 году Шекспир позаимствовал у него сюжет «Отелло». Фольклорный источник нередко характеризуют как «историю о чудовищной сделке»: отдайся мне, и жизнь близкого человека — обычно мужа или брата — будет спасена. В XXI веке это был бы сюжет для флешмоба #MeToo. В большинстве версий этой истории, рассказанных до Шекспира, женщина принимает чудовищные условия и отдается градоправителю или другому влиятельному мужчине, однако этого оказывается недостаточно, чтобы спасти приговоренного брата или мужа. Под конец обычно является некто, облеченный высшей властью, например император, и заставляет порочного злодея жениться на женщине, которую тот обесчестил, дабы отчасти искупить прегрешения. В новелле Чинтио шестнадцатилетний брат Эпитии попадает в тюрьму за изнасилование. Это преступление карается смертью, даже если насильник согласен жениться на жертве. Эпития отдается градоправителю в обмен на помилование для брата. Когда это выплывает наружу, градоправителя вынуждают жениться на девушке, а затем собираются казнить, но молодая жена успешно хлопочет за мужа и уговаривает власти сохранить ему жизнь.
Эта канва отчасти прослеживается и у Шекспира, однако с существенными отличиями. Во-первых, у Чинтио брат героини справедливо осужден за насилие. Шекспир же недвусмысленно дает понять, что его Клавдио отнюдь не закоренелый прелюбодей и они с Джульеттой были помолвлены или даже заключили тайный гражданский брак, хоть и не венчались (смотря как понимать его утверждение: «…как супруг / Джульеттой я по праву овладел. / Ее ты знаешь, мне она жена, / Хотя наш брак и не успели мы / Оформить внешне…»[80] (I, 2)). Сама Джульетта тоже заверяет, что «преступленье свершено / С согласия взаимного» (II, 3) и Клавдио не принуждал ее к близости. Диалог Джульетты с герцогом-монахом, кажется, написан с единственной целью: подтвердить слова Клавдио. В трактовке Шекспира Клавдио вызывает гораздо больше сочувствия, ведь по большому счету он невиновен в насилии. Суровость Анджело в этом случае выглядит явно чрезмерной и неразумной. Если он, как наместник герцога, задался целью искоренить порок и закрыть публичные дома Вены, то, кажется, выбрал не тот объект для показательной расправы. (Хотя знакомство Клавдио со сводней Поскребой наводит на мысль, что он все же не обходил стороной улицы красных фонарей.) Во-вторых, Шекспир сделал Изабеллу монахиней или по крайней мере послушницей. Сила религиозных убеждений, которые побуждают ее отвергнуть домогательства Анджело, в сущности, и движет сюжетом. Жесткий отказ: «Пусть лучше брат единый раз умрет, / Чем чтоб сестра, освободив его, / Навеки умерла» (II, 4) — часто роняет ее в глазах зрителей и читателей. Однако Шекспир намеренно изобразил Изабеллу не просто женщиной высоких моральных принципов, а женщиной, готовой встать на путь религиозного служения. (Этический нюанс, который не всегда улавливают современные зрители: какая разница, монашка или работница досуговой индустрии? Женщина имеет право отказаться, если не хочет близости, ведь так?) В-третьих, Шекспир с особой тщательностью прорабатывает образ герцога, который рядится монахом, со стороны наблюдает за ходом событий и собственноручно подготавливает весьма затейливую развязку. У предшественников Шекспира этот персонаж является под конец и наводит порядок, однако почти не влияет на развитие интриги. Все три новшества — фактическая невиновность Клавдио, превращение Изабеллы в монахиню, развитие образа герцога — кажется, выдвигают этические вопросы на передний план. Дошедшие до нас свидетельства подтверждают, что изменения были внесены осознанно; следовательно, их нельзя списывать со счетов как нечто случайное и малозначительное. Очевидно, в этой пьесе Шекспир намеренно систематически усложняет моральные дилеммы, лежащие в основе сюжета о «чудовищной сделке».
В шекспировской версии есть и еще одно заметное отличие от новеллы Чинтио, которое возвращает нас к проблеме жанра. Эпития, несомненно, главная героиня, чего нельзя с той же уверенностью утверждать об Изабелле. Женская фигура в центре повествования сближает сюжет Чинтио с шекспировскими комедиями, где дамы чувствуют себя весьма вольготно. В трагедиях Шекспира центральный образ обычно мужской; в комедиях наиболее активная роль отводится героиням, а сюжетная интрига подчинена их мечтам и исканиям. Каждая из них деятельна по-своему: Порция в «Венецианском купце» превосходит лучших законоведов, выручая приятеля мужа; Розалинда в комедии «Как вам это понравится» бежит от дяди-тирана в Арденнский лес; Елена в пьесе «Все хорошо, что хорошо кончается» выбирает себе в мужья графа Бертрама и следует за ним через всю Европу. Это не значит, что женщины в шекспировских комедиях неизменно получают самые большие роли. Возьмем, к примеру, «Много шума из ничего»: ехидная Беатриче ничуть не уступает Бенедикту в словесных баталиях, но выходит на сцену гораздо реже, чем он. Даже у Леонато, дона Педро и наивного Клавдио больше реплик! И хотя Катарина в «Укрощении строптивой» считается неуемной скандалисткой, в действительности роль Петруччо в три раза длиннее. У Катарины меньше строк, чем даже у слуги Траньо. Как заметила шотландская поэтесса Лиз Локхед, «женщины болтают, трещат и тараторят. Мужчины говорят. И говорят. И говорят». Шекспировские героини (как и женщины вообще) часто кажутся более многословными, чем на самом деле. «Как вам это понравится» — единственная шекспировская пьеса, где женщине достается самая длинная роль; однако в целом женские роли в комедиях гораздо значительнее, чем в трагедиях. В «Мере за меру» больше всех говорит герцог: на его долю приходится тридцать процентов строк. За ним следует Изабелла (пятнадцать процентов), а за нею — Анджело и Люцио, комментатор и наблюдатель (у каждого около одиннадцати процентов).
Итак, Изабелла говорит вдвое меньше, чем герцог; но здесь, пожалуй, интереснее не количество строк, а то, как они распределены. Изабелла чаще подает голос в первой половине пьесы, а герцог, наоборот, становится гораздо разговорчивее во второй. Наверное, это неслучайно: герцог обретает голос, потеснив Изабеллу. Отодвигая прежде активную героиню на второй план и забирая из ее рук нить сюжета, Шекспир в каком-то смысле показывает отход само́й пьесы от условностей комического жанра. Мир начала пьесы, где женщины наделены красноречием и немалой властью, разительно отличается от мира финальных сцен, где женщины вынуждены хранить молчание или подчиняться воле мужчин-кукловодов. Сама Изабелла меняется: это уже совсем не та героиня, которую Клавдио зовет на помощь в трудный час, утверждая, что она «в словах и рассуждениях искусна / И может убеждать» (I, 2). В последнем акте ей приходится действовать по сценарию, подготовленному герцогом, а затем выслушать, не дав словесного ответа, неожиданное предложение руки и сердца:
- …Изабелла,
- Есть у меня большая просьба к вам,
- И если вы исполните ее,
- Мое все — ваше, ваше же — мое.
Изабелла не отвечает на предложение герцога, и это молчание — одно из самых проблемных и спорных мест в творчестве Шекспира. Первый известный нам читатель пьесы, некий шотландец, живший в начале XVII века, сделал на полях своего экземпляра пометку: «Герцог берет Изабеллу в жены». Очевидно, он полагал, что согласие героини сомнению не подлежит. Режиссеры и читатели, которым хочется счастливого комедийного финала, заполняют пробел бессловесными знаками, которые должны передать восторг Изабеллы при этом неожиданном повороте. Однако немало найдется и тех, кто воспринимает отсутствие прямого ответа как удар по устоям романтической комедии. А если Изабелла — подобно Оливии («Двенадцатая ночь») или Беатриче («Много шума из ничего») — задается крамольным вопросом: хочу ли я вообще выходить замуж? Можно трактовать молчание Изабеллы как вполне объяснимую психологическую реакцию на череду невероятных событий: в конце концов, ей только что пришлось хлопотать о спасении мужчины, который ее унизил, а брат, чью смерть она считала результатом собственных поступков, вдруг воскрес из мертвых. При этом ее внезапную немоту можно оценивать и с точки зрения жанровой структуры. Изабелла утратила статус главной героини, потерпела поражение от герцога, и специфическая гендерная политика их ролей вполне сопоставима с жанровой политикой комедии и трагедии. С одной стороны, венчания в финале пьесы подкрепляют традицию комедийного хеппи-энда; с другой — отнимая дар речи у одной из важнейших фигур жанра, активной героини, — они как будто обманывают комедийные ожидания.
Возможно, стоило бы поразмыслить, какими могли быть эти ожидания у первых зрителей пьесы, знакомых с предыдущими работами Шекспира и его труппы. «Мера за мерой» замыкает череду комедий, написанных Шекспиром в 1590-х годах, поэтому лондонские театралы неплохо знали, чего ждать: преграды на пути влюбленных, незамысловатые шуточки простого люда, переодевание, свадебный пир в финале. Самым искушенным ценителям, знакомым с новейшими образчиками жанра (в театре времен Иакова I идиллический мирок шекспировских комедий выглядел уже несколько старомодно), вероятно, ближе и понятнее была откровенно неромантическая картина отношений купли-продажи между мужчиной и женщиной. В ряду прочих английских комедий того периода «Мера за меру» смотрится более органично, чем в отдельно взятом творчестве Шекспира. Эта пьеса ближе всего стоит к канонам популярного жанра городской комедии, выводившей на сцену пеструю толпу своден, юных любовников, развратных стариков. Современные исследователи даже предполагают, что к пьесе мог приложить руку признанный мастер этого жанра Томас Мидлтон. Городская комедия отказывается от сказочных декораций и переносит действие в легко узнаваемый мир коммерции и наживы, где добродетель становится дорогим товаром, а брак — выгодной сделкой. У этого мира есть и свои принципы: снисхождение и прощение, которые часто ставятся превыше буквы закона; прохладное отношение к моральному пафосу; взрослый реализм, подсказывающий, что все мы не без греха и не стоит без крайней нужды ворошить прошлое. Все эти черты — необязательно дурные — можно разглядеть и в падшем городском мирке, где разворачивается сюжет «Меры за меру».
Однако в шекспировской пьесе сквозит и острое чувство бренности, несвойственное городской комедии, которая, наоборот, проникнута ощущением кипучей жизни, яростной плодовитости современного Лондона. (В блестящей комедии Мидлтона «Честная девушка из Чипсайда», например, изображена лихорадка чадородия, якобы вызванная любовным зельем.) Шекспир вкладывает невероятный по эмоциональной силе монолог в уста заточенного Клавдио, ожидающего казни за прелюбодеяние. Изабелла объясняет, что отдаться Анджело ради спасения брата для нее немыслимо. Поначалу Клавдио соглашается с сестрой, однако затем приходит осознание: «О, смерть ужасна» (III, 1), и юношу пробирает экзистенциальный озноб, да такой сильный, что дрожь отдается во всей пьесе:
- Но умереть и сгинуть в неизвестность,
- Лежать в оцепенении и тлеть,
- Чтоб тело теплое, живое стало
- Землистым месивом, а светлый дух
- Купался в пламени иль обитал
- В пустынях толстореберного льда;
- Быть заключенным средь ветров незримых
- И в буйстве их носиться все вокруг
- Земли висящей; худшим стать средь худших,
- Кого себе мы смутно представляем
- Ревущими от мук, — вот что ужасно.
- Тягчайшая, несчастнейшая жизнь,
- Болезни, старость, нищета, тюрьма,
- Все бедствия покажутся нам раем
- Пред тем, чем смерть грозит.
Тут комедией уже и не пахнет. В ответ Изабелла способна лишь на отчаянный возглас «О горе, горе!» и на гневную вспышку: «О трус лукавый! Негодяй бесчестный!» (III, 1) Персонажам пьесы как будто нечего противопоставить нигилистической загробной фантазии Клавдио. В мире, чьи центральные фигуры — послушница ордена Святой Клары и переодетый монахом герцог, — отчаявшийся узник не находит духовной поддержки и утешения. Отвергнутый потрясенной сестрой за одни лишь мысли об оправдании позорной сделки («Так то не грех / Иль из семи из смертных наименьший»), Клавдио сам начинает призывать смерть: «Жизнь мне так ненавистна, что я стремлюсь от нее избавиться» (III, 1). И пускай в действительности Клавдио не умирает, он больше не подает голоса в пьесе[81] — что для персонажа, в сущности, равнозначно смерти.
Эстрадные комики описывают выступление, во время которого публика ни разу не засмеялась, как «смерть на сцене». Умереть (буквально, метафорически и пролептически, то есть раньше смерти, как Клавдио в темнице) — значит позволить комедии потерпеть неудачу. Встреча Клавдио со смертью в разгар действия — серьезный вызов жанровым обязательствам пьесы. Комедию необходимо срочно вернуть на сцену, и спасательную операцию берут на себя нестройные войска во главе с неожиданным командиром — герцогом Винченцо.
Герцог — персонаж явно неоднозначный. Имя его мы узнаём лишь из списка действующих лиц, а с самим героем встречаемся, когда он передает бразды правления наместнику Анджело и спешно покидает Вену, толком не объясняя причин. Своим приближенным он заявляет: «…я люблю народ, / Но появляться не люблю пред ним» (I, 1), что иногда трактуют как намек на нелюбовь нового короля Иакова I к публичным мероприятиям. В действительности герцог не уезжает из города: он переодевается в монашескую рясу (обещая объяснить свой маскарад позже, но для зрителя долгожданный момент так и не наступает) и заявляет, что доверил Анджело восстановить власть закона, изрядно расшатавшуюся за годы его правления. Отчасти герцог, видимо, движим желанием испытать Анджело: «…поглядим, / Как власть меняет и что станет с ним!» (I, 3) После этого правитель надолго исчезает со сцены и возвращается, чтобы наставить беременную Джульетту на путь истинный. Итак, до прощального монолога Клавдио в темнице роль герцога фактически сводилась к тому, чтобы подготовить собственное исчезновение. Однако во второй половине пьесы он словно бы обретает новую жизнь. Герцог берет на себя роль распорядителя в этом пестром, лоскутном цирковом представлении, ставит номера акробатам и клоунам, загоняя их — с видимым трудом и иногда против воли — назад, в рамки комедии.
Сразу же после сцены в темнице переодетый герцог обращается к Изабелле с деловым предложением: «Я думаю, что вы сможете вполне честно оказать заслуженное благодеяние одной несчастной оскорбленной женщине, освободить вашего брата от сурового закона, сохранить незапятнанной вашу добродетель и доставить удовольствие отсутствующему герцогу» (III, 1). Чтобы вырвать эту блистательную победу из лап упрямого сюжета, герцог словно по волшебству вызывает к жизни новую фигуру: «Не слышали ли вы о Марианне, сестре Фредерика, храбреца, погибшего на море?» (III, 1) Краткая история Марианны — отвергнутой невесты Анджело — подготавливает почву для благополучной комедийной развязки (почти как появление Себастьяна в «Двенадцатой ночи» позволяет распутать клубок страстей и увлечений). Обман и подмена — характерные сюжетные ходы для комедии; так что, набрасывая топорный сценарий, согласно которому Марианна должна занять место Изабеллы в постели Анджело, прежде немногословный герцог расцветает буквально на глазах. Организуя выход Марианны, он обретает дар красноречия и говорит намного больше и свободнее, чем прежде. Символично, что Изабелле теперь остается лишь кивать и поддакивать. Герцог появляется и в следующей сцене: читает наставления «криминальному элементу» пьесы и выслушивает от неугомонного Люцио пару нелестных мнений о собственной репутации. Люцио противопоставляет холодного праведника Анджело, который «когда… мочится, то его моча тотчас же замерзает», более человечному и не чуждому плотских радостей герцогу, который «понимал толк в этом деле» и даже «был лаком до этого блюда» (III, 1). Чуть позже герцог просит верного Эскала описать своего господина и слышит, что тот «образец умеренности» (III, 1). В конце сцены он произносит странный рифмованный монолог, где прописные истины чередуются с пересказом сюжета, — как будто вдруг попадает в старинное сказание или детский стишок:
- Я хитростью возьму порок,
- Чтоб Анджело с невестой лег,
- Как супруг, на ложе рядом:
- Обману я маскарадом,
- Мстя за ложь. Обман удачный
- Закрепит союз их брачный.
В длинном заключительном акте герцог развивает бурную, прямо-таки лихорадочную деятельность, вытаскивая сюжет из откровенно некомических дебрей, в которые его занесло. Он то вбегает на сцену, то выбегает за кулисы, попеременно являясь в своем платье и в обличье монаха. Он подсказывает реплики другим персонажам, управляет их действиями, подстраивает сенсационные разоблачения, судит и выносит вердикт за вердиктом. Он угрожает Анджело казнью, вынуждает его жениться на Марианне и отменяет смертный приговор. Герцог сообщает, что Клавдио мертв, а затем сам же предъявляет его — живого, но безмолвного. Он карает сквернослова Люцио женитьбой на «помятой клубничке» Кет Кладивниз, грозится уволить тюремщика, милует приговоренного к смерти и нераскаявшегося убийцу. Последняя сцена занимает около сорока пяти минут; уже сама ее длительность и огромная нагрузка на актера, исполняющего роль герцога, показывают, как сложно вернуть пьесу в комедийное русло. Чтобы вырулить из унылого ландшафта трагедии (расплата, одиночество, смерть) в солнечный мир комедии (прощение, примирение, свадебный пир), требуются поистине титанические усилия. Вознамерившись собрать комедийный финал из обломков этого жанрокрушения, герцог шагает к цели прямо по головам остальных персонажей. Теперь уже не Клавдио, а Анджело молит о скорейшей смерти: «Немедленная казнь — ее как милость / У вас прошу» (V, 1). Неудивительно, ведь это его последний шанс величаво уйти со сцены трагическим героем, которого сгубил грех сладострастия. Но не тут-то было! Его удел — жениться и занять отведенное место в вынужденно счастливом финале. Клавдио и Джульетта появляются на сцене вдвоем, но права голоса им, очевидно, не дано. Примирения брата с сестрой мы тоже не наблюдаем. Помилованный душегуб Бернардин не произносит ни слова раскаяния или благодарности. Люцио приходит в отчаянье от герцогского вердикта: «Женитьба на шлюхе, государь, стоит пытки, порки и повешенья вместе взятых» (V, 1). Герцог же недвусмысленно дает понять, что брак заключается в наказание жениху: «Вот кара за хулу на государя» (V, 1). Метафора Шарлотты Леннокс, утверждавшей, что сюжет пьесы насильно загнан в рамки комедии, обретает вполне буквальное звучание. Алтарь, который по традиции маячит в финале романтической комедии, здесь превращается в орудие пытки.
Превращение свадьбы из награды в наказание — побочный эффект излишне суровой жанровой политики герцога-режиссера. Это финал комедии, который действительно означает, что комедии конец. «Мера за меру» прощается с романтическим началом в бескомпромиссном изображении разрыва между интонацией и формой. Нам показывают некомических персонажей в некомических обстоятельствах, а затем отчаянными усилиями загоняют их в комедийный финал. Шекспир словно бы спрашивает нас: ну что, хотите комедию? Сильно хотите? Как далеко вы готовы зайти, чтобы ее получить? В натужной заключительной сцене герцог пытается представить картину всеобщего ликования, выстраивая пары в ряд для прощальной улыбки на камеру. Однако поводов для веселья не видно: Клавдио травмирован тюрьмой и мучится презрением к себе, Марианна связана с нелюбящим мужем, потаскушку Кет Кладивниз и вовсе никто не спросил, хочет ли она замуж за Люцио. Что же до Изабеллы, ей приходится надолго стать жертвой жестоких манипуляций герцога, который затем пытается склонить ее к браку. Как и в другой шекспировской пьесе, написанной на том же этапе творческой эволюции, — «Все хорошо, что хорошо кончается», развязка «Меры за меру» показывает нам, что одного условно благополучного финала для комедии явно недостаточно.
Глава 14. «Отелло»
В 1987 году, когда в Южно-Африканской Республике еще процветала система апартеида, власти страны поручили специальному отделу полиции разобраться с постановкой «Отелло» в одном из театров Йоханнесбурга. На допросе темнокожему актеру Джону Кани пришлось отстаивать корректность трактовки любовных сцен с Дездемоной, которую играла белая актриса Джоанна Вайнберг. Кани обвинялся в том, что намеренно исказил Шекспира «с целью организовать коммунистический заговор, направленный против политики государства» (разумеется, подразумевалась политика расовой сегрегации). По утверждению полиции, актеры нарушили закон о защите нравственности на глазах белой публики, «шокированной откровенно сексуальными сценами, которых не было в первоисточнике». Позже, вспоминая ту смелую постановку режиссера Джанет Сузман, Кани назвал «Отелло» пьесой, «которая вплетена в историю борьбы за гражданские права в Южной Африке», а главную роль в ней — «одной из самых важных, какие только может сыграть темнокожий актер». К этому он добавил: «Даже сегодня „Отелло“ у многих вызывает моральный дискомфорт». Кани припомнил и собственную неловкость, вызванную образом Яго — живого и по-прежнему опасного в конце пьесы: «Да, это меня немножко резануло, как будто Шекспир не до конца покончил с расизмом». С точки зрения Джона Кани, и сам Шекспир, и Джанет Сузман одинаково выступили на стороне равенства, на стороне супругов, чья любовь хотя бы на время преодолела расовые предрассудки. Трактовка Сузман была необходима и неизбежна в свое время и в своем месте, так же как бурлески по мотивам «Отелло», возникшие в Англии начала XIX века на волне дебатов об отмене рабства, нью-йоркский спектакль времен Второй мировой войны с Полем Робсоном в роли Отелло и постановка Королевской шекспировской труппы 2015 года, где не только роль Отелло, но и роль Яго исполнил чернокожий актер. Таким образом, «Отелло» преображается с каждой переменой в расовой или сексуальной политике.
Одна из главных причин, по которым Шекспиру обеспечено внимание современного зрителя, — удивительная способность его пьес предугадывать наши ценности и воззрения. Отчасти, конечно, дело в предвзятости подтверждения, то есть человеческой склонности видеть именно то, что ожидаешь увидеть. Нам едва ли не с рождения твердят, что Шекспир актуален для любой эпохи, поэтому мы всегда готовы искать и находить в его текстах современные смыслы. При этом вечная актуальность представляется и внутренним свойством его нечетких образов, емких сюжетов и многозначных строк. Пунктирная драматургия Шекспира словно бы нарочно оставляет зазоры для нас: для чаяний и тревог, порожденных миром, столь далеким от узеньких улиц и деревянных подмостков шекспировского Лондона. Образ универсального гения, который «принадлежит не одному своему веку, но всем временам», как предсказывал английский поэт и драматург Бен Джонсон еще в 1623 году, во многом обусловил современную репутацию Шекспира как пророка нашего времени. Он же предполагает, что непреходящий интерес к Шекспиру отчасти подпитывается нашим собственным нарциссизмом: мы глядимся в него как в зеркало и видим отражение привычных забот и болевых точек. Шекспир волнует нас потому, что он — про нас. При такой оптике сходство может видеться яснее, чем исторические различия. «Отелло» — яркий пример этой тенденции. Поскольку проблемы межрасовых отношений, различия и принадлежности до сих пор будоражат любое общество, «Отелло» порождает сотни трактовок, в том числе диаметрально противоположных. Пьеса занимает столь важное место в мировой культуре, что сама уже стала манифестом культурного различия и расового подхода к идентичности, а также легла в основу категорий и представлений, которые мы могли бы использовать для ее анализа.
«Отелло» — трагедия темнокожего в «белом» мире; его убеждают в измене невиновной жены, и ревность понуждает его совершить убийство. В наши дни критиков очень волнует вопрос о том, как современный исследователь должен трактовать цвет кожи героя. Надо ли признать «Отелло» расистской пьесой, где показано, как темнокожий впадает в человекоубийственную ярость, тем самым обнаружив дикарскую природу под тонким налетом цивилизации? Или здесь, напротив, нужно усмотреть призыв к терпимости, которая могла бы спасти союз Отелло и Дездемоны? Большинству современных критиков комфортнее считать, что пьеса оспаривает расистские воззрения, а цвет кожи в ней важен не потому, что делает Отелло дикарем, а потому, что ставит его в уязвимое, психологически болезненное положение чужака, почти изгоя. При таком прочтении раса воспринимается как социальный конструкт: коллективное представление общества, а не свойство индивида. По всей видимости, и сам Отелло уравнивает черноту кожи с греховностью: «Ее, как лик Дианы, / Сиявший образ чернотой сравнялся / С моим лицом»[82] (III, 3), словно бы впитывая расистские нормы венецианского общества, в котором он был благосклонно принят, пока не переступил черту и не женился на дочери Брабанцио. Персонажи пьесы неоднократно чернят Отелло (в этом случае «чернить» означает не просто дурно отзываться, но и навешивать расовый ярлык) и предельно ясно дают понять, что считают его чужаком. Таким образом, Шекспир рисует образ мавра-изгоя, вызывая зрительское сочувствие.
При этом и сама драматургия пьесы не чужда внутренней дискриминации. Направляя наше внимание скорее на Яго, чем на Отелло, она делает нас соучастниками в заговоре против мавра. Порочная натура Яго открывается нам с самого начала, поэтому Отелло, слепо доверяющий своему хорунжему, предстает наивным и простодушным. Мы не испытываем на себе грубоватое обаяние «честного Яго» (как неоднократно зовет его мавр). Следовательно, зритель скорее констатирует: «У Мавра щедрый и открытый нрав: / Кто с виду честен, в тех он видит честность» (I, 3), чем проникается уважением к этим качествам. Болезненное, настойчивое внимание к интимной жизни Отелло и Дездемоны задает всю структуру пьесы — от непристойного образа, который Яго рисует потрясенному Брабанцио («…вашу белую овечку / Там кроет черный матерой баран» (I, 1)), до финала, где местом действия становится супружеская постель. Примечательно, что каждый раз, когда Отелло и Дездемона, вероятно, должны быть у себя в опочивальне, сюжет словно бы нарочно прерывает их уединение. В первой сцене донос Яго побуждает Брабанцио собрать вооруженный отряд и бежать туда, «где можно бы настичь ее и Мавра» (I, 1); весть о приближении турецких галер требует присутствия Отелло на совете у дожа; на Кипре пьяная драка бывших друзей, по мнению Яго, похожих на жениха с невестой, «что раздеваются ко сну», вытаскивает из постели сперва Отелло, а затем и Дездемону: «Солдатская судьба — / Чтоб мирный сон тревожила борьба» (II, 3). Пьеса как будто сама одержима и пристыжена этим зрелищем межрасовой любви; действие снова и снова возвращается к главному объекту эротической обсессии — брачному ложу. Характер Отелло намного сложнее, чем образ предыдущего шекспировского мавра — угрюмого Арона из трагедии «Тит Андроник», однако в более ранней пьесе Шекспир смелее показывал плоды межрасовых отношений. Неизвестно, что в итоге происходит с ребенком, рожденным от связи Арона с его белой возлюбленной Таморой, но в «Отелло» столько неясностей и умолчаний, что отдельные критики даже задавались вопросом: а успели ли мавр с Дездемоной вступить в брачные отношения? Возможно, ими двигала неосознанная расистская надежда на отрицательный ответ.
Давайте посмотрим, как Шекспир выстраивает первый акт пьесы, демонстрируя, до чего хрупок и сомнителен союз Отелло и Дездемоны. Все действие в этом акте происходит ночью. В первой сцене Яго и Родриго будят спящего сенатора Брабанцио и не стесняясь в выражениях обрушивают на него весть о побеге дочери. Во второй сцене Отелло беседует с Яго, который лицемерно предупреждает его о приближении разгневанного отца с солдатами. На сцене появляется толпа с факелами, и мы, как и Яго, предполагаем, что это отряд Брабанцио. Но нет, это слуги дожа пришли звать Отелло на срочный совет «по важному для государства делу» (I, 2). В следующей сцене две сюжетные линии сходятся воедино: в одной истории — о свадьбе дочери без отцовского благословения — Отелло может оказаться преступником, в другой — о готовящемся нападении турецких галер на Кипр — героем-спасителем. Иронически зарифмованный обмен репликами подчеркивает эту двойственность: подбадривая Брабанцио после известий о том, что Дездемона по доброй воле выбрала Отелло в мужья, дож уговаривает его принять неизбежное: «Где все погибло, там конец печали, / Которую надежды оживляли. / Минувшим бедам горевать вослед — / Вернейший путь к началу новых бед» (I, 3). В его размеренной речи есть нечто разом успокоительное и снисходительное, напевные двустишия как будто призваны смягчить и сгладить диссонанс, придать скандальному браку внешне пристойную форму. Ответ Брабанцио весьма показателен: «Так пусть на Кипре Турок водворится: / Потери нет, раз можно отшутиться» (I, 3). Если я должен смириться с потерей дочери, тогда и вы должны смириться с потерей Кипра.
Мысль о том, что поспешный союз Отелло и Дездемоны можно рассматривать как микрокосм или метафору «большой» геополитики, брошена мимоходом, но не развита в пьесе. Надо ли считать этих влюбленных жертвами неумолимых и неподвластных им сил, подобно Ромео и Джульетте (только с разным цветом кожи) или Антонию и Клеопатре (только из другого сословия)? Надо ли рассматривать войну между Венецианской республикой и Оттоманской империей как экзотический фон для семейной трагедии или же сама эта трагедия — отправная точка для дискуссии о непримиримых различиях народов и культур?
Шекспир предназначал роль Отелло тому же актеру, который играл Лира, Гамлета, Макбета и других его главных героев, — Ричарду Бербеджу. В анонимной элегии на смерть Бербеджа (1619) среди сыгранных им персонажей упомя́нут и «скорбный мавр». Трагическое падение Отелло, очевидно, позволяло виртуозу Бербеджу раскрыть талант во всей полноте: другой поэт уверял, что ему не было равных «в изображении сей горестной картины». Известно, что во времена Шекспира актеров, которые должны были изображать на сцене африканцев, гримировали специальной краской для лица; в ход шли парики из овечьей шерсти и прочий реквизит. Расовая принадлежность Отелло была важным компонентом визуального зрительского опыта; она же подчеркивалась в первых печатных изданиях, где пьеса была снабжена красноречивым подзаголовком «Венецианский мавр».
«Мавр» — слово с весомым историческим багажом. В нем друг на друга накладываются два смысла. Первый — географический: мавр — это житель североафриканской Мавритании (нынешних Марокко и Алжира)[83]. Второй, родственный, но не совсем тождественный первому, подразумевает конфессиональную принадлежность: маврами нередко называли мусульман. Немало чернил пролилось в дискуссии о том, видел ли Шекспир своего Отелло уроженцем Северной Африки наподобие экзотических и высокородных берберийских посланников, которые в 1600 году прибыли ко двору Елизаветы, где их вполне могли повстречать слуги лорда-камергера. Противники этой версии указывают, что многократно употребленный эпитет «черный» («черный баран» Яго или его же издевательский тост «за здоровье черного Отелло» (II, 3)) в сочетании со словом «толстогубый», оброненным Родриго, наводят, скорее, на мысль об уроженце Центральной Африки. Подоплека этих этнографических дебатов часто была неприглядной: для многих поколений читателей и зрителей, воспитанных в убеждении о неполноценности чернокожих рабов и коренных жителей британских колоний, вопрос о том, каким именно мавром был Отелло, имел принципиальное значение и определял меру сочувствия к герою. Доводы в пользу Отелло — благородного араба, как правило, сопровождали и подкрепляли благосклонную трактовку его образа; те же, кто опознавал в нем чернокожего, негра, обыкновенно находили его менее достойным сострадания. Разумеется, это больше свидетельствует о наших расистских установках, чем о предубеждениях времен Шекспира. Невозможно выяснить точно, что имел в виду сам автор, да это и неважно. Поразительно то, что этническая принадлежность Отелло до сих пор вызывает бурные дебаты, в которых каждый раз открываются новые болевые точки.
В XXI веке острая неловкость связана с основным значением слова moor («мавр») — мусульманин. В пьесе мало указаний на вероисповедание Отелло, однако по имеющимся обмолвкам можно догадаться, что он перешел в христианство. Он не раз клянется небом, стыдит Монтано и Кассио, сравнивая их с турками, велит Дездемоне помолиться перед смертью. Яго клянется заставить мавра «отречься от креста» (II, 3), и в некоторых постановках ревнивое буйство Отелло изображается как отпадение от христианской веры. Так, Лоуренс Оливье срывал с шеи крупный, хорошо заметный публике крест в ту минуту, когда его герой впадал в неукротимую ярость. Символика здесь, конечно, нехитрая: христианство ассоциируется с умением контролировать себя, достоинством, законопослушностью, ясностью ума; ислам — с безумием, слепотой, смертоносным гневом. В эссе, опубликованном вскоре после терактов 11 сентября в Нью-Йорке, британский шекспировед Джонатан Бейт подметил, как современные линии противостояния «повторяют те, что расчерчивали Средиземноморье в XVI веке: силы глобального капитализма выступают против догматов исламского фундаментализма», и заключил, что трактовка «Отелло» — один из самых насущных вопросов, какие ставит перед нами мировая литература. Можно утверждать, что шекспировская пьеса обрела новую актуальную интерпретацию, ведь Кипр снова стал базой для военных действий Запада на Ближнем Востоке.
Религиозный конфликт пьесы наиболее полно раскрывается в пространной финальной речи, которую Отелло произносит над телом убитой жены, обращаясь к венецианским стражам порядка:
- Постойте. У меня к вам есть два слова.
- Сенат мои заслуги знает сам.
- Речь не о них. Я вас прошу в отчете
- О всем случившемся меня представить
- Таким, каков я есть: не обеляя
- И не черня; сказать о человеке,
- Любившем неразумно, но безмерно;
- Не склонном к ревности, но доведенном
- До исступленья; чья рука, как жалкий
- Индеец, отшвырнула перл, богаче,
- Чем весь его народ; и чьи глаза,
- Хоть не привыкли таять, точат слезы
- Щедрей, чем аравийские деревья —
- Целебную смолу. Причем добавьте
- В своем письме, что как-то раз в Алеппо,
- Когда турчин в чалме посмел ударить
- Венецианца и хулить сенат,
- Я этого обрезанного пса,
- Схватив за горло, заколол — вот так.
Прекрасные строки! С какой ориенталистской[84] напевностью представлен нам этот каталог диковин! На наших глазах творится риторическое действо, которое являет парадоксальную раздвоенность Отелло: он разом и мавр, и слуга Венецианской республики, прославленный полководец и недостойный зять, защитник христиан от злобного турка и тот самый «обрезанный пес» в чалме. Отелло уподобляет себя детям далеких краев: Индии (в одной из ранних версий вместо «индус» стояло «иудей»), Аравии; затем обращает кинжал против себя как опасного чужака. Таким образом, и пьеса, и жизнь главного героя завершаются бездной, непреодолимой пропастью между расами и культурами, которая воплощена в фигуре мавра, сломленного мучительным когнитивным диссонансом.
Все это верно, однако картина осложняется тем, что в финальном монологе Отелло предстает не только и не столько убийцей, сколько жертвой или козлом отпущения. Мертвая жена упоминается в этой речи лишь однажды, в мимолетной метафоре: жемчужина («перл») — расхожий образ, где женственность ассоциируется больше с чистотой и высокой рыночной стоимостью, чем с индивидуальностью. В центре внимания не Дездемона, а сам Отелло. Трижды употребленное «я» и бурный поток самооправданий силятся изобразить того, кто любил «неразумно, но безмерно». Вот моя эпитафия, говорит Отелло собравшимся на сцене и театральной публике. «Я вас прошу <…> меня представить / Таким, каков я есть». Говорите обо мне. Посмотрите, я — сломленный герой собственной пьесы. В этот момент нелегко определить, кому мы сочувствуем больше: Отелло, загубленному предвзятым и враждебным обществом, или Дездемоне, погибшей от руки любимого человека, которому она всецело доверяла?
Для феминистской критики XXI века весьма значимо понятие интерсекциональности, подразумевающее пересечение различных форм угнетения и дискриминации — расовой, классовой, половой, гендерной. Наверное, вас не удивит, что современному «Отелло» есть что сказать и по этому поводу. В пьесе показано несколько маргиналов, так или иначе противопоставленных большинству и вытесненных на социальную обочину. Цвет кожи Отелло — самый очевидный момент отличия, однако он не должен затмевать остальные. Например, за презрительной ненавистью Яго к Кассио угадывается зависть к чину, к социальному статусу. В жесткой армейской иерархии Кассио — «великий арифметик», «не служилый воин, / А пустослов» (I, 1). Яго, напротив, суровый, закаленный вояка. Отелло — чужой, «инородец» в обществе, живущем расовыми и этническими категориями. Общество, чья структура основана на чине или ранге (это мерило личного статуса, вероятно, было одной из важнейших категорий идентичности для зрителей раннего Нового времени), вытесняет на обочину Яго. Обе модели сообщества пересекаются в образе третьей «отщепенки» пьесы — Дездемоны. Попав из родной Венеции в гарнизон на Кипре, Дездемона оказывается в одиночестве и теряет привычное положение в обществе. «Отелло», как и «Много шума из ничего», рисует картину воинского братства. Мужские узы скреплены субординацией и боевым опытом. Таким образом, фигура Дездемоны символизирует горькую участь изгоя: в мучительной последней сцене интерсекциональность показана не как свойство отдельно взятого персонажа, а как лейтмотив пьесы, предельно чуткой к разрушительному влиянию стереотипа, каким бы он ни был. И Отелло, и Яго, и Дездемона по-своему борются за личностную автономию в рамках ожиданий и представлений, навязанных им извне. Оборотная сторона этой истины в том, что палач может и сам оказаться жертвой в другом контексте.
В последнем акте пьесы Отелло душит жену в постели. Буквальный, физический акт насилия довершает череду ударов, которые рушатся на Дездемону и превращают ее из пылкой, красноречивой женщины в пассивный объект чужих страстей. Персонаж становится реквизитом. Из мира Венеции, где у нее была собственная история, Дездемона переносится в мир, где господствует мужской нарратив «не склонного к ревности, но доведенного до исступления» (V, 2) человека. Небезынтересно было бы провести параллель между Дездемоной и Изабеллой из «Меры за меру» — пьесы, написанной в том же году, что и «Отелло», с сюжетом, отчасти почерпнутым из того же итальянского источника. Подобно Изабелле, Дездемона в начале пьесы наделена собственным голосом и личной судьбой; подобно Изабелле, она постепенно теряет голос под мужской властью; в обеих пьесах протокомедийная героиня становится марионеткой в руках мужчины-кукловода. Другие шекспировские истории о мужской ревности — «Много шума из ничего» и «Зимняя сказка» — приходят к благополучной комедийной развязке: женщина, якобы погубленная клеветой, возвращается к жизни, а вместе с ней воскресает и вера супруга в ее добродетель. «Отелло» дразнит нас мрачной версией той же фабулы. Когда Эмилия врывается в спальню, удушенная Дездемона ненадолго оживает, чтобы вымолвить слова прощения и прощания. Мы слышим последний вздох несостоявшейся комедии, в которой недоразумение могло бы разъясниться и все бы кончилось относительно хорошо. Однако, не сказав больше ни слова, Дездемона умирает — трагическая жертва, а не комическая героиня.
Похоже, с началом 1600-х годов Шекспир вступает в фазу осознанных жанровых экспериментов. Написав десять комедий за первое десятилетие творческой жизни, он раздвигает границы жанра в «Мере за меру», а в «Отелло», напротив, выстраивает трагедию из комедийного материала. Здесь можно отыскать немало элементов комедийной структуры. Образ Яго — вариация на тему хитрого слуги — персонажа, взятого из комедий Плавта. Во многих постановках он потирает руки, восторгаясь собственной дьявольской смекалкой. Поэт Уистен Хью Оден назвал его «джокером в колоде» — именно таким запомнился Яго в исполнении Боба Хоскинса: телепостановка Би-би-си завершается его злобным смехом, который гулко отдается в пустой комнате. Яго скорее гений импровизации, чем дальновидный интриган: сплетая сеть, «чтоб их опутать всех» (II, 3), он пользуется тем, что поневоле дают ему в руки сами жертвы. Хитрость и смекалка — часть его обаяния, однако сложносочиненные козни и интриги в большей степени свойственны комическому, чем трагическому сюжету. Начиная с XVIII века, когда историк и критик Томас Раймер с пренебрежением отозвался о «Трагедии носового платка», мир «Отелло» воспринимается скорее как тесный семейный, чем космический по своему масштабу. Даже сам Отелло ждет небесной кары или ярости стихий в ответ на смерть Дездемоны: «Я жду, чтобы затмились / Луна и солнце и земля разверзлась / От ужаса» (V, 2) — ан нет. Происходит лишь то, что происходит, не больше и не меньше. На одном смысловом уровне, невзирая на возвышенную риторику Отелло, мы видим банальную историю мужчины, убивающего сожительницу за то, что она якобы изменила: «Но пусть умрет, не то обманет многих» (V, 2).
С помощью ловко подстроенной интриги Отелло убеждают в том, что Кассио говорит о Дездемоне, тогда как в действительности речь идет о Бьянке; платок, безусловно, взят из комедийного реквизита. Драматургия пьесы управляется не столько силами неумолимого рока, сколько энергичным людским вмешательством вроде хлопот заговорщиков, которые твердо намерены свести Беатриче с Бенедиктом, или интриг неуемной Марии, готовой подсунуть Мальвольо фальшивое письмо от Оливии. В других пьесах Шекспира и его современников ревнивый муж, одержимый подозрениями и склонный видеть подтверждение измены в самой невинной мелочи, — персонаж однозначно комический. Первый акт «Отелло» — комическая миниатюра о влюбленных, преодолевающих преграды вопреки усилиям «установителя запретов», персонажа-помехи (см. главу 9). Опера Верди «Отелло» и вовсе обходится без первого акта — действие начинается со шторма, который приносит молодую пару на Кипр. Начало метафорически показано как затяжное ненастье, за которым в «Двенадцатой ночи» и «Буре» следует комедийное затишье. Вероятно, именно такую сюжетную структуру подразумевал драматург Томас Хейвуд, когда писал, что «комедия начинается со злоключений и заканчивается примирением; трагедия начинается штилем, а завершается бурей». Отец, который не одобряет жениха, выбранного дочерью, — вот завязка «Сна в летнюю ночь». Однако в «Отелло» все приметы обманчивы. Это комедия, которая пошла под откос. И это трагедия, жестоко присвоившая самую важную психологическую мысль комедии: наша жизнь неполноценна без любви, потому любовь и есть наша вечная слабость.
Глава 15. «Король Лир»
На титульном листе первого издания «Короля Лира» обозначено время и место одного из ранних представлений пьесы — королевский дворец Уайтхолл, на следующий день после Рождества. Странный выбор для праздничного сезона: «Король Лир» едва ли не самая мрачная из шекспировских трагедий. В ней обыгрывается библейская история Иова, только без награды и искупления, ниспосланных ему за смиренное принятие бед, которые обрушил на него Господь. В этом сюжете также можно рассмотреть историю Золушки: налицо милая, кроткая младшая дочь и злобные старшие сестры — вот только в полночь мыши превращаются во всадников Апокалипсиса, а карета из тыквы насмерть переезжает героиню. Шекспировский рассказ о дочерней неблагодарности и корысти не щадит никого. Гибнет и сам Лир, и все его дочери — Регана, Гонерилья и Корделия, и Глостер, и его сын Эдмунд, и даже, видимо, шут. Сюжет неумолим. Жизнь в древней Британии — редкая стерва (прямо как дочки Лира), а за ней идет мучительная смерть.
В силу непревзойденной мрачности «Король Лир» давно стал наглядным пособием для любых попыток понять нравственный смысл шекспировской трагедии. Изучив всю теорию этого жанра со времен Аристотеля, британский литературовед Терри Иглтон пришел к непритязательному выводу: «Из всех определений трагедии по-настоящему работает лишь одно: трагедия — это очень печально». Критическое осмысление «Короля Лира» точно так же снова и снова выходит к вопросу: насколько там все мрачно? Начиная с самых ранних попыток анализа в XVII веке, читатели и критики (включая, как мы увидим, и самого́ Шекспира) пытаются разглядеть в пьесе некий жизнеутверждающий момент, который можно было бы противопоставить общей безысходности. Как правило, такой поиск проходит три фазы: 1) пьеса чересчур жестока, 2) в конце все-таки есть надежда, 3) нет, все же пьеса жестока, но это потому, что жестока сама жизнь. Показательно и место, которое «Король Лир» исторически занимает в шекспировском каноне. На протяжении XIX века величайшей шекспировской трагедией считался «Гамлет»: снедаемые модной скукой интеллектуалы видели в нелюдимом, рефлексирующем герое самих себя. Однако в ХХ столетии, после Ипра, Освенцима и Хиросимы, «Король Лир» потеснил «Гамлета» в культурном воображении. Пьесу начали воспринимать как остро современную трагедию разрушения и отчаяния, в которой, по словам герцога Альбани, люди вот-вот «станут пожирать друг друга, / Как чудища морские»[85] (IV, 2). Изменившееся отношение к пьесе может многое поведать о том, как мы представляем себе трагедию, чего хотим от Шекспира и от искусства в целом. Начиная книгу «Удовольствие от трагедии» с этих вечных вопросов, британский литературовед Энтони Наттолл прослеживает переход от искусства как нравственного руководства к искусству как провокации. «Сейчас уже почти невозможно вообразить, чтобы рецензент, хваля новую пьесу, написал, что она дает утешение и вселяет надежду. И наоборот, эпитеты проблемная и неуютная автоматически прочитываются как комплимент автору». Новый, жестокий «Король Лир» ласкает наш постмодернистский слух сладостной песнью нигилизма.
Первые критические прочтения Шекспира появились после 1660 года, когда его пьесы адаптировали для представлений в заново отстроенных театрах (увеселительные заведения были закрыты указом Оливера Кромвеля[86] и открылись после того, как Карл II вернулся из Испанских Нидерландов и занял английский трон). В период Реставрации многие шекспировские пьесы были переработаны с учетом языковых, культурных и этических норм новой эпохи. История обновленного «Короля Лира» показательна и известна. В 1681 году ирландский поэт и драматург Нейем Тейт переписал пьесу, снабдив ее названием «История короля Лира». Эта версия короче и оптимистичнее, чем у Шекспира, причем заметнее всего Тейт переработал финал. Он оставил в живых Лира и Глостера — стариков, узнавших цену истинной любви и преданности, — и поженил их верных детей, Корделию и Эдгара. Адаптация Тейта завершается словами умудренного Лира, который приглашает и Глостера, и публику спокойно поразмыслить о былых невзгодах, радуясь грядущему мирному правлению «сей небесной четы». С высоты исторического опыта несложно разглядеть, что внесенные изменения были отчасти подсказаны эстетическим вкусом и отчасти — политическим климатом. Сам Тейт пояснял, что обнаружил некое средство, которое позволило бы придать пьесе «недостающую гармонию и правдоподобие», и средство это — любовь Эдгара и Корделии. «Таким образом, я был сподвигнут завершить пиесу избавлением невинных душ»: новое повествование подчинено эстетическим нормам «гармонии», а также этическим нормам, которые диктуют, как следует обходиться с невинными душами. Возвращение государя на трон, очевидно, важнейший мотив для Тейта, писавшего в царствие Карла II Стюарта (переработки Шекспира времен Реставрации весьма наглядно показывают, что низложение королей было ему намного интереснее, чем восстановление законной власти). И пускай версия Тейта стала своего рода символом неуклюжих позднейших переделок Шекспира, она, как и любая адаптация, являет собой познавательную попытку критического истолкования. В сущности, переписывая текст, Тейт делает то же, что и все мы, когда читаем, — просто идет несколько дальше.
В переработанной пьесе Тейта прочитывается убеждение, что шекспировская концовка, в которой Лир выносит на сцену мертвую Корделию и умирает подле нее от горя, чрезмерно тяжела. «Облегченная» версия развязки получила одобрение профессиональной критики, когда Сэмюэл Джонсон сослался на нее в предисловии к своему влиятельному изданию, опубликованному в 1765 году. Джонсона тоже не устраивал финал, в котором «добродетель Корделии гибнет вопреки естественному закону справедливости, вопреки надеждам читателя и, что еще несуразнее, вопреки свидетельствам хронистов»[87]. Именно поэтому он всецело одобрял переложение Нейема Тейта: «Публика вынесла свой вердикт. Со времен Тейта Корделия покидает сцену во всем блеске победы и славы. И ежели мои чувства имеют значение для общей картины, могу припомнить, как много лет назад я был столь неимоверно потрясен гибелью Корделии, что не мог даже принудить себя перечесть последние страницы пьесы, покуда не взял на себя труд издателя». С точки зрения Джонсона и современной ему публики, адаптация Тейта была предпочтительнее шекспировского оригинала, потому что исправляла невыносимый финал. В первую очередь у Джонсона вызывает протест судьба Корделии-мученицы: он убежден, что Шекспир нарушил границы этических и эстетических норм — границы, которые благополучно восстановил Тейт. «Неимоверное потрясение», вызванное гибелью Корделии, для Джонсона становится поводом отвергнуть трагедию. На вкус просвещенного XVIII века шекспировская пьеса была чересчур жестока и несовместима с идеалами справедливости, исторической точности и эстетического удовольствия. На извечный вопрос «В чем удовольствие от трагедии?» здесь дается ответ: «Вообще говоря, никакого удовольствия в ней нет, поэтому давайте перепишем так, чтобы оно было».
Вполне предсказуемым образом следующее поколение восторгалось «Королем Лиром» по тем самым причинам, которые вызвали у Джонсона столь острую реакцию отторжения. Неоклассицизм, тяготевший к «гармонии», «правдоподобию» и моральным нормам, согласно которым добродетель должна быть вознаграждена, а порок наказан, пал под натиском романтизма с его любовью к эмоциональным потрясениям как разновидности возвышенного. В «Философском исследовании о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» (1757) Эдмунд Бёрк писал: «Все, что каким-либо образом устроено так, что возбуждает идеи удовольствия и опасности, — другими словами, все, что в какой-либо степени является ужасным или связано с предметами, внушающими ужас или подобие ужаса, является источником возвышенного, то есть вызывает самую сильную эмоцию, которую душа способна испытывать»[88]. Тот самый шок, из-за которого Джонсон не смог даже перечесть заключительные сцены «Короля Лира», здесь объявлен залогом философского и физического удовлетворения; задача искусства отныне состоит в том, чтобы изображать аффект — предельное напряжение чувств — с помощью «предметов, внушающих ужас». «…Нет такого зрелища, за которым мы бы так жадно следили, как за картиной какого-либо необычного и тяжелого бедствия»[89], — отмечает Бёрк. Традиционный театр пока предпочитал перелицованную версию Нейема Тейта, но читатели эпохи романтизма открыли для себя сладостный ужас настоящего Шекспира.
Путь назад, к оригиналу, проторил немецкий критик и переводчик Август Шлегель (немецкие романтики вообще первыми взялись за серьезную переоценку шекспировского наследия и даже подняли Шекспира на знамя, объявив «своим» поэтом). В глазах Шлегеля «Король Лир» обладал возвышенной стихийной силой, как водопад или ураган. Сюжет трагедии «являет падение с величайших высот в глубочайшую бездну скорби, где человеческое естество лишается всех внутренних и внешних прикрас и трепещет в осознании собственной наготы и беспомощности». В этой пьесе, по выражению Шлегеля, «тщетны любые усилия сострадания». Английский эссеист Уильям Хэзлитт тоже проводил параллель между помешательством Лира и буйством природной стихии: «Рассудок Лира <…> подобен могучему кораблю, кидаемому ветром туда-сюда, осаждаемому свирепыми валами, но все еще сопротивляющемуся буре, поскольку якорь прочно закреплен на дне; или же он похож на остроконечный утес, окруженный со всех сторон кипящими волнами, которые, пенясь, разбиваются о него; наконец, он сходен с обширным мысом, сорванным со своего основания мощным землетрясением»[90]. Поэту-романтику С. Т. Кольриджу, читавшему лекции о Шекспире в момент, когда Наполеон готовился к опрометчивому вторжению в Россию, виделось: автор «Короля Лира» изучил природу «слишком глубоко, чтобы не знать, что чистая сила, внеположная всякой морали, неизбежно вызывает восхищение и любование, будь она проявлена в победах Бонапарта или Тамерлана или же в шуме и реве водного потока, низвергающегося с горных высот». Итак, для романтиков драматическая мощь «Короля Лира» есть мощь само́й природы. В такой оценке Шекспира отображается вся суть новой, радикальной романтической эстетики: «возвышенное» становится абсолютной ценностью, соизмеримой разве что с грозной, величественной стихией природы, к которой неприменимы ничтожные человеческие понятия морали и справедливости.
Таким образом, «Король Лир» превращается из этически и эстетически ущербного произведения, которое надо бы переделать, в пьесу, чей масштаб не позволяет подойти к ней с убогой мещанской меркой. С точки зрения Кольриджа, спрашивать, почему Корделия должна умереть, — все равно что спросить у грозы, не могла бы она бушевать немного тише.
Следующую остановку в этом блиц-туре по истории восприятия «Короля Лира» мы сделаем в начале ХХ века, когда критики вновь изменили систему этических координат и получили пьесу, проникнутую вполне узнаваемым христианским духом. Если для романтиков возвышенное воображение автора было главной и самодостаточной ценностью «Короля Лира», то литературовед Э. С. Брэдли, читавший лекции о Шекспире на рубеже XIX–XX веков, увидел в ней более отчетливый назидательный момент. По утверждению Брэдли, «развязка „Лира“, в отличие от других зрелых трагедий, вовсе не представляется неизбежной. Она даже не представляется логически обоснованной. Кажется, она намеренно создана так, чтобы разить внезапно и непредсказуемо, словно запоздалая молния после ушедшей грозы». Нам всем хочется, чтобы Лир напоследок «вкусил мира и покоя у очага Корделии», однако в этом ему отказано. Брэдли полагает, что причина — в жестоком, чудовищном мире, который изображает пьеса, и в предельном внимании Шекспира к тому, что делает этот мир столь жестоким и чудовищным. Отмечая, что «упоминания о религиозных и нерелигиозных верованиях здесь встречаются чаще, чем в других шекспировских трагедиях», Брэдли рассматривает, как пьеса ставит перед персонажами вопрос: что правит миром? В финале пьесы, утверждает он, «сострадание и страх, доведенные до самых дальних пределов, возможных в искусстве, столь прочно переплетаются с чувством справедливости и красоты, что под конец мы ощущаем не уныние и уж тем более не отчаянье, а трепет перед лицом величия, обретенного в муках, и благоговение перед тайной, которую нам не дано постичь».
В этом прочтении, которое уже почти стало общим местом в шекспироведении, Брэдли уверяет: «Король Лир» — пьеса отнюдь не пессимистическая по сути. Скорее, она изображает искупительную силу страдания. Поскольку Лир под конец находит в себе толику былого милосердия, Брэдли полагает, что «во всей мировой литературе нет ничего более прекрасного и благородного, чем шекспировская картина страданий, возвращающих Лиру человечность и величие души». Он даже предлагает альтернативное название пьесы — «Искупление короля Лира» — и заявляет, что «дело богов» здесь заключается совсем не в том, «чтобы измучить трагического героя или вызвать в нем „благородный гнев“, а в том, чтобы привести его к высшему смыслу жизни через, казалось бы, бесплодные муки». В предсмертных словах Лира над телом Корделии Брэдли слышит «агонию непереносимой радости», поскольку король убежден, что любимая дочь жива. В трактовке Брэдли сердце Лира — как и второго «старого, глупого человека» (IV, 7) Глостера — «разбилось с улыбкой» (V, 3).
Книга Брэдли «Шекспировская трагедия», вероятно, самая влиятельная работа в шекспироведении ХХ века, и за его дарующим спасение «Лиром» тянутся длинные тени. Ярко выраженные христианские ценности в пьесе усматривал и Джордж Уилсон Найт, который трактовал страдания, изображенные Шекспиром, как часть «необходимого процесса очищения… на пути к самопознанию, к искренности». С точки зрения Уилсона Найта, «в конечном счете зло в пьесе терпит поражение. Торжествуют силы добра, ведь добро естественно, а зло противно человеческому естеству». Здесь, конечно, хочется возразить или по крайней мере уточнить: победа добра — пиррова победа (может, воины света и разгромили воинов тьмы, но и сами полегли, за исключением невыразительного Эдгара). Впрочем, христианское представление о том, что смерть еще не конец, в пьесе тоже прочитывается. Для Уилсона Найта трагедия Лира становится аллегорией искупления через любовь, которая должна придать нам сил перед лицом житейских тягот и обратить наши взоры от земных удовольствий к жизни вечной.
Однако вскоре концепцию Уилсона Найта настиг неумолимый ход истории. Стремление «выправить» пьесу и превратить в богословскую притчу о спасении души вытесняло более пристальное внимание к врожденной человеческой жестокости. Критики послевоенного поколения воспринимали «Короля Лира» уже не как утешение в муках, а скорее как антологию человеческих страданий: пьесу, намеренно и безжалостно рисующую жуткую пустоту современного мира. В 1960 году Барбара Эверетт и У. Р. Элтон независимо друг от друга пришли к выводу, что любая попытка извлечь жизнеутверждающий смысл из ужасов «Короля Лира» не более чем самообман или заведомо неверное толкование пьесы, которая пользуется любой возможностью, чтобы покончить с оптимизмом и надеждой. Таким образом, во второй половине ХХ века духовные, идеалистические прочтения пьесы сменились материалистическими.
Книга Яна Котта «Шекспир — наш современник» (которую я уже упоминала в главах о «Ричарде II», «Сне в летнюю ночь» и «Гамлете») оказала значительное влияние на британских театральных режиссеров, например Питера Брука. Название соответствующей главы — «„Король Лир“, или Эндшпиль» — отсылает нас к творчеству Сэмюэла Беккета[91]. Ян Котт придерживается традиции экзистенциализма, в русле которой трагедия воспринимается в качестве картины абсурдного, механистического мира, лишенного благого провидения. Если для Уилсона Найта «Король Лир» — мрачноватая версия «Пути паломника»[92], то Котт видит в шекспировской пьесе нечто вроде «В ожидании Годо»[93], написанного белым стихом. Разумеется, Годо не приходит, а время сценического ожидания заполнено абсурдным юмором, насилием, унижением и взаимными истязаниями. Только в середине ХХ века эта трагедия, которую многие считали непригодной для постановки, может найти себе место на сцене. Котт утверждает, что теперь пробил ее час: «Эти философские ужасы не умел показать ни романтический театр, ни натуралистический. Их может показать только новый театр. В новом театре отсутствуют характеры и трагизм вытеснен гротеском. Последний оказался более жестоким». Относя «Короля Лира» скорее к жанру гротеска, чем к морально перегруженному жанру трагедии, Котт получает возможность развить идею механистической, неумолимой Вселенной: «В гротескном мире никаким абсолютом невозможно оправдать поражение и переложить на него ответственность за проигрыш. Абсолют не наделен высшим разумом, он просто самый сильный. Абсолют абсурден». «Когда кончается эта гигантская пантомима, остается только окровавленная пустая земля. На этой земле, по которой прошла буря и оставила только камни, ведут свой яростный диалог Король, Шут, Слепец и Безумец». Персонажи теряют индивидуальность, превращаясь в фаталистические фигуры из колоды Таро.
Для Котта «Король Лир» — пьеса антитеатра Беккета и Ионеско. Ее место (и время) — на пересечении шекспировской этики и поэтики с экзистенциалистскими моделями середины ХХ века. Однако для Джонатана Доллимора — литературоведа и эссеиста, писавшего об этом в 1980-е, — «Король Лир» был прежде всего пьесой «о власти, собственности и наследстве». Доллимор отбрасывает категории страдания, милосердия и искупления как чушь, навязанную нам идеологическим аппаратом власти и религии. С его точки зрения, пьеса в конечном счете подкрепляет скептический вердикт Эдмунда: «Мы таковы, / Каков наш век» (V, 3). Не существует высоких материй — существуют материальные обстоятельства. Сосредоточить внимание на фигуре самого Лира — значит проникнуться идеологией индивидуализма, стоящей на пути более трезвой социальной критики. Доллимор на стороне скептика Эдмунда, презирающего старую гвардию критиков за суеверное преклонение перед высшими силами и началами. («Вот изумительная человеческая глупость! — говорит Эдмунд. — Как только счастье от нас отворачивается, нередко по нашей же вине, мы обвиняем в своих бедах солнце, луну и звезды, как будто мы становимся злодеями — по неизбежности, глупцами — по небесному велению, плутами, ворами и мошенниками — от воздействия небесных сфер, пьяницами, лгунами и прелюбодеями — под влиянием небесных светил, и вообще как будто всем, что в нас есть гнусного, мы обязаны божественному произволению» (I, 2).) «Король Лир» в трактовке Доллимора решительно отрекается от подобных заблуждений.
Краткая история критических интерпретаций «Короля Лира» показывает, как исследователи подходят к пресловутому вопросу о мрачности трагедии со своей исторической, культурной и эстетической меркой. Каждый получает того «Лира», который ему нужен, при необходимости изменяя пьесу путем адаптации, критического прочтения или с помощью режиссерских решений. Но не только они — и не только мы — принимались переписывать этот текст. Сам Шекспир не просто берет в охапку несколько источников и лепит пьесу из подручного материала, а, судя по всему, возвращается к «Королю Лиру», чтобы многое подчистить, доработать и переработать, особенно в финале.
Неоднократно подмечено — в частности, на это указывал С. Джонсон, выражая недовольство участью Корделии, — что в исторических и прочих источниках Шекспира финал совсем не такой, как в пьесе. Подобно другим шекспировским сюжетам, легенда о короле Леире была хорошо известна публике; известен был и ее счастливый конец: Лир (Леир)[94] возвращает себе корону и его наследницей становится Корделия. Первые зрители пьесы, вероятно, ожидали, что выживет хотя бы Корделия (а может быть, и король-отец). Крушение всех этих надежд в бурных финальных сценах, по всей видимости, повергло публику в оцепенение. Вопрос Кента: «Уж не конец ли мира?» (V, 3) — обретал метатеатральное звучание.
Итак, финальный акт «Короля Лира» есть акт переписывания истории, и сам он тоже был переписан. Существуют два ранних издания пьесы: 1608 и 1623 года. В них можно обнаружить сотни мелких отличий и несколько весьма серьезных. В последние четыре десятилетия «Король Лир» стал главным подтверждением ныне общепринятого тезиса, что Шекспир перерабатывал собственные тексты. Вообще говоря, странно, что ученые так долго не желали признавать вполне естественную часть творческого процесса: какой же писатель не делает набросков и не редактирует их впоследствии? (Эрнест Хемингуэй переделывал концовку романа «Прощай, оружие!» тридцать девять раз. «И что же заставило вас остановиться?» — спросил журналист, бравший у него интервью. «Написал как надо», — сухо ответил Хемингуэй.) Но восторженные актерские воспоминания (которые, конечно же, входили в рекламную кампанию весьма недешевого посмертного собрания пьес — Первого фолио 1623 года) о том, как мысль Шекспира «всегда поспевала за пером и задуманное он выражал с такой легкостью, что в его рукописях мы не нашли почти никаких помарок»[95], со временем начали восприниматься в качестве свидетельства боговдохновенности драматурга. До 1970-х годов издатели шекспировских произведений свято верили, что сам Шекспир не перерабатывал своих текстов. Однако в наши дни уже не вызывает сомнений, что две ранние редакции «Короля Лира» отражают историю авторской правки, и большинство критиков заключает, что текст из Первого фолио, вероятно, был переделан Шекспиром в 1610 году. Интересно, что в таком случае автор дорабатывал историю Лира одновременно с замыслом других, более жизнерадостных вариаций сюжета о властителе и его дочери, например «Зимней сказкой» и «Бурей». Если пролистать современные собрания сочинений, то можно легко убедиться, что «Король Лир» — не одна пьеса, а две[96], о чем свидетельствуют и заголовки ранних изданий: «История короля Лира» и «Трагедия короля Лира».
Различия текстов — лакомая приманка для критиков-буквоедов, готовых вынюхивать и смаковать каждую добавленную или удаленную запятую, любое переправленное местоимение (ай да я!). Большинству читателей и зрителей это удовольствие чуждо, поэтому в сферу текстологии я захожу с некоторой опаской. По большей части отличия между двумя версиями текста очень незначительны; это показывает нам: во-первых, как самые мелкие штрихи могут в совокупности изменить настроение текста и, во-вторых, с каким пристальным вниманием Шекспир относился к любым деталям своих произведений. При этом прежде всего важен конечный результат: «Трагедия короля Лира» в целом рисует более пессимистический образ человечества, чем «История». Иными словами, шекспировская правка делает пьесу мрачнее. Один из примеров можно найти в сцене пытки, которой подвергается Глостер. Его с неимоверной жестокостью ослепляют прямо перед зрителем («Темно… Мне страшно…») и вышвыривают прочь со словами: «Пускай / Чутьем найдет свою дорогу в Довер[97]!» (III, 7) В «Истории» за этим следует краткий, но выразительный эпизод, который вырезан из позднейшей версии. Двое слуг хотят позаботиться об изувеченном Глостере, принести «белков и пакли, / Чтоб кровь унять» и молятся за него: «Спаси его, о небо!» (III, 7) Это миг душевной теплоты: не все безразличны к страданиям Глостера, и слуги ведут себя более достойно, чем их хозяева. Без этого короткого эпизода у трагедии нет противовеса собственной жестокости.
Однако лишь в финальной сцене шекспировская правка непосредственно выводит нас к вопросу о тональности пьесы. Здесь немало различий между двумя текстами. Так, в более поздней версии добавлена ремарка, согласно которой Лир умирает со словами: «Смотрите… Смотрите ж…» (V, 3) На что он смотрит и как его слова связаны с моментом смерти? Возможно, они подтверждают трактовку Брэдли: Лир умирает в момент ликования. (Но ведь Корделия не возвращается к жизни, так каков же драматический эффект ошибки Лира? Становится ли финал менее трагичным?) В «Истории» точный миг смерти Лира не обозначен. Возможно, он уходит по собственной воле: именно в его уста вложена реплика «О сердце, разорвись же!» (V, 3), которую в позднейшей версии произносит Кент, оплакивая смерть господина. Еще одно высказывание (заключительная реплика финала, где угадывается та же тема невыразимого истинного чувства, что звучит в начале пьесы) тоже переходит от одного персонажа к другому. В обоих вариантах пьеса завершается словами:
- Предайтесь скорби, с чувствами не споря.
- Всех больше старец видел в жизни горя.
- Нам, младшим, не придется, может быть,
- Ни столько видеть — ни так долго жить.
Однако какой же оттенок смысла хотел добавить или подчеркнуть Шекспир, меняя говорящего? В изначальной версии эти слова произносит герцог Альбани, зять Лира и самый старший из уцелевших персонажей пьесы. После переработки они достаются Эдгару — единственному выжившему из невинных страдальцев молодого поколения.
Итак, Шекспир — первый в длинном ряду желающих в буквальном или переносном смысле переписать «Короля Лира». Мрачнейшая из его пьес дала толчок беспрецедентным духовным, философским и эстетическим усилиям, призванным облегчить, высветлить ее безысходность. История этих поисков есть история ответов на вопрос: чего мы ждем от трагического искусства — утешения, эмоционального подъема, беспощадного анализа?
Глава 16. «Макбет»
Подобно английскому войску, замаскированному ветками из Бирнамского леса, давайте подберемся к «Макбету» украдкой и окольным путем с помощью проводника Роберта Бёртона. Он был священником, писателем и ученым, его перу принадлежит пара скучных университетских пьес[98], но в историю Бёртон вошел как автор огромного трактата «Анатомия меланхолии», впервые опубликованного в 1621 году.
На первый взгляд между «Анатомией меланхолии» и шекспировским «Макбетом» нет ничего общего. Бёртоновское рассуждение о хандре объемисто, пространно и аморфно; «Макбет» — образец стройности и емкости (это самая короткая из всех трагедий Шекспира). Судя по обширной коллекции томов, завещанной библиотеке Оксфордского университета, Бёртон читал драмы, в частности пьесы Бена Джонсона, Томаса Кида и Джона Уэбстера; однако из всего творчества Шекспира предпочтение отдавал поэмам: среди его книг обнаружены экземпляры «Венеры и Адониса» и «Похищения Лукреции». Тем не менее сложно вообразить, чтобы человек, интересующийся темой меланхолии, смог пройти мимо «Гамлета». В «Макбете», как и в «Анатомии меланхолии», прослеживается характерный для эпохи Возрождения интерес к работе человеческого сознания, к мотивам наших чувств и поступков. Категории, которыми оперирует Бёртон, выстраивая материал своего энциклопедического труда, пригодятся и для обсуждения причинно-следственных связей в трагедии «Макбет».
В действительности книга «Анатомия меланхолии» похожа на учебник психологии. Бёртон начинает ее перечнем, в котором собраны возможные причины и источники меланхолии — то, что в современной медицинской науке называется этиологией болезни. Первопричины недуга делятся на естественные и сверхъестественные; далее каждая категория подразделяется на более узкие разновидности. Сверхъестественным источником меланхолии может быть Бог или дьявол (иногда при посредничестве чародеев или ведьм), тогда как естественные причины бывают первичными и вторичными. Первичные естественные причины — это, к примеру, «небесные светила», что доказано астрологами и гороскопами; вторичные причины подразделяются на внутренние, личностные (включая наследственность, старость или тип темперамента), и внешние, ситуативные. К последним Бёртон относит пережитое в детстве или младенчестве, издевательства, наветы, злобные шутки, утрату свободы, бедность и нужду, а также «прочие бедствия и горести, смерть ближних, потерю друга и тому подобное». С точки зрения физиологии меланхолия также может происходить от причин внутренних, включая рацион (совет: не ешьте дыни и рыбу из тинистых водоемов!), или внеположных: чрезмерного рвения к наукам, бурных страстей, гнева или тщеславия. Бёртон задается целью наиболее полно описать природу меланхолии, поэтому его труд тяготеет к энциклопедической всеохватности, а не к «точечному» логическому анализу. Единый феномен, меланхолия, попадает на пересечение древней мудрости и современной медицинской науки. В этой картине мира вера в мощь небесных тел и колдовских заклинаний соседствует с новым знанием о наследственных болезнях, а диета и прочие формы самолечения представляются возможной причиной недуга наряду с волей провидения.
В сущности, «Макбет» задает похожие вопросы о природе вещей и причинно-следственной связи явлений. Грандиозные категории Бёртона предлагают нам три крупных этиологических подхода. Во-первых, меланхолия может происходить от самого́ меланхолического индивида: в некоторых случаях она постоянна, то есть заложена в темпераменте; в других — вызвана внешними обстоятельствами и может быть излечена (путем воздержания от чеснока или, например, греховных мыслей). Таким образом, сам пациент становится бессильным заложником болезни или берет процесс исцеления в свои руки: иногда страдания можно облегчить, иногда ничего поделать уже нельзя. Во-вторых, меланхолия может вызываться дурными поступками окружающих. Насмешки и издевательства над страдальцем, смерть ближнего, которая причиняет ему горе, безответная любовь, тюремное заточение; опять же больной меланхолией ничем не может обезопасить себя от подобных напастей. И наконец, в-третьих, существуют причины сверхъестественного, или метафизического, порядка: в эту категорию попадают Бог, дьявол и их посредники — чародеи и ведьмы. В «Макбете» мы видим похожее смешение причинно-следственных моделей. Что за сюжет перед нами? История, в которой Макбет, вольно или невольно, выступает режиссером собственной драмы? Или вернее будет назвать его орудием в чужих руках? Можем ли мы считать, что Макбетом управляют неподвластные ему сверхъестественные силы? Как и в бёртоновской «Анатомии меланхолии», у Шекспира собраны все возможные причины: думается, пьесе интереснее исследовать конкурирующие этиологии, чем объяснять их.
Этот вопрос можно осмыслить и в другом контексте. В мае 2010 года газета Evening Standard опубликовала статью под броским заголовком «Суд с участием звезд снял с Макбета обвинение в убийстве». Статья начиналась словами: «Шекспир переворачивается в гробу: Макбет и его жена признаны невиновными в убийстве короля Дункана и Банко» — и описывала ролевой процесс[99] в Королевском суде, где ответчиков играли знаменитые актеры. Адвокаты Макбета успешно отстаивали невменяемость своего подзащитного, а леди Макбет утверждала, что действовала по принуждению коварного и жестокого супруга. Как подчеркивают философы, вопрос о свободе воли — это вопрос об ответственности, а значит, и вине с наказанием.
Частью бурной последующей жизни «Макбета» стали любительские расследования и театральные «суды», которые до сих пор пытаются разрешить вопрос об ответственности. Кто виновен в случившемся или, точнее, можем ли мы оправдать Макбета? Часто единственная стратегия, на которую способны его защитники, — это перекладывание вины на супругу или версия, что в момент убийства он не отвечал за свои поступки, то есть был частично невменяем. В рассказе американского юмориста Джеймса Тэрбера «Тайна убийства в „Макбете“» обыгрывается все та же тема «Макбета» как детективной истории с главным вопросом: кто это сделал? С шекспировской пьесой у Тэрбера сталкивается ненасытная читательница детективов:
— Ну и как, понравилось?
— Нет, конечно. Во-первых, это не Макбет.
Я тупо уставился на нее:
— Как не Макбет?
— Не Макбет убил короля. И супруга его тут тоже ни при чем. Вели они себя, слов нет, весьма подозрительно, но такие, как они, обычно не убивают, во всяком случае не должны убивать. <…>
— Кого же вы подозреваете? — выпалил я.
— Макдуфа[100].
Шутка, конечно же, построена на том, что «Макбет» — в отличие от криминальных ребусов — это история преступления, где виновные указаны изначально и недвусмысленно (по крайней мере, с точки зрения фактов). Мы знаем, как и кем было совершено убийство Дункана: мы сами свидетели, а может быть, и соучастники его подготовки и исполнения. Тем не менее пьеса, подобно трактату Бёртона, умудряется препарировать и тем самым вывернуть наизнанку вполне, казалось бы, простые вопросы об ответственности и причинно-следственной связи явлений.
Первые сцены трагедии ставят эти вопросы в нестандартной, даже провокационной форме. Шекспир начинает с ведьм, с их зловещего бормотания под шум ветра и раскаты грома. Кажется, ведьмы уже знают, что случится: «Как только отшумит резня, / Тех и других угомоня»[101] (I, 1), и ждут, когда им навстречу выйдет Макбет. Может, они просто знают, где его искать, или могут заклинаниями заставить его прийти? Какая сила им дана — пророчить или повелевать? При первом знакомстве с художественным миром пьесы мы видим, что некая власть в нем отдана сверхъестественным силам. В следующей сцене мы наблюдаем затишье после боя: раненый воин рассказывает королю о доблести двух полководцев, Макбета и Банко, и об измене Кавдорского тана. Здесь нам открывается мир, где правит воля человека: в одних и тех же обстоятельствах — на поле боя — некоторые ведут себя мужественно, а другие — трусливо, в зависимости от характера. Далее мы вновь наблюдаем волевое решение: король приказывает наказать изменников (Кавдорский тан должен принять смерть) и наградить героев (титул казненного тана перейдет к Макбету). Рифмованные двустишия в конце сцены словно бы силятся восстановить этический порядок после беззаконий войны (хотя рифма может показаться зловещей): «Он примет смерть. Вели исполнить это / И с новым титулом поздравь Макбета» (I, 2). Иными словами, первая и вторая сцены дают прямо противоположные ответы на вопрос о том, что правит миром — человеческая воля или сверхъестественные силы.
В третьей сцене мы возвращаемся к ведьмам. При встрече с ними Макбет и Банко всерьез озадачены: «Они так чахлы, так чудно одеты, / Что непохожи на жильцов земли» (I, 3). Если воины находят ведьм, а не наоборот, означает ли это, что власть в человеческих руках, или же ведьмы каким-то образом подстроили встречу? Колдуньи пророчествуют о нынешнем и грядущем величии Макбета: Гламисский тан, Кавдорский тан, король в грядущем. Макбет не понимает, почему ему присвоили чужой титул: «…тан Кавдорский жив / И процветает» (I, 3). Но мы-то уже видели предыдущую сцену (полную истинно шекспировской драматической иронии) и знаем, что Кавдорский тан лишен титула и ожидает казни. В этом эпизоде ведьмы просто знают нечто такое, что известно и нам. Возможно, это несколько умеряет их колдовскую мощь, по крайней мере в глазах публики, но самому Макбету они кажутся грозными и всесильными, ведь, едва они провозгласили его таном Кавдорским, а затем и королем, посланцы Дункана принесли ему весть о новом титуле. С точки зрения Макбета, временной зазор между пророчеством и его осуществлением пугающе мал, но мы, зрители, видим скорее зазор между приказом — словами короля во второй сцене первого акта — и исполнением: прибытием гонцов в следующей сцене. Кажется, ведьмы всего лишь встревают в цепочку чужих действий, а не управляют событиями. В то же время мы знаем и нечто неизвестное Макбету: ведьмы заранее намеревались встретиться с ним на этом пустыре. Возможно, в конечном счете балом правят все же они. В трех сценах первого акта Шекспир выводит один из важнейших аспектов дилеммы, которую пьеса будет развивать дальше: сам ли Макбет принимает решения или им управляют ведьмы?
Как нередко бывает в пьесах Шекспира, происходящее с персонажами метафорически отображает одну из граней творческого процесса. За макбетовской дилеммой угадывается вопрос: кто рассказывает историю? Часто у сюжета уже есть собственные представления о том, куда надо двигаться. При работе над «Макбетом» Шекспир пользовался «Хрониками» Рафаэля Холиншеда (1587[102]) — тем же источником, к которому обращался за материалом для исторических пьес. Задача была привычной и ясной: переписать историю как трагедию. Однако эта трагедия, в отличие от более ранних пьес, повествует не о короле, а об узурпаторе, следовательно, получается вывернутый наизнанку «Ричард II». Отчасти Шекспир добивается такого эффекта, придавая сакральную ауру фигурам из шотландской истории. У Холиншеда Макбет — истинный сын жесткого, волчьего мира князьков-танов, рвущих друг другу глотки за титулы и власть. Король Дункан взял корону силой[103], но со временем ослабел; восстание Макбета при поддержке Банко изображается как историческая неизбежность в обществе, признаю́щем только власть сильнейшего. (По версии Холиншеда, Макбет оказался неплохим правителем, однако затем был вынужден уступить новому королю.) Весьма оригинальная телеадаптация 1997 года под названием «Макбет городских трущоб» (реж. Пенни Вулкок) начинается с вставного пролога, где перед зрителем предстает немолодой, теряющий хватку громила Дункан — криминальный авторитет неблагополучного района. Такая трактовка намного ближе к «Хроникам» Холиншеда, чем к шекспировской версии, где Дункан — святой король, а Макбет — цареубийца, обреченный на муки ада. В шекспировской пьесе слова самого Макбета о мертвом теле Дункана: «Кровь золотом расшила стан сребристый; / Зияли раны, как пролом в природе» (II, 3) — представляют убийство как преступление против естественного порядка вещей. При всем его интересе к смутным временам, слабым королям и смене власти Шекспир здесь выступает на стороне наследственной монархии, нового короля Иакова и династии Стюартов, уже подстрахованной двумя наследниками. Праведный гнев и ужас, вызванный убийством Дункана, — шекспировское изобретение, превращающее кровавый хаос первоисточника в сюжет о законной линии престолонаследия, оборванной Макбетом-святотатцем.
Впрочем, отзвук жестокого, кровавого мира шотландских хроник слышен и у Шекспира, к примеру в натуралистическом описании боевых подвигов Макбета. Еще не встретившись с главным героем, мы уже узнаём, что ему свойственна беспощадная свирепость к врагу:
- Смельчак Макбет — так зваться он достоин
- Назло Фортуне, сотрясая меч,
- Дымящийся кровавою расправой,
- Как друг отваги, прорубил дорогу
- К лицу холопа;
- Руки не подал, здравья не желал,
- Но от пупа до челюстей вспорол
- И голову его воткнул над башней.
Не совсем понятно, как описанное нужно расценивать с точки зрения этики поединка (неужели противники и впрямь должны были пожать друг другу руки и пожелать доброго здравия?), однако из слов шотландского воина очевидно, что Макбет способен на крайнюю, демонстративную жестокость. Ответная реплика Дункана «О наш отважный брат! Достойный рыцарь!» (I, 2) недвусмысленно выражает королевское одобрение. Шекспировский Макбет, как и его прототип из «Хроник» Холиншеда, добился славы и положения ценой большой крови. Нельзя утверждать, что после встречи с ведьмами он вдруг меняется и становится жестоким; нет, он просто обращает природную, матерую свирепость против своего господина.
Казалось бы, для такого поворота колдовские чары необязательны. У Холиншеда тоже упоминаются ведьмы, однако их роль сводится к прорицанию, а на иллюстрации в «Хрониках» они предстают в образе изящных придворных дам — ничего общего с бородавчатыми старухами в остроконечных шляпах, которых мы вспоминаем, едва речь заходит о «Макбете». Шекспир заметно расширил их роль; очевидно, их присутствие оказалось столь удачной драматургической находкой, что Томас Мидлтон, как принято считать, вставил в пьесу несколько новых песен и дополнительную сцену с участием главной ведьмы Гекаты. Возможно, совместная работа над образами ведьм объясняет их внутреннюю противоречивость. Историк культуры Диана Перкисс убедительно показывает, что шекспировские вещие сестры объединяют в себе элементы несовместимых традиций и представляют «дешевый, откровенно примитивный коллаж из разрозненных фольклорных деталей и мотивов, выбранных не из-за тематической значимости, а по причине сенсационности». Ее выводы наносят ощутимый удар тем трактовкам пьесы, согласно которым сценические ведьмы воспринимались с полной серьезностью. Шекспировский зритель — как и современный — вполне мог с удовольствием наблюдать за тем, что сам признавал невероятным.
Необходимо отметить, что ведьмы демонстрируют весьма скромные силы и умения. Наказать мужа «шкиперши» (I, 3), которая не стала угощать одну из старух каштанами, — это, конечно, злодейство, но явно меньшего масштаба, чем активное вмешательство во внутреннюю политику государства. Примечательно, что ведьмы, играющие столь важную роль в начале пьесы, не появляются в концовке. Многие режиссеры чувствуют потребность исправить это «упущение» и ввести ведьм в финальную сцену. Например, в фильме Орсона Уэллса (1948) ведьмы довольно оглядывают дело рук своих и провозглашают: «Да будет мир! Что сказано, сбылось»[104]. В киноверсии Романа Полански (1971) они тоже возвращаются, но на сей раз финал окрашен зловещим предчувствием, что кровавый цикл вот-вот начнется сызнова: Дональбайну, младшему брату нового короля, отводится роль недовольного честолюбца, каким в начале был Макбет. В обоих фильмах ведьмы представляются грозной силой. Их отсутствие в конце шекспировской пьесы, напротив, может означать, что они не творцы грядущих событий, а всего лишь пассивные предсказательницы развязки. Если развязка предстает именно такой, как обещано, — следовательно, их миссия в пьесе выполнена.
Возможно, нам и не стоит воспринимать шекспировских ведьм чересчур буквально. Многие критики утверждают, что Шекспир порвал с традициями своих предшественников: в частности, благодаря ему на сцене появились живые, психологически достоверные образы, в отличие от средневекового театра, где в аллегорической форме выводились абстрактные качества, присущие не отдельно взятому герою, а человеку вообще. В некоторой степени это верно, особенно когда талантливые актеры заставляют нас поверить в уникальный внутренний мир персонажа. Но у Шекспира есть и плоские, инструментальные, резонерствующие герои. Он экспериментирует и раскрывает сценический образ разными способами: через диалог, через монолог, через контраст или удвоение, а иногда, возможно, разделяя единое сознание между несколькими персонажами. Быть может, Яго — это голос саморазрушения в голове Отелло; быть может, безумие Офелии просто отображает терзания Гамлета; возможно, ведьмы — это часть самого Макбета[105]. Они высказывают его тайные желания так, чтобы услышали мы, зрители; возможно, разумнее воспринимать их не как посланниц загадочных потусторонних сил, а как зримое воплощение тех внутренних голосов, что управляют поступками героя.
Таким образом, ответственность за ход событий изначально оспаривают два несовместимых, но соседствующих начала: человеческое и сверхъестественное. Шекспир показывает их соперничество еще до того, как на сцене появляется фигура, на которую большинство критиков традиционно возлагают вину за все происшедшее в пьесе, — леди Макбет.
Образ «сатанинской королевы» леди Макбет как подстрекательницы, заставившей мужа пойти на убийство, притягателен для критиков не в последнюю очередь потому, что воплощает в себе древние страхи касательно женской силы и власти над мужчиной. Критическая традиция здесь нередко (и, кажется, добровольно) поддерживает женоненавистнические установки самой пьесы. Доводы в пользу этой концепции так стары и привычны, что уже давно живут собственной жизнью, отдельной от шекспировского текста. Леди Макбет — та сила, которая правит ее мужем. А точнее, когда, читая письмо Макбета о пророчестве ведьм, она призывает духов: «…извратите пол мой» (I, 5), когда использует мрачную метафору детоубийства, когда сомневается в мужественности Макбета и высмеивает его нерешимость, когда хладнокровно просчитывает, как совершить убийство и свалить его на слуг, — леди Макбет становится главной виновницей преступления. Она заставляет мужа пойти наперекор совести и благоразумию, окончательно заставив свернуться в его душе то «благостное млеко» (I, 5), которое сама же в ней находила.
Безусловно, в первой половине пьесы леди Макбет — одна из главных движущих сил сюжета; примечательно, до какой степени пугающей и неестественной находят критики ее власть и активность. Сегодня «Макбет» представляется женофобной пьесой, проникнутой недоверием к сильным женщинам; возможно, отчасти дело в том, что Шекспир хотел понравиться новому патрону труппы, королю Иакову. В пьесе заметен расчет на высочайшее одобрение: «шотландская» тема, облагороженный образ Банко, которого Иаков I считал своим предком (а Холиншед записывал в сообщники Макбета), колдовство — чтобы угодить королю, написавшему трактат под названием «Демонология», а также доза мужского женоненавистничества, весьма ощутимого в гомосоциальном окружении нового монарха. В отличие от елизаветинского двора, оплот Стюартов держался исключительно на мужских плечах и культура его была откровенно антифеминистической.
Вероятно, вместо того чтобы обвинять леди Макбет и оправдывать ее мужа, стоило бы разглядеть единение, царящее в их союзе (Макбеты — одна из самых зрелых и согласованных в действиях супружеских пар среди всех шекспировских персонажей). Вычисляя степень вины каждого по отдельности, мы, вероятно, теряем из виду картину, которую пытался изобразить Шекспир — folie à deux, «безумие на двоих», совместное преступление. В отличие от других властных женщин в шекспировских пьесах, леди Макбет не проявляет честолюбия или жадности: она хочет короны не для себя, а для мужа. Не подходит ей и ярлык распутницы, который так охотно вешают на женщин, дерзнувших вести себя по-мужски. Она никак не вписывается в привычный театральный стереотип «дурной жены». Специфический образ леди Макбет, неизменно притягательный для актрис и критиков, предполагает силу и деятельность, однако во второй половине пьесы леди Макбет уже не участвует ни в судьбе мужа, ни в развитии сюжета, понемногу пропадая из поля зрения. Малькольм зовет ее «сатанинской королевой» (V, 8), но, как и у многих персонажей, ступающих на заваленную трупами сцену в конце трагедии (вспомним Фортинбраса или Октавия Цезаря), его суждение предвзято, политизировано и плоско. Вопрос о роли леди Макбет в преступлении, безусловно, задается, но Шекспир на него не отвечает. Наряду с самим Макбетом и троицей ведьм леди Макбет может претендовать на статус той силы, что движет событиями пьесы; однако претендентов так много, что из финала мы выносим скорее вопрос, чем возможные варианты ответа.
По всей видимости, эта проблема всегда была частью зрительского опыта, по крайней мере на такую мысль наводит редкий и весьма необычный исторический документ: уцелевшее свидетельство одного из современников Шекспира. В ту эпоху тысячи лондонцев ходили в театр каждую неделю, но мало кто записывал впечатления от увиденного, поэтому рассказ врача и астролога Саймона Формана особенно интересен. Лучше всего Форману запомнилась сцена пира, где Макбету является дух Банко. Когда Макбет встал и поднял чашу, «зашел призрак Банко и сел на Макбетов стул. Поворотясь, Макбет узрел его и содрогнулся от ужаса и отчаянья, затем начал бессвязные речи о злодеянии, услышав кои его заподозрили в душегубстве». Форман высказывается и об ответственности: с его точки зрения, в убийстве Дункана виновны и сам Макбет, и его жена: «Макбет замыслил убить короля и по наущению жены зарезал Дункана у себя в замке». Это резюме подсказывает, что вопрос о движущей силе событий в пьесе изначально не предполагал однозначного ответа: убийство короля Дункана избыточно мотивировано — у него слишком много причин и виновников.
Одинокий, осажденный в Дунсинанском замке, Макбет узнаёт о смерти жены. В ответ на известие он произносит знаменитый монолог, полный бессильного отчаяния и безысходности. В конце он прибегает к мощной метафоре:
- Жизнь — ускользающая тень, фигляр,
- Который час кривляется на сцене
- И навсегда смолкает; это — повесть,
- Рассказанная дураком, где много
- И шума и страстей, но смысла нет.
В поисках подходящего образа Макбет, сидящий на сцене театра «Глобус», останавливается на фигуре незадачливого актера, мучительно отбывающего свой час на подмостках[106]. Theatrum mundi — или «весь мир — театр», как выразился шекспировский Жак, — расхожая метафора того времени. Однако она многое может поведать о том, как трактовались первопричины явлений и событий в ту эпоху и как популярное искусство — театр — предлагало себя на роль эпистемологической системы (или способа познания) в елизаветинский и иаковианский периоды. Кто или что движет событиями в театре? Физические тела актеров, перемещающиеся по сцене, разыгрывая повествование и воплощая персонажей? Слова, написанные драматургом, который может быть и неизвестен публике? Театральный персонал, без которого не смог бы состояться спектакль? Или, может быть, в духе феноменологии публика, наблюдающая за происходящим? (Вспомним старую философскую загадку: если в лесу упало дерево, но никто этого не слышал, можно ли сказать, что оно издало звук?) Даже когда на театральных подмостках появились сложные, многомерные трагические герои, это произошло в материальном и идеологическом контексте, где индивид не мог быть полностью автономным. Когда театр стал метафорой мира, сложно было сказать, что именно подразумевает этот образ: беспредельность искусства или предельность человеческого бытия? Развернутая аналогия в стихотворении Уолтера Рэли «Что наша жизнь? Игра страстей» представляет жизнь как короткую комедию, после которой мы умираем уже всерьез, без всяких шуток и притворства.
«Макбет», конечно же, не кончается монологом о тщете и безысходности. Сюжет пока не отпускает героя. Макбет клянется умереть как боец и соглашается сразиться с Макдуфом: «Но я дерзаю до конца» (V, 8). Означает ли это, что под занавес он взял судьбу в свои руки? Или же он просто исполняет предначертанное пророчеством ведьм, историческими хрониками, ожиданиями публики, самим Шекспиром? Словно в «Анатомии меланхолии» Бёртона, здесь интереснее всего сам вопрос и набор возможных ответов. «Макбет» спрашивает, почему происходят события. Мы до сих пор неспособны дать однозначный ответ; вероятно, поэтому пьеса неотступно бередит наше воображение.
Глава 17. «Антоний и Клеопатра»
Пьесы Шекспира перелагались на язык самых разных жанров, форматов и видов искусства. В лучших образцах такого перевода новая форма выражения как будто идеально подходит оригиналу: грандиозная опера Верди «Отелло», чувственный балет Чайковского «Ромео и Джульетта», мрачные полотна Генри Фю́зели с кошмарами из «Макбета», фильм Джозефа Манкевича «Юлий Цезарь», проникнутый параноидальным безумием маккартизма. Отличным эквивалентом для «Антония и Клеопатры» — римской трагедии о роковой любви — была бы заглавная статья в глянцевом журнале (например, Hello!). Именно этот формат наилучшим образом подходит для материала пьесы: деньги, секс, скандалы, всемирно известные центры светской жизни, экзотические интерьеры и — в первую очередь — страсти напоказ. «Антоний и Клеопатра» — пьеса, где все выставлено на обозрение, где неприкосновенность частной жизни приносится в жертву славе и самопиару. Если вы ждете от трагедии глубокого психологизма, готовьтесь к разочарованию. Вместо душевных метаний протагонисты являют нам культуру демонстративного потребления, столь характерную для иаковианского театра. И весь этот мир вертится вокруг капризной, переменчивой «королевы драмы» — Клеопатры.
Несмотря на то что в пьесе (внимание, спойлер!) умирают и герой, и героиня, трагический сюжет подчинен истории Клеопатры. Смерть Антония далеко не финал; все кончается лишь со смертью Клеопатры. Этот временной разрыв между его и ее гибелью — самое смелое структурное новшество пьесы. Смертельно раненного после попытки самоубийства Антония приносят в усыпальницу Клеопатры под конец четвертого акта. Весь пятый акт отдан Клеопатре, которая готовит собственный уход в сценах, перемежающихся эпизодами покорения Египта войсками Октавия Цезаря. В «Ромео и Джульетте» промежуток между гибелью героя и героини настолько краток, что кажется горьким недоразумением. Между самоубийством Антония и Клеопатры проходит целый акт: тридцать или даже сорок минут сценического времени. Клеопатра, безусловно, правит финалом своей истории, то есть — подобно Гамлету, Макбету, королю Лиру и Отелло — занимает ключевую позицию в трагедийном мире.
Если Клеопатра действительно центральная фигура трагедии, значит, мы наблюдаем нечто принципиально новое в творчестве Шекспира. Ранее женские образы его трагедий были скорее одномерными: злобные сестры Гонерилья с Реганой и святая Корделия, невинные жертвы Офелия и Дездемона. В образе леди Макбет Шекспир, пожалуй, ближе всего подошел к созданию трагической героини. Может быть, во второй половине пьесы она угасает не столько из-за душевной болезни, сколько оттого, что драматургу не хватило смелости пойти до конца? Ведущая роль Клеопатры для Шекспира беспрецедентна. Одно из вероятных объяснений связано с жизнью труппы слуг короля (слуг лорда-камергера переименовали, когда на английский трон взошел новый монарх). Положение «штатного драматурга» при успешной постоянной труппе позволяло Шекспиру прописывать роли, хорошо зная таланты и особенности их будущих исполнителей. Мы видим, как растущее мастерство Ричарда Бербеджа демонстрируется в крупных трагических ролях, например Гамлета и Отелло. Видимо, на ранних этапах творчества Шекспир чувствовал, что молодым актерам, занятым в женских ролях, лучше всего даются образы героинь, подобных Виоле и Розалинде с их задорным, почти мальчишеским обаянием, и подбирал соответствующие сюжеты. Однако можно предположить, что около 1606 года к труппе присоединился новый актер — не просто наделенный женоподобной внешностью, а способный убедительно изображать сильных, зрелых героинь, таких как леди Макбет, мать Кориолана Волумния или Клеопатра. Тексты Шекспира всегда пронизаны духом коллективного усилия, потому что театральная постановка и есть коллективное усилие. Его пьесы многим обязаны актерам, с которыми он работал.
Центральная роль Клеопатры выводит нас к проблеме жанра. Некоторое время назад литературовед Линда Бамбер написала о Шекспире книгу, которой дала потрясающее название, как нельзя лучше отображающее основной тезис работы: «Женское лицо комедии, мужское лицо трагедии». Бамбер приходит к выводу, что господство мужчины-героя — одно из жанровых свойств трагедии, и чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на Гертруду, Офелию или Корделию. Женщины в трагедиях обычно становятся жертвами или заложницами губительных мужских страстей. Сознание, чью работу обычно препарирует шекспировская трагедия, — это сознание мужское, часто в нем заложено яростное женоненавистничество. Даже леди Макбет, которая кажется исключением из общего правила, в конце концов выбивается из сил, пытаясь разрушить стереотип и перерасти шаблонную роль второго плана. Несмотря на отчаянное драматическое усилие в сцене сомнамбулических метаний, ей не удается раздвинуть границы жанра; в итоге она принесена в жертву трагическому самостоянию Макбета. Как и в случае Изабеллы («Мера за меру»), женская роль становится ареной жанровой борьбы. Если гендер и не равняется жанру, то в значительной степени его определяет.
Итак, если Клеопатре отведена центральная позиция в пьесе, значит ли это, что она первая полноценная трагическая героиня Шекспира? Не будем торопиться с выводами. По объему текста роль Антония гораздо больше: Клеопатра идет номером вторым. К тому же на титульном листе первого издания в заголовок вкрался неожиданный знак препинания: The Tragedie of Anthonie, and Cleopatra («Трагедия Антония и Клеопатра»). Запятая (в англоязычной версии) словно бы разделяет пару, предполагает, что герой трагедии — Антоний, а героиня приписана за компанию или задним числом[107]. В «Антонии и Клеопатре» наличие двух протагонистов скорее озадачивает, чем преображает формат шекспировской трагедии. В некоторых прочтениях смерть обоих любовников удваивает трагический эффект через повторение. В других трактовках вторая смерть либо обесценивает первую, либо сама обесценивается ею; высокая трагедия здесь балансирует на грани сатирического срыва, постоянным удвоением нарушая композиционную стройность, которая обычно ассоциируется у нас с трагическим сюжетом.
Прежде всего давайте рассмотрим сцены смерти любовников. Первым умирает Антоний. Когда египетский флот сдается на милость Цезаря, Антоний проклинает Клеопатру: «Я предан этой подлой египтянкой»[108] (IV, 10). До сих пор Антонию никак не удавалось дотянуть до римских идеалов воинственной мощи и мужской самодостаточности, и вот сейчас он проявляет себя достойным сыном Рима. Кто же еще мог назвать Клеопатру «истой цыганкой» (IV, 10), повторяя брань Филона, который в начале пьесы негодует на падение Антония, чей взор отныне «вперен с молитвенным восторгом / В смазливое цыганское[109] лицо» (I, 1). Но затем Антоний добавляет весьма примечательное проклятие от себя лично:
- Сгинь! Или расплачу́сь с тобой за все
- И Цезарю триумф его испорчу.
- А надо бы, чтоб выставил тебя
- Он на потеху озверелой черни;
- Чтоб за его победной колесницей
- Тащилась ты, как грязный ком, которым
- Запятнан женский пол; чтобы тебя
- Как чудище за мелкую монету
- Показывали каждому зеваке.
Антоний желает Клеопатре, чтобы ее захватили в плен и выставили на потеху крикливым римским плебеям. Любовники, кажется, не могут обойтись без эмоционального шантажа или взаимных уколов; в каждой реплике они пытаются выпросить или спровоцировать некую реакцию, и эта сцена не исключение. Клеопатра шлет своего евнуха Мардиана сказать Антонию, будто она покончила с собой. Услышав эту весть, Антоний зовет своего оруженосца Эроса, чтобы тот его заколол. Имя Эроса — бога любви — весьма иронично звучит в этих обстоятельствах, и Шекспир с явным удовольствием подчеркивает иронию, повторяя его едва ли не двадцать раз за две короткие сцены. Однако Эрос проявляет упорство: он не станет выполнять приказ Антония. Вместо этого он убивает себя, чтобы не видеть смерти своего господина.
Итак, принять смерть от любви Антонию не удается. Вместо этого герой вчерашних дней пытается заколоться собственным мечом. Вероятно, его неспособность совершить самое римское из всех деяний — героическое самоубийство — отчасти призвана показать, как мало в нем осталось от доблестного римлянина, которого вспоминает Филон в начале пьесы. Однако интереснее задуматься о том, что сподвигло Антония на неудавшийся суицид. Ложная весть о смерти Клеопатры, разумеется, вызвала сильное потрясение; но, кажется, главная причина все же в том, как Антоний видит самого себя. Рассудив, что жить дальше — «бесчестье», он описывает Эросу ожидающую его участь:
- А ты предпочитаешь любоваться
- Из римского окна, как господин твой
- Со скрученными за спиной руками,
- Согнувшийся под бременем стыда,
- Бредет за триумфальной колесницей?
- Как Цезарь, упоенный торжеством,
- Над пленником униженным смеется?
У Шекспира речь Антония здесь изобилует латинизмами, отчего она приобретает странное, натужное и высокопарное звучание. Похоже, он не столько силится осмыслить происходящее, сколько хочет хоть немного приукрасить и облагородить действительность[110]. Антоний боится публичного унижения и, говоря о себе в третьем лице, словно бы занимает позицию уличного зеваки, который упивается зрелищем чужого позора. Описывая взгляды, бросаемые на пленника, Шекспир употребляет прилагательное penetrative («пронзающий, проникающий»), тем самым уподобляя низменное, болезненное внимание толпы физическому насилию. Ожидаемое постыдное действо очень близко к той картине, что сам Антоний нарисовал в проклятии, адресованном Клеопатре.
Если мы перенесемся на один акт вперед — словно египетская царица, которой как-то «шагов полсотни по улице пришлось… пробежать» (II, 2), — в сцену, где Клеопатра готовится к собственной смерти, то снова услышим знакомые мотивы:
- Мы, видишь ли, египетские куклы,
- Заманчивое зрелище для римлян.
- Толпа засаленных мастеровых,
- Орудуя своими молотками,
- Собьет помост…
- <…>
- Импровизаторы-комедианты
- Изобразят разгул александрийский.
- Антония там пьяницей представят,
- И, нарядясь царицей Клеопатрой,
- Юнец пискливый в непристойных позах
- Порочить будет царственность мою.
Речь Клеопатры дает понять, что их с Антонием общий страх перед позорным будущим имеет театральную — или метатеатральную — подоплеку. Беда не только в том, что ее саму выставят на обозрение плебеям; хуже, если ее образ будут коверкать и чернить в пьесах и прочих увеселительных представлениях. И предельное непотребство — быть изображенной молодым актером-мужчиной в одеянии блудницы. (Напряженный момент для того самого молодого актера!)
Когда Клеопатра подносит к груди ядовитую змею, все ее мысли о поражении Цезаря:
- Ах, если б ты владела даром слова,
- Ты назвала бы Цезаря ослом:
- Ведь мы с тобой его перехитрили.
Перед смертью блистательные любовники выражают отнюдь не страх разлуки и не отказ жить порознь. Скорее, ими движет страх публичного унижения. И пускай «Антония и Клеопатру» часто называют трагедией любви, согласиться с таким определением — вероятно, означает принять миф, который создает вокруг себя сама пьеса (ее заголовок для журнала Hello!), и читать ее так, как она желает быть прочтенной. В действительности Антоний и Клеопатра смертельно боятся оказаться выставленными напоказ, по крайней мере в том случае, когда от них ничего не зависит. Им невыносима мысль о черни, глазеющей на их позор; разумеется, ирония в том, что они, как персонажи пьесы, и так выставлены на обозрение простого люда. Любовь, ревность и разлука, бесспорно, играют роль в их истории, но не самую важную. В конце XVII века Джон Драйден переработал шекспировский сюжет и назвал свою адаптацию «Всё за любовь», хотя, возможно, лучшим названием стало бы «Всё напоказ».
С середины ХХ века в сфере культурной антропологии принято различать так называемые культуры вины и культуры стыда. Эти понятия обрели широкую популярность благодаря знаменитой, хотя и во многом спорной книге Рут Бенедикт «Хризантема и меч» (1946). Культуры вины и стыда различаются тем, как конструируются в них социальные ожидания и как их носители воспринимают неуспех или дурной поступок. Стыд предполагает осуждение, негативную оценку окружающих — следовательно, источник этого переживания находится вне индивида. Вина, напротив, исходит изнутри и предполагает негативную оценку собственных решений и поступков. Как пишет Рут Бенедикт, «стыд — это реакция на критику других людей. Человек стыдится из-за того, что его откровенно осмеяли и отвергли, или из-за того, что он дал повод себя осмеять. И в том и в другом случае требуется присутствие публики, хотя бы воображаемое». По словам Бенедикт, «приоритет стыда в японской культуре, как и в любой другой, где остро ощущается страх позора, означает, что каждый японец следит за реакцией общества на его поступки. Он может лишь воображать себе этот общественный суд, но всегда будет ориентироваться на его вердикты».
Эти антропологические заметки позволяют нам разглядеть в Антонии и Клеопатре носителей культуры стыда. Оба представляют себе предельное унижение как зрелище: худшая участь — пройти по улицам Рима в триумфальной процессии Цезаря, стать живыми трофеями, объектами злобной пародии. Являть публике блистательный образ — это одно, а быть реквизитом чужой PR-кампании — совсем другое. Кошмар Клеопатры: «юнец пискливый», порочащий ее царственность, — оборотная сторона грандиозного шоу, устроенного ею на реке Кидн. Воспоминания о том зрелище исторгают из груди закаленного в битвах Энобарба знаменитые поэтические строки: «Ее корабль престолом лучезарным / Блистал на водах Кидна»; любуясь зрелищем, «люди / Покинув город, бросились к реке», и даже воздух «помчался б сам навстречу Клеопатре, / Будь без него возможна пустота» (II, 2). Власть Клеопатры зиждется на тщательно продуманном, мастерски поданном образе; царица прекрасно понимает, что ее римские недруги используют те же приемы, чтобы достичь своих политических целей.
Понятие стыда требует отдельного рассмотрения применительно к шекспировской трагедии хотя бы потому, что трагическому жанру, казалось бы, должно сопутствовать понятие вины. Вина, согласно Рут Бенедикт, предполагает душевный разлад и осуждение собственного греха, что намного ближе к внутреннему конфликту, который мы привыкли наблюдать в трагедии, и к учению протестантизма, ставившего уединенное самосозерцание намного выше религиозных церемоний. Один из главных способов понять трагического героя — проанализировать, как он сам воспринимает и оценивает свои недостойные поступки. Так, разум Макбета «полон скорпионов» (III, 2), а насильник Тарквиний «свой проступок яростно клянет», изнемогая под «грузом души преступной»[111]. Если считать муки совести непременной частью трагического образа, то центральной фигурой в трагедии Антония и Клеопатры должен стать верный слуга Энобарб. Из всех персонажей пьесы только он движим чувством вины: «Я сделал подлость, и за это мне / Не видеть больше радости вовеки» (IV, 6). Самобичевание — характернейший признак культуры вины, в то время как страх быть выставленным напоказ перед чернью свойствен культуре стыда. Однако если стыд выступает главной движущей силой трагедии, то роль судьи достается уже не индивиду (герою), а публике — и в художественном мире пьесы, и в театре. Выводя на сцену двух протагонистов, Шекспир нарушает собственный канон индивидуальных трагедий; перенося акцент с внутренней вины на внешний стыд, он выворачивает трагедию наизнанку.
Этот переворот, переход от внутреннего к внешнему заметен во всей структуре пьесы. В предыдущих трагедиях Шекспир нередко оставлял героя в одиночестве: монолог становился главной драматической формой для выражения мысли и чувства, а уединение служило порукой искренности. Однако в «Антонии и Клеопатре» почти нет места монологу, который показал бы нам внутренний конфликт персонажа. Мы ни разу не видим любовников наедине, они постоянно окружены статистами, словно во время звездной фотосессии. Их первое появление сопровождает ремарка: «Трубы. Входят Антоний и Клеопатра со свитой. Евнухи обмахивают Клеопатру опахалами» (I, 1). Когда Антоний и Клеопатра начинают шутливо спорить, кто из них любит сильнее: «Любовь? Насколько ж велика она?» — «Любовь ничтожна, если есть ей мера» (I, 1), это делается напоказ, перед множеством зрителей и свидетелей. Их трагедия движется не к одинокому противостоянию всему миру, а к удушливой публичности, полному размыванию личных границ. Это трагедия, выстроенная для камер и объективов, и Цезарь брезгливо подмечает:
- В Александрии, сообщают мне,
- На серебром обитом возвышенье
- Антоний с Клеопатрой сели рядом
- На тронах золотых.
«И это… всенародно?» — интересуется Меценат. «Публично, на арене для ристалищ» (III, 6), — отвечает Цезарь, намекая на откровенную вульгарность зрелища.
Когда тот же Цезарь в финале пьесы произносит надгробное слово, выбранный им эпитет, пожалуй, вызывает недоумение: мол, никогда еще земля не знала могил с такой знаменитой четой. Речи над телом трагического героя, например Брута или Гамлета, часто невыразительны, но эта уж слишком прозаична. Оказывается, главное в этой паре — не страсть, не гордость, не величие и уж точно не пламенная любовь, а слава. Антоний и Клеопатра — знаменитости, а быть звездой в любую эпоху означает увековечивать себя, постоянно работая на публику. Флирт, прилюдные скандалы, истерики, возвышенные речи (а может быть, и любовь) — все это продуманная и тщательно выстроенная игра перед камерами/зрителями. В этом контексте оборотная сторона культуры стыда — не ее антропологическая противоположность, культура вины, а давний приятель-эксгибиционист — шоу-бизнес. Как и стыд, он обращен вовне и, по выражению Рут Бенедикт, требует присутствия аудитории.
В подобной культуре вопрос об искренности чувства — действительно ли Антоний/Клеопатра любит Клеопатру/Антония — фактически теряет смысл: как же нам это узнать? Для хорошего шоу нужна не искренность, а убедительность. Отчасти пьеса предугадывает трудно поддающееся расшифровке поведение звезд, публичных персон, при этом идя дальше: предполагает, что внутренний мир личности непостижим и, вероятно, не так уж важен. Предыдущие трагедии предлагали нам иллюзию доступа к сознанию героя; здесь каждый образ показан через внешние проявления. Подобно Цезарю, под конец пьесы мы знаем лишь то, что любовники были знамениты и наше присутствие среди зрителей лишний раз подкрепило их славу. «Антоний и Клеопатра» — трагедия внешнего, а не внутреннего, трагедия стыда, а не вины, и в такой системе координат очевидно, что культурные «полюсы» пьесы, Рим и Египет, гораздо ближе друг к другу, чем может показаться на первый взгляд.
Критики традиционно противопоставляют Рим и Египет, усматривая за географическим двоемирием ряд вечных оппозиций: мужское и женское, разум и чувство, голова и сердце, Запад и Восток. Но согласиться с этим означает пойти на поводу у пьесы, которая по-своему осмысляет данные категории. В «Антонии и Клеопатре» подхвачен лейтмотив всех «римских» пьес Шекспира, а именно природа самого́ Рима как цивилизации, определяемой через противостояние. В трагедии «Тит Андроник» конфликт скорее расовый, в «Юлии Цезаре» — политический, в «Кориолане» — кастовый. В «Антонии и Клеопатре» мы видим культурное и этническое несовпадение: Рим определяет себя через противопоставление Египту и наоборот. Действие переносится туда и обратно, причем Шекспир экспериментирует с радикально новой техникой: сменяющие друг друга короткие сцены в длинных центральных актах так и просят перекрестного монтажа. Театральные костюмеры и художники дают простор фантазии, изображая два вроде бы непримиримо различных мира: Рим — суровые, резкие линии, факельные шествия, холодный и жесткий свет; Египет — пышная ориенталистская сказка с эротическими мотивами. Как и во многих бинарных представлениях раннего Нового времени, различие — любое различие — символизируется через образы двух женщин: мадонны и блудницы. Здесь переменчивая, блистательная египтянка Клеопатра противопоставлена удручающе добродетельной Октавии — римской жене Антония.
Антоний, конечно же, разрывается между двумя мирами, но то же самое можно сказать и о зрителе. В первой части «Генриха IV» мы вместе с принцем Хелом ощущаем и переживаем разницу между королевским двором и миром Фальстафа как драматичный контраст между скучными парадными сценами и колоритными картинами из жизни лондонских гуляк. В «Антонии и Клеопатре» Рим менее интересен, чем Египет. Любопытнее смотреть сцены с участием Клеопатры, чем с участием Цезаря. Этот контраст обыгрывается буквально в первые минуты действия. Пьеса начинается коротким неодобрительным прологом: двое римлян обсуждают падение Антония, «который добровольно поступил / В шуты к публичной девке» (I, 1), однако их сразу же теснит на второй план пышная египетская процессия. Клеопатра демонстрирует те самые чары, что пленили Антония, — и зрители подпадают под ее власть вместе с ним. «Антоний и Клеопатра» — римская трагедия, которая не хочет повествовать о Риме. В отличие от других шекспировских пьес, где Рим переживал серьезные потрясения, здесь он в прямом смысле слова оказывается на проигравшей стороне. На фоне египетских сцен Рим представляется вялым, невыразительным антагонистом: о бескровном Октавии Цезаре сиквела не напишешь.
Легко уступить соблазну и сосредоточиться на различиях между двумя мирами, тем самым подхватив этнический фатализм пьесы; однако в контексте культуры стыда между ними отчетливо проступает сходство. Быть римлянином или египтянином означает быть на виду, на людях. Антоний — римский триумвир, Клеопатра — царица Египта; они не просто двое влюбленных, они звезды первой величины. Рассказы о былых подвигах Антония, как и воспоминания о легендарном «шоу» Клеопатры на корабле, предполагают зрелищность на потребу широкой публике как неотъемлемую часть славы и величия этих титанических фигур. Оба они выставлены на обозрение, оба, по выражению Цезаря, знамениты.
Итак, их трагедия видится извне, переживается извне и требует стороннего наблюдателя. Налицо вызов жанровому канону, ведь пьеса, где в центре любовная пара, показанная с помощью диалога и внешней атрибутики, гораздо ближе к комедии, чем к трагедии. Слова умирающей Клеопатры «Иду, супруг мой» (V, 2) точно так же силятся представить смерть — развязку трагедии — в качестве брачного союза, то есть комедийного финала. Серия действий, показанных исключительно извне, скорее характерна для фарса, чем для трагедии. Возможно, «Антония и Клеопатру» легче истолковать в категориях фарса. Юноша-актер, играющий царицу, представляющую, как ее будет изображать юноша-актер, поистине сцена на грани фола и фарса; однако эта черта уже маячила перед нами после неудачного самоубийства Антония. Его, смертельно раненного и обездвиженного, приносят к усыпальнице Клеопатры (вероятно, усыпальницу изображала галерея над сценой). Клеопатра не смеет сойти вниз, боясь солдат Цезаря, поэтому Антония поднимают, чтобы он мог умереть в ее объятиях. Эта сцена призвана стать образцом трагического надрыва, но эмоциональная сторона перечеркнута техническими сложностями. Поднять неподвижное тело метров на пять над сценой — вероятно, на веревке — не самая простая задача. Затруднительность, неловкость подчеркиваются и словами Клеопатры: «О мой возлюбленный, как ты тяжел! / Вся мощь твоя преобразилась в тяжесть» (IV, 13), и ремаркой: «Антония втаскивают наверх к Клеопатре»[112]. Глагол heave («втаскивать») в применении к человеческому телу подразумевает и мучительное физическое усилие со стороны женщин, и гротескную, обесчеловеченную тяжесть Антония.
В одной из рецензий на строго мужскую постановку пьесы в театре «Глобус» (1999) отмечено, что «сцена, где умирающего героя поднимают в усыпальницу Клеопатры, вышла непреднамеренно комичной: побежденная царица Нила в паре с могучей, мускулистой Хармианой изо всех сил налегает на веревку». По словам критика, такое завершение четвертого акта придало финальному действию отчетливо фарсовую окраску. «После этого зрелища публике сложно было принимать театральные условности и верить в женственность актера-мужчины, исполняющего главную роль». Рассматривая комический эффект в качестве случайной осечки, мы, возможно, недооценим готовность Шекспира иронически снизить и развенчать как собственный миф, так и ауру персонажей. На этом этапе творческой эволюции Шекспир все чаще представляет своих героев обломками поблекшей классической цивилизации. В «Антонии и Клеопатре» слышен отзвук классической поэмы — «Энеиды» Вергилия, но отзвук этот скорее пародийный. В частности, Шекспир обыгрывает и пересматривает образ римлянина перед соблазном экзотической женственности. У Вергилия Эней должен покинуть возлюбленную — другую заморскую обольстительницу, карфагенскую царицу Дидону, чтобы исполнить свое предназначение и основать Рим. Шекспировский Антоний воспроизводит Энеев конфликт между страстью и долгом в ином, постгероическом ключе, пожалуй, близком к сардонической перелицовке троянского мифа в «Троиле и Крессиде» или сатирическому антигероизму «Тимона Афинского».
Протагонисты пьесы убеждены, что пробуют на прочность собственный мир, раздвигая границы возможного. Что ж, честолюбивый размах этих звездных, демонстративных любовников раздвигает границы жанра, пробует на прочность трагические условности. Эта длинная, громоздкая, но пышная и амбициозная драма кажется намеренным шекспировским экспериментом. Сценическая история подсказывает, что эксперимент вышел не совсем удачным, однако по своим меркам пьеса все-таки заслужила наивысшую похвалу. Как и ее герои, она, вне всяких сомнений, знаменита.
Глава 18. «Кориолан»
После встречи с шекспировскими персонажами в памяти часто застревают мелкие психологические штрихи. Для чего нам говорится, что леди Макбет увидела в спящем Дункане отца и потому не смогла убить его собственной рукой? Что за особа некогда обожала тщедушного сэра Эндрю Эгьючийка из «Двенадцатой ночи»? Одна такая деталь зацепила меня и в «Кориолане» — пьесе, изображающей жутковатый портрет воина, настолько загрубевшего в боях, что человеческое взаимодействие вне поля битвы ему уже почти недоступно. Вот эта сцена. Бо́льшая часть первого акта показывает сражение римлян с вольсками во главе с Авфидием. Под командованием Кориолана римляне побеждают, и в награду префект Коминий обещает исполнить любую просьбу молодого полководца. Кориолан припоминает: «Один бедняк когда-то в Кориолах / Мне оказал гостеприимство. Видел / Сегодня я, как он, попавши в плен, / Взывал ко мне»[113] — и просит дать пленнику свободу. Коминий соглашается, проводя зловещее сравнение: «Да если б / Он был убийцей сына моего, / И то б свободен стал как ветер». Кто же этот пленник? «Забыл, клянусь Юпитером, — говорит Кориолан. — Усталость / Отбила память. Нет ли здесь вина?» (I, 9) Имя изменника, который некогда приютил у себя знатного римлянина, утрачено. Надежда на помилование угасла, потому что неизвестно, кого миловать. Больше этот случай в пьесе не упоминается. Так для чего же нужна эта маленькая заминка? Почему Кориолан забывает имя своего благодетеля?
Разумеется, подлинный виновник здесь не Кориолан, а Шекспир. Задавать вопрос о том, что хотел сказать автор, считается дурным тоном уже более семидесяти лет — с тех пор, как американские литературоведы У. К. Уимсат и Монро Бердсли опубликовали знаменитую статью «Интенциональное заблуждение» (1946). Уимсат и Бердсли утверждали, что «оценивать стихотворение — то же самое, что оценивать пудинг или станок»; сравнение предполагает, что намерение поэта, во-первых, неважно (важен вкус или принцип работы), а во-вторых, не поддается расшифровке (ведь конечный продукт далеко не всегда содержит в себе все исходные ингредиенты). Вопрос об авторском замысле давно воспринимается как признак наивного, неискушенного читателя и критика. Однако он просто так не исчезнет — наверное, потому, что все-таки важен для нас. Как мы уже не раз убеждались, лучший способ реабилитировать герменевтику замысла — обратиться к шекспировским источникам. Исследуя их, можно краем глаза заглянуть в мастерскую Шекспира, увидеть, как он работает с материалом, придает ему поэтическую форму, режет, вставляет, шлифует, укладывает в пятистопный ямб. Там, где он добавляет или изменяет нечто конкретное, как раз и можно усмотреть творческий эквивалент так называемой божественной частицы[114].
Источником для римских трагедий — «Юлия Цезаря», «Антония и Клеопатры», «Кориолана» — Шекспиру послужил перевод «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха, выполненный Томасом Нортом и опубликованный в 1579 году. Издатель английского текста, Ричард Филд, был приятелем, ровесником и земляком Шекспира; возможно, именно он предоставлял драматургу том Плутарха, когда Шекспир работал с античным материалом. Согласно Плутарху, после победы при Кориолах Кай Марций Кориолан ходатайствовал за местного жителя, некогда оказавшего ему помощь. Имя этого «друга и гостеприимца, человека порядочного, скромного» у Плутарха не названо, однако нет никаких причин полагать, что Кориолан его забыл. У Шекспира, напротив, диалог с упоминанием радушного хозяина служит одной-единственной цели: показать, что Кориолан не помнит его имени. Горячие поклонники авторского замысла могут порадоваться: забывчивость Кориолана, конечно же, неслучайна. Шекспир добавил эту деталь намеренно, с определенной целью.
При внимательном чтении Плутарха обнаруживается еще одно интересное расхождение. Шекспировский Кориолан недвусмысленно заявляет, что человек, который ему помог, был беден: «Один бедняк когда-то в Кориолах / Мне оказал гостеприимство». Плутарх столь же однозначно констатирует, что до поражения вольсков тот человек был «богат и счастлив». В пьесе, где классовый конфликт играет очень важную роль, такой нюанс не может быть случайным.
«Кориолан» начинается ремаркой: «Входит толпа восставших горожан с кольями, дубинами и другим оружием». Цель этих повстанцев очень проста: «…скорее умереть, чем голодать» (I, 1). Они голодны и не могут позволить себе даже хлеба, поэтому нападают на склады с зерном, которыми ради собственной выгоды распоряжаются патриции. Плутарх действительно упоминает о выступлениях городской бедноты, но у самого Шекспира в памяти, конечно, еще были свежи зерновые бунты 1607 года, затронувшие несколько графств: его родной Уорикшир, Нортгемптоншир и Лестершир. Крестьянские волнения были вызваны чередой неурожайных лет, ростом цен на продовольствие и его нехваткой, отчасти связанной с новой практикой огораживания: изъятые из общего пользования пахотные земли превращались в овечьи пастбища. Вероятно, Шекспир был не понаслышке знаком с жалобами сельской бедноты: в «Кориолане» он в первый и единственный раз употребляет глагол depopulate («обезлюдеть, опустошить»), который встречается в манифесте повстанцев «Воззвании диггеров[115] Уорикшира ко всем диггерам Англии».
Позиция самого́ Шекспира по отношению к этим событиям вызывает множество вопросов и заставляет задуматься, до какой степени биографический материал пригоден или не пригоден в литературоведении. Достоверно известно, что Шекспир не остался в стороне от спекуляций зерном, укрывая в амбарах Нью-Плейс (своего дома в Стратфорде) восемьдесят бушелей ячменя. Более того, мы знаем, что в последние годы жизни он участвовал в затяжных дебатах по поводу огораживания общинных земель около Стратфорда. Насколько можно судить, Шекспира волновали его собственные права и выгоды как землевладельца, а не судьба крестьян, которые могли остаться без земли и средств к существованию. Как выразился драматург Эдвард Бонд — автор пьесы «Бинго» (1973), в которой с беспощадной ясностью изображен разрыв между высоким гуманизмом шекспировских пьес и корыстью Шекспира-дельца, «он мог встать на сторону лендлордов или же на сторону бедняков, которым грозила голодная смерть без общинных земель. Он выбрал сторону землевладельцев». В трактовке Бонда Шекспир предстает капиталистом, которому намного ближе римские зернохранители-патриции, чем взбунтовавшаяся городская беднота в «Кориолане».
Сложно сказать, чья позиция изображена в пьесе с большей симпатией. История постановок «Кориолана» отражает, как разные эпохи пытаются прояснить для себя политические установки этой трагедии. Сам по себе шекспировский текст либо беспристрастен (если вы одобряете его идеологический баланс), либо уклончив (если не одобряете). Ясно одно: Кориолан забывает имя бедняка в контексте откровенной враждебности к римскому простонародью. Первая же его реплика не оставляет в этом никаких сомнений:
- Мятежный сброд, зачем,
- Чесотке умыслов своих поддавшись,
- Себе вы струпья расчесали?
Дальше становится только хуже. Когда Кориолану, которого уговорили занять государственную должность на волне боевых побед, требуются голоса простых римлян, он не может заставить себя попросить горожан о поддержке. Один из них упрекает его: «…ты никогда не любил простого народа», на что Кориолан самоуверенно и без тени раскаяния отвечает: «Значит, ты должен еще больше ценить меня за то, что я не якшался запросто с кем попало» (II, 3). Поддавшись на уловку трибунов, которым хочется стравить верхи и низы общества, Кориолан раскрывает всю глубину своего отвращения к римским плебеям:
- Но черни смрадной и непостоянной
- Я льстить не в силах. Пусть она увидит
- Себя в моих речах. Я повторяю,
- Что, потакая ей во зло сенату,
- Мы сами сеем сорную траву
- Бесчинств и бунтов, для которой почву
- Вспахали и удобрили мы сами,
- Себя поставив с чернью наравне,
- Смешавшись с ней и поступаясь властью
- В угоду подлым нищим.
Кориолан недвусмысленно проводит черту между «нами» и «ними». Сам он принадлежит к избранным, к патрициями, рожденным править Римом; плебеи же — смрадная чернь, которая умеет лишь проедать богатство, накопленное патрициями.
Итак, Кориолан даже не думает скрывать презрение к праздной бедноте и ее роли в жизни общества. О чем же тогда свидетельствует тот факт, что человек из Кориол, чье имя он забывает, в пьесе превращен из богача в бедняка? Быть может, это еще один пример его глубокой неприязни к низшим классам и Кориолану просто неохота запоминать имена простолюдинов? Надо ли расценивать этот маленький диалог как проявление кастового фундаментализма, мол, даже если плебей и союзник, он все равно недостоин внимания?
Возможно. Если так, забывчивость Кориолана нужно расценивать как знак внутреннего свойства, проявление черты характера. Уильям Хэзлитт писал об «избыточности» Шекспира: обилии словесных, драматургических, сюжетных средств и деталей, которые на первый взгляд кажутся лишними, ненужными. Забывчивость Кориолана избыточна и потому красноречива: это штрих к портрету, при помощи которого Шекспир указывает на глубокий, сложный внутренний мир героя. Такие намеки предполагают, что в персонаже есть нечто большее, чем необходимо для развития сюжета, и тем самым создают ощущение цельности, многомерности образа, даже когда мы не видим его на сцене. Однако забывчивость Кориолана выглядит чем-то иным, ведь нам и так показано, что он откровенно презирает бедноту. Для чего же этот тонкий намек, что и в глубине души он тоже презирает плебс?
В классическом труде о причудах памяти — «Психопатология обыденной жизни» — Зигмунд Фрейд писал, что любая, даже самая мелкая деталь забывается не случайно. Анализируя собственную неспособность припомнить имя, Фрейд заключает, что «наряду с обыкновенным забыванием собственных имен встречаются и случаи забывания мотивированного, причем мотивом служит вытеснение»[116]. Что же может вытесняться в контексте «Кориолана»? Само имя Кориолан в шекспировскую эпоху было синонимом слова «предатель»: его помнили прежде всего как полководца, который обратился против собственного народа. Быть может, забывая имя вольска, помогавшего врагу, Кориолан в каком-то смысле вытесняет из памяти себя и свое будущее предательство.
Если предположить, что забывчивость Кориолана неслучайна, быть может, ее нужно расценивать как свидетельство душевной травмы. Разум Кориолана замутнен; полководец жалуется на усталость и просит вина. Кажется, в краткий миг человеческой слабости мы видим нечто живое, обыкновенно сокрытое под броней боевой машины, в которую он себя превращает. Если так, этот эпизод очень важен для пьесы, где не так часто нам удается проникнуть во внутренний мир героя. Мы снова и снова пытаемся узнать Кориолана поближе, но всякий раз терпим неудачу. Он не спешит расположить нас к себе; возможно, поэтому и сама пьеса равнодушна к вниманию критиков, как будто высокомерием протагониста отталкивает не только от него, но и от всего действа на сцене. Здесь, как и вообще в поздних трагедиях Шекспира, почти нет монологов, то есть интимных моментов, когда мы остаемся наедине с героем и узнаем сокровенные мысли и чувства, которыми он не готов поделиться с другими персонажами. Монологические реплики в «Кориолане» сводятся к едким замечаниям, брошенным в сторону. Кориолану не нужны ни симпатии горожан, ни симпатии зрителей. Он не станет бороться за голоса римских плебеев и уж тем более не станет развлекать публику монологами.
Этой надменной позой Кориолан словно бросает вызов всем, кто за ним наблюдает. Когда его нет на сцене — а иногда и в его присутствии, — остальные персонажи преимущественно заняты трактовкой его образа. Уже с самого начала пьесы наше внимание быстро переключается с «толпы восставших горожан» на обсуждение центрального персонажа, или «злейшего врага народа». Оценки горожан разнятся: с одной стороны, «он для народа хуже собаки», а с другой — у него несомненные «заслуги перед отечеством». Мотивы его поступков тоже неясны: «Пусть мягкосердечные простаки думают, что он старался для отечества. На самом-то деле он поступал так в угоду матери; ну, отчасти и ради своей спеси». Многие согласны, что он не жаден, однако «у него столько пороков, что устанешь перечислять» (I, 1). Возмущение по поводу цен на зерно стремительно переходит в дебаты о главном персонаже; первая сцена задает общий тон трагедии. Политические события в «Кориолане» лишь повод в очередной раз препарировать центральный образ: в этой пьесе внутренний конфликт принудительно обретает внешний характер, причем источником и средоточием разногласий служит сама фигура Кориолана. Она просто не поддается пониманию.
В четвертом акте есть длинная сцена, где переодетый бедняком Кориолан пробирается в оплот своего давнего врага Авфидия. Один из важнейших мотивов этой сцены — тщетность любых попыток описать Кориолана. Встреченные им слуги с трудом подбирают слова, силясь передать его «особенность»: «В его лице есть что-то такое… как бы это сказать…», «Пусть меня повесят, если я не догадался, что он поважнее, чем нам казалось» (IV, 5). Разные персонажи пьесы ищут подходящие выражения, чтобы охарактеризовать его, и неоднократно используют слово thing — «вещь, нечто». Кажется, Кориолана сложно воспринимать как существо из плоти и крови; скорее, он производит впечатление бездушного истукана, наделенного грозной, сверхъестественной мощью. По словам Коминия, вольски покорны ему, «как будто он был создан не природой, / А более разумной высшей силой» (IV, 6); Менений утверждает, что ходит он «как осадная башня», а появляясь перед народом, «сидит в кресле под балдахином, словно статуя Александра» (V, 4). Этот расчеловеченный образ подмечает и Джордж Уилсон Найт, описывая Кориолана как «металлическую махину, руководимую слепой гордостью».
Возможно, под этой безликой, словно бы неодушевленной маской скрывается травмированный герой: человек, превративший себя в боевую машину и заплативший за эту метаморфозу разрушением личности, почти полным стиранием собственного «я». В таком случае эпизод с забытым именем — на фоне кровавого хаоса разграбленных Кориол — рисует нам более доступный и понятный портрет надломленного персонажа. Черты, которые большинство литературоведов усматривают в образе Кориолана, отчетливо напоминают симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР): эмоциональный ступор, отчуждение, замкнутость, ангедония (неспособность испытывать удовольствие), а также амнезия — подсознательное вытеснение мыслей, чувств, людей, мест и событий, которые могут напомнить о перенесенной травме. Может быть, забывчивость Кориолана вызвана нежеланием возвращаться к ужасам войны и вспоминать о Кориолах?
Если бы речь шла о реально существующем воине, я охотно подписалась бы под такой трактовкой. Но литературные или драматические образы сделаны не из плоти и крови, а из слов или жестов и требуют другого подхода — с учетом поэтики и эстетики, художественной условности, а также культурно-исторической дистанции. К примеру, представление об идентичности как неотъемлемом внутреннем свойстве индивида характерно для психологии ХХ века, однако на заре Нового времени причины и мотивы человеческих поступков понимались несколько иначе, скорее ситуативно, в социальном контексте формирования личности. «Кориолан» — пьеса, к которой сложно применить метод психологического прочтения: ему упорно противится угрюмый, отталкивающий, непроницаемый центральный персонаж. Возможно, здесь стоило бы рассматривать идентичность как словесный конструкт или номинативный жест: иначе говоря, имя, а не сущность.
Забывание имени в «Кориолане» обретает символический смысл благодаря общему контексту именования в пьесе. Главная цель первого акта — придать Кориолану то имя, которое ему предстоит носить. Полководец, прежде известный как Кай Марций[117], в награду за боевые заслуги получает нечто вроде титула — почетное прозвание, или агномен. Другим шекспировским персонажам тоже доводится сменить имя и статус прямо на сцене (что нередко происходит, например, в хрониках); однако нигде больше новое имя не выносится в название пьесы. Именование Кориолана — и в репликах других персонажей, и в ремарках трагедии — весьма примечательно само по себе.
Очевидно, пьеса обязана названием почетному прозвищу героя. После победы при Кориолах благодарные воины «кричат: „Марций, Марций!“, бросая в воздух шлемы и копья» (I, 9), и Коминий публично нарекает Кая Марция Кориоланом. Однако в тексте «Кориолана» из Первого фолио — единственном дошедшем до нас раннем издании пьесы — реплики героя до самого конца сцены обозначаются именем Марций. Лишь при его триумфальном возвращении из похода против Авфидия в пьесе появляется персонаж по имени Кориолан (ремарка в первой сцене второго акта гласит: «Входят Коминий и Тит Ларций; между ними Кориолан в дубовом венке»). Таким образом, героический агномен Кориолана, выделяющий его как центральную фигуру трагического сюжета, словно бы опаздывает к началу действия. Что еще любопытнее, с этим новым именем происходит загадочная путаница. В Первом фолио Коминий нарекает своего военачальника Марком Каем Кориоланом, и хор воинов подхватывает именно это прозвание. Начиная с XVIII века издатели и редакторы традиционно исправляют реплику Коминия и возвращают привычного нам Кая Марция, однако ошибка, допущенная в Первом фолио, представляется весьма символичной в контексте самой пьесы. У Плутарха рассказ о новом прозвище Марция сопровождается подробным отступлением с многочисленными примерами, поясняющими римскую систему имен: «Собственное его имя было Гай (Кай), второе же, принадлежавшее всему дому, или роду, — Марций. Третье имя получали не сразу, и оно отвечало какому-нибудь поступку, удачному стечению событий, внешнему признаку или нравственному качеству».
При наличии столь подробного комментария странно, но небезынтересно наблюдать в тексте Фолио двойную ошибку: во-первых, имена приведены в неверном порядке, а во-вторых, Марций почему-то становится Марком. Получается, текст пьесы будто бы «забывает» имя главного героя буквально в момент его наречения. Вся эта сцена — о забвении. Возможно, стоило бы применить метод Фрейда к самому́ тексту, а не только к центральному персонажу. Быть может, вся пьеса страдает травматической амнезией, вытеснением или ПТСР. Случайная ошибка или опечатка в имени Кориолана создает символическую «рифму», ведь через несколько мгновений за ней последует эпизод с позабытым именем злосчастного бедняка из Кориол. Иными словами, и напечатанный текст, и драматический диалог разом подчеркивают важность и преходящий характер имени.
Подробное разъяснение римской системы имен, которое мы находим у Плутарха, наглядно представляет несколько моделей персональной идентичности. Второе имя приписывало индивида к семье или роду, тогда как третье давалось за личные деяния, заслуги, черты или качества. Такие нюансы позволяют заметить, что «Кориолан» упорно отказывается поощрять стремление к автономии личности. Наглядный пример можно найти в сцене посольства Виргинии и Волумнии к изгнанному Кориолану, когда он тщетно пытается сохранить твердость духа и не поддаться на уговоры жены и матери, как если бы сам «был своим творцом, родства не зная» (V, 3). При желании здесь легко усмотреть приметы поздней, вымученной трагедии, где даже сам Кориолан сопротивляется роли трагического героя; однако можно и посчитать, что эта пьеса предвосхищает поздние романтические драмы — следующий и заключительный этап творческой эволюции Шекспира. В этих пьесах одинокие, надломленные герои-мужчины (например, Перикл или Леонт в «Зимней сказке») обретают новую жизнь, воссоединившись с женской частью семьи — давно утраченными женами или дочерьми. Семейство Кориолана состоит не только из женщин (у него есть маленький сын), но структурно предполагает сходную роль. Нам кажется, что появление жены с матерью должно привести героя в чувство, исцелить, вернуть домой. В действительности, напротив, успех женской миссии делает его гибель неизбежной. В отличие от своих преемников в романтических драмах, Кориолан не получит шанса на возрождение и очищение; в этой пьесе семейные узы — источник слабости, а не жизненной силы, как в поздних драмах автора.
Стремление угодить матери, которое, по словам римских горожан, двигало Кориоланом в дни военного триумфа, теперь оборачивается его ахиллесовой пятой. Когда Волумния умоляет его пощадить Рим, Кориолан сознаёт, что перемирие грозит ему смертью: «О мать, / Что сделала со мною ты!» Волумния попрекает его именем: «Ведь он Кориолан, а это имя / Не жалости, но гордости сродни» (V, 3). В последнем разговоре с Авфидием именование становится и вовсе хаотичным. Авфидий отказывается почтить собеседника: «Ты полагал, что я тебя украшу / Почетным прозвищем Кориолана, / Украденным тобою в Кориолах?» (V, 6) — и зовет его Марцием, а под конец — «плаксивым мальчиком», предвосхищая унижение и бесчестье, которыми закончится жизнь Кориолана. Названия шекспировских трагедий неизменно подчеркивают значимость отдельно взятого имени, словно задача трагического жанра — выяснить, как имя влияет на судьбу. Трагические герои нередко говорят о себе в третьем лице, и рассуждения о том, что означает имя, или же о праве его носить часто служат признаком душевного надлома. В «Кориолане» имя собственное как символ индивидуальности и личной автономии субъекта подвергается особо тщательному разбору, и эпизод с непоправимо забытым именем внесценического персонажа становится частью этой важной онтологической проблемы.
И напоследок замечание о театре. Некоторые шекспироведы объясняют классовую политику «Кориолана» творческим экспериментом: поисками нового формата для небольшого модного закрытого театра «Блэкфрайерс». В отличие от «Глобуса» с его открытым двором и вместимостью порядка трех тысяч человек, «Блэкфрайерс» вмещал не более семисот зрителей. Плата за вход была заметно выше, контакт со зрительным залом — теснее, а внутреннее освещение позволяло усовершенствовать и усложнить барочные сценические эффекты. Возможно, непривычная среда отчасти объясняет скованную драматургию этой неподатливой пьесы. Сам Кориолан, говоря о нежелании угождать простонародью, прибегает к театральным метафорам. Немногословный, суровый полководец воспринимает публичное обращение, которого ждет и требует римский народ, как дурной спектакль: «Роль такую / Играя, покраснею я» (II, 2). В заключительном акте пьесы Кориолан снова ощущает себя незадачливым лицедеем: «Как плохой актер, / Я сбился с роли, к своему позору» (V, 3). Он не хочет играть, не хочет выставлять себя напоказ перед жадной до зрелищ публикой. Это, конечно же, серьезный недостаток для персонажа, особенно персонажа на сцене нового театра с дорогими местами, где зритель видит действие во всех подробностях с близкого расстояния. Публике редко нравятся исполнители, откровенно ее презирающие. Кориолан склонен к саморазрушению не только как отчаянно смелый воин, не знающий страха смерти, не только как изгнанный римлянин, переходящий на сторону врага, но и как исполнитель своей роли. Его презрение к толпе распространяется на зрителя. Разговор о герое шекспировской трагедии часто выходит к Гамлету, который демонстрирует публике свой блистательный внутренний мир, словно обманчивый заголовок (Смотрите! «То, что во мне, правдивей, чем игра»!). «Кориолан», наоборот, ставит под вопрос само понятие драматического образа. Последняя трагедия Шекспира являет нам ту непостижимую сущность, которой хочет, но не может стать чересчур разговорчивый Гамлет. Всякий раз, когда Кориолан вроде бы наконец должен обрести драматическую идентичность — через принадлежность к семье, через социальное взаимодействие, через монолог, через именование, через противопоставление другому, через осознанный выбор, через самоанализ, — пьеса обманывает наши ожидания и подвергает ироническому разбору само понятие персонажа.
В начале пьесы толпа атакует Кориолана на словах, препарируя его характер и репутацию. В финальной сцене она кромсает его в буквальном, физическом смысле слова. Вольски обращаются против него с криками: «Убить его, убить! Убить!» (V, 6) Предпоследняя ремарка в первом печатном издании гласит: «Заговорщики обнажают мечи, бросаются на Кориолана и убивают его. Авфидий наступает ногой на труп». Кориолан разом лишается почетного имени, человеческого достоинства и жизни; трудно представить более горькую и безотрадную развязку.
Глава 19. «Зимняя сказка»
Пожалуй, самая знаменитая строка из «Зимней сказки» — это ремарка: «Убегает, преследуемый медведем»[118] (III, 3). В целом Шекспир скуп на сценические указания — вероятно, потому, что печатные тексты его пьес нередко опирались на рабочие материалы, где таких пометок не требовалось, а книгоиздатели той эпохи еще не выработали универсальных инструментов, помогающих читателю наглядно представить происходящее на сцене. Некоторые исследователи полагают, что сам Шекспир не писал ремарок; в любом случае современные редакторы с легкостью добавляют их от себя, иногда подгоняя под собственную трактовку текста (вспомним пример из главы об «Укрощении строптивой»). Оригинальные ремарки в ранних изданиях шекспировских пьес бывают поистине восхитительны, например: «Входит невидимый Ариэль» («Буря») или — одна из моих любимых — «Фальстаф восстает»[119] (первая часть «Генриха IV»). Многие хрестоматийные моменты — например сцена близ Дувра в «Короле Лире», или окровавленные руки убийц в «Макбете», или платок, оброненный Дездемоной, — скорее подразумеваются в диалоге, чем обозначаются в отдельном указании. Однако ни одна ремарка не вызывает столь острого любопытства, как та, что мы находим в «Зимней сказке».
Отчасти, конечно, дело в медведе. Исследователей давно интригует вопрос: мог ли на сцене «Глобуса» появляться настоящий, живой медведь? В ту эпоху театры часто соседствовали с площадками для медвежьей травли, где можно было посмотреть, как собак спускают на прикованного цепью медведя. В разгульном лондонском Сауторке[120] публике предлагались оба вида развлечений. Оба требовали арены с местами для зрителей (на одном из старейших изображений южного берега Темзы — гравюре Вацлава Холлара — «Глобус» ошибочно обозначен как Медвежий сад, и наоборот — до того они были похожи[121]). В обоих заведениях публика жаждала крови: шекспировские трагедии, возможно, были популярны не столько за счет философского содержания и глубокого смысла, сколько по причине относительной близости к иным жестоким забавам. Следовательно, актерам не составило бы труда отыскать полудикого медведя, которого можно было бы вывести на сцену, а точнее, со сцены в «Зимней сказке». Кроме того, известно, что белые медведи вошли в моду, когда Иакову I привезли двух медвежат со Шпицбергена. Белые медведи использовались во многих придворных забавах и в популярной романтической комедии «Муседор», которая входила в репертуар шекспировской труппы. Именно поэтому живой медведь действительно мог появиться в «Зимней сказке». Вот только разумно ли выпускать его в переполненном театре? Будет ли он слушаться указаний? Пожалуй, безопаснее было бы нарядить актера в медвежью шкуру, чтобы побегал по сцене и порычал?
Исторический «медвежий» вопрос отчасти объясняет непреходящее обаяние этой знаменитой ремарки, однако она завораживает нас и поэтическими свойствами. Благодаря колоритному образу и афористической емкости она так и просится в цитаты. До этого момента в пьесе почти ничего не говорится о медведях. Появление животного не обозначено никакими указаниями. В ремарке использован неопределенный артикль а́ (Exit pursued by а bear — «Убегает, преследуемый каким-то медведем»), что подразумевает элемент случайности, стихийности: мы ничего не знаем об этом звере и прежде его не видели. Ремарка будто бы передает, разыгрывает зрительское изумление. Постойте-ка… медведь? Откуда он тут взялся? И все же в первую очередь она значима как составная часть большого комплекса драматургических, лингвистических и структурных эффектов, использованных Шекспиром в середине пьесы. Эти эффекты служат одной цели: вытащить действие из трагической колеи и перевести на комедийные рельсы. Задача не из легких: чтобы переключить «Зимнюю сказку» в режим комедии, понадобится отчаянное коллективное усилие. Даже медведю придется вложить всю душу в свою эпизодическую роль.
«Зимняя сказка» — одна из последних пьес Шекспира. Как мы уже видели, он и прежде ставил драматургические эксперименты на стыке комедии с трагедией: вспомним странные браки, срежиссированные герцогом в финале «Меры за меру», или спонтанные, пропитанные незримым ядом козни Яго в «Отелло». Работая над этими пьесами, он, очевидно, обретал новые творческие возможности в перепадах интонации, тона и настроения. При этом в «Зимней сказке» мы наблюдаем радикальный разворот от трагедии к комедии, который требует серьезного — и быстрого — переключения скоростей в середине пьесы. Первые три акта «Зимней сказки» — чистейшая, даже концентрированная трагедия: Леонт, подозревая, что жена изменила ему с лучшим другом Поликсеном, заточает ее в темницу и посылает гонцов к дельфийскому оракулу за советом. Новорожденную дочь он объявляет незаконной. Весть о смерти жены и сына знаменует сюжетный поворот, который Аристотель в «Поэтике» назвал перипетией, или «превращением действия в его противоположность». История Леонта заканчивается сокрушенным признанием собственной вины:
- Прошу,
- Сведи меня ты к праху королевы
- И сына; их схороним вместе, надпись
- Над гробом будет — о причине смерти —
- На вечный мне позор…
Итак, до сих пор все вполне трагично. Перед нами, казалось бы, классический трагедийный сюжет: высокородный герой разрушает собственную жизнь в силу роковой ошибки (или гамартии, трагического изъяна в характере, если воспользоваться термином Аристотеля). Гамартия Леонта — в необузданной, беспочвенной ревности.
Однако идеальная трагедия обрывается раньше срока: до конца спектакля остается еще не менее часа. Как говорят англичане, дело не закончено, пока не спела толстая леди. В нашем случае леди — «воскресшая» королева Гермиона — еще не сошла с пьедестала. Если сицилийская часть «Зимней сказки» — трагедия, то какая-то она скороспелая. Ревнивый гнев Леонта налетает внезапно, как смерч; все происходит чрезвычайно быстро и, пожалуй, «слишком пылко» (I, 2). В отличие от предыдущих пьес, трагедия здесь не конец и не самоцель. Отказываясь удалить со сцены одинокую и скорбную фигуру трагического героя, пьеса заставляет нас задаться вопросом: а что дальше? Что в действительности происходит, если ты совершил чудовищную ошибку и по собственной вине лишился всего, чем дорожил? Каково это, вместо того чтобы величественно умереть (например, как Отелло, целуя убитую Дездемону), быть обреченным каждое утро просыпаться и вспоминать, что натворил? Да, шекспировские трагедии мрачны, но их апокалиптические развязки, по крайней мере, избавляют нас от невыносимой обыденности горя, раскаяния и прочих последствий неверного выбора.
Сокращенная трагическая часть оставляет в пьесе место для темы страдания. Кроме того, она расчищает простор для более оптимистического построения — не очередного витка трагедии с ее неизбежностью и безысходностью, а своего рода философии второго шанса. «…Слезы / Мне будут утешеньем» (III, 2), — говорит Леонт, обещая до конца жизни оплакивать жену и сына. (В оригинальном тексте эта фраза звучит как Tears shall be my recreation, где слово recreation означает времяпрепровождение (я проведу время в слезах), но, возможно, наделено и более глубоким смыслом: сулит возрождение через страдание[122].) Иногда мы утешаем себя, подмечая, что трагические герои Шекспира извлекают некий урок из горького опыта или совершенствуются духовно. Как будто трагедия — это программа личностного и профессионального роста: менеджер высшего звена король Лир осваивает более демократичные методы руководства, пройдя мастер-класс на пустоши, в суровых погодных условиях. Слабое утешение, если учесть, что наградой за проделанную работу над собой служит смерть. Какой смысл учиться на ошибках, если сделанные выводы нельзя применить на практике? В отличие от согрешивших трагических героев, Леонт все-таки получает второй шанс, но не сразу. (На ум поневоле приходят слова Сэмюэла Беккета: «Сколько раз пробовал. Ни разу не вышло. Неважно. Пробуй еще. Пусть не выходит. Пусть не выходит лучше»[123].)
После того как Леонт узнает страшную цену своей ревности, пьесе нужно перегруппироваться и перестроиться. Для этого необходимо сменить место, жанр, интонацию, а затем и время, поэтому в середине пьесы нас ждет несколько переходных сцен. Первым меняется место действия: из пылкой Сицилии мы переносимся в пасторальную Богемию. Выполняя приказ Леонта, дворянин по имени Антигон приносит отвергнутое дитя Гермионы в ненастье на морской берег и оставляет там на милость судьбы. Именно после этого он и убегает, преследуемый медведем. Антигону, разумеется, не до веселья; однако появление зверя, по всей вероятности, вызывало у зрителей смех уже в силу полной неожиданности. Современные «спецэффекты» в этой сцене — от актера, одетого в карнавальный костюм медведя, до тени гигантского когтя, которая падает на Антигона, — рассчитаны на то же впечатление: они откровенно забавны. Кажется, выход медведя имеет одну цель — сменить тональность пьесы. Антигон приносит себя в жертву жанровой трансформации: его смерть замыкает череду трагических событий, но как объект фарсового сценического трюка он завещает «Зимней сказке» комическую вторую часть. Перед зрителем появляется ворчливый пастух:
Хотел бы я, чтобы между десятью и двадцатью годами не было никакого возраста или чтобы молодежь могла проспать это время; а то ведь в эти годы у них только и дела, что делать девкам детей, обирать стариков, воровать да драться.
(III, 3)
Колоритная проза обозначает стилистический отход от высокой трагической поэзии первой части. В современных постановках часто звучит деревенский говорок (что, безусловно, усиливает комический эффект). Этот монолог — как и комедия вообще — повествует о юности, возрождении, новой жизни. Обращаясь к сыну, который только что доложил о том, как медведь полакомился неизвестным дворянином, пастух резюмирует всю суть жанрового перехода: «…ты встретился с умирающими, а я с новорожденным!» (III, 3) На секунду мы попадаем в сказку или легенду. Дитя спасено, словно Моисей в корзине, вместе со всем, что сулит ему будущее. Когда молодой пастух описывает смерть Антигона в комически сниженной манере: «…сперва несчастные люди вопили, а оно [море] над ними хохотало, и несчастный дворянин тоже вопил, а медведь тоже над ним издевался» (III, 3), — трансформация завершается. Мы сменили место действия, жанр и тон. Осталось только сменить время.
Перелистывая календарь, пьеса демонстрирует очередной драматургический эксперимент. Для сравнения давайте обратимся к «Буре» — романтической драме, которую мы будем обсуждать в последней главе. Написанная в том же году, что и «Зимняя сказка», «Буря» также рассказывает историю двух поколений, где грехи отцов могут искупить и исправить лишь дети. Пройдет двенадцать лет, прежде чем враги низложенного Просперо попадут к нему на остров; для примирения Леонта с Поликсеном потребуется союз их детей, Пердиты и Флоризеля. В обеих пьесах романтическая линия протянута через время и пространство. Однако в «Буре» Шекспир прибегает к приему, который до того использовал только однажды, в ранней пьесе «Комедия ошибок». Он соблюдает классическое единство места, времени и действия. Сценическое время в «Буре» совпадает с сюжетным временем: три часа на волшебном острове. Ради этого приходится вставить в первый акт длинную сцену воспоминаний Просперо — сцену, которую очень сложно сыграть, потому что ее главная задача противоречит само́й природе театра: рассказать, а не показать. Все, что нам нужно узнать перед встречей ученого мага с потерпевшими кораблекрушение дворянами, представлено в повествовательной форме: давней, но незабытой истории. В теории литературы такой способ представления сюжетных событий называется диегезис (рассказ) — в противоположность мимесису (показу или подражанию)[124].
В «Зимней сказке» та же драматургическая задача решается с помощью мимесиса: изначальные трагические события представлены нам, а не описаны постфактум. Чтобы перейти к новой главе истории, Шекспир выводит на сцену Время, которое просит зрителей: «Не ставьте мне в вину / Мой быстрый лет и то, что я скользну / Через шестнадцать лет» (IV, 1). Фигура Времени, заменяющая хор, позволяет Шекспиру уложить просторный хронотоп[125] романтического сюжета в сценические рамки.
В мире ценителей искусства слово «экспериментальный» нередко служит эвфемизмом и в переводе означает «непонятный» или просто «неудачный». Если Шекспир поставил эксперимент, это еще не значит, что эксперимент удался. Однако отчаянное усилие, которое пьесе приходится совершить, чтобы вырулить на путь комедии, показательно само по себе. «Зимняя сказка» завершает собственное преображение чем-то вроде титра «Шестнадцать лет спустя»: он должен прикрыть и пригладить хронологическую шероховатость пьесы. Сюжету неинтересно детство Пердиты и ее жизнь в приемной семье. История продолжается, когда дочь Леонта вступает в пору юности и созревает для вечного удела комических героинь Шекспира — свадьбы.
В четвертом акте на сцене появляется множество новых персонажей — и, зная, что в шекспировском театре большинство ролей «по совместительству» играли те же актеры, можно провести интересные параллели между двумя частями пьесы. Быть может, один и тот же актер играл Мамилия и Пердиту — детей Леонта, ни разу не появляющихся на сцене вместе? Или это были Мамилий и Флоризель? Возможно, Леонт также мелькает где-то в Богемии, только в другой роли? Действие надолго переносится в Богемию, что, кажется, призвано отдалить от нас трагическую первую часть, дать передышку после травматичных сицилийских картин. Об этом свидетельствует общий жизнерадостный тон и акцент на образах плодородия, комического изобилия: теперь нам предлагают веселую и яркую сказку вместо прежней, грустной — той, что лучше «к зиме подходит» (II, 1), как выразился юный принц Мамилий. Однако здесь жанр все-таки понятен не до конца. Ярость Поликсена, узнавшего, что сын влюблен в «недостойную» девушку из простонародья, несколько портит комическую идиллию — или, возможно, он просто не знаком с законами жанра. Очевидно, Поликсен не знает, что если принц в романтической комедии влюбился в пастушку, то в конце она непременно окажется переодетой принцессой. Он похож на незадачливых женихов Порции в «Венецианском купце», которые умудрились пропустить сказочный циркуляр, предписывающий: золотые и серебряные ларчики — совсем не то, чем кажутся.
Переключив действие в режим пасторальной комедии, Шекспир отныне обязан обеспечить счастливую развязку. Но, как нередко бывает с его текстами, в драматическом бессознательном пьесы таится упрямый первоисточник, мешающий полному преображению. В данном случае это роман Роберта Грина «Пандосто, или Торжество времени» (1588), который заканчивается совершенно иначе. В романе Грина (он назван в честь главного героя, прообраза Леонта, но для ясности я буду придерживаться привычных нам шекспировских имен), когда неузнанные Пердита и Флоризель прибывают к сицилийскому двору, стареющий король пленяется красотой юной девушки. Его «пылкая страсть» разгорается с каждым днем, хотя Пердита настойчиво отвергает его ухаживания: «Уж лучше мне стать женою [Флоризеля] и бедствовать, нежели жить в роскоши наложницей [Леонта]». Король, «снедаемый греховной страстью», бросает Флоризеля в темницу. Узнав об этом, Поликсен велит ему убить Пердиту как недостойную избранницу, но в последний момент появляется пастух — приемный отец девушки — и показывает королю драгоценности и печать, найденные вместе с нею. Леонт узнает в Пердите давно потерянную дочь. Кажется, нас ждут примирение и свадебный пир, однако Леонт не может примкнуть к всеобщему ликованию. «Помня, как предал своего верного друга и загубил ревностью супругу, а затем, вопреки законам естества, воспылал страстью к родной дочери, он впал в глубокое отчаянье и оборвал собственную жизнь, завершив нашу комедию на трагической ноте».
Формулировка Грина весьма примечательна: в его романе смерть Леонта превращает комедию в трагедию. Возможно, именно эти слова подсказали Шекспиру идею обратной трансформации: из трагедии в комедию. Сохранив Леонту жизнь, чудесным образом вернув ему Гермиону и устранив кровосмесительную любовь короля к неузнанной дочери, Шекспир, кажется, выводит первоначальную трагедию к благополучной комической развязке для обоих поколений — старшего и младшего. И все же, если вчитаться в текст немного пристальнее, можно различить слабое, но несомненное эхо более мрачных мотивов.
Поздние пьесы Шекспира, включая и «Зимнюю сказку», нередко изображают отношения между отцами и взрослыми — или почти взрослыми — дочерьми. Пожалуй, во всех этих отношениях можно усмотреть следы запретной отцовской страсти. Так, Просперо в «Буре» впадает в ярость при любой угрозе целомудрию Миранды — и неважно, исходит ли она от презренного Калибана или от избранника девушки, принца Фердинанда. В «Цимбелине» злобная мачеха ревнует к родной дочери короля Имогене[126] и старается отдалить ее от отца. И конечно же, «Перикл» начинается с недвусмысленного изображения запретной любви между царем Антиохом и его дочерью. Явившись ко двору в качестве жениха царевны, Перикл должен разгадать загадку, чтобы получить ее руку:
- Я не змея,
- Но плотью родившей питаюсь я.
- Ту нежность супруга, что женам мила,
- В отцовском сердце я обрела.
- Он сын, отец и супруг мой тоже,
- Я — мать, и жена, и дитя его все же.
- Как может чудо такое случиться —
- Реши, если с жизнью не хочешь проститься[127].
Разгадка, увы, несложна. Однако Перикл, опасаясь за собственную жизнь, не может ни назвать страшный грех прилюдно, ни отказаться отвечать. Вместо этого он бежит, обреченный на долгие годы морских скитаний, и в конце концов воссоединяется с собственной дочерью Мариной. У нее тоже нестандартная сексуальная история: Марина — добродетельная проститутка, которая наставляет одного из клиентов публичного дома — правителя Митилены — на путь истинный и берет его в мужья.
Итак, мы знаем, что давний интерес Шекспира к отношениям отцов и дочерей — впервые проявленный в комедиях «Как вам это понравится» и «Венецианский купец» и продолженный в «Короле Лире» и «Отелло» — в поздних романтических драмах оказывается особенно интенсивным. Также мы знаем, что, обработав фабулу Грина, Шекспир предпочел не изображать запретную страсть Леонта к Пердите (в этих отличиях от первоисточника, как и тех, что мы обсуждали в главе о «Кориолане», велик соблазн углядеть пресловутый авторский замысел). По крайней мере, он выстраивает сюжет так, чтобы подавить — или, как сказали бы психоаналитики, сублимировать — кровосмесительное желание. Но если внимательно вчитаться в текст, можно все-таки усмотреть в первой встрече Леонта с взрослой Пердитой легкий намек на недозволенное. Появлению Флоризеля с юной невестой предшествует сцена, в которой Леонт и Паулина вспоминают красоту и добродетель Гермионы; Паулина берет с короля обещание не жениться повторно без ее одобрения. Следовательно, когда Леонт впервые видит Пердиту, он погружен в мысли о Гермионе и семье, при этом с восторгом отмечает красоту девушки и говорит Флоризелю: «…жаль, что вы избрали / Ту, кто богаче красотой, чем родом». Когда Флоризель уверяет, что его отец исполнил бы любое желание Леонта, король не торопится обещать, что заступится за молодую чету. Вместо этого он указывает на Пердиту: «…я выпросил бы это / Сокровище, что он не оценил» (V, 1), после чего Паулина упрекает его в излишней пылкости.
Больше отец с дочерью не обмениваются ни единой репликой. Кажется, пьеса подходит к самому краю, заглядывая в бездну запретных желаний, приоткрывающуюся в первоисточнике Грина, и не смеет пойти дальше. Сцена, в которой Леонт признает Пердиту своей дочерью, не показана, а рассказана: интересное повествовательное вкрапление, явно ориентированное на визуальность. И конечно же, самое удивительное расхождение с первоисточником состоит в том, что Гермиона чудесным образом оказывается жива. Она возвращается к Леонту, чтобы пригасить тот самый излишний пыл и направить эротические желания в русло брака, подальше от греха. Возможно, Шекспир воскрешает Гермиону с единственной целью: избавиться от темы инцеста.
Чтобы подобная трактовка не казалась надуманной, давайте рассмотрим, как Шекспир выстраивает финал «Зимней сказки» — прежде всего в сравнении с другими его пьесами. «Зимняя сказка» — единственная шекспировская драма с непредсказуемым поворотом сюжета: мы не знаем, что Гермиона появится вновь. Внезапные ходы нехарактерны для его драматургии; вероятно, одна из причин нашей любви к Шекспиру как раз и заключается в том, что он позволяет зрителю почувствовать себя мудрым и проницательным. Один из главных его приемов — драматическая ирония, за счет которой публика знает больше, чем его персонажи. Мы знаем, что в «Комедии ошибок» по Эфесу разгуливают две пары близнецов, хотя самим Антифолам и Дромио это не приходит в голову. Основное удовольствие от пьесы мы получаем, наблюдая за подменами и неразберихой с высоты своего знания. Нам известно, что Виола в «Двенадцатой ночи» и Розалинда в комедии «Как вам это понравится» — переодетые женщины. Мы в курсе, что Яго не желает Отелло добра. Мы знаем, что Макбет убил Дункана. Знаем, что веселые виндзорские кумушки дурачат своих мужей. Все шекспировские пьесы выстроены так, чтобы зритель неизменно был на шаг впереди персонажей.
Учитывая эту традицию, у нас нет никаких причин усомниться в правдивости ужасных слов Паулины: «…королева… / Цвет нежный, чистый… умерла». Леонт покидает сцену со словами: «Прошу, / Сведи меня ты к праху королевы / И сына» (III, 2). Никто и ничто не намекает, что он не может увидеть их тела (потому что Гермиона в действительности не умерла). Конечно, актриса, играющая Паулину, могла бы подмигнуть зрительному залу или произнести свою и без того напыщенную речь с откровенным пережимом, чтобы намекнуть: это всего лишь розыгрыш, наказание Леонту за роковую ревность. Но ничего подобного в тексте драмы не прописано. Антигону во сне даже является призрак Гермионы, как бы подтверждая ее смерть (в шекспировских пьесах к героям приходят призраки мертвых людей, а не живых, даже во сне). Итак, драматическая ирония временно отключается. Нам сказано, что Гермиона мертва — значит, она мертва.
Лишь после встречи Леонта с взрослой Пердитой нас начинают готовить к чудесному «воскрешению» Гермионы. Один из придворных вельмож упоминает, что у Паулины хранится статуя покойной королевы, которую пожелала увидеть ее дочь. Второй вельможа подтверждает: «Я так и думал, что у Паулины есть что-то важное: со времени смерти Гермионы она негласно, два-три раза в день, посещала свою отдаленную виллу» (V, 2). Это странное позднее предупреждение (минут за десять до того, как все откроется) вклеено в сюжет, которому уже не слишком-то нужна Гермиона, учитывая, что вся оставшаяся энергия истории теперь направлена на молодое поколение. Как же молодым исправлять ошибки родителей, если эти родители еще не ушли со сцены? Кажется, у пьесы неожиданно объявляются две альтернативные развязки: в одной свадьба Флоризеля и Пердиты должна положить конец бедам и залечить былые раны, в другой — эти раны залечивает возвращение Гермионы.
Быть может, странное и неожиданное воскресение Гермионы (в отличие от Белларии в «Пандосто», умирающей окончательно и бесповоротно) стоило бы рассматривать как часть рабочего процесса: мучительной подрезки и шлифовки первоисточника с его элементом запретной любви, совсем не нужным Шекспиру в новом комедийном финале. Поспешно заявленное возвращение Гермионы, пожалуй, и впрямь позволяет нам заглянуть в мастерскую Шекспира, но на сей раз мы видим не столько творческий эксперимент, сколько творческие муки. Возможно, он не планировал воскрешать Гермиону, но теперь ему нужно отделаться от истории о греховной страсти короля, и Шекспир подбирает Леонту альтернативную пару — «каменную» Гермиону. «Пусть вера в вас проснется!» (V, 3) — сказано потрясенным созерцателям работы «знаменитого итальянского мастера Джулио Романо» (V, 2). Семейная драма смелым жестом переводится в сферу религии, волшебства и эстетики.
Глава 20. «Буря»
Шекспир не сразу стал Шекспиром. Иными словами, к его драмам и стихотворениям не всегда прилагался культурный багаж того величия, которое мы ныне признаём за их творцом. Они не всегда несли бремя английской национальной идентичности, не всегда входили в школьную программу, не всегда публиковались в толстых томах, раздувшихся от сносок и ученых комментариев. Они не всегда вызывали острое чувство вины при мысли, что Шекспир прекрасен в теории, но в действительности слишком сложен или скучен (или и то и другое). У всех этих традиций и представлений есть собственная история, отдельная от жизни произведений. Например, в 1741 году с шекспировскими текстами не произошло ничего примечательного; однако этот год очень важен для Шекспира как одного из главных символов британской культуры. Холодным январским днем в Уголке поэтов Вестминстерского аббатства была воздвигнута его статуя работы фламандского скульптора Питера Шимейкерса. На тот момент со смерти Шекспира (1616 год) прошло более столетия. «После долгого сна Бард возвращается к нам под гром рукоплесканий», — писал Александр Поуп, один из горячих сторонников проекта.
Сам факт установки памятника свидетельствовал о растущей славе Шекспира. Работа Шимейкерса стала самым знаменитым скульптурным портретом драматурга; но, пожалуй, еще более заметный след в культуре оставила ее композиция. Невысокая — чуть выше 167 сантиметров — фигура поэта опирается локтем на стопу книг и указывает на свиток с немного переиначенными строками из «Бури»:
- И тучами увенчанные горы,
- И горделивые дворцы и храмы,
- И даже весь — о да, весь шар земной
- Когда-нибудь растают, словно дым.
Эти слова произносит ученый маг Просперо, созерцая конец волшебного зрелища, подготовленного им к обручению своей дочери. При переносе на священную землю Вестминстерского аббатства цитата была обработана так, чтобы разбавить ее подспудный экзистенциализм. (Шекспир не самый горячий поклонник христианских представлений о загробной жизни.) В начале вырезаны строки: «Вот так, подобно призракам без плоти…», а в конце устранена знаменитая метафора человеческой бренности: «Мы созданы из вещества того же, / Что наши сны. И сном окружена / Вся наша маленькая жизнь»[128] (IV, 1).
Когда слова Просперо из «Бури» становятся эпитафией самого́ Шекспира, мы получаем увековеченный в мраморе миф, не имеющий прямого отношения ни к самому́ автору, ни к его персонажу, однако, зародившись в период Реставрации, он живет и в наши дни. Когда в поисках драматургического материала для вновь открывшихся театров Джон Драйден и Уильям Давенант копались в шекспировских пьесах, они переделали «Бурю» в «Зачарованный остров» (1667), где недвусмысленно отождествили «магию Шекспира» с магией Просперо. Очевидно, что между талантом драматурга и волшебным даром Просперо есть символические параллели. Просперо называет свои чары «искусством» и использует для того, чтобы приводить в движение ход событий; схожим образом поэт использует силу слова. Просперо, перемещающий выброшенных на берег итальянцев по острову и сталкивающий их друг с другом, чтобы получить красочные диалоги и глубокомысленные сцены, разительно напоминает автора, манипулирующего своими героями, или режиссера, руководящего актерами на сцене. При этом Просперо управляет настоящим и прошлым остальных персонажей; в длинной повествовательной сцене первого акта он излагает предысторию, призванную стать фоном для разворачивающегося действа: коварство его брата Антонио, захватившего герцогский титул, собственное бегство с дочерью Мирандой, встреча с духом Ариэлем, заточенным в стволе дерева злобной ведьмой Сикораксой, матерью Калибана (в предыдущей главе мы обсуждали, что такое диегезис на примере «Зимней сказки»). Большинство рассказанных событий не получает независимого подтверждения, словно Просперо с ходу выдумывает всех этих персонажей, прописывая их историю с целью придать объемность и многомерность своему творению. В барочной кинофантазии Питера Гринуэя «Книги Просперо» (1991) с Джоном Гилгудом в главной роли эта идея передается за счет того, что Просперо проговаривает каждую реплику пьесы. В начале фильма он гусиным пером выводит на бумаге первые строки: «Боцман! Слушаю, капитан» (I, 1). Пьеса продолжается в том же метатеатральном ключе. После свадебной маски[129] речь Просперо изобилует театральной лексикой: «представленье», «актеры», «маски»; в ней зашифровано даже название шекспировского театра: the great globe itself — «весь шар земной», то есть «Глобус». Для сторонников биографического подхода мысль, что Шекспир устами Просперо прощается с собственным творчеством, необыкновенно притягательна.
В основе этой ассоциации лежит укоренившееся представление о том, что «Буря» — последняя пьеса Шекспира. В действительности точная дата ее создания неизвестна. Она определенно написана в конце его творческой карьеры, но нет никаких документальных подтверждений, что, впервые представленная в 1610–1611 годах, она стала прощальным произведением драматурга. Так, «Зимняя сказка» и «Цимбелин» могли быть написаны позже. Нам очень хочется усмотреть в пьесе прощание Шекспира со сценой, поэтому мы помещаем «Бурю» в конец его творческого пути, а затем используем эту позицию, чтобы подтвердить: безусловно, поэт выразил здесь собственные чувства при расставании с театром. При этом нам достоверно известно, что впоследствии Шекспир работал с Джоном Флетчером над трагикомедией «Два знатных родича» и исторической хроникой «Генрих VIII», а также над утраченной пьесой «Карденио» по мотивам «Дон Кихота». Следовательно, «Буря» отнюдь не была его последним драматическим детищем.
Тем не менее велик соблазн истолковать эпилог, где Просперо провозглашает собственную свободу, или избавление от театра-тюрьмы, как разновидность парабасы (в античном театре так называлось отступление, в котором автор напрямую обращался к публике). На самом деле этот эпилог выполняет скорее формальную, техническую функцию, перекидывая мост от персонажа к актеру, выражая благодарность зрителям и приглашая к аплодисментам:
- Отрекся я от волшебства.
- Как все земные существа,
- Своим я предоставлен силам.
- На этом острове унылом
- Меня оставить и проклясть
- Иль взять в Неаполь — ваша власть.
- Но, возвратив свои владенья
- И дав обидчикам прощенье,
- И я не вправе ли сейчас
- Ждать милосердия от вас?
- Итак, я полон упованья,
- Что добрые рукоплесканья
- Моей ладьи ускорят бег.
- Я слабый, грешный человек,
- Не служат духи мне, как прежде.
- И я взываю к вам в надежде,
- Что вы услышите мольбу,
- Решая здесь мою судьбу.
- Мольба, душевное смиренье
- Рождает в судьях снисхожденье.
- Все грешны, все прощенья ждут.
- Да будет милостив ваш суд.
Стоит отметить, что словесная палитра — «мольба», «смиренье», «грешный», «снисхожденье», «милосердие» — отождествляет прощание не только с высвобождением, но и со смертью. С одной стороны, этот эпилог завершает комедию, с другой — наводит на мысль о конце жизни. Просперо уже обмолвился, что возвращается «домой, в Милан, / Чтоб на досуге размышлять о смерти» (V, 1). Это пессимистическое прочтение блистательно отображено в поэтической зарисовке У. Х. Одена «Зеркало и море» (1944), посвященной шекспировской «Буре». В части под названием «Просперо — Ариэлю» волшебник обращается к освобожденному духу и признается:
- …я на свободу тебя отпустил наконец:
- Вот теперь я сумею поверить, что вправду умру.
- Раньше это казалось немыслимым[130].
В подобных трактовках заключительная речь Просперо — не просто прощание Шекспира со сценой, а его последний вздох, отлетающий вместе с духом жизни Ариэлем.
В подобном прочтении есть небольшая натяжка, особенно если учесть, что, закончив «Бурю», Шекспир прожил еще как минимум пять лет. Однако давайте не будем придираться к мелочам. Промолчим и о том, что последние шекспировские строки, прозвучавшие со сцены еще при его жизни, почти наверняка были не из прощального монолога Просперо, а из довольно-таки блеклой финальной речи Тезея в «Двух знатных родичах»: «Итак, пойдем же и свой долг исполним»[131] (V, 4). В этой пьесе тоже есть эпилог, но большинство исследователей считают, что он написан Джоном Флетчером. Впрочем, представление о том, что под конец жизни Шекспир решительно порвал со сценой, тоже несколько преувеличено. В 1613 году он купил дом в районе Блэкфрайерс, неподалеку от театра. Насколько известно, это была первая недвижимость, которую он приобрел в Лондоне, что опровергает идиллическую версию, согласно которой драматург удалился от городской суеты в тихий Стратфорд (заметим в скобках, что у Просперо совершенно иной маршрут: он, напротив, после долгих лет изгнания возвращается к активной жизни миланского герцога).
Итак, здесь мы видим, как хронология и интерпретация обусловливают и подкрепляют друг друга. «Буря», должно быть, последняя пьеса Шекспира, потому что в ней он отрекается от театра устами Просперо; Просперо — это Шекспир, поэтому «Буря» — последняя шекспировская пьеса. В известной степени все хронологии творчества, включая и ту, что очерчена главами этой книги, в некоторой степени биографичны. «Буря» не единственная пьеса, чье прочтение нередко обусловлено предполагаемым местом в драматургической карьере Шекспира. В ранних работах традиционно находят приметы незрелости, следы влияния и поиска; позднее творчество обыкновенно ассоциируется с подведением итогов и философской отрешенностью. По до сих пор неизвестной нам причине «Буря» открывает Первое фолио 1623 года, из-за чего многие ранние исследователи шекспировского творчества не без оснований считали ее первой, а не последней пьесой Шекспира и выносили соответствующие вердикты. Этот случай наглядно показывает, как легко найти в тексте то, что заранее ожидаешь увидеть. Когда «Буря» считалась ранней, ученической работой, ее краткость представлялась результатом незрелости, а не признаком отточенного мастерства и совершенства формы. То, что в пьесе мимоходом затронуты темы, которые возникают и в других произведениях Шекспира, расценивалось как проба пера, а скупо прорисованные образы, на взгляд многих критиков, роднили «Бурю» с ранними комедиями.
При прочтении «Бури» как поздней пьесы те же самые свойства трактуются исходя из культурных представлений, которые традиционно сопутствуют понятию «зрелого творчества». Многим критикам пьеса кажется своего рода поэтическим завещанием или ретроспективой. В отличие от большинства шекспировских текстов, у «Бури» нет определенного первоисточника, но, может быть, в ней следует усмотреть элементы каннибализма[132] (или калибанизма?): она словно бы питается темами и мотивами из предыдущих пьес самого́ Шекспира. Мы видим сюжет «Гамлета» в антураже «Сна в летнюю ночь»: историю о врагах-братьях, где милосердие в конце концов побеждает злобу, встретившись с волшебными чарами. Образы молодых влюбленных вызывают в памяти шекспировские комедии; величественный маг напоминает патриархов Лира и Перикла; структура пьесы, подчиненная единству места, времени и действия, заставляет вспомнить «Комедию ошибок».
Эти отзвуки прошлого предполагают, что здесь, как и в других поздних пьесах, Шекспир возвращается к источникам, вдохновлявшим его на заре творческой карьеры, в 1590-е годы. Речь идет не только о его собственных пьесах; в каком-то смысле ближайший родич «Бури» — демонический «Доктор Фауст» (1589) блестящего елизаветинца Кристофера Марло. Подобно Просперо, ученый муж Фауст обращается к магии, а затем в порыве отчаяния обещает сжечь все свои книги, как Просперо намеревается утопить свою[133]. Подражание Марло и соперничество с ним во многом определило ранний этап шекспировского творчества: «Ричард III» написан в тени «Мальтийского еврея», «Ричард II» следует за «Эдуардом II» Марло, а поэма «Венера и Адонис» вторит «Геро и Леандру». Непредвиденная страшная смерть Марло в 1593 году[134] освободила Шекспиру эстетическое пространство для поиска собственного стиля, но отняла возможность превзойти легендарного современника, навеки оставшегося молодым.
Одно из возможных объяснений этих отзвуков 1590-х — накопившаяся усталость. Зрелость предполагает творческий расцвет, но может нести и увядание, спад, разочарование в себе. Вспомним Вордсворта, Харди, Моррисси, Хичкока, Элвиса — всех тех художников, которые с годами стали бледной копией себя в молодости, и сравним их с Китсом, Шубертом, Сильвией Плат, Куртом Кобейном, чье творчество обрело ауру мрачного величия, потому что они умерли раньше, чем скатились в банальность. Британский литератор Литтон Стрейчи высказал предположение, что в «Буре» Шекспир «заскучал» от собственного искусства и утратил интерес к персонажам и сюжету. По мнению Стрейчи, теперь его волнует только поэзия. Гипотезу упадка творческих сил отстаивает и современный литературовед Гэри Тейлор в статье под названием «Шекспир: кризис среднего возраста». Тейлор полагает, что после пика славы и коммерческой популярности, пришедшегося на 1590-е годы, с 1600 года карьера Шекспира забуксовала на месте. «Как многие герои вчерашних дней, — продолжает Тейлор, — Шекспир на пятом десятке попытался спасти подмоченную репутацию, перерабатывая то, что делал на третьем и четвертом десятках лет». При таком раскладе сотрудничество с Джоном Флетчером представляется отчаянной попыткой стареющего писателя ухватиться за руку молодого коллеги (а не опытом литературного наставничества, как мы привыкли считать).
Гипотеза Тейлора выглядит провокационной именно потому, что идет вразрез с принятыми представлениями. Хронологический феномен «позднего творчества» обыкновенно отождествляется с эстетической зрелостью, духовностью, человечностью. При таком прочтении мудрость склоняет Просперо к прощению вместо кары и велит оставить магию. Стало быть, Просперо достигает небывалых моральных высот, и это просветление позволяет отождествить его с благодетельным Шекспиром. Викторианский критик Эдвард Дауден, автор одной из самых влиятельных в конце XIX века интеллектуальных биографий Шекспира, дает наглядный пример этого сближения, утверждая, что «настроение Просперо, его серьезный гармонический характер, его самообладание, его спокойная твердость воли, его чуткость ко всякой неправде, его непоколебимая справедливость, а вместе с тем некоторое отречение от всех обычных радостей и печалей жизни — все это составляет характеристические черты Шекспира, каким он является нам в своих последних произведениях»[135]. Аргументация Даудена прекрасна в своей повторяемости. Просперо похож на Шекспира, потому что в его образе воплощено наше представление о Шекспире. Отождествление автора с героем обретает форму силлогизма: 1) Просперо — хороший человек, 2) Шекспир — хороший человек, 3) следовательно, Просперо — это Шекспир. Силлогизм работает или, точнее, не работает, потому что два верных утверждения, не имеющих причинно-следственной связи, объединяются в псевдологическую последовательность с целью породить третье утверждение. Но были ли наши исходные тезисы верны? До сих пор мы подходили к вопросу о параллелях между Шекспиром и Просперо со стороны Шекспира. А если зайти со стороны Просперо?
Для драматургии раннего Нового времени — да и для литературы раннего Нового времени в целом — риторическое начало было намного важнее автобиографического. Как мы уже видели, в эпоху Шекспира ремесло драматурга подразумевало не только и не столько творческий вымысел, сколько работу с уже существующим материалом. (Интересно, что английское слово playwright («драматург») было придумано современником Шекспира Беном Джонсоном по аналогии со словами wheelwright («колесный мастер») или cartwright («каретник»). Иначе говоря, драматург[136] — это тот, кто делает пьесы, точно так же как делают колеса или кареты.) Гуманистическое образование, сходное с тем, которое Шекспир получил в грамматической школе короля Эдуарда в Стратфорде-на-Эйвоне, прививало навыки дискуссии in utramque partem, то есть от лица обеих сторон: ваши чувства и мысли в этом случае значения не имеют, основная задача — убедительно изложить каждый из возможных доводов или тезисов. В литературе того периода крайне сложно вычитать личные переживания автора, в особенности если это драма, где многоголосое присутствие разных персонажей намного важнее, чем в романе или, например, в лирическом стихотворении.
Тем не менее «Буря» не совсем вписывается в такие представления о драматическом искусстве: здесь, как, пожалуй, нигде больше (хотя «Гамлет» или «Ричард III» могли бы дать интересный материал для сравнения), Шекспир сосредоточен на фигуре главного героя. Он выводит на сцену целый ансамбль схематичных, чисто функциональных персонажей, но в центре творения, безусловно, стоит Просперо. Фердинанд и Миранда почти лишены той кипучей юношеской энергии, которую мы видим в героях ранних комедий; Антонио никак не назовешь ярким антагонистом; Алонзо сослан на второй план и почти неразличим в толпе прочих статистов. Возможно, стоит рассматривать «Бурю» — подобно близкому ей «Доктору Фаусту» — как образчик психомахии, средневековой драмы, где актеры в аллегорической форме изображали конфликт чувств и стремлений в человеческой душе. Безусловно, заманчиво представить, что Калибан и Ариэль символизируют начала, борющиеся в душе Просперо: Калибан — темное, плотское, земное; Ариэль — ребяческое, воздушное и услужливое, аналог феи Динь-Динь из сказки о Питере Пэне. Эти психологические аспекты так легко укладываются в рамки фрейдистской и постфрейдистской модели «Оно — Я — Сверх-Я» (то есть инстинкты, сознание и моральные установки), словно Шекспир специально штудировал трактат Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия» (1920). (В действительности, конечно, все было ровно наоборот.) Получается, составной персонаж Просперо-Ариэль-Калибан произносит почти половину реплик в пьесе.
Более того, в образе Просперо, безусловно, есть черты творца, драматурга, пусть и необязательно самого́ Шекспира. Тщательно прописанный сценарий возмездия, которое готовит Просперо, отсылает нас к жанру трагедии мести, где мститель нередко выступает художником, творцом событий. Наибольшее проявление этого мотива мы находим у истоков жанра в «Испанской трагедии» Томаса Кида, где Иеронимо мстит, прикрываясь пьесой собственного сочинения. Мститель как драматург — структурный и тематический топос трагедии мести: жанра, который перекраивает «Буря», выходя к милосердию вместо отмщения под присмотром Ариэля. Таким образом, если Шекспир и заставляет Просперо выступить в роли драматурга, это еще не значит, что перед нами автопортрет. Скорее, этот мотив сближает Просперо с другими «кукловодами» из шекспировских пьес. Любопытно, что большинство таких персонажей с двойным дном: Яго — главный мастер интриги в «Отелло»; герцог, управляющий событиями под личиной монаха в «Мере за меру»; Паулина — хранительница тайн в «Зимней сказке»; Елена, навязывающая сценарий романтической комедии скептически настроенным действующим лицам в пьесе «Все хорошо, что хорошо кончается». Образы этих манипуляторов как минимум проблематичны в контексте их пьес. Заметим, что ни в одном из них никто и никогда не усматривал альтер-эго Шекспира. Кроме того, элементы театральной саморефлексии сближают «Бурю» с «Гамлетом» и «Сном в летнюю ночь», где пьеса в пьесе также сопровождается комментарием по поводу природы театра и размывания границ между иллюзией и реальностью. Если уж выходить за рамки шекспировского творчества (сравнение с текстами других авторов, пожалуй, самый верный способ разрушить чары биографического метода), стоило бы сопоставить «театральную» магию Просперо с чарами мошенников из комедии Бена Джонсона «Алхимик»[137], написанной в те же годы, что и «Буря». Таким образом, чтобы истолковать магию в «Буре» как метафору драматического искусства, совсем не обязательно ставить знак равенства между Просперо и Шекспиром.
Как мы видели на примере Эдварда Даудена, прочтения, отождествляющие героя с его создателем, рисуют весьма положительный образ Просперо. Дауден отмечает в нем «серьезный гармонический характер», «самообладание», «спокойную твердость воли» и «непоколебимую справедливость», что, вероятно, отображает викторианские представления о добродетельном и достойном восхищения патриархе. Современные критики и режиссеры нередко показывают нам иного Просперо: раздражительного деспота, порабощающего Калибана и без всякой нужды подвергающего Фердинанда физическим мучениям, потому что мысль о замужестве Миранды вызывает у него глубокие противоречивые чувства. Просперо ревностно охраняет целомудрие Миранды главным образом потому, что в сюжете пьесы ей отведена роль приносимой в дар девственницы. Она должна обеспечить ему успешное возвращение в Милан, расположив к себе новоиспеченного свекра, давнего союзника Антонио. Неприязнь Просперо к Фердинанду — отчасти уловка, которая должна свести молодую пару (он пытается сыграть традиционную для комедии роль несговорчивого отца, подобно Эгею из «Сна в летнюю ночь» или Шейлоку в «Венецианском купце»), однако его пыл заходит намного дальше, чем требуют условности жанра:
- Но если ты кощунственной рукой
- Ей пояс целомудрия развяжешь
- До совершенья брачного обряда —
- Благословен не будет ваш союз.
- Тогда раздор, угрюмое презренье
- И ненависть бесплодная шипами
- Осыплют ваше свадебное ложе.
Да и свадьбы дочерей в широком контексте пьесы чреваты бедой и утратой: злополучное путешествие, приведшее Антонио, Алонзо и их спутников на остров Просперо, изначально затевалось по случаю бракосочетания Кларибель, дочери Алонзо: «Что ж, государь, себя благодарите / За горькую потерю, — упрекает короля Себастьян. — Вы Европе / Не захотели дочь свою оставить, / Вы африканцу отдали ее» (II, 1). Отсутствующая Кларибель, как и невидимая Сикоракса, алжирская изгнанница, воплощает в себе подавленный, но настойчивый и тревожный интерес пьесы к международной и в особенности колониальной политике.
Итак, Просперо можно воспринимать и как отталкивающего, злобного манипулятора-самодура. Вторая сцена пьесы, где мы впервые встречаемся с ним и Мирандой, показывает яркий пример его поведения. Здесь Просперо вынужден устроить подробный экскурс в прошлое и, как мы видели, пускается в длинный рассказ, прерываемый обращениями к Миранде, которая время от времени словно бы устает слушать и под конец засыпает (пускай и по воле отца). Эти подергивания и запинки — нервные тики повествования: «Ты слушаешь меня?», «слушай дальше», «Ты слушаешь, Миранда?» — и, кажется, выдают опасение, что сцена, перегруженная нарративом, может оказаться скучна. В результате Просперо предстает перед нами тираном — с физической, психологической и драматургической точки зрения. В рассказе о прошлом понемногу стираются различия между белой ученой магией Просперо и злобными, феминизированными чарами ведьмы Сикораксы, матери Калибана. Просперо велит Ариэлю припомнить ведьмину жестокость:
- И вот колдунья в ярости своей,
- Призвав на помощь более послушных
- И более могущественных духов,
- В расщелине сосны тебя зажала,
- Чтоб ты там мучился двенадцать лет.
В свое время Просперо освободил Ариэля, но держит у себя в услужении, угрожая схожей карой:
- Но станешь мне перечить — расщеплю
- Я узловатый дуб, и в нем ты будешь
- Еще двенадцать лет вопить от боли.
Если цель этого диалога — установить моральное превосходство Просперо над Сикораксой, то результат оказывается прямо противоположным: между ними обнаруживается больше общего, чем различного. В «Буре» мы встречаем мысль, которая впоследствии станет одним из самых узнаваемых клише жанра фэнтези: добрая и злая магия (Гэндальф и Саруман, Гарри Поттер и Волан-де-Морт) пугающе близки и похожи. Словом, наша встреча с Просперо несколько омрачает светлый образ, нарисованный Дауденом; и если вот этот Просперо — Шекспир, то Шекспир бы нам не понравился. Что еще важнее, отождествление автора с героем мешает как следует разглядеть портрет Просперо, нарисованный в само́й пьесе. Впрочем, ранние автобиографические трактовки его образа уже давно уступили место геополитическим. Для современной публики актуален не Просперо-драматург — конкретный или абстрактный, а Просперо-колонизатор: не альтер-эго Шекспира, а белый рабовладелец.
«Буря» давно и устойчиво ассоциируется с историей Великих географических открытий и опосредованно с колонизацией Нового Света. Два источника вписывают ее в контекст колониальной географии. Один из них — письмо о кораблекрушении у побережья Бермудских островов — лег в основу первых сцен пьесы. Идеальное общество, о котором мечтает в начале второго акта Гонзало, описано в эссе французского философа Монтеня «О каннибалах», а имя Калибан, вполне вероятно, представляет собой анаграмму слова «каннибал», которое в те времена означало любого туземца. Трактовку шекспировской пьесы как притчи о колониальной экспансии подкрепляют и многочисленные постколониальные интерпретации-переделки, например «Буря» (1969) мартиникского поэта Эме Сезера, где на первый план выходят болезненные темы захвата земли, навязывания языка, порабощения и эксплуатации. Показательно, что работа жившего на Мадагаскаре французского психоаналитика Октава Маннони «Психология колонизации» в английском переводе вышла под названием «Просперо и Калибан» (1956). Сдвиг в критическом восприятии «Бури» со всей наглядностью проявляется при сравнении предисловий к двум ее изданиям. Во вступительном слове к изданию пьесы во второй серии Arden Shakespeare[138] (1954) Фрэнк Кермоуд скупо заверял: «Вполне очевидно, что в „Буре“ нет никаких структурно важных элементов, которые были бы невозможны без открытия Америки». А в 1999 году, представляя читателям издание той же пьесы в третьей серии томов Arden Shakespeare, Вирджиния и Олден Воэн отметили: «По мнению многих исследователей, колониальный дискурс так прочно вплетен в словесную и сюжетную ткань пьесы, что в ней, словно в капле воды, отражена вся парадигма империализма».
Аналогичная переоценка ценностей произошла и в театре: колониальные Просперо наших дней в большинстве своем столь отвратительны, что любая параллель с Шекспиром безнадежно скомпрометировала бы самого́ драматурга. Подобно «Укрощению строптивой» — пьесе, с которой мы начинали разговор, — «Буря» прекрасно иллюстрирует основную мысль этой книги. В каждую новую эпоху мы получаем того Шекспира, какой нам нужен. Шекспировские тексты порождают больше вопросов, чем ответов. Наше дело как читателей, критиков, зрителей, режиссеров не прекращать это неустанное вопрошание и наделить каждый текст новым смыслом, актуальным для нашего мира.
Эпилог
Эпилог — определенно шекспировский формат: финальный момент, когда пьеса обретает завершенность и завершается сама, парадоксальное сочетание цельности и распада. Как правило, эпилог произносится голосом, который принадлежит одновременно актеру и персонажу; это переходная зона в художественном пространстве, где вымысел, которым мы наслаждались, становится зыбким, как мираж, и наконец рассеивается, напоминая, что на самом деле мы всего лишь смотрели пьесу. Все это сон, говорит Робин-плут (он же Пак), и если вам понравилось, похлопайте. «…Заклинаю вас одобрить в этой пьесе все, что вам понравится»[139], — призывает Розалинда. Заключительные строки комедии «Все хорошо, что хорошо кончается» намекают: заголовок оправдывает свое обещание лишь при поддержке и участии зрительного зала: «„Все хорошо“ — коль встретим то, что ищем: / Успех у вас!»[140] Просперо просит публику отпустить его на волю: «Итак, я полон упованья, / Что добрые рукоплесканья / Моей ладьи ускорят бег». Просьбы о похвале и аплодисментах типичны для шекспировских эпилогов, ведь именно в этой части представления открыто признаётся жизненно важная роль публики. Без нее — без нас — пьеса не полна, не закончена.
В этой книге представлен драматург Шекспир, чьи пьесы не могут быть завершены по определению, в силу собственной структуры. Я постаралась показать, как их пунктирность и неоднозначность порождают новые творческие прочтения. Пробелы и вопросы дают неограниченный простор воображению зрителей, читателей, актеров и режиссеров. Эпилоги призывают публику вынести собственный вердикт; точно так же шекспировские образы и сюжеты побуждают нас размышлять, заполнять пробелы, экспериментировать с различными вариантами. Пьесы Шекспира — не памятники, которым нужно поклоняться, и не загадки, которые нужно отгадывать. Его тексты — текучие, подвижные, переменчивые пришельцы из другой эпохи, наделенные поразительной способностью отражать и вбирать в себя наши заботы, горести и радости (иногда глубоко личные). Я, например, не сразу обратила внимание на сцену из «Короля Лира», где Лир, ненадолго воссоединившись с Корделией, мечтает об их счастливой жизни в темнице: «Так будем жить, молиться, песни петь / И сказки говорить; смеяться, глядя / На ярких мотыльков»[141] (V, 3). По-настоящему я заметила и оценила этот маленький эпизод лишь после того, как мой дед — большой любитель морских путешествий — ненадолго пришел в себя на больничной койке, где ему вскоре предстояло умереть, и начал говорить про круиз, в который мы все непременно отправимся, когда ему станет лучше. Иногда мы находим у Шекспира прямые сюжетные параллели с нашим жизненным опытом. Недавно мне довелось работать с труппой, которая готовила новую постановку «Меры за меру». Мы надолго задержались на хорошо знакомой мне сцене: Анджело, герцогский наместник, предлагает Изабелле отвратительную сделку — спасти брата, «отдавши плоть свою для скверны сладкой»[142] (II, 4). Нас занимал вопрос: почему Изабелла не отвечает на постоянные намеки Анджело и как будто бы намеренно неверно понимает его слова о грехе и погибели? Одна из актрис труппы поделилась собственными наблюдениями: оказавшись объектом нежелательного сексуального интереса, женщины нередко стараются вернуть разговор в безопасное русло. Возможно, дело не в том, что Изабелла чересчур наивна и целомудренна, чтобы понять намеки Анджело. Поначалу она просто не может поверить, что расслышала и истолковала все правильно, а затем боится, что любой признак понимания будет расценен как согласие. Иногда шекспировская мысль удивительно близка нашим моральным или политическим убеждениям. В томике Шекспира, тайком пронесенном в тюрьму на острове Роббенэйланд, Нельсон Мандела подписал свое имя рядом с этими словами Юлия Цезаря:
- Трус умирает много раз до смерти,
- А храбрый смерть один лишь раз вкушает!
- Из всех чудес всего необъяснимей
- Мне кажется людское чувство страха,
- Хотя все знают — неизбежна смерть
- И в срок придет[143].
Все эти примеры подтверждают, как часто Шекспир оказывается созвучен нашим личным обстоятельствам и как мы сами обеспечиваем его пьесам эмоциональное, политическое, идеологическое и художественное наполнение.
Я пишу этот эпилог в конце долгого, засушливого английского лета, наблюдая, как на выжженной солнцем земле проступают давно забытые очертания старинных построек, селений, земельных участков. В моей книге тоже видны полустертые очертания: здесь могла быть литературная биография, выстроенная вокруг фигуры Шекспира-писателя и его отношений с соперниками — Кристофером Марло и Томасом Кидом; с соавторами, включая Томаса Мидлтона и Джона Флетчера, с читателями и первоисточниками. А может быть, здесь проглядывает жанровая история его творчества: от исторических хроник и легких комедий до экзистенциальных трагедий, сатирических пьес и, наконец, романтических драм заключительного периода. Еще я могла бы написать театроведческое исследование: начать с состава труппы слуг лорда-камергера (позже — слуг короля) и его влияния на драматургию шекспировских пьес, затем проследить историю позднейших адаптаций от Джона Драйдена и Лондона эпохи Реставрации до Эме Сезера и постколониальной Мартиники и на их примере показать, как меняются смыслы, вкладываемые нами в тексты Шекспира. Можно было бы сосредоточиться на историческом материале: мне очень интересно, как шекспировские пьесы воспринимались их первыми зрителями, потому я и пишу с оглядкой на культурные и социальные реалии той эпохи: династическую политику, вопросы религии, общественную жизнь и повседневный быт. Все эти альтернативные книги лежат в культурных слоях получившегося текста, однако тот Шекспир, с которым мне хотелось вас познакомить, намного больше и шире любого отдельно взятого подхода и метода.
Итак, все это Шекспир.
Всеобъемлющий, современный, проблемный, пунктирный, сложный, трогательный, тонкий, прекрасный, противоречивый, находчивый, провокационный, насущный.
Ваш.
Надеюсь, он доставляет вам столько же радости, сколько и мне.
Литература
1. Аникст, А. А. Театр эпохи Шекспира / А. А. Аникст. — 2-е изд., испр. — М.: Дрофа, 2006.
2. Аникст, А. А. Шекспир. Ремесло драматурга / А. А. Аникст. — М.: Советский писатель, 1974.
3. Бартошевич, А. В. Для кого написан «Гамлет» / А. В. Бартошевич. — М.: ГИТИС, 2014.
4. Горбунов, А. Н. Конец времен и прекращенье дней: Предшественники и современники Шекспира / А. Н. Горбунов. —М.: Прогресс-Традиция, 2019.
5. Дауден, Э. Шекспир. Критическое исследование его мысли и его творчества / Э. Дауден; пер. Л. Д. Черновой. — СПб.: Славянская печатня (И. В. Вернадского), 1880.
6. Котт, Я. Шекспир — наш современник / Я. Котт; пер. с польск. В. Л. Климовского. — СПб.: Балтийские сезоны, 2011.
7. Микеладзе Н. Э. Милосердие сильнее мести. Время и вечность в те¬атре Шекспира. / Н. Э. Микеладзе. — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019 (серия Mediaevalia).
8. Морозов, М. М. Театр Шекспира / М. М. Морозов. — М.: Всероссийское театральное общество, 1984.
9. Пинский, Л. Е. Шекспир. Основные начала драматургии / Л. Е. Пин¬ский. — М.: Художественная литература, 1971.
10. Сидни, Ф. Защита поэзии / Ф. Сидни; пер. Л. Володарской. — М.: Наука, 1982.
11. Хэзлитт, У. Застольные беседы / У. Хэзлитт. — М.: Ладомир, 2010.
12. Чернова, А. Д. …Все краски мира, кроме желтой: Опыт пластической характеристики персонажа у Шекспира / А. Д. Чернова. — М.: Искусство, 1987.
13. Шайтанов, И. О. Шекспир / И. О. Шайтанов. — М.: Молодая гвардия, 2013.
14. Шекспир, У. Полн. собр. соч.: в 8 т. / У. Шекспир; под общ. ред. А. Смирнова и А. Аникста. — М.: Искусство, 1957–1960.
15. Шекспировская энциклопедия / под ред. С. Уэллса, при участии Дж. Шоу; пер. с англ. А. Шульгат. — М.: Радуга, 2002.
16. Шенбаум, С. Шекспир. Краткая документальная биография / С. Шен¬баум; пер. с англ. А. А. Аникста и А. Л. Величанского. — М.: Прогресс, 1985.
Благодарности
Эта книга родилась из оживленных дискуссий о Шекспире, проходивших в академических, театральных и литературных кругах, и я благодарна всем, кто помог ей появиться на свет. Прежде всего хочу выразить признательность преподавателям и студентам факультета английского языка Оксфордского университета за интерес к моим лекциям и готовность обсуждать услышанное и прочитанное. Отдельная благодарность Эстер Осорио Уивелл за помощь в подготовке лекций к печати, а также Кэтрин Кларк, Хлое Карренс, Дэвиду Дуану, Полли Финдлей, Кейт Харви, Лори Магуайр, Мозесу Матиасу, Алексу Престону, Питеру Робинсону, Джози Рурк и Вив Смит за наблюдения, комментарии и поддержку. Спасибо коллегам-шекспироведам, чьи работы вдохновляют меня на протяжении многих лет, и всем студентам Хертфорд-колледжа, вместе с которыми мне довелось поломать голову над Шекспиром. Эта книга с любовью посвящается Элизабет Макфарлен.
МИФ Культура
Подписывайтесь на полезные книжные письма со скидками и подарками: mif.to/kultura-letter
Все книги по культуре на одной странице: mif.to/kultura
Над книгой работали
Шеф-редактор Ольга Киселева
Ответственный редактор Татьяна Медведева
Литературный редактор Елена Гурьева
Арт-директор Мария Красовская
Дизайн обложки Мария Долгова
Верстка Вячеслав Лукьяненко
Корректоры Лилия Семухина, Евлалия Мазаник
Электронная версия книги подготовлена компанией Webkniga.ru, 2020
Эту книгу хорошо дополняют
Мортимер Адлер
Вирджиния Вулф
Урсула Ле Гуин
