Всемирная библиотека. Non-Fiction. Избранное бесплатное чтение
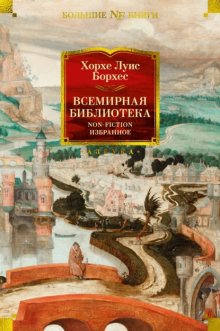
Jorge Luis Borges
THE TOTAL LIBRARY
Copyright © 1999, María Kodama
All rights reserved
Перевод с испанского Всеволода Багно, Бориса Дубина, Бориса Ковалева, Кирилла Корконосенко, Валентины Кулагиной-Ярцевой, Евгении Лысенко, Александра Погоняйло, Веры Резник
© Вс. Е. Багно, перевод, 1992
© Б. В. Дубин (наследники), перевод, примечания, 2023
© Б. В. Ковалев, перевод, примечания, 2022, 2023
© Б. В. Ковалев, К. С. Корконосенко, перевод, 2022, 2023
© К. С. Корконосенко, перевод, примечания, 2002, 2023
© В. С. Кулагина-Ярцева, перевод, 2000
© Е. М. Лысенко (наследник), перевод, 2023
© А. Г. Погоняйло, В. Г. Резник, перевод, 1992
© В. Г. Резник, перевод, 1992
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023 Издательство Азбука®
Часть I
Ранние работы
1922–1928
Ничтожность личности
Посылка
Я намерен побороться с тем исключительным главенством, которое в наши дни приписывают понятию «я». К этой попытке меня подталкивает абсолютная убежденность, а не причуда, не тяга к идейным баталиям и бесшабашным интеллектуальным приключениям. Я собираюсь доказать, что личность – это лишь кажимость, допускаемая в силу самомнения и привычки, но без метафизических обоснований и без внутренней реальности. Далее я намереваюсь приложить следствия этих предпосылок к литературе и возвести на их основании эстетику, враждебную к психологизму (наследию прошлого века), непочтительную к классикам и при этом благосклонную к самым дерзостным теориям сегодняшнего дня.
Развитие темы
Я заметил, что, когда человек, оказавшийся в положении читателя, соглашается со строгими диалектическими умопостроениями, прочитанными в книге, это всего-навсего лентяйское нежелание проверить на прочность приводимые писателем доказательства и смутная вера в честность автора.
Однако, как только книга закрывается и прочитанное рассеивается, в памяти остается лишь более или менее произвольный синтез усвоенных идей. Чтобы избежать этого очевидного неудобства, я откажусь от строгих логических связей в пользу нагромождения разнообразных примеров.
Нет никакого обобщенного «я». Любое деяние нашей жизни целостно и самодостаточно. Да разве ты, обдумывающий эти беспокойные строки, являешься чем-то большим, чем безразличием, скользящим по моим аргументам, или собственным суждением на ту же тему?
Я, пишущий эти строки, представляю собой всего-навсего уверенность, которая подбирает подходящие слова, чтобы убедить тебя в своей правоте. Эта цель, да еще некоторые тактильные ощущения, да прозрачная сетка, которую ветви деревьев накладывают на мое окно, – вот что составляет сейчас мое «я».
Нелепо было бы предполагать, что такому психологическому конгломерату, чтобы обрести абсолютную ценность, необходимо прикрепиться к некоему «я», к этому условному Хорхе Луису Борхесу, язык которого полнится софизмами и которому так любезны одинокие вечерние прогулки по городским предместьям.
Нет никакого обобщенного «я». Заблуждается тот, кто определяет идентичность личности через исключительное обладание некой сокровищницей воспоминаний. Утверждающий так злоупотребляет символическим воплощением памяти в образе долговечного и зримого амбара или склада, тогда как память – это лишь название, указывающее, что среди бесчисленного множества состояний нашего сознания есть и такие, которые в расплывчатой форме возникают больше одного раза. К тому же если мы будем считать, что личность коренится в воспоминаниях, то на каком основании мы присвоим себе прошедшие мгновения, которые – по незначительности своей или давности – не оставили в нас долговечного отпечатка? Такие мгновения копятся годами и залегают глубоко, недоступные нашей пытливой алчности. А эта ваша достославная память, к провалам в которой вы апеллируете, – разве она хоть когда-то раскрывала прошлое во всей полноте? Да неужели память и вправду жива? Заблуждаются также и те, кто, подобно сенсуалистам, воспринимает свою личность как сумму последовательных состояний души. Если присмотреться к этой формулировке, то станет ясно, что она лишь постыдно кружится на месте, подрывая собственные устои, безжалостно подгоняя себя, путаясь в словах, впадая в утомительные противоречия.
Никто не рискнет утверждать, что во взгляде, которым мы охватываем ясную ночь, содержится точное количество звезд на небе.
Никто по здравом размышлении не согласится, что в условной и никогда не осуществленной – да и неосуществимой – совокупности различных состояний души может корениться какое-то «я». То, что невозможно завершить, не существует, а нанизывание событий в хронологической последовательности не подчиняет их абсолютному порядку. Заблуждаются и те, кто считает, что отрицание личности, о котором я так настойчиво твержу, ставит под сомнение то ощущение отделенности, индивидуальности и особости, которое в глубинах души знакомо каждому. Я не отрицаю ни самосознания, ни непосредственной уверенности «это я», которая пульсирует в каждом из нас. Что я действительно отрицаю, так это то, что наши убеждения должны привязываться к всегдашнему противопоставлению «я» и «не я» и что такое представление постоянно. Ощущение прохлады, простора и радостной свободы, которое живет во мне, когда я миную прихожую и попадаю в почти непроглядную уличную тьму, – это не добавка к моему предшествующему «я» и не событие, которое прилаживается к другому событию моего последовательного и нерушимого «я».
И даже если посчитать мои предыдущие доводы неосновательными, я все равно буду стоять на своем, поскольку твоя убежденность в собственной неповторимости абсолютно идентична моей, равно как и убежденности любого представителя человеческого рода, и различить их нет никакой возможности.
Не существует обобщенного «я». Достаточно чуть-чуть пройтись по неумолимо гладкой поверхности, которую открывают нам зеркала прошлого, чтобы почувствовать себя чужаками и простодушно изумиться собственным былым дням. В них мы не найдем общности устремлений, их движут разные ветры. Об этом свидетельствовали те, кто прилежно изучал по календарям все то, чего они оказались лишены в прошлом. Одни, расточительные, как потешные огни, гордятся сбивчивостью и путанностью воспоминаний и утверждают, что несовпадение есть богатство; другие, не склонные воспевать беспорядок, сетуют на изменчивость своих дней и мечтают о привычной гладкости.
Процитирую два примера.
Первый относится к 1531 году, это эпиграф к книге «De Incertitudine et Vanitate Scientiarum»[1], которую каббалист и астролог Агриппа Неттесгеймский написал уже в закатное время разочарования жизнью. Эпиграф звучит так:
- В сонме богов все трясутся от шуток язвительных Мома.
- В сонме героев один Геркулес всех чудовищ догонит.
- В сонме подземном Плутон, демон-царь, мучит тени.
- Плачет над всем Гераклит. Ничего не известно Пиррону.
- Но Аристотель кичится, что может познать все на свете.
- Все, что на свете ни есть, презрительно для Диогена.
- Мне же, Агриппе, все качества эти присущи.
- Знаю, не знаю, гонюсь, презираю, плачу, смеюсь и тираню.
- Бог я, философ, герой, демон и весь универсум.
Второе свидетельство я извлекаю из третьего фрагмента «Жизни и истории» Торреса Вильярроэля. Этот систематизатор Кеведо, знаток астрологии, хозяин и господин всех слов, мастерски управлявшийся с самыми кричащими фигурами речи, тоже пожелал дать себе определение и столкнулся с вопиющей бессвязностью. Торрес Вильярроэль увидел, насколько он похож на других людей, иными словами – что он никто, не более чем невнятный гвалт, растянутый во времени и утомляющий себя в пространстве. Вот что он пишет:
«Во мне есть гнев, страх, милосердие, радость, печаль, алчность, щедрость, ярость, кротость и все хорошие и дурные свойства, все похвальные и предосудительные качества, какие только можно сыскать во всех людях вместе или по отдельности. Я испробовал все пороки и все добродетели, в течение одного дня я чувствовал в себе желание плакать и смеяться, давать и удерживать, ликовать и страдать, и я никогда не узнаю ни причины, ни импульса для этих проявлений. Слыхал я, что такое перемежение противоположных страстей называют безумием; и если это правда, тогда все мы в большей или меньшей степени безумцы, поскольку такое необдуманное и повторяющееся чередование я заметил во всех людях».
Нет никакого обобщенного «я». Я не принимаю в расчет всякое словесное жульничество, ибо сам прикоснулся к этому разочарованию чувств, пережив разлуку с товарищем. Я возвращался в Буэнос-Айрес, оставляя его на Мальорке. Мы оба сознавали, что, помимо той лживой и совсем иной близости, которую предоставляют нам письма, мы не встретимся никогда. Случилось то, что обычно происходит в такой момент. Мы знали, что наше прощание запечатлеется в памяти, и на каком-то этапе даже пытались приправить его пылкими излияниями о том, как в будущем станем тосковать. Таким образом, настоящее обретало полновесную значимость и неопределенность прошлого.
Однако громче всякой эгоистической показухи в моей груди говорило желание целиком раскрыть душу перед другом. Мне хотелось совлечь с себя душу и оставить ее трепетать перед моим другом. Мы продолжали говорить и спорить на пороге прощания – до тех пор, пока я вдруг не осознал с неожиданно твердой уверенностью, что личность, которой мы склонны придавать столь несоразмерное значение, – это ничто. Я понял, что у меня никогда не получится запечатлеть мою жизнь в одном цельном абсолютном мгновении, вмещающем в себя все остальные, что все мои мгновения будут временными этапами, уничтожающими прошлое и направленными в будущее, и что вне пределов мимолетного и случайного настоящего мы – никто. И я отрекся от всяческого мистицизма.
Минувший век в своих эстетических проявлениях был радикально субъективен. Те писатели больше стремились получить патент на свою личность, чем возвести литературное произведение; сказанное касается также и нынешних – того бурливого и тщеславного скопища, что без труда добывает себе головешки с их пепелища. Однако же мое намерение не в том, чтобы бичевать чьи-то пороки: я намерен описать via crucis[2], по которому влекутся почитатели собственного «я». Мы уже убедились, что любое, абсолютно несвойственное нам состояние духа способно полностью поглотить наше внимание, то есть в краткий момент своего главенства оно формирует нашу сущность. На языке литературы это будет означать, что стараться выразить себя и стараться выразить всю свою жизнь – это одно и то же действие. Трудоемкая изматывающая беготня между вспышкой времени и человеком, в которой он, уподобившись Ахиллесу из достославной загадки Зенона Элейского, всегда обречен на отставание…
Уолт Уитмен был первым атлантом, взявшимся осуществить этот подвиг и взвалившим мир себе на плечи. Он верил, что достаточно перечислить имена вещей, чтобы тотчас же стало очевидно, насколько они уникальны и поразительны. Вот отчего в его стихах, наряду с обилием прекрасной риторики, сплетаются певучие вереницы слов, зачастую скопированных из учебников географии и истории; их воспламеняют стройные восклицательные знаки и спасает величайший восторг.
Многие начиная с Уитмена запутались точно в таком же надувательстве. Они писали примерно так:
«Я не умертвлял язык в поисках неожиданных острот и словесных чудес. Я не добавил ни единого, пусть легчайшего, парадокса, способного помешать вашей болтовне или вспыхнуть посреди вашего прилежного уединения. Я также не стал изобретать сюжет, на который налипает всеобщее внимание, подобно тому как в наших воспоминаниях долгие бесполезные часы налипают на тот единственный час, когда была любовь. Я не сделал и не собираюсь делать ничего подобного, и все-таки я желаю долговечной славы. И вот чем оправдывается это желание: я – человек, изумленный разнообразием мира, я свидетельствую об уникальности вещей этого мира. Как и у самых прославленных мужей, моя жизнь размещена в пространстве, а куранты всех часов единодушно отмечают мою длительность во времени. Слова, которые я использую, – не послевкусие от прахом развеявшегося чтения, а знаки, отмечающие то, что я чувствовал и видел. Если мне случалось упоминать об Авроре, то не в поисках избитого выражения. Уверяю вас, я знаю, что такое Аврора: я, заранее ликуя, наблюдал этот взрыв, который опустошает улицы до дна, будоражит все предместья мира, заставляет звезды тускнеть и расширяет небо на многие мили. А еще мне известно, что такое жакаранда, статуя, луг, карниз… Я похож на всех остальных. Вот в чем мое бахвальство и слава. И не имеет значения, что я высказался о них в ничтожных стихах и в неуклюжей прозе».
О том же – но с большей сноровкой и мастерством – говорят и художники. Что такое современная живопись – живопись Пикассо и его учеников, – как не страстное утверждение драгоценной уникальности какого-нибудь пикового туза, дверного косяка, шахматной доски? Романтическое самопоклонение и громогласный индивидуализм разрушают искусство. Слава богу, тщательное изучение мелочей духовной жизни, обязательное для всякого художника, возвращает его к той вечной классической прямоте, каковая и есть творчество.
В книге наподобие «Грегерий» две эти тенденции смешивают свои воды, так что при чтении мы не понимаем, что именно завладело нашим вниманием: то ли скопированная реальность, то ли ее интеллектуальная перековка.
Нет никакого «я». Шопенгауэр, которому, кажется, было близко это утверждение, нередко и опровергал его неявным образом – не знаю, преднамеренно или под влиянием грубой и глупой метафизики (лучше сказать, «антиметафизики»), являющейся таковой даже на уровне языка. Однако же, несмотря на такую противоречивость, есть среди писаний Шопенгауэра одно место, подобно яркой и своевременной вспышке, озаряющее иной путь. Я перекладываю это место на свой родной язык:
«Моему рождению предшествовало бесконечное время. Чем я был, пока оно длилось? С точки зрения метафизики я мог бы ответить: я всегда был собой – то есть все те, кто на протяжении этого времени говорил „я“, действительно были мной».
Реальность не нуждается в подпорках других реальностей. В деревьях не скрываются божества, неуловимая «вещь в себе» не прячется за кажимостями, и нет никакого мифического «я», управляющего нашими действиями. Жизнь есть правдивая кажимость. Обманывают не чувства, обманывает рассудок, как сказал Гёте, и это изречение мы можем сопоставить со строкой из Маседонио Фернандеса: «Реальность трудится в открытой тайне».
Нет никакого обобщенного «я». Гримм в своем замечательном изложении буддизма («Die Lehre des Buddha», München[3], 1917) описывает способ отрицания, с помощью которого индийцы достигали этой убежденности. Вот их канон, проверенный тысячелетиями: «Те вещи, начало и окончание которых я могу проследить, – это не мое „я“». Это действенный принцип, достаточно подкрепить его примерами, чтобы убедиться в его истинности. Так, например, я – это не зрительная реальность, которую охватывает мой взгляд, ведь, будь я ею, меня бы уничтожила любая темнота и во мне не осталось бы ничего, что могло бы стремиться к созерцанию этого мира или даже забыть про него. Точно так же я не являюсь всем, что я слышу, иначе меня стерла бы тишина или же я переходил бы от звука к звуку, не запоминая отзвучавших моментов. Подобная аргументация приложима и к обонянию, и к вкусу, и к осязанию, и это не только доказывает, что «я» – это не кажущийся мир (тезис очевидный и бесспорный), но и что сами чувства, на него указывающие, тоже не являются моим «я». Иными словами, «я» – это не то, что видит, слышит, обоняет, пробует на вкус и осязает. Я также не являюсь и моим телом, каковое есть вещь среди других вещей. До этого момента доказательство давалось легко, но важнее применить этот аргумент к сфере духа. Являются ли желание, мысль, радость и тоска моим истинным «я»? Ответ, в соответствии с буддистским каноном, будет безоговорочно отрицательный, ведь эти проявления приходят и уходят, а я не уничтожаюсь вместе с ними. Мое сознание – последнее прибежище, где может быть расположено мое «я», – тоже оказывается непригодным. Если отбросить все страсти, все внешние ощущения и даже переменчивые мысли, сознание превращается в пустую вещь, ведь ни одно из явлений не требует его существования, поскольку в нем не отражается.
Гримм замечает, что это долгое диалектическое расследование приводит нас к выводу, который схож с мнением Шопенгауэра: «я» – это точка, неподвижность которой полезна тем, что помогает лучше прочувствовать напряженный бег времени. Такое суждение превращает «я» в простую логическую потребность, без собственных качеств и без отличий между индивидами.
1922
За пределом метафор
В гордыне человека, который перед вешней щедростью ночных небес требует еще одну звезду и, теряясь тенью среди ясной ночи, хочет, чтобы созвездия сошли с неуклонных орбит и преобразили свои огни в вещие знаки, не виданные древними мореходами и пастухами, я поднял однажды голос под неколебимыми небесами искусства, домогаясь счастливой возможности прибавить к прежним новые, неведомые светочи и свить вечные звезды чудесным венцом. Каким молчанием отвечал тогда Буэнос-Айрес! Из исполинской глыбы в два миллиона, казалось бы, живых душ не ударяла милосердная струйка даже одной неподдельной строфы, а шесть струн чьей-то затерявшейся гитары были куда ближе к настоящей поэзии, чем выдумки стольких двойников Рубена Дарио или Луиса Карлоса Лопеса, наводнявшие прессу.
Молодые существовали порознь, каждый мерил себя собственной меркой. Мы напоминали влюбленного, который уверен, что лишь его душа гордо переполняется любовью, или горящую ветвь, отягощенную сентябрем и не ведающую об аллеях, где сверкает праздник. Высокомерно убежденные в своей мнимой неповторимости полубожеств или редких цветущих островков среди безжизненных морских зыбей, мы чувствовали, как к побережьям наших сердец подступает неотвратимая прелесть мира, на разные голоса умоляя передать ее в наших стихах. Молодые луны, решетки садов, мягкие цвета предместья, сияющие девичьи лица, казалось, требовали от нас поэтических красот и призывали к дерзким свершениям. Нашим языком была метафора, звучный ручей, который не покидал наших дорог и воды которого оставили у нас в стихах не один след, – я затрудняюсь, сравнить ли его с алым знаком, отмечавшим чело избранников Ангела, или метой небес, сулившей гибель домам и семьям, приговоренным масоркой. Это был наш язык и наша общая клятва – разрушить упорядоченный мир. Для верующего все вокруг – воплощенное слово Божие: вначале свет был назван по имени, а затем воссиял над миром; для позитивиста он – шестерни рокового механизма. Соединяя удаленное, метафора разламывает эту двойную предопределенность. Мы трудили ее, не уставая, проводя дни и ночи над этим ткацким челноком, перевивающим цветные нити от горизонта до горизонта. Сегодня она шутя слетает с любого пера, а ее отблеск – звезда тайных эпифаний, искра нашего взгляда – множится в бесчисленных зеркалах. Но я не хочу, чтобы мы почивали на ее лаврах: даже без нее наше искусство сумеет взрезать гладь нехоженых морей, как врезается в побережья дня пиратская ночь. Я хочу, чтобы прежнее упорство ореолом сияло над головами нас всех и не гасло в моем слове.
Всякий образ – чародейство. Преобразить очаг в бурю, как это сделал Мильтон, – поступок чародея. Переиначить луну в рыбу, пузырь, комету – как сделал Россетти, опередив Лугонеса, – легкое озорство. Но есть то, что выше озорства и чародейства. Я говорю о полубоге, об ангеле, чьими трудами преображен мир. Прибавить к жизни новые области, вообразить города и просторы двойной реальности – приключение, ждущее героя. Буэнос-Айрес еще не обрел нового бессмертия в стихах. Гаучо посреди пустынной пампы обменивался пайядами с самим чертом; но в Буэнос-Айресе не раздалось ни звука, и его огромность не удостоверил ни символ, ни чудесный сюжет, ни отдельная судьба, сравнимая с «Мартином Фьерро». Не знаю, может быть, наш мир – воплощение божественной воли, но если она и впрямь существует, то это она замыслила розовую забегаловку на перекрестке, и бьющую через край весну, и красный газгольдер (этакий гигантский барабан Страшного суда!). Я хотел бы напомнить сейчас о двух попытках передать окружающее в слове. Первая – это поэма, в которую сами собой сплетаются десятки танго, недозревшее и уже полуразрушенное целое, где народ гладят против шерсти, дразня карикатурой, и не знают других героев, кроме ностальгических куманьков, и других событий, кроме вышедшей на угол проститутки. И вторая, гениальная и тоже идущая вразрез со всем, – «Записки новоприбывшего» Маседонио Фернандеса.
И последний пример. Кто только, начиная с поэтов, не говорил, будто стекло похоже на воду. И кто только не принимал эту гипотезу за правду и вместе с несчетными Уидобро не внушал себе и нам, будто зеркала дышат свежестью и птицы спускаются к ним попить, решетя амальгаму. Пора оставить эти игрушки. Пора дать волю прихотям воображения, возводящего принудительную реальность мысли: пора показать человека, который проникает сквозь зеркальное стекло и остается там, в иллюзорном краю (где тоже есть формы и краски, но замершие в несокрушимом молчании), и задыхается, чувствуя, что он – всего лишь подобие и его наглухо замуровывают ночи и снисходительно терпят проблески дня.
1924
Джеймс Джойс
«Улисс»
Я первый испаноязычный путешественник, отважившийся добраться до книги Джойса – этого дикого и труднопроходимого края, который был пересечен Валери Ларбо («N. R. F.»[4], том XVIII) и ландшафт которого он обозначил с безупречной картографической точностью. Я тоже возьмусь его описать, хотя и был в этих краях проездом и изучил их не вполне досконально. Я буду говорить о нем со свободой, которую мне придает восхищение, и с некоторым напряжением, свойственным древним путешественникам, которые описывали страну, открывшуюся перед их изумленным взором, сочетая в своих рассказах выдумки с правдой, а воды Амазонки – с Городом цезарей. Признаюсь, я не прочел всех семисот страниц романа, признаюсь, что читал его лишь отрывками, но все же постиг его суть – и говорю это с той же нахальной, но обоснованной уверенностью, с какой мы говорим, что знаем город, хотя можем и не ведать очарования каждой из его улиц.
Джеймс Джойс – ирландец. Ирландцы всегда были главными бунтовщиками английской литературы. Менее чуткие к словесной благопристойности, нежели их ненавистные хозяева, не склонные вглядываться в очертания луны и выискивать в потоке слез течение рек, ирландцы вторглись в английскую словесность, с вопиющим непочтением отвергая всякую риторическую избыточность. Джонатан Свифт ядовитой кислотой выплескивался на горделивую веру в человека, «Микромегас» и «Кандид» Вольтера – не что иное, как слабое подобие глубинного пессимизма Свифта. Лоренс Стерн нарушил каноны романа своей веселой игрой с обманом ожиданий и постоянными отступлениями – что так ценится и прославляется сегодня. Бернард Шоу – самое приятное, что есть в современной литературе. В Джойсе также обнаруживается присущая ирландцам смелость.
Жизнь Джойса умещается в нескольких строчках, а мое невежество делает его биографию еще короче. Джойс родился в восемьдесят втором году в Дублине, в зажиточной семье набожных католиков. Получил иезуитское образование; мы знаем, что он свободно ориентируется в античной культуре, не путает длинные и краткие слоги при произношении латинских фраз, имеет представление о схоластике, а также что он путешествовал по европейским странам и его дети родились в Италии. Джойс написал ряд стихотворений, несколько рассказов и роман, по масштабу сопоставимый с кафедральным собором – и ставший поводом для этой заметки.
«Улисс» – выдающийся роман по многим причинам. Текст словно живет на единой плоскости – без ступенек, незаметно уводящих нас от субъективного мира к единой объективности, от причудливых фантазий одного человека к простейшим фантазиям, общим для всех людей. Догадки, подозрения, мимолетные мысли, воспоминания, досужие размышления и тщательно обдуманные идеи пользуются в этой книге равными привилегиями; здесь нет единой точки зрения. Такое слияние сна и яви вполне бы одобрили Кант и Шопенгауэр. Первый считал, что разница между сном и реальностью объясняется только причинно-следственной связью, неизменно присутствующей в повседневной жизни и отсутствующей в снах. Второй полагал, что единственный критерий для различения сна и реальности – эмпирический, то есть само пробуждение. Он подробно разъяснил, что реальная жизнь и мир грез суть страницы одной и той же книги; читать их по порядку – значит жить, а небрежно листать их – значит грезить. Поэтому я хочу вспомнить проблему, которую Густав Шпиллер сформулировал в «Человеческом разуме»; она связана с относительной реальностью комнаты, увиденной наяву, затем – представленной в воображении и, наконец, отраженной в зеркале. Шпиллер решает эту проблему, справедливо отмечая, что все три комнаты реальны и занимают равное количество визуального пространства.
Как видим, олива Минервы отбрасывает на родник «Улисса» более мягкую тень, нежели лавр. Я не могу отыскать у него литературных предшественников – кроме, пожалуй, финала «Преступления и наказания» Достоевского, – да и в том не уверен. Воздадим же должное этому чуду.
Пристальное изучение мельчайших элементов, составляющих сознание, заставляет Джойса останавливать истечение времени, замедляя его движение успокаивающим жестом, – нетерпеливое стрекало, существовавшее в английской драме, помещало жизни героев в плотный стремительный поток нескольких суетливых часов. Если Шекспир, по собственной метафоре, «сгущал годы в короткий час», – то Джойс все делает наоборот: читателю придется потратить много дней (и не только праздных часов), чтобы узнать лишь об одном дне героя.
На страницах «Улисса» реальность шумно, как на скачках, бурлит во всей своей полноте. Это не обыденная реальность тех, кто замечает в мире лишь отвлеченные деяния души и свой честолюбивый страх не совладать со смертью; не та, иная, постигаемая через чувства реальность, где плоть взаимодействует с дорогой, с луной и с кувшином. Здесь заключена двойственность бытия: это онтологическое беспокойство, которое удивляется не просто бытию, но бытию в таком мире, где есть и комнаты, и слова, и игральные карты, и письмена молний в чистоте ночи. Ни в одной книге – кроме тех, что сочинил Рамон, – мы не чувствуем присутствия вещей так ясно и ощутимо. Они все ждут своего часа – и стоит произнести хоть одно название, как мы мгновенно теряемся в их ярком свете. Де Куинси рассказывает, что едва его во сне провозглашали «Consul Romanus»[5], как тут же загорались шумные видения, исполненные развевающихся флагов и роскошных военных одежд. В пятнадцатой главе Джойс описывает бред в публичном доме и в ответ на одну случайно произнесенную фразу или идею откликаются сотни – это не преувеличение, действительно сотни – неслыханных собеседников и абсурдных ситуаций.
Джойс живописует один современный день, состоящий из ряда эпизодов, – они тематически соответствуют фрагментам, на которых основывается «Одиссея».
Джойс богат – на его счету миллионы слов и стилей. Наряду с колоссальной сокровищницей слов, которыми полнится английский язык (что обеспечивает ему владычество над миром), он располагает кастильскими дублонами, иудейскими шекелями, латинскими динариями и старинными монетами, на которых растет ирландский клевер. Его вездесущее перо владеет всеми риторическими фигурами. Каждая глава – доведение до абсолюта определенного приема, и каждой главе присуща особая лексика. Одна глава написана силлогизмами, другая – как чередование вопросов и ответов, третья представляет собой связное повествование, а еще две – это внутренний монолог, невиданная прежде форма (восходящая к французскому писателю Эдуару Дюжардену, как Джойс поведал в беседе с Ларбо), когда нам открывается безостановочное течение мысли героев. С новомодным изяществом тотальных несоответствий, среди малопристойных шуток в прозе и макаронических стихов Джойс воздвигает здание столь же строгое, как латынь, и столь же грозное, как речи фараона, сказанные Моисею. Джойс отважен, как нос корабля, и всеобъемлющ, как роза ветров. Через десять лет – этому уже поспособствовали куда более внимательные и упорные комментаторы, нежели я, – мы оценим его книгу по достоинству. А пока, за невозможностью взять «Улисса» в Неукен и неспешно изучить его в тишине, я хочу присвоить себе уважительные слова Лопе де Веги, обращенные к Гонгоре:
«Как бы то ни было, я должен оценить и полюбить божественный дар этого кабальеро, смиренно принимая то, что я понимаю, и почтительно восхищаясь тем, чего понять не могу».
1925
История ангелов
Ангелы старше нас на два дня и две ночи: Господь сотворил их в день четвертый, и они, между только что созданным солнцем и первой луной, поглядывали на нашу землю, которая тогда вряд ли представляла собой что-либо, кроме нескольких полей с пшеницей да огородов неподалеку от воды. Эти первоначальные ангелы – звезды. Древним евреям не стоило труда связать понятия «ангел» и «звезда». Я выберу из многих других примеров то место в Книге Иова (38: 7), где Господь говорит из бури, напоминая о начале мира: «когда мне пели все утренние звезды и ликовали все сыны Божии». Это дословный перевод Луиса де Леона, и нетрудно догадаться, что эти сыны Божии и поющие звезды – ангелы. Также Исаия (14: 12) называет «денницей» падшего ангела, о чем помнит Кеведо, когда пишет «мятежный ангел, бунтовщик-Денница». Это отождествление звезд и ангелов (скрашивающее одиночество ночей) кажется мне прекрасным, это награда евреям за то, что они оживили души звезд, придав жизненную силу их сиянию.
По всему Ветхому Завету мы встречаем множество ангелов. Есть там неявные ангелы, которые ходят праведными путями по долине и чья сверхъестественная сущность заметна не сразу; есть ангелы крепкие, как батраки, таков тот, кто боролся с Иаковом в святую ночь, пока не занялась заря; есть ангелы-воины, как вождь воинства Господня, явившийся Иисусу Навину; есть «две тьмы тем» ангелов в боевых колесницах Господа. Но весь ангеларий, весь сонм ангелов – в Откровении святого Иоанна Богослова: там существуют сильные ангелы, низвергающие дракона, и те, кто стоит на четырех углах Земли, чтобы она не вращалась, и те, кто превращает в кровь третью часть морей, и те, кто, становясь орудиями Его гнева, обрезает гроздья винограда и бросает их в великое точило гнева Божия, и те, кто связан при великой реке Евфрате и приготовлен для того, чтобы мучить людей, и те, в ком смешаны орел и человек.
Исламу тоже известны ангелы. Мусульман Каира едва видно из-за ангелов, реальный мир, в котором они живут, почти поглощен ангельским миром, поскольку, согласно Эдварду Уильяму Лейну, каждый последователь пророка получает двух ангелов-хранителей, или пять, или шестьдесят, или сто шестьдесят.
Трактат «О небесной иерархии», приписываемый обращенному в христианство греку Дионисию и созданный примерно в V веке нашей эры, представляет собой самый точный реестр чинов ангельских и различает, например, херувимов и серафимов, указывая, что первые полным и наиболее совершенным образом видят Бога, а последние – восторженные и трепещущие, наподобие возносящегося пламени, – вечно стремятся к Нему. Тысяча двести лет спустя Александр Поуп, архетип поэта-ученого, помнил об этом различии, когда писал свою известную строку:
- As rapt seraph, that adores and burns.
- (Как серафим, горя, боготворящий.)
Интеллектуалы-теологи не ограничиваются ангелами, а пытаются постичь мир сновидений и крыл. Это непростая затея, поскольку ангелов следует рассматривать как существа высшие по сравнению с человеком, но, разумеется, низшие по сравнению с Божеством. В трудах Роте, немецкого теолога-идеалиста, можно найти многочисленные примеры подобных диалектических колебаний. Его список свойств ангелов достоин размышления. Среди них сила разума, свобода воли, бестелесность (однако в сочетании со способностью на время обретать тело), внепространственность (ангел не занимает пространства и не может быть его узником); существование, имеющее начало, не имеющее конца; ангелы незримы и даже неизменны – свойство, присущее вечности. Что касается характерных черт ангелов, то за ними признают необычайную быстроту, возможность общаться между собой, не прибегая ни к словам, ни к знакам, и совершать вещи удивительные, но не чудесные. Например, они не могут ни создавать что-то из ничего, ни воскрешать мертвых. Как можно понять, мир ангелов, расположенный между людьми и Богом, в высшей степени регламентирован.
Каббалисты тоже обращаются к ангелам. Немецкий ученый, доктор Эрих Бишоф, в опубликованной в 1920 году в Берлине книге под названием «Первоначала каббалы» перечисляет десять сефирот, или эфирных эманаций божества, и соотносит каждую из них с какой-то областью неба, одним из имен Бога, одной из заповедей, с какой-то частью человеческого тела и одним из видов ангелов. Стелин в «Раввинической литературе» связывает первые десять букв еврейского алфавита, или азбуки, с этими десятью высшими мирами. Таким образом, буква «алеф» соответствует мозгу, первой заповеди, верхней части языков пламени, божественному имени «Я есмь Сущий» и серафимам, именуемым «Священными Животными». Очевидно, что совершенно ошибочно было бы обвинять каббалистов в неясности изложения. Они в высшей степени привержены разуму и пытаются осмыслить созданный по вдохновению, притом не сразу, а по частям, мир, словно его, несмотря на это, отличают та же точность и те же причинно-следственные связи, которые мы видим сейчас…
Этот рой ангелов не мог не оказаться в литературе. Примерам несть числа. В сонете дона Хуана де Хауреги, посвященном святому Игнатию, ангел сохраняет свою библейскую мощь, свою воинственную суровость:
- Смотри: во всеоружье чистоты
- Могучий ангел зажигает море.
Для дона Луиса де Гонгоры ангел – драгоценное украшение, которое может пленить дам и барышень:
- Когда же, сжалясь над моей тоскою,
- Распустит благородный серафим
- Стальные узы хрупкою рукою?
В одном из сонетов Лопе встречается прелестная метафора, словно написанная в двадцатом веке:
- Ангелов спелые гроздья.
У Хуана Рамона Хименеса ангелы пахнут полем:
- Туманно-сиреневый ангел зеленые звезды гасил.
Мы приближаемся к тому почти что чуду, из-за которого и написан весь текст: к тому, сколь необыкновенно живучи ангелы. Человеческое воображение измыслило множество удивительных созданий (тритоны, гиппогрифы, химеры, морские змеи, единороги, драконы, оборотни, циклопы, фавны, василиски, полубоги, левиафаны и прочие, которых не перечесть), и все они исчезли, кроме ангелов. Какой стих отважится сегодня упомянуть о фениксе или о шествии кентавров? Ни один. Но любое самое современное стихотворение с радостью станет обителью ангелов и засияет их светом. Обычно я представляю их себе, когда смеркается, в вечерний час предместий или равнин, в долгую и тихую минуту, когда видно лишь то, что освещают закатные лучи, а цвета кажутся воспоминаниями или предчувствиями других оттенков. Не стоит зря докучать ангелам, ведь это последние божества, нашедшие у нас приют, вдруг они улетят.
1926
Словечки для стихов
Королевская академия испанского языка сумбурно и с натянутым пафосом сообщает: «Три эти части (грамматика, метрика и риторика) совокупно объединяют усилия, дабы наш богатейший язык сохранял свою достойную зависти сокровищницу красочных, точных и выразительных речений, свою палитру со множеством чарующих, сверкающих и живых слов, свою мелодичность, свой гармоничный ритм, благодаря которому он заслужил в мире имя прекрасного языка Сервантеса».
Весь этот фрагмент – лишь изобилие скудостей: от моральной нищеты, предполагающей, что достоинства испанского языка должны порождать зависть, а не наслаждение, до нищеты интеллектуальной, когда выразительные речения упоминают вне контекста, в котором они употребляются. Восхищаться выразительностью слов (помимо отдельных производных и звукоподражаний) – это то же самое, что восхищаться улицей Ареналес за то, что такая улица называется «Ареналес». И все-таки я не хочу вдаваться в мелкие подробности; в этой протяженной академической фразе меня интересует главное: настойчивое утверждение касательно богатства испанского языка. А есть ли таковые богатства на самом деле?
Артуро Коста Альварес («Наш язык») приводит упрощающий метод, который употребил (или которым злоупотребил) граф де Каса Валенсия, желая сопоставить французский язык с испанским. Этот сеньор прибег к математическому подсчету и выяснил, что в словаре Королевской академии содержится почти шестьдесят тысяч слов, а в соответствующем французском словаре их всего тридцать одна тысяча. Неужели это означает, что испанский оратор имеет в своем распоряжении на двадцать девять тысяч представлений больше, чем француз? Сомнительное умозаключение. Но если численное превосходство языка неравнозначно умственному, образному превосходству, то чем же здесь гордиться? И напротив, если количественный показатель имеет значение, то всякое мышление обречено на скудость, если только думают не по-немецки или не по-английски: словари этих языков включают в себя больше ста тысяч слов.
Лично я верю в богатство испанского языка, но считаю, что мы должны не хранить его в ленивой неподвижности, а до бесконечности преумножать. Любую лексику можно усовершенствовать, и я намерен это доказать.
Внешний мир – это куча-мала из перемешанных ощущений. Зрелище неба над полем, аромат смирения, которым, кажется, дышат поля, насыщенная резкость табака, обжигающего горло, долгий ветер, бичующий дорогу, покорная прямота трости, отдающей себя нашим пальцам, – все это проникает в сознание всякого человека сообща, почти нераздельно. Язык – это действенное средство для приведения в порядок таинственного изобилия мира. Мы берем в руку шар, видим пятно света, подобного заре, нас радует пощипывание во рту – и мы врем себе, что три эти разнородные вещи суть одна и зовется она «апельсин». Сама по себе луна – уже выдумка. Помимо астрономических параметров, которые пока что нас не должны волновать, нет никакого сходства между большим желтым кругом, который сейчас отчетливо поднимается над стеной в Реколете, и тем розовым ломтиком, который я видел в небе на площади Майо много ночей назад. Всякое существительное – это сокращение. Вместо того чтобы перечислять «холодное», «отточенное», «режущее», «несокрушимое», «сверкающее», «остроконечное», мы произносим «кинжал»; заменяя удаление солнца и воцарение тьмы, говорим «закат».
(Префиксы класса, используемые в китайском языке, представляются мне попыткой объединить формы прилагательного и существительного. Они как будто заняты поиском имени и предшествуют ему, набрасывая очертания. Так, например, частица «pa» неизменно используется при обозначении приспособлений и вставляется между местоимением или числительным и названием вещи. Никто не скажет «i tau» («этот нож») – только «i pa tau» («острый нож», «удобный нож»). Точно так же префикс «quin» привносит идею охвата и используется, когда говорят о дворах, об изгородях, о домах. Префикс «chang» предвосхищает плоскость и ставится перед словами «порог», «скамья», «циновка», «доска» и тому подобное. В целом, части речи в китайском не сильно различаются между собой – классификация слов, аналогичная европейской, зависит от их расположения в фразе.
Моими авторитетами для этого кусочка синологии послужили Ф. Гребнер («Мир примитивного человека», глава 4) и Дуглас из «Британской энциклопедии».)[6]
Я настаиваю на изобретательной природе любого языка и делаю это преднамеренно. Язык – создатель сущностей. Различные отрасли человеческого знания добились права на собственные миры, для описания этих миров существуют особые своды понятий. Математика разработала свой особый язык, состоящий из цифр и знаков, – по своему изяществу он ничуть не уступает другим языкам. Метафизика, естественные науки и искусство неисчислимо преумножили общую сокровищницу слов. Вербальный вклад теологии («покаяние», «первопричина», «бессмертие») трудно переоценить. И только поэзия – искусство откровенно вербальное, искусство играть с воображением посредством слов, как определил ее Артур Шопенгауэр, – только поэзия клянчит подачки от всех остальных. Поэзия работает с чужими инструментами. Авторы поэтик твердят нам о поэтическом языке, однако, если мы желаем его получить, они вручают нам несколько высокопарностей вроде «скакуна», «борея» и «багрянца», да еще добавляют «сколь» вместо «сколько». Да разве есть в этих словечках убедительность поэзии? Что в них поэтичного? «Лишь то, что в прозе они нетерпимы», – ответил бы Сэмюэл Тейлор Кольридж. Я не отрицаю случайной удачи отдельных поэтических речений, и мне приятно вспомнить, что дону Эстебану Мануэлю Вильегасу мы обязаны словом «diluviar»[7], Хуану де Мене – словами «congloriar»[8] и «confluir»[9]:
Наделены вы всем, и только вместе пристало ваши свойства восславлять. Сколь многие стремятся подражать вам в жизни, добродетели и чести!
Совсем иначе мог бы выглядеть исключительно поэтический тезаурус, учитывающий слова, которые не употребляются в повседневной речи. Мир, предстающий перед нами, – сложнейшая вещь, и язык затронул лишь малую часть неутомимых комбинаций, которые возможно выстроить с его помощью. Так почему бы не создать слово, одно-единственное слово для общего восприятия всех коровьих колокольчиков вечером, на закате солнца, вдалеке? Почему бы не изобрести другое слово для шумного и грозного облика утренних улиц? И еще одно – для благих намерений (трогательных в своем бессилии) первого фонаря, горящего ранним светлым вечером? И еще одно – для недоверия к самому себе после совершённой подлости?
Я сознаю, что идеи мои утопичны, что задуманная возможность далека от ее реального воплощения, но я верю, что размеры будущего окажутся не менее грандиозными, чем мои надежды.
1926
Исповедание литературной веры
Я человек, который отважился написать и даже опубликовать стихи-воспоминания о районах города, теснейшим образом связанных с моей жизнью: в одном из них прошло мое детство, в другом я познал наслаждение и боль любви – возможно, великой любви. А еще я допустил несколько поэтических воспоминаний о временах Росаса, которые в силу моих читательских предпочтений и боязливой семейной традиции остаются исконной родиной моих чувств. На меня обрушились несколько критиков, отметивших мои публикации софизмами и упреками, поразительными в своей неуклюжести. Один критик определил меня в ретрограды; другой в знак ложного сочувствия указал мне на районы более живописные, нежели те, что встретились в моей судьбе, и порекомендовал мне пятьдесят шестой трамвай, идущий в Патрисиос, вместо девяносто шестого, идущего в Уркису; одни нападали на меня во имя небоскребов, другие – во имя жестяных лачуг. Такие подвиги непонимания (описывая их здесь, я был вынужден смягчить краски, иначе они показались бы невероятными) оправдывают это исповедание литературной веры. О своем литературном кредо я могу с определенностью утверждать то же, что и о религиозном: оно мое потому, что я в него верю, а не потому, что я его изобрел. Больше того, я думаю, что эта формулировка универсальна и затрагивает даже тех, кто противоречит ей на словах.
Вот он, мой постулат: всякая литература в конечном счете автобиографична. Все поэтично в меру того, насколько нам раскрывается судьба автора, поэтичен любой отблеск судьбы. В лирике судьба, как правило, осторожна и замирает в неподвижности, но ее контур очерчивают лишь для нее характерные символы – они-то и позволяют ее выследить. Именно такой смысл имеют у Гонгоры вьющиеся волосы, сапфиры и хрусталь, а у нашего Альмафуэрте – грязь и своры собак. То же самое и с романами. Единственный персонаж, имеющий значение в педагогическом романе «Критикон», – не Критило, не Андренио, не окружающая их аллегорическая массовка; это брат Грасиан, гениальный карлик, с его выспренними каламбурами, с низкопоклонством перед архиепископами и вельможами, с его культом недоверчивости, с его бременем избыточной учености, с его сиропным привкусом и послевкусием желчи. Точно так же наша вежливость заставляет нас притворно доверять Шекспиру, когда тот вливает в древние истории свое великолепное многословие, но при этом мы на самом деле верим в самого драматурга, а не в дочерей Лира. Важное уточнение: я не оспариваю жизненную силу пьес и романов; я утверждаю, что нам всегда потребны души, судьбы, неповторимые особенности и наша мудрая алчность всегда знает, чего ищет, так что, если выдуманные жизни ее не насыщают, она начинает любовно копаться в жизни автора. Об этом говорил еще Маседонио Фернандес.
То же самое и с метафорами. Любая метафора, какой бы диковинной она ни была, являет собой возможный личностный опыт, и сложность не в том, чтобы ее изобрести (это дело простейшее, достаточно стасовать колоду ярких слов), а в том, чтобы ее обосновать и суметь заворожить читателя. Поясню свою мысль на примерах. Вот описание из Эрреры-и-Рейссига («Каменные пилигримы», страница 49 в парижском издании):
- Трепещет роща в комьях влажной ваты,
- вершина – в белом призрачном экстазе.
Здесь мы наблюдаем две странности: вместо тумана появляется влажная вата, в которой деревьям холодно, а верхняя точка холма погружена в экстаз, в задумчивое созерцание. Эррера не поражен этим удвоением чуда, он движется дальше. Сам поэт не осознал того, о чем пишет. Как же осознать это нам?
А теперь я приведу несколько строк другого восточного поэта (чтобы на меня не сердились в Монтевидео) – о сварщике на трамвайных путях. Их автор Фернан Сильва Вальдес, и, на мой вкус, они выполнены идеально. Это метафора, умело приложенная к жизни, сделанная частью судьбы человека, который действительно в нее верит, радуется случившемуся чуду и даже хочет разделить его с нами. Вот это место:
- Красиво,
- смотрите, как красиво:
- посреди улицы звезда упала,
- и человек в маске
- внутри ковыряется, сам обжигается от такого
- накала.
- Смотрите, как красиво:
- посреди улицы звезда упала,
- и толпа изумленная
- кругом широким встала
- смотреть, как она, сверкая,
- звездный свой дух испускала.
- Сегодня мне явлено чудо —
- да разве этого мало? —
- посреди улицы
- звезда упала.
Бывает, что автобиографическая, личная составляющая исчезает, заслоненная воплощающими ее событиями, – тогда она как сердце, что бьется глубоко внутри. Встречаются сочинения или отдельные строки, которые радуют нас без причины; их образы – скорее приближения, а не точные попадания, сюжет – мутная похлебка, плод ленивого воображения; сочетание звуков неуклюже, и тем не менее стихотворение или одна его строчка не выходит у нас из головы и просто доставляет радость. Такое расхождение между эстетическим вкусом и ощущением коренится в несовершенстве первого: если хорошо поискать, окажется, что стихи, которые нравятся нам вопреки всему, как раз и таят в себе душу, неповторимость, судьбу. И больше того: есть вещи, поэтичные только потому, что подразумевают человеческие судьбы, – например, карта города, четки, имена двух сестер.
Несколькими строками выше я писал, что образы требуют правды – объективной или субъективной; теперь я утверждаю, что рифма, по причине ее нахальной искусственности, способна внести оттенок надувательства в самые правдивые стихи, а ее работа в целом противоречит поэзии. Всякая поэзия – это откровение, а необходимые условия для любого откровения – это доверие того, кто слушает, и правдивость того, кто говорит. А рифма несет в себе первородный грех: ощущение обмана. И хотя этот обман нас только тревожит и никогда не раскрывается до конца, одного подозрения достаточно, чтобы лишить нас упоения стихами. Мне возразят, что вставные словечки – это огрех слабых стихотворцев; я считаю, что это непременное условие рифмованной поэзии. Одни скрывают их умело, другие неумело, но они есть у всех. Приведу пример постыдной подрифмовки, допущенной знаменитым поэтом:
- Я, слушая псалмы, вздыхал не раз,
- смотрел и знал, что встреч не будет новых;
- твои глаза, два голубя почтовых,
- со звезд вернулись, завершив рассказ.
Совершенно очевидно, что эти четыре строки укладываются в две, что у первых двух строк нет иной причины для существования, кроме как для поддержки вторых. Перед нами такая же уловка версификации, как и в нашей классической милонге, где подрифмовка являет себя без стыда:
- Жареная колбаса,
- рыбка и петрушка.
- Никому не уступлю
- я свою подружку.
Я объявил, что всякая поэзия – это откровенная исповедь от первого лица, исповедь характера, человеческого приключения. Явленная читателю судьба может быть вымышленной или архетипической (повествование в «Дон Кихоте», в «Мартине Фьерро», монологи персонажей Браунинга, разные версии Фауста), а может быть и личной: таковы повествующие о себе Монтень, Томас Де Квинси, Уолт Уитмен – да и любой подлинный лирик. Мне близок второй вариант.
Как же добиться чудесного озарения наших жизней? Как внедрить в чужие сердца нашу постыдную правду? Сами инструменты являются для нас помехами. Стих – это певучая сущность, туманящая значение фразы; рифма – это игра слов, нечто вроде всерьез воспринятого каламбура; метафора – это безудержное преувеличение, ложь по традиции, похвальба, в которую никто не верит. (И все-таки мы не можем обойтись без метафоры: ровный стиль, который прописал нам Мануэль Гальвес, – это удвоенная метафора: ведь «стиль» этимологически означает «резец», а «ровный» значит плоский, гладкий, без бороздок. Всем ли это понятно?)
Еще одна ошибка – это словесное разнообразие. О нем твердят все, кто учит сочинять стихи – без всякого на то основания. Я считаю, что слова следует завоевывать, проживая каждое из них, и что внешняя доступность, которой наделяет их словарь, – это лишь кажимость. Да не осмелится никто использовать слово «предместье», не исходив вдоль и поперек его высокие тротуары, не возжелав его и не выстрадав, точно невесту; не ощутив щедрого дара его глиняных стен, его пустырей, его лун за углом альмасена. Я уже отвоевал свою бедность; я узнал среди тысяч слов те девять или десять, которые близки моему сердцу; я уже написал больше одной книги, чтобы суметь написать хотя бы одну страницу. Ту страницу, что послужит мне оправданием и будет кратким очерком моей судьбы, страницу, которую, возможно, услышат лишь присяжные ангелы в день Страшного суда.
Проще говоря, ту самую страницу, которую вечером, перед свершившейся истиной оконченного дня, на закате под новым темным ветром, с яркими девичьими силуэтами на фоне улицы, я бы отважился прочесть своему другу.
1926
Наслаждение от литературы
Полагаю, что детективные романы Эдуардо Гутьерреса, греческая мифология, «Саламанкский студент», рациональные и столь мало фантастические фантазии Жюля Верна, потрясающие истории Стивенсона и первый в мире роман с продолжением, «Тысяча и одна ночь», – это лучшие из литературных наслаждений, которые я познал.
Перечень этот разнороден и не может похвастать иным единством, кроме единства раннего возраста, когда я все это прочел. В том позавчерашнем дне я был гостеприимный читатель, аккуратный исследователь чужих жизней и принимал все прочитанное с радостью и счастливым смирением. Я верил всему – даже плохим иллюстрациям и опечаткам. Каждая история была приключением, и, чтобы пережить новое приключение надлежащим образом, я искал достойные, почетные места: самую неприступную лестничную площадку, чердак, плоскую крышу нашего дома.
Затем мне открылись слова: я узнал, что это лакомство поддается чтению и даже запоминанию, и приютил множество отрывков в прозе и стихах. Некоторые из них – до сих пор – скрашивают мое одиночество, и радость, которую они принесли тогда, вошла для меня в привычку; другие строки милосердно покинули мою память, как «Тенорио»: когда-то я помнил пьесу целиком, а ныне ее искоренили годы и мое охлаждение. Мало-помалу, разобравшись со всеми уловками вкуса, я приобщился к литературе. Не могу вспомнить, когда я впервые прочел Кеведо; теперь это мой самый посещаемый автор. Напротив, я помню, какой страстной была моя первая встреча с «Sartor Resartus» (или с «Перекроенным портным») бесноватого Томаса Карлейля: свергнутая книга, давно уже листаемая только в библиотеках. Позже я постепенно сдружился с авторами, знакомством с которыми я горжусь и теперь: Шопенгауэром, Унамуно, Диккенсом, Де Куинси и снова Кеведо.
А что же сейчас? Я сделался писателем и критиком и должен признать (не без грусти и осознания собственной бедности), что перечитываю книги с отчетливым наслаждением, а новое чтение восторгов у меня не вызывает. Я склонен не признавать за сегодняшними авторами новизны, я классифицирую их по школам, влияниям и комбинациям. И мне кажется, что, положа руку на сердце, все критики мира (и даже кое-кто в Буэнос-Айресе) сказали бы то же самое. И это естественно: разум экономичен и стремится к порядку, а чудо кажется ему вредной привычкой. Признать это уже означает перестать оправдывать себя.
Менендес-и-Пелайо пишет: «Если бы стихи не читались глазами истории, сколь малому их числу удалось бы выжить!» («История американской поэзии», том 2). На самом деле это не открытие, а признание. Живительные глаза истории – просто система сожалений, оправданий и вежливых снисхождений. Мне могут возразить, что в отсутствие такой перспективы мы рискуем спутать первооткрывателя с плагиатором, фигуру с ее тенью. Все верно, но одно дело – справедливое распределение лавров, и совсем другое – чистое эстетическое наслаждение. Я с сожалением вынужден признать, что для всякого, кому приходится пролистывать множество томов и выносить свое суждение (не это ли задача критика?), чтение сводится к генеалогии стилей и выслеживанию влияний. Критик живет с ужасной и почти невыразимой истиной: красота в литературе – случайность, она зависит от симпатий и антипатий между словами, тасуемыми писателем, и никак не связана с вечностью. Эпигоны, завсегдатаи уже поэтизированных тем, нередко достигают красоты; новаторы – почти никогда.
Наша инертность побуждает говорить о вечных книгах, классических книгах. Быть может, существует какая-нибудь вечная книга, абсолютно совпадающая с нашими вкусами и капризами, равно отзывчивая и многолюдным утром, и одинокой ночью, ладящая со всеми временами суток на свете? Твои любимые книги, читатель, суть черновики этой до конца не прочитанной книги.
Если бы достижение словесной красоты, которую дарует нам искусство, было делом бесспорным, то антологии составляли бы без хронологического порядка, не упоминая даже имен авторов и литературных школ. За всякий текст говорила бы очевидность красоты. Определенно, такой взбалмошный подход представляет опасность для принятых ныне антологий. Как можно наслаждаться сонетами Хуана Боскана, не зная, что они были первыми сонетами, которыми переболел наш язык? Как вытерпеть сонеты имярека, если нам не известно заранее, что имярек сотворил еще множество других, куда хуже, и к тому же составитель этой антологии – его друг?
Я опасаюсь, что эта мысль останется непонятой, поэтому, рискуя впасть в чрезмерное упрощение, подыщу пример. Пускай нам послужит иллюстрацией вырванная из контекста метафора: «Огонь пожирает поле безжалостными челюстями». Достойна ли она осуждения или оправдания? Я утверждаю, что это зависит исключительно от того, кто ее создал, и не вижу здесь противоречия.
Давайте предположим, что где-нибудь в кафе на Корриентес или на Авениде некий литератор выдает мне эту фразу за свою. И я бы подумал: теперь составлять метафоры – простейшее дело; заменить «сжигать» на «пожирать» – не самая удачная подстановка; упоминание челюстей могло бы кого-то и удивить, но это только слабость поэта, который механически позволил себя увлечь выражению «всепожирающее пламя»; в целом – ноль… А теперь давайте предположим, что эту метафору мне представят как порождение китайского или сиамского поэта. И я бы подумал: у китайцев все превращается в дракона, и я бы представил себе пожар в виде змеящегося праздника, и метафора бы мне понравилась. Предположим, что этой метафорой воспользовался очевидец пожара или, еще лучше, человек, которому языки пламени по-настоящему угрожали. И я бы подумал: этот образ огня с челюстями действительно связан с ужасом, с кошмарным сном, он наделяет человеческой яростью и ненавистью природное явление. Такая фраза почти мифологична и обладает мощнейшим воздействием. Предположим, мне откроют, что отец этого сравнения – Эсхил, вложивший его в уста Прометею (и это правда), и что плененный титан, прикованный к вершине скалы жестокими прислужниками Силой и Властью, сказал эту фразу Океану, который прибыл на крылатой колеснице, чтобы проведать Прометея в час страдания. И тогда это выражение покажется мне уместным и даже превосходным, если учитывать необыкновенную природу собеседников и отдаленность (саму по себе поэтичную) их происхождения. Я поступил бы так же, как и читатель, который, несомненно, отложил бы свой приговор до того момента, когда ему откроют, кому принадлежит эта фраза.
Я говорю без всякой иронии. Удаленность и древность (набухание пространства и времени) притягивают наши сердца. Эту истину возвестил еще Новалис, а Шпенглер в своей знаменитой книге сумел ее блестяще обосновать. Я же хочу подчеркнуть, что она применима для литературы, которая всегда патетична. Если нас потрясает мысль, что две тысячи лет назад жили люди, то как не почувствовать волнение при мысли, что эти люди слагали стихи, созерцали мир, отобразили в легких несокрушимых словах что-то из их весомой и быстротечной жизни, что этим словам суждена была долгая судьба?
Время, этот прославленный ниспровергатель, известно своими разрушениями, своими италийскими руинами, но оно умеет и созидать. Время укрепило и даже обогатило для нас горделивый стих Сервантеса:
- ¡Vive Dios, que me espanta esta grandeza!..
Когда изобретатель и живописатель Дон Кихота создавал эту строку, «vive Dios» («мой Бог») являлось междометием, таким же обыденным, как «caramba» («черт побери»), а «espantar» («пугать»), приравнивалось к «asombrar» («удивлять»). Подозреваю, что современники Сервантеса воспринимали этот стих так: «Смотрите, этой штукой я сражен» – или как-то вроде того. Для нас же он полон крепости и энергии. Время, друг Сервантеса, сумело подправить черновик.
Обычно же удел бессмертных иной. Нюансы их чувств и мыслей, как правило, исчезают или присутствуют в их писаниях незримо – их невозможно ни восстановить, ни вообразить. Зато их индивидуальность (это упрощение платоновской идеи, то, чем человек не является ни в одно мгновение своей жизни) накрепко укореняется в наших душах. Бессмертные становятся сухими и безупречными, как арабские цифры. Абстракциями. Всего лишь пригоршней теней, но зато – в вечности. Для них слишком хорошо подходит это выражение: «Сохранилось только эхо, родившееся из пустоты и небытия, – это даже не голос, а едва лишь хвост отзвучавшего слова»[10] (Кеведо, «Час воздаяния или разумная фортуна», глава XXXV). Но ведь бессмертия бывают разные.
Ласковое и надежное бессмертие (порой достигаемое личностями посредственными, но верными своему призванию и неутомимо пылкими) – удел поэта, чье имя связано с определенным местом на земле. Таков случай Бёрнса, пребывающего в распаханных землях, в неторопливых реках, среди уютных хребтов Шотландии; таков случай нашего Каррьего, который не покидает своего постыдного, тайного, почти умершего предместья на юге Палермо, которое немыслимым археологическим усилием можно опознать в пустыре, где ныне сохранился всего один дом и винная лавка, теперь превращенная в универсальный магазин. А еще бывает бессмертие в явлениях вечных. Луна, весна и соловьи свидетельствуют о славе Генриха Гейне; море под тяжелым серым небом – о славе Суинберна; нескончаемые перроны и пристани – о славе Уолта Уитмена. Но лучшие из бессмертий (те, чья вотчина – страсть) до сих пор остаются вакантными. Нет поэта, полностью присвоившего себе голос любви, ненависти, смерти или разочарования. Это означает, что великие стихи человечества пока еще не написаны. И такое несовершенство не может не радовать нашу надежду.
1927
Словесное расследование
Я хочу поделиться с читателями одним из своих неведений: хочу написать о строптивой неподдающейся загадке – вдруг какой-нибудь сомневающийся читатель поможет мне над ней сомневаться, а возможно, наш общий полумрак, соединившись, обернется светом. Проблема моя – почти грамматического свойства, заранее предупреждаю тех читателей, которые (под видом дружеской помощи) осуждают мои языковые копания и требуют от меня человеческих историй. Я мог бы ответить, что самое человеческое (то есть наименее минеральное, растительное, животное и даже ангелическое) – это и есть грамматика; но я понимаю таких критиков и приношу извинения за эту статью. Моим страданиям и моим восторгам будут отведены другие страницы, если кто-то захочет прочитать и об этом.
Вот вопрос, который оставляет меня в недоумении: какой психологический процесс позволяет нам понимать высказывание?
Чтобы рассмотреть этот вопрос (я не отваживаюсь намекать на его решение), мы подвергнем анализу произвольно выбранную фразу, не следуя тем повторяющимся (искусственным) классификациям, которыми полнятся разнообразные грамматики; мы будем искать содержание, которое слова передают тому, кто по ним пробегает. Пускай это будет известнейшая и безусловно прозрачная фраза: «En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme» и так далее.
Я приступаю к анализу.
«En»[11]. Это не полновесное слово, а обещание слов последующих. Оно указывает, что непосредственно примыкающие к нему слова не составляют основы контекста, а лишь располагают его во времени либо в пространстве.
«Un»[12]. Как правило, это слово обозначает единицу относящегося к нему слова. Но не здесь. Здесь это указание на нечто реально существующее, но не совсем определенное и ограниченное.
«Lugar»[13]. Это слово для месторасположения, обещанного нам предлогом «en». Роль его – исключительно синтаксическая: оно не может добавить никакой определенности к заявленному двумя предыдущими словами. Выраженное через «en» равносильно выраженному через «en un lugar», поскольку любое «en» находится в каком-нибудь месте, это подразумевается само собой. Мне могут возразить, что «lugar» – это существительное, некая вещь и что Сервантес его написал не для обозначения части пространства, а в значении «селение, село, деревушка». На первое замечание я отвечу, что после Маха, Юма и Беркли рискованно ссылаться на вещи в себе, а для обычного читателя между предлогом «en» и существительным «lugar» разница только в форме выражения; что до второго – эта разница действительно существует, вот только замечается она гораздо позднее.
«De». Обычно это слово выражает зависимость, принадлежность. Здесь оно, довольно неожиданно, выступает синонимом слова «en». В данном случае «de» означает, что место действия до сих пор таинственного основного предложения находится еще в каком-то месте, каковое вскорости будет нам открыто.
«La»[14]. Это почти слово (так нас учат) происходит от «illa», что в латыни означало «та». Получается, когда-то это было внятное оправданное слово, как будто оживленное человеческим жестом; ныне же это призрак былого «illa», не имеющий иной задачи, кроме указания на грамматический род; причем такая классификация по родам начисто лишена сексуальности: она предполагает мужественность в наперстках[15], но не в шпагах[16]. (Попутно стоит вспомнить рассуждения Гребнера о грамматическом роде: сейчас склоняются к выводу, что изначально грамматические роды знаменовали некую шкалу ценностей и что женский род во многих языках – например, в семитских – выражает понятия меньшей ценности.)
«Mancha». Это существительное гораздо более информативно. Сервантес употребил его, чтобы знакомая ему реальность придала выпуклость неслыханной реальности его Дон Кихота. Хитроумный идальго сумел выплатить долг сторицей: если другие народы слышали о Ла-Манче, это его заслуга.
Означает ли вышесказанное, что называние Ла-Манчи само по себе являлось пейзажем для современников романиста? Я рискну утверждать обратное: для них это была реальность не зрения, а ощущения – простецкая и непоправимая, безыскусная провинциальность. Тогдашним читателям не требовалось зрительного представления, чтобы все понять: тогда говорили «Ла-Манча», как мы теперь говорим «Пигуэ». Тогдашний кастильский пейзаж был как одна из «раскрытых тайн» («offenbare Geheimnisse») Гёте. Сервантес его не видел: достаточно обратить внимание на дубравы в итальянском стиле, которые писатель рассыпал по роману для вящего благолепия. Лучше Сервантеса в ламанчском пейзаже разбирался Кеведо: прочтите (в письме к дону Алонсо Мессии де Лейве) суровейшее описание, которое начинается со слов «В Ла-Манче, зимой, где тучи и ручьи, в других местах производящие рощи тополей, производят только грязь и болота…», а еще через несколько строк заканчивается так: «Рассвело; я почитаю низостью для зари вспоминать о таких местах».
Скрупулезное продолжение такого анализа кажется мне делом бесполезным. Замечу только, что исследованный фрагмент заканчивается запятой. Этот закругленный штришок указывает, что следующая группа слов, «de cuyo nombre»[17], должна относиться не к Ла-Манче (имя которой автору все-таки захотелось упомянуть), а к месту. Иначе говоря, этот закругленный штришок, или знак пунктуации, или краткая пауза для подведения итога, или атом тишины, принципиально не отличается от слова. Вот насколько значительны запятые – или ничтожны слова.
Перейдем теперь к общему расследованию.
Все пролистанные мною грамматики (и даже просвещеннейший труд Андреса Бельо) единодушно учат нас, что каждое обособленное слово – это знак, оно обозначает отдельную идею. Эта доктрина поддерживается всеобщим согласием, ее подкрепляют и словари… Разве можно отрицать, что каждое слово – это единица смысла, если словарь (в алфавитном беспорядке) учитывает именно слова, разобщает их и дает безапелляционные определения? Да, задача стоит нелегкая, однако проделанный выше анализ призывает ее осуществить. Невозможно представить, что одна синтагма «En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme» объединяет в себе двенадцать идей. Будь все так на самом деле, беседа являлась бы уделом ангелов, а не людей. Но все обстоит иначе, и вот доказательство: одно и то же понятие можно выразить большим или меньшим количеством слов. «En un pueblo manchego cuyo nombre no quiero recordar» говорит о том же самом, но здесь девять знаков вместо двенадцати. Получается, что слова не являются реальностью языка, слова – по отдельности – не существуют. Такова точка зрения Бенедетто Кроче. Кроче идет и дальше: он отрицает существование частей речи, объявляет их результатом вмешательства логики, наглым подлогом. Предложение, утверждает Кроче, неделимо, а расчленяющие его грамматические категории суть абстракции, добавленные к реальности. Одно дело – устное речение, и совсем другое – его посмертная переработка на существительные, прилагательные и глаголы.
Мануэль де Монтолиу в своем признании (и одновременно опровержении) крочизма толкует этот тезис на свой лад и резюмирует не без таинственности: единственная лингвистическая реальность – это высказывание. Понятие не следует воспринимать так, как указано в грамматиках; высказывание – это идеальный орган выражения, приспособленный как для простейшего восклицания, так и для длинной поэмы («Язык как эстетический феномен». Буэнос-Айрес, 1926).
С выводом Монтолиу-Кроче трудно согласиться психологически. На практике это выглядит так: мы не воспринимаем сначала предлог «en», затем артикль «un», потом существительное «lugar» и тут же следом предлог «de»: мы скорее овладеваем ими в едином акте постижения целой главы и даже целого произведения.
Меня могут обвинить в подмене понятий, сказать, что эта доктрина относится не к психологии, а к эстетике. На это я отвечу, что психологическое заблуждение не может быть эстетической истиной. К тому же разве Шопенгауэр не сказал, что форма нашего разума – это время, тончайшая линия, являющая нам понятия только последовательно, одно за другим? Такая тонкость пугает тем, что поэмы, о которых с почтением упоминают Монтолиу-Кроче, обретают целостность в нашей слабой памяти, но не в последовательности работы того, кто их пишет, и того, кто их читает. (Я написал «пугает», потому что гетерогенная последовательность восприятия расчленяет не только пространные сочинения, но и всякую написанную страницу.) К утверждению этой мысли близко подходил и Эдгар По, который в своем эссе о поэтическом принципе отмечал, что не бывает длинных поэм, что «Потерянный рай» (в действительности) есть ряд небольших стихотворений. Передаю его мнение на своем языке: «Если ради сохранения единства поэмы, цельности ее эффекта или производимого ею впечатления мы прочитали бы ее за один присест, то в итоге волнение наше постоянно то нарастало, а то спадало бы. 〈…〉 Изо всего этого следует, что конечный, суммарный или абсолютный эффект даже лучшей эпической поэмы на свете равняется нулю – и это именно так»[18].
Какое мнение более справедливо? Грамматики принуждают нас расписывать понимание слово за словом; последователи Кроче призывают охватывать целое одним волшебным взглядом. Обе возможности представляются мне сомнительными. Шпиллер в своей прекраснейшей (я намеренно использую этот эпитет) «Психологии» формулирует третий ответ. Я его только резюмирую; мне отлично известно, что резюме добавляют к краткому изложению фальшивый оттенок категоричности и непреложности. Шпиллер обращает внимание на структуру предложений, разбивает их на маленькие синтаксические группы, соответствующие единицам представления. Так, очевидно, что в расчлененной нами для примера фразе два слова, «la» и «Mancha», – это одно слово. Очевидно, что перед нами имя собственное, в нашем сознании столь же нерасторжимое, как «Кастилия», «Пять углов» или «Буэнос-Айрес». Однако здесь единица представления будет даже крупнее: три слова, «de la Mancha», как мы уже упоминали, синонимичны слову «manchego»[19]. (В латыни сосуществовали две формы притяжения: о мужестве Цезаря можно было сказать двумя способами – «virtus Caesarea» и «virtus Caesaris»; в русском языке всякое имя существительное обращается в имя прилагательное.) Другое смысловое единство – это выражение «no quiero acordarme», к которому, пожалуй, стоит прибавить слово «de», поскольку активный глагол «recordar»[20] и возвратный глагол «acordarse» с предлогом «de»[21] различаются только в грамматиках. (Вот хорошее подтверждение произвольности нашего письма: ведь «acordarme»[22] мы пишем как одно слово, а «me acuerdo»[23] – как два.) Продолжив такой анализ, мы разобьем наш период на четыре единицы: «En un lugar / de la Mancha / de cuyo nombre / no quiero acordarme, или En un lugar de / la Mancha / de (cuyo nombre) no quiero acordarme».
Сейчас я (быть может, с бесшабашной вольностью) применил интроспективный метод Шпиллера. Что касается другого метода, утверждающего, что каждое слово обладает значением, я уже продемонстрировал его сведение к абсурду (непреднамеренное, честное и аккуратное) в первой части этих рассуждений. Я не знаю, прав ли Шпиллер: мне достаточно показать удачное применение его тезиса.
Давайте обратимся к активно обсуждаемому вопросу: должно ли имя существительное следовать за прилагательным (как в германских языках) или же стоять перед прилагательным, как в испанском. В Англии говорят только так: «a brown horse» – «каурая лошадь»; мы с той же обязательностью ставим прилагательное позади. Герберт Спенсер утверждает, что синтаксический обычай англичан более удобен, и вот почему: достаточно услышать слово «лошадь», чтобы ее представить, а если потом нам говорят, что она каурая, это добавление не всегда согласуется с образом, который мы предчувствуем и формируем заранее. Иными словами, нам приходится подправлять образ, а прилагательное, выставленное вперед, снимает эту задачу. «Каурый» – понятие абстрактное, оно лишь подготавливает наше сознание.
Оппоненты могут возразить, что понятия «лошадь» и «каурый» равно конкретны или равно абстрактны. Но, вообще-то, дискутировать здесь бессмысленно: сплавленные символы «каурая-лошадь» и «brown-horse» давно уже сделались единицами представления.
Сколько единиц представления включает в себя язык? На этот вопрос ответить невозможно. Для опытного игрока единицами представляются шахматные термины «взять на проходе», «длинная рокировка», «ферзевой гамбит», «пешка е4», «конь е3 бьет слона»; для новичка же это полновесные фразы для постепенного постижения.
Полный свод единиц восприятия создать невозможно; упорядочить или классифицировать их тоже нельзя. Доказательство этого последнего утверждения станет моей следующей задачей.
Определение, которое я дам слову, как и все другие, будет словесным, то есть состоящим из слов. Мы остановились на том, что важнейшее в слове – это его функция единицы представления, и на том, что функция эта условна и переменчива. Например, термин «имманентность» является словом для знатоков метафизики, а для человека, который слышит его впервые, это целая фраза, которую он вынужден расчленять на «in» и «manere»: «внутри остается». (Innebleibendes Werk, внутриостающееся действие, как с прекрасной расточительностью перевел мейстер Экхарт.) И наоборот, почти все предложения дают материал для обыкновенного грамматического анализа, но для того, кто их слышит много раз, они сливаются в одно слово, в одну единицу представления. Сказать «В некоем селе Ламанчи» – это почти то же самое, что сказать «деревушка» или «захолустье»; сказать
- И жадность, по велению судеб,
- Потонет в море, —
значит пробудить одно-единственное представление; разумеется, оно будет различаться для разных слушателей, но все равно это будет одна единица.
Есть фразы, которые можно называть коренными, из них выводятся другие, с намерением или без подставляющие что-то новое, но их производный характер столь очевиден, что никого не введет в заблуждение. Возьмем зауряднейшую фразу: «луна из серебра». Бессмысленно стараться придать ей новизну, изменяя дополнение: бессмысленно писать «луна из золота, из янтаря, из камня, из мрамора, из земли, из песка, из воды, из серы, из грязи, из тростника, из табака, из ржавчины». Читатель – который всегда является и литератором – обязательно заподозрит, что мы обыгрываем варианты, и почувствует антитезу в сниженном дополнении «из земли» или, возможно, давно всем известную магию в дополнении «из воды». Приведу еще один пример. Мэтью Арнольд («Critical Essays», VII), к счастью для нас, цитирует одно суждение Жубера о Боссюэ, вот оно: «Он больше чем человек, это – сама человеческая природа с умеренностью святого, справедливостью епископа, благоразумием доктора и мощью великого духа». Здесь Жубер, не скрываясь, играет с вариативностью: он написал (и, наверное, подумал) «умеренность святого», а в следующий момент им завладели непреложные законы самого языка и он нанизал еще три клаузулы, объединенные общей симметрией и одинаково небрежные. Жубер как будто бы написал: «с умеренностью святого, с чем-то кого-то, с не знаю чем не знаю кого и с чем угодно великого духа». Фраза Жубера не менее бессвязна, чем этот костяк; в обоих случаях звучные клаузулы равняются вовсе не словам, а эмфатической имитации слов. Если даже проза, где ритм представлен минимально, влечет за собой эти услужливые подмены, то что говорить о поэзии, которая бесстрашно и якобы простодушно добавляет к ловушкам, расставленным ритмом, еще и другие подмены?
Что касается определений слова, они столь нечетки, что к защищаемой мною еретической идее (слово = представление) может подойти и официальная формулировка: «Словом называют слог или совокупность слогов, имеющих независимое существование и выражающих одну идею». При этом, очевидно, ограничителями таких совокупностей не могут выступать пробелы, которые ставятся на письме между псевдословами. Если следовать этой орфографической иллюзии, получится, что «manchego» – это одно слово, а «de la Mancha» – три.
Я упомянул о непреложности языка. Мужчина, ощутив прилив сентиментальных воспоминаний, рассказывает о былой возлюбленной и возвеличивает ее в следующих словах: «Она была так прекрасна, что…» – и эта связка в конце, эта незначительная частичка уже подталкивает к преувеличению, ко лжи, к измышлению примера. Писатель говорит о глазах девушки: «Глаза как…» – и считает необходимым добавить особый термин сравнения. Он забывает, что поэзия уже реализована в этом «как», забывает, что сам акт сравнения (то есть допущение столь сложных достоинств, представить которые возможно только с помощью посредника) – это и есть поэзия. И писатель вынужден закончить: «Глаза как солнца».
Лингвистика убеспорядочивает эту фразу на две категории: семантемы, слова-представления (глаза, солнца) и морфемы, простые шестеренки синтаксиса. В лингвистике «как» представляется морфемой, хотя этим «как» определяется весь эмоциональный климат фразы. «Глаза как солнца» представляются мыслительной операцией, неочевидным суждением, в котором идея глаз связывается с идеей солнца. Всякий интуитивно чувствует: здесь что-то не так. Чувствует, что нет необходимости представлять солнце, что автору хочется описать глаза, которые пускай бы смотрели на него вечно, глаза, с хозяйкой которых он хочет быть. Эта фраза ускользает от анализа.
Резюме – полезная вещь. Я высказал здесь два предположения, взаимно опровергающие друг друга. Первое отрицает существование грамматических категорий и частей речи, заменяет их единицами представления, которые могут состоять из одного обычного слова или из многих. (Представление не имеет синтаксиса. Кто бы научил меня отличать полет птицы от летящей птицы?) Второе предположение – это власть синтаксической последовательности над речью. Такое предположение может поставить в тупик, ведь нам уже известно, что синтаксис – это ничто. Очень серьезное противоречие. Неспособность выбрать – невозможность выбрать – правильное решение – это трагедия, общая для всякого писательства. Я принимаю эту трагедию, это предательское отклонение, присущее речи, этот отказ думать о чем бы то ни было.
Ради нашего спасения были предприняты две героические попытки – и обе были обречены на гибель. Одна из них – отчаянный эксперимент Раймунда Луллия, парадоксальным образом искавшего прибежища в самом сердце опасности; вторая попытка принадлежит Спинозе. Луллий (говорят, что озарение пришло от Христа) изобрел так называемую мыслительную машину, нечто вроде всем известного барабана для лотереи, но с иным принципом действия; Спиноза постулировал всего восемь определений и шесть аксиом, чтобы выровнять для нас, ordine geométrico[24], вселенную. Как легко заметить, ни Спиноза с его геометризированной метафизикой, ни Луллий с его алфавитом, выводящим к словам, которые выводят к фразам, – ни тот ни другой не сумели избежать языка. Оба они питали свои системы языком. Обойтись без языка способны только ангелы, изъясняющиеся с помощью мыслимых понятий, прямых представлений, совершенно не нуждаясь в помощи языка.
А что же мы, словесные создания, далеко не ангелы, те, кто пишет «под этим низким и условным небом», те, кто подразумевает, что вознесение к печатным литерам – это реальность высшего порядка? Да пребудет с нами горькая истина, перед которой мы должны смириться. Она станет нашим уделом: приспособиться к синтаксису, к его предательским сцеплениям, к неточностям, к «возможно», к излишней восторженности, к «однако», к нашей речи, этому полушарию лжи и тени. И следует признаться (не без ироничного разочарования), что наименее бессмысленная классификация нашего языка – это механика действительных и страдательных оборотов, герундия, безличных предложений и иже с ними.
Различие между стилями лежит в области синтаксиса. Очевидно, что на одном и том же костяке можно выстроить множество вариантов. Я уже показал, как «луна из серебра» порождает «луну из песка»; а «луна из песка» – при удачном стечении обстоятельств словоупотребления – могла бы подняться к автономной единице представления. Язык питает себя не вспышками озарения (таковых мало), а вариациями, случайностями и причудами. Говоря «язык», смиренно подразумеваем мысль.
Не нужно пытаться классифицировать идеи по сходству. Возможных классификаций чересчур много, чтобы одна из них явилась единственной. В искусстве любые идеи могут выражаться синонимичными словами: их климат, их эмоциональная температура не сильно отличаются. И мне больше нечего добавить о невозможности психологической классификации: о разочаровании в ней убедительно свидетельствует алфавитный порядок (алфавитный беспорядок) в словарях. Фриц Маутнер («Wörterbuch der Philosophie», том первый, с. 379–401) доказывает это с блистательным ехидством.
1927
Часть II
1929–1936
Вечное состязание Ахилла и черепахи
Понятия, связанные со словом «драгоценность» – дорогая безделушка, изящная, но некрупная вещица, удобство перемещения, прозрачность, не исключающая непроницаемости, утеха в старости, – оправдывают его употребление в данном случае. Не знаю лучшего определения для парадокса об Ахилле, столь устойчивого и настолько не поддающегося никаким решительным опровержениям – его отменяют на протяжении более двадцати трех веков, – что мы уже можем поздравить его с бессмертием. Повторяющиеся наплывы тайны ввиду такой прочности, тщетные ухищрения разума, к которым он побуждает человечество, – это щедрые дары, за которые мы не можем не благодарить его. Насладимся же им еще раз, хотя бы для того, чтобы убедиться в своей растерянности и его глубокой загадочности. Я намерен посвятить несколько страниц – несколько минут, разделенных с читателем, – его изложению и самым знаменитым коррективам к нему. Известно, что придумал его Зенон Элейский, ученик Парменида, отрицавшего, что во Вселенной может что-либо произойти.
В библиотеке я нашел несколько версий этого прославленного парадокса. Первая изложена в сугубо испанском Испаноамериканском словаре, в двадцать третьем томе, и сводится она к осторожному сообщению: «Движения не существует: Ахилл не сумеет догнать ленивую черепаху». Подобная сдержанность меня не удовлетворяет, и я ищу менее беспомощную формулировку у Дж. Г. Льюиса, чья «Biographical History of Philosophy»[25] была первой книгой по философии, которую я стал читать то ли из тщеславия, то ли из любопытства. Попробую изложить его формулировку. Ахилл, символ быстроты, должен догнать черепаху, символ медлительности. Ахилл бежит в десять раз быстрее, чем черепаха, и дает ей десять метров форы. Ахилл пробегает эти десять метров, черепаха пробегает один метр, Ахилл пробегает этот метр, черепаха пробегает дециметр, Ахилл пробегает дециметр, черепаха пробегает сантиметр, Ахилл пробегает сантиметр, черепаха – миллиметр, Ахилл пробегает миллиметр, черепаха – одну десятую долю миллиметра, и так до бесконечности – то есть Ахилл может бежать вечно, но не догонит черепаху. Таков бессмертный парадокс.
Перейду к известным опровержениям. Самые старые – Аристотеля и Гоббса – включены в опровержение, сформулированное Стюартом Миллем. По его мнению, эта проблема – всего лишь один из многих примеров заблуждения из-за ложной аргументации. Стюарт Милль уверен, что может его опровергнуть следующим анализом:
В заключении софизма слово «вечно» означает любой мыслимый промежуток времени; в предпосылке предполагается любое число временны́х отрезков. Это означает, что мы можем делить десяток единиц на десять, частное – опять на десять, сколько раз нам вздумается, и делениям пройденного пути, а следовательно, и делениям времени состязания конца нет. Однако бесконечное количество делений может осуществляться с чем-то конечным. В содержании парадокса не дана иная бесконечность длительности, чем та, что содержится в пяти минутах. Пока эти пять минут не прошли, частное можно делить на десять и еще раз на десять сколько нам вздумается, что вполне осуществимо с тем фактом, что общая длительность составляет пять минут. В результате доказывается, что для того, чтобы преодолеть это конечное пространство, требуется время, бесконечно разделяемое, но не бесконечное. (Милль, «Система логики», книга пятая, глава седьмая.)
Я не могу предвидеть мнение читателя, но чувствую, что предложенное опровержение Стюарта Милля есть не что иное, как изложение парадокса. Достаточно установить скорость Ахилла в одну секунду на метр, чтобы найти требуемое время.
Предел суммы этой бесконечной геометрической прогрессии будет двенадцать (точнее, одиннадцать и одна пятая; еще точнее, одиннадцать с тремя двадцатипятыми), но он никогда не достигается. То есть путь героя будет бесконечен, и он будет бежать вечно, но его маршрут закончится, не достигнув двенадцати метров, и его вечность не достигнет двенадцати секунд. Это методичное разложение, это конечное падение в бездны все более мелкие на самом деле не уничтожают проблему, а просто хорошо ее представляют. Не будем также забывать, что и бегуны уменьшаются – не только вследствие визуального уменьшения перспективы, но вследствие волшебного уменьшения, к которому их вынуждает то, что они занимают все более микроскопическое пространство. Представим себе также, что эта лестница бездны разрушает пространство при все более ускоряющемся беге времени, – этакий отчаянный двойной бег наперегонки неподвижности и экстатической быстроты.
Другой попыткой опровержения была сделанная в тысяча девятьсот десятом году Анри Бергсоном в его известном «Опыте о непосредственных данных сознания» – само название книги является предвосхищением основания. Вот страница из нее:
«С одной стороны, мы предписываем движению такую же делимость, какую имеет преодолеваемое пространство, забывая о том, что можно делить предмет, но не действие; с другой стороны, мы привыкаем проецировать это самое действие на пространство, применять его к линии, по которой движется предмет, – короче, делать движение вещественным. Из такого смешения движения и пройденного пространства и рождаются, на наш взгляд, софизмы Элейской школы; поскольку интервал, разделяющий две точки, бесконечно делим и если бы движение состояло из частей, подобных частям интервала, этот интервал никогда бы не был преодолен. Но суть в том, что каждый из шагов Ахилла – это простой неделимый акт и после некоего данного числа таких актов Ахилл должен был бы догнать черепаху. Заблуждение элеатов происходило из отождествления этого ряда отдельных актов sui generis[26] с гомогенным пространством, на котором они совершаются. Поскольку это пространство может быть делимо и разложено согласно любому избранному закону, они сочли себя вправе переосмыслить движение Ахилла в целом уже не в шагах Ахилла, но в шагах черепахи. Догоняющего черепаху Ахилла они в действительности подменили двумя черепахами, действующими согласно, двумя черепахами, сговорившимися делать шаги одного рода или одновременные действия, чтобы никогда одна не догнала другую. Почему Ахилл обгоняет черепаху? Потому что каждый из шагов Ахилла и каждый из шагов черепахи, будучи движениями, неделимы: таким образом, весьма быстро набирается сумма пространства, преодоленного Ахиллом, как длина, превосходящая сумму пространства, пройденного черепахой, и данной ей форы. Вот чего не учитывает Зенон, разлагая движение Ахилла по тому же закону, что и движение черепахи, забывая, что только пространство поддается произвольному сложению и разложению, и смешивая его с движением» («Непосредственные данные», испанский перевод Барнеса, с. 89, 90. По ходу дела исправляю некоторые явные огрехи переводчика). Суть фрагмента несложна. Бергсон допускает, что пространство бесконечно делимо, но отрицает такую делимость во времени. Чтобы развлечь читателя, он выводит двух черепах вместо одной. Он хотел бы сочетать время и пространство, являющиеся несочетаемыми: неровное, прерывистое время Джеймса с его неизменным бурлением обновления и делимое до бесконечности пространство нашего обычного восприятия.
Делая пропуски, я перехожу к известному мне опровержению, по вдохновенности единственно достойному оригинала, – как того требует эстетика мышления. Это опровержение, сформулированное Расселом. Я нашел его в благороднейшем труде Уильяма Джеймса «Some Problems of Philosophy»[27], а концепцию в целом, которую он выдвигает, можно изучить в последующих книгах ее изобретателя – «Introduction to Mathematical Philosophy»[28], 1919; «Our Knowledge of the External World»[29], 1926, – книгах нечеловеческой ясности, возбуждающих жажду знания и насыщенных. Согласно Расселу, операция счета является (по внутренней своей сущности) операцией сопоставления двух рядов. Например, если ангел смерти умертвил всех первенцев в Египте, кроме тех, что находились в домах, где дверь была помечена кровью, то, очевидно, спаслось столько, сколько было красных меток, не надо и пересчитывать их. Тут количество неопределенное; есть другие операции, в которых оно также неопределенное. Ряд натуральных чисел бесконечен, однако мы можем доказать, что нечетных там столько же, сколько четных.
Доказательство столь же безупречно, сколь примитивно, но оно не отличается от следующего доказательства того, что для числа 3018 существует столько же множителей, сколько есть чисел.
То же можно утверждать о степенях этого числа, с тем различием, что дистанция между ними будет все более возрастать.
Гениальное признание этих фактов вдохновило философа на формулу, что бесконечное множество – например, ряд натуральных чисел – есть множество, члены которого могут в свой черед раздваиваться на бесконечные ряды. На подобных высоких широтах счисления часть не менее обильна, чем целое: точное количество точек, имеющихся во Вселенной, равно тому, которое имеется в одном метре Вселенной, или в одном дециметре, или в самой огромной траектории звезды. Задача Ахилла оказывается включенной в этот героический ответ. Каждое место, занятое черепахой, сохраняет пропорциональное отношение с местом, которое занято Ахиллом, и скрупулезного соответствия, точка к точке, обоих симметричных рядов достаточно, чтобы объявить их равными. Не остается никакого периодического остатка начальной форы, данной черепахе: конечная точка ее пути, конечная точка пути Ахилла и конечная точка времени состязания – математически совпадают. Таково решение Рассела. Не оспаривая технического превосходства противника, Джеймс все же предпочитает не соглашаться. Заявления Рассела (пишет Джеймс) уклоняются от истинной трудности, касающейся категории бесконечного «растущее», а не категории «постоянное», – Рассел имеет в виду только последнюю, предполагая, что путь уже пройден и что задача состоит в том, чтобы уравновесить обе траектории. Между тем обе они не уточняются: определение пути каждого из бегунов или просто промежутка затраченного времени связано с трудностью достижения некой цели, когда каждый предыдущий интервал возникает раз за разом и перекрывает путь («Some Problems of Philosophy», 1911, с. 181).
Я подошел к концу моей заметки, но не наших размышлений. Парадокс Зенона Элейского, как указал Джеймс, покушается не только на реальность пространства, но и на самую неуязвимую и тонкую реальность времени. Добавлю, что жизнь в физическом теле, неподвижное пребывание, текучесть каждого дня жизни восстают против такой опасности. Подобный беспорядок вносится посредством одного слова «бесконечное», слова (а за ним и понятия), внушающего тревогу, которое мы отважно произносим и которое, превратившись в мысль, взрывается и убивает ее (существуют другие древние кары за общение со столь коварным словом – есть китайская легенда о скипетре императоров династии Лян, который укорачивается с каждым новым правителем наполовину: изувеченный многими династиями, скипетр этот существует и поныне). Мое мнение, после приведенных мною столь квалифицированных суждений, подвержено двойному риску показаться дерзким и тривиальным. Все же я его выскажу: парадокс Зенона неопровержим, разве что мы признáем идеальную природу пространства и времени. Так признаем же идеализм, признаем же конкретное увеличение воспринимаемого – и мы избегнем головокружительного умножения бездн этого парадокса.
Поколебать нашу концепцию Вселенной из-за этой крохи греческого невежества? – спросит мой читатель.
1929
Продолжительность ада
Среди плодов человеческого воображения ад больше других потерял с годами. Даже вчерашние проповедники позабыли его, оставшись без нищенской, но услужливой отсылки к святым кострам инквизиции, подстерегающим нас уже в посюстороннем мире, – муке, конечно, краткосрочной и все-таки вполне способной в границах земного стать метафорой бессмертия, той абсолютной и беспредельной муки, которую навек навлекли на себя наследники Господня гнева. Удовлетворительна моя гипотеза или нет, одно бесспорно: неустанная реклама этого божественного установления в конце концов утомила всех. (Не надо пугаться слова «реклама», оно вовсе не из коммерческого, а из католического обихода, где означает «собрание кардиналов».) Карфагенянин Тертуллиан во II веке нашей эры еще мог вообразить преисподнюю и рисовал ее так: «Нам по душе видения, представим же себе самое безмерное – Страшный суд. Какая радость, какой восторг, какой праздник, какое счастье – видеть стольких горделивых царей и ложных богов томящимися в гнуснейшем застенке мрака; стольких судей, гонителей имени Христова, – плавящимися на кострах много лютее тех, что насылали они на головы христиан; стольких угрюмых философов – рдеющими в багряном огне вместе с их призрачными слушателями; стольких прославленных поэтов – дрожащими перед престолом не Мидаса, а Христа; стольких трагических актеров – небывало искусными сегодня в изображении неподдельных мук!» («De spectaculis»[30], 30; цитирую по труду и переводу Гиббона). Но уже Данте в своей исполинской попытке анекдотически представить нескольких приговоренных божественной справедливостью на фоне Северной Италии, увы, не нашел в себе подобного энтузиазма. Позднейшие же литературные преисподние Кеведо (не более чем занятное собрание анахронизмов) и Торреса Вильяроэля (не более чем собрание метафор) – всего лишь проценты с обесценивающейся догмы. Ад переживает в их творчестве решительный упадок, равно как и у Бодлера, настолько разуверившегося в вечных муках, что разыгрывает упоение ими. (Интересно, что бесцветный французский глагол «gêner» (докучать) этимологически восходит к мощному слову Писания «gehenna».)
Теперь к самому аду. Любопытная статья о нем в Испаноамериканском энциклопедическом словаре полезна, пожалуй, даже не столько необходимыми справками или теологией напуганного пономаря, сколько своей очевидной растерянностью. Начинается с оговорки, что понятие ада не принадлежит исключительно католичеству; предосторожность, единственный смысл которой – «дабы масоны не толковали, будто подобным жестокостям учит святая церковь». Далее следует напоминание, что понятие это всегда входило в церковную догматику, после чего – беглая реплика: «Неувядаемая слава христианства в том, что оно вобрало в себя множество истин, рассеянных по различным ложным вероучениям». Связывать ли ад с религиями природы или всего лишь откровения, важно, что ни один другой богословский предмет не обладает, по-моему, такой притягательностью и мощью. Речь не о бесхитростной мифологии монастырских келий – всем этом навозе, жаровнях, огне, клещах, которые буйно произрастают в сени обителей и до сих пор, к стыду для их воображения и достоинства, повторяются то тем, то иным автором[31]. Речь об аде в самом строгом смысле слова – о месте вечной кары для грешных, про которое из догматов известно лишь то, что оно находится in loco reali (в надлежащем месте), a beatorum sede distinto (удаленном от обители избранных). Извращать сказанное – смертный грех. В пятидесятой главе своей «Истории» Гиббон старается умалить притягательность ада и пишет, будто двух простейших представлений об огне и тьме вполне достаточно, чтобы почувствовать бесконечную боль, которая ведь и должна быть бесконечно тяжела, поскольку по самому замыслу не имеет конца. Может быть, эта безнадежная попытка и доказывает, что смастерить ад – дело нехитрое, но ей не под силу умерить манящий ужас выдумки. Страшнее всего здесь вечность. Сама длящаяся мука – беспрерывность Божьей кары, когда грешники в аду не смыкают глаз, – пожалуй, еще страшнее, но ее невозможно представить. О вечности мук и пойдет дальше наш разговор.
Два веских и точных аргумента практически сводят эту вечность на нет. Самый старый – условность бессмертия (или уничтожения). Бессмертие – гласит этот глубокий довод – несвойственно греховной природе человека, оно ниспослано Богом Христу. А лишенный его, понятно, не может им и располагать. Оно – не проклятие, а дар. Заслужившего удостаивает Небо, а отверженный умирает, как выражался Беньян, «до самой смерти», целиком и бесповоротно. Ад, согласно данной благочестивой теории, – это человеческое и предосудительное имя для забвения человека Богом. Одним из ее защитников был Уэйтли, автор некогда знаменитых «Сомнений историка по поводу Наполеона Бонапарта».
Занятнее, пожалуй, рассуждение евангелического пастора Роте, относящееся к 1869 году. Его довод – смягченный, помимо прочего, тайным сочувствием, отвергающим даже мысль о бесконечной каре для осужденных, – состоит в том, что, наделяя вечностью муку, мы увековечиваем зло. Господь, утверждает Роте, не согласился бы на такую вечность для созданного Им мира. Отвратительно думать, что грешник и дьявол вечно смеются над благим помыслом Творца. (Мир, как известно теологам, сотворен любовью. Предопределение означает предназначенность для рая, осуждение же – попросту его изнанку, причиняющую адские муки неизбранность, но никак не особое действие Божественной благодати.) Жизнь грешника, согласно этому доводу защиты, всего лишь изъян, ущерб… Его удел – скитаться по окраинам мира, ютясь в пустотах беспредельных пространств и питаясь отбросами существования. Завершает Роте следующим: поскольку демоны, безусловно, чужды Богу и враждебны Ему, их действия противны Царству Божию и составляют особое бесовское царство, у которого, естественно, должен быть свой глава. Правитель демонского государства – дьявол – изменчив ликом. Воссевшие на трон этого царства гибнут от призрачности своего бытия, но возрождаются к жизни по мере умаления в себе дьявола («Dogmatik»[32], 1, 248).
Подхожу к самому невероятному – к доводам человечества в пользу вечности ада. Расположим их по возрастающей значимости. Первый, вероучительный, гласит, что ужас наказания как раз и кроется в его вечности, а сомневаться в этом – значит сводить на нет действенность догматов и заигрывать с дьяволом. Есть в этом аргументе что-то неуловимо полицейское, и я не стану его даже опровергать. Второй таков: боль должна быть бесконечной, поскольку бесконечна вина покусившегося на величие Бога, чье бытие бесконечно. По-моему, такой способ доказательства ровным счетом ничего не доказывает, кроме одного: простительной вины не бывает и никакой грех не заслуживает снисхождения. Добавлю, что перед нами образчик схоластического самоуправства: подвох здесь в многозначности слова «бесконечный», которое применительно к Создателю означает «несотворенный», к боли – «безысходная», а к вине – вообще неизвестно что. Кроме того, считать провинность бесконечной из-за покушения на Бога, чье бытие бесконечно, все равно что считать ее святой, поскольку Бог свят, или думать, будто обращенные к тиграм проклятия должны быть поэтому полосатыми.
И вот надо мною высится третий, единственно значимый довод. Он таков: есть вечность рая и вечность ада, ибо этого требует достоинство нашей свободной воли; либо труд человека воистину вечен, либо он сам – всего лишь пустая химера. Сила этого аргумента не в логике, она в драматизме, а это куда сильней. Он предлагает безжалостную игру, даруя нам жестокое право губить себя, упорствовать во зле, отвергать дары милосердия, предаваться неугасимому огню и собственной жизнью наносить поражение Богу, раболепствуя перед телом, не знающим просветления даже в вечности и detestabile cum cacodemonibus consortium[33]. Твоя судьба, предупреждают нас, нешуточна, и вечное проклятье, как вечное спасение, подстерегает тебя в любую минуту, – эта ответственность и есть твое достоинство. Похожее чувство можно найти у Беньяна: «Бог не тешился, убеждая меня, как не тешился и дьявол, соблазняя, и сам я – погружаясь в бездонную пропасть, где все горести ада завладели мною, – так тешиться ли мне теперь, их пересчитывая?» («Grace abounding to the Chief of Sinners», the Preface)[34].
Думаю, в нашем невообразимом существовании, где правит такая низость, как телесная боль, возможна любая бессмыслица, даже нескончаемый ад, но вера в это не имеет с религией ничего общего.
Постскриптум. Цель моей непритязательней заметки – пересказать сон. Мне снилось, будто я вынырнул из другого, полного бурь и катастроф сна и очнулся в незнакомой комнате. Понемногу начало проясняться: слабый, неизвестно откуда пробившийся свет очертил ножки стальной кровати, жесткий стул, запертые дверь и окно, стол у белой стены. Я в страхе подумал: где я? – и понял, что не знаю. Подумал: кто я? – и не смог ответить. Страх нарастал. Я подумал: так это бесцельное бдение и есть вечность? И наконец-то на самом деле проснулся, дрожа от ужаса.
1929
Суеверная этика читателя
Бедность нашей словесности, ее неспособность увлечь читателя породили своеобразный стилистический предрассудок – рассеянное чтение при внимании к деталям. Те, кто страдает этим суеверием, понимают под стилем не силу или бессилие той или иной страницы, а очевидные приемы автора: его сравнения, звукопись, особенности работы с синтаксисом и пунктуацией. Читатели безразличны к авторской позиции как таковой, к эмоциям как таковым: они ищут маячки (как выразился Мигель де Унамуно), которые дали бы им понять, имеет ли написанное право им понравиться. Они слышали, что эпитет не должен быть тривиальным, и думают, что страница плохо написана, если на ней нет оригинальных сочетаний существительных и прилагательных, даже если достигнута главная цель текста. Они слышали, что лаконичность – это добродетель, и считают лаконичным того, кто растягивает текст десятью короткими фразами, а не того, кто управляется с одной длинной. (Образцовые примеры такой шарлатанской краткости, этой сентенциозной пылкости можно отыскать в речах известного датского чиновника Полония из «Гамлета» или же у Полония из реального мира – по имени Бальтасар Грасиан.) Они слышали, что близость повторяющихся слогов неблагозвучна, и притворяются, что в прозе она приносит им страдание, а в поэзии – особого рода наслаждение, хотя полагаю, что и здесь они лукавят. Иными словами, они обращают внимание не на эффективность механизма, а на его конструкцию. Они подчиняют чувства этике, а точнее – непреложному этикету. Подобная точка зрения стала настолько распространенной, что читателей в собственном значении слова уже нет – все стали потенциальными критиками.
Этот предрассудок настолько общепринят, что теперь никто не отважится признать отсутствие стиля в произведениях, где его на самом деле нет, особенно если дело касается классики. Не существует хороших книг без привязки к стилю, без этого не может обойтись никто, кроме разве что автора. Обратимся к примеру «Дон Кихота». Когда величие этого романа уже было доказано, испанская критика не хотела и помыслить, что главная (быть может, единственная неоспоримая) его ценность состоит в психологии, и приписала ему стилистические достоинства, каковые для многих наверняка остаются загадкой. Действительно, достаточно перечитать всего несколько абзацев из «Дон Кихота», чтобы понять, что Сервантес не был стилистом (по крайней мере, в нынешнем акустически украшательском значении слова), – он слишком живо интересовался судьбами Дон Кихота и Санчо, чтобы позволить себе отвлекаться на собственный голос. В «Остроумии, или Искусстве изощренного ума» – столь хвалебном по отношению к повествовательной прозе в духе «Гусмана де Альфараче» – Бальтасар Грасиан не решается упомянуть «Дон Кихота». Кеведо в шутку перелагает его смерть стихами и сразу же о нем забывает. Мне возразят, что оба примера отрицательные; Леопольдо Лугонес уже в наше время выносит недвусмысленный приговор: «Стиль – это слабое место Сервантеса, и ущерб, который нанесло его влияние, весьма серьезен. Бедность цветовой палитры, неустойчивая композиция, запутанные абзацы, которые, отдуваясь, завиваются в бесконечные спирали, где начало никак не может состыковаться с финалом; повторы, несоразмерность – вот наследие для тех, кто, видя наивысшее воплощение бессмертного произведения только в форме, продолжает грызть шероховатую скорлупу, скрывающую вкус и сочность плода» («Империя иезуитов», c. 59). Того же мнения и наш Груссак: «Если называть вещи своими именами, мы должны признать, что добрая половина романа написана чрезвычайно расхлябанно и небрежно, что с лихвой оправдывает обвинения в ущербности языка, которые предъявляли Сервантесу его противники. Я имею в виду не только и не столько речевые неловкости, невыносимые повторы, каламбуры, напыщенные и тяжеловесные риторические обороты, но скорее общую слабость этой послеобеденной прозы» («Литературная критика», c. 41). Послеобеденная проза, проза разговора, а не декламации – вот она, проза Сервантеса, а другой ему и не нужно. Полагаю, то же самое наблюдение справедливо и по отношению к Достоевскому, Монтеню или Сэмюэлу Батлеру.
Стилистическое тщеславие перерастает в еще более патетическую разновидность – погоню за совершенством. Нет ни одного стихотворца – каким бы малозначительным и ничтожным он ни был, – который не попытался бы отчеканить (именно это слово они обычно используют) свой идеальный сонет – крошечный памятник, который призван охранять возможное бессмертие поэта от беспощадного движения времени. Речь идет главным образом о сонете без затычек, который, впрочем, сам по себе является затычкой – вещью ненужной и бесполезной. Это многолетнее заблуждение (сэр Томас Браун, «Urn Burial»)[35] сформулировал и подкрепил своим авторитетом Флобер: «Отделка (я разумею ее в высшем смысле слова) для мысли то же, чем была вода Стикса для тела Ахиллеса: придает неуязвимость и нетленность» («Correspondance»[36], II, c. 199). Сказано со всей определенностью, однако я так и не нашел примеров, подтверждающих это суждение. (Умолчу о тонизирующем эффекте вод Стикса – эта инфернальная реминисценция не довод, а пафосная фигура речи.) Идеальная страница, страница, на которой нельзя заменить ни одного слова, – самая несовершенная из всех. Язык меняется, стирая второстепенные значения слов и смысловые оттенки; «идеальная» страница состоит из таких недолговечных достоинств и с легкостью изнашивается. Напротив, страница, которая обречена на бессмертие, может безболезненно пройти сквозь пламя опечаток, неточных переводов, рассеянного чтения и непонимания. Нельзя безнаказанно изменить ни строчки в стихах Гонгоры (как заявляют те, кто воссоздает его текст), а «Дон Кихот» неизменно побеждает в каждой посмертной битве со своими переводчиками и остается в живых после всякого небрежного перевода. Гейне, не слышавший этого романа на испанском, смог прославить его навеки. Немецкий, скандинавский или индийский призраки Дон Кихота намного живее словесных ухищрений неугомонного стилиста.
Мне бы не хотелось, чтобы выводы из этих рассуждений приняли за отчаяние и нигилизм. Я не намерен поощрять небрежность и не верю в мистическую добродетель неуклюжей фразы и безвкусного эпитета. Я лишь утверждаю, что добровольный отказ от двух-трех маленьких удовольствий (зрительное наслаждение метафорой, звуковое изящество ритма, удивление от междометий и перестановки слов) наводит на мысль, что писателем правит страсть к избранной теме, и ничего более. Шероховатость фразы столь же безразлична для подлинной литературы, как и ее гладкость. Просодическая арифметика не менее чужда искусству, чем каллиграфия, орфография или пунктуация, – такова правда, которую от нас скрывают судебные корни риторики и музыкальные истоки пения. Излюбленная ошибка современной литературы – это пафосность. Категоричные слова – слова, утверждающие божественную или ангельскую мудрость, требующие сверхчеловеческой твердости и решимости: «единственный», «никогда», «навсегда», «все», «совершенство», «окончательный», – всечасно используются нынешними писателями. Они не думают, что слишком много говорить о чем-либо столь же бессмысленно, как и не говорить вовсе, а небрежное обобщение и гиперболизация – та же бедность, которая непременно бросается в глаза читателю. Подобная неосторожность ведет к обесцениванию языка. Вот что происходит, например, во французском: выражение je suis navré[37] теперь обозначает: «Я не пойду пить с вами чай»; aimer[38] опустилось до простого «нравиться». Эта же склонность французского к гиперболизации различима и в литературном языке: Поль Валери, герой упорядоченной ясности, приводит несколько легко забываемых и уже забытых строк из Лафонтена и защищает их (от кого-то) таким оборотом: «Ces plus beaux vers du monde»[39] («Variété»[40], 84).
Теперь я хочу напомнить о будущем, а не о прошлом. Практикуется чтение про себя, и это хороший знак. Поэзию тоже начинают читать про себя. Между этой беззвучной способностью и чисто идеографическим письмом – прямой передачей идей, а не звуков – расстояние хоть и значительное, но куда менее протяженное, чем наше будущее.
Перечитав эти скептические замечания, я подумал: не знаю, способна ли музыка разочаровать музыку, а мрамор устать от мрамора, однако литература – именно то искусство, которое может предсказать свою немоту, ожесточиться на собственную добродетель, полюбить свое угасание и проводить самое себя в последний путь.
1931
Наши недостатки
Эти отрывочные заметки о самых досадных чертах аргентинского характера нуждаются в предварительных оговорках. Речь пойдет о наших горожанах – загадочном и привычном подвиде, преклоняющемся перед блеском таких занятий, как владелец солильни или аукционист, пользующемся автобусом, видя в нем орудие смерти, презирающем Соединенные Штаты и гордящемся, что Буэнос-Айрес не уступит Чикаго по количеству ежедневных убийств, не могущем даже представить русских необрезанными и безбородыми, провидящем тайную связь между извращениями или половым бессилием и табаком светлых сортов, со страстью предающемся исполнению на пальцах пантомимы под названием «сериола», поглощающем в праздничные вечера циклопические порции органов пищеварения, испражнения и размножения в традиционных, но новехоньких с виду заведениях под вывеской «паррильяс», кичащемся нашим «латинским идеализмом» и нашей «столичной лихостью», хотя в глубине души верующем только в лихость. Не имею в виду креолов – карикатурный на нынешний день тип любителей мате и анекдотов, не связанный теперь уже ни с какими расовыми особенностями. Сегодня креолов – по крайней мере, у нас в провинции – отличают разве что склад языка и черты поведения, порой тяжелые, иногда приятные. Пример последней разновидности – гаучо в летах, чьи ирония и спесь – что-то вроде смягченной формы раболепья, до того озабочен он мнением окружающих… Думаю, креолов надо искать в тех местах, где соперничество с приезжими новичками не привело к подражанию и вырождению, – скажем, в северных округах Восточной республики. Но вернемся к нашему обычному аргентинцу. Не берусь исчерпать его особенности, ограничившись лишь самыми заметными.
Первая – отсутствие воображения. Для типового аргентинца все непривычное чудовищно, а потому потешно. Фрондер, носящий бороду в эпоху бритых или щеголяющий среди круглых шляп квартала своим одиноким котелком, – совершеннейшее диво, невидаль и безобразие для всякого очевидца. Любой чужак в популярных оперетках, будь он галисиец либо англичанин, – всего-навсего тот же креол, только навыворот. Он не то чтобы несет зло – за этим стояло бы определенное достоинство, – нет, он слишком смешон, мимолетен и мелкотравчат, чтобы обращать на него внимание. Все, что он может, – это суетиться: единственная серьезная вещь на свете – смерть – ему не по зубам. И эта призрачность других – опять-таки лишь оборотная сторона дутого самомнения моих соотечественников. Те для наших всегда чужие – существа безответственные, двусмысленные и в каком-то смысле нереальные. На руку и бездарность наших актеров. С тех пор как на дюжину молодцов из Буэнос-Айреса нашлась дюжина неуважительных мерзавцев из Монтевидео, иностранцем как таковым, an sich, стал для нас уругваец. И если мы до такой степени заврались и требуем не путать нас с выдуманными иностранцами, которых сами так нарекли, то что говорить об иностранцах настоящих? Признать их особый мир мои соотечественники в жизни не согласятся. Провал острого фильма «Аллилуйя» у нашей публики – точней, провал нашей тупой публики на фильме «Аллилуйя» – я целиком отношу на счет непобедимого союза этой нашей неспособности, многократно усиленной лицезрением негров, с другой, не менее плачевной и характерной чертой. Мы не умеем относиться к чужой страсти без ехидства. Из-за убийственного и удобного презрения ко всему не аргентинскому наша оценка собственного места в мире несообразно завышена. Несколько месяцев назад, после совершенно закономерного провала выборов на местном уровне, зашушукались было о «русском золоте» – как будто внутренние проблемы хоть одной из областей нашего бесцветного края могут привлечь внимание и вдохновить кого-то в Москве. Простодушная мания величия – отменная среда для размножения подобных легенд. Добавьте к ней наше нелюбопытство, щедро унавоживаемое иллюстрированными журналами столицы, столь же равнодушными к существованию пяти континентов и семи морей, насколько захвачены они состоятельными дачниками берегов Мар-дель-Плата, которые только и будоражат их гончий пыл, низкопоклонство и дотошность. Нищенские представления здесь не только о целом мире, но и о собственном доме. Нехитрый Буэнос-Айрес истинного портеньо общеизвестен: в него входят Центр, Северный квартал (с чистоплюйским умолчанием о его трущобах), устье Риачуэло и квартал Бельграно. За этими пределами раскинулась недостойная упоминаний Киммерия, призрачный и ненужный мир конечных остановок пригородного автобуса и безропотных рельсов лакрозовского трамвая.
Другая черта, о которой хотелось бы упомянуть, – нескрываемая радость при виде чужой беды. Партер столичных кино приветствует любой провал героев рукоплесканиями: они – предмет для смеха. То же самое – в случае схватки: удача победителя занимает куда меньше, чем унижение проигравшего. Когда в одной из остросюжетных лент фон Штернберга рослый наемный убийца, по кличке Тощий Бык, в конце гибельного празднества крадется по мертвым тропинкам зари за своим беспутным врагом, а тот видит его, неумолимого и литого, и спасается бегством от подступившей смерти, – зал взрывается хохотом, тут же напоминая, в каком мы полушарии. В киношках для бедных достаточно малейшего признака жестокости, чтобы расшевелить зрителей. Запас злобы выплескивается поразительным императивом «получай!», который вслух теперь выкрикнут редко, но про себя повторяют все. Замечательно еще словечко «видала?», которым аргентинка завершает любое перечисление благ, скажем, роскошных эпизодов летнего отдыха, как будто истинная ценность счастья – в зависти и досаде, которые оно вызывает у других. (Замечу, что самая искренняя похвала по-испански выражается словцом «на зависть».) Еще один пример легкости, с какой буэносайресцы изливают злобу, – авторы бесчисленных анонимок, к которым в последнее время прибавились анонимы слуховые, не оставляющие следов: угрозы по телефону, неуязвимый поток оскорблений. Не знаю, обязан ли этот безличный и скромный жанр словесности своим изобретением жителям столицы, но пользуются они им охотно и удачно. Появились даже свои виртуозы, дошедшие до совершенства в наглости пожеланий вкупе с расчетливой несвоевременностью звонка. Не забывают мои земляки и о скорости: она тоже своеобразная защита, и ругательства, извергнутые на прохожих из окна проносящегося автомобиля, чаще всего остаются безнаказанными. Адресат, понятно, едва различим, и зрелище его гнева исчезающе кратко, и все-таки невозможно удержаться от искушения и не облегчить душу. Добавлю еще один занятный пример – содомию. В любом краю мира осуждение падает без различий на обе стороны недопустимой связи. «Оба они сделали мерзость… и кровь их падет на них», – говорится в Книге Левит. Буэнос-айресский сброд смотрит на дело иначе: активной стороне выражают своего рода почтение, поскольку сотоварищ унижен. Дарю этот образчик экскрементальной диалектики ревнителям нашей лихости, сплетен и тычков, переполнившим не одну преисподнюю.
От бедности воображения и затаенной злобы идет и наше понимание смерти. Первой посвящена выходящая далеко за пределы темы заметка Унамуно «Воображение Кочабамбы», пример второй – невиданное зрелище консерваторов у власти, загоняющих страну в стойло социализма, только чтобы насолить умеренным.
Я – аргентинец в нескольких поколениях и писал все это без малейшего удовольствия.
1931
Допущение реальности
Юм раз и навсегда заметил, что аргументы Беркли не допускают даже тени возражения и не содержат даже тени убедительности; чтобы свести на нет доводы Кроче, мне бы понадобилась сентенция по меньшей мере столь же учтивая и смертоносная. Юмовская, увы, не подойдет, поскольку прозрачное учение Кроче если чем и наделено, так это способностью убеждать (но и только). Во всем остальном с ним делать нечего: оно закрывает дискуссию, не разрешив проблемы.
Кроче (напомню читателю) приравнивает эстетическое к выразительному. Спорить не стану, но замечу: писатели классического склада чаще всего избегают выразительности. Этим фактом, до сих пор остававшимся в тени, мы и займемся.
Романтик – как правило, безуспешно – только и ищет возможности выплеснуться; классик чаще всего опирается на подразумеваемое. Отвлекаюсь от исторических обертонов в словах «классический» и «романтический»: меня интересуют лишь два воплощенных в них архетипа писателя (две разные манеры поведения). Опора классика – язык, он верит любому его знаку. Скажем, он пишет: «После удаления гóтов и разъединения союзнической армии Аттила был поражен тишиной, которая воцарилась на Шалонских равнинах; подозревая, что неприятель замышляет какую-нибудь военную хитрость, он несколько дней не выходил из-за своих повозок, а его отступление за Рейн было свидетельством последней победы, одержанной от имени западного императора. Меровей и его франки, державшиеся в благоразумном отдалении и старавшиеся внушить преувеличенное мнение о своих силах тем, что каждую ночь зажигали многочисленные огни, не переставали следить за арьергардом гуннов, пока не достигли пределов Тюрингии. Тюрингцы служили в армии Аттилы; они и во время наступательного движения, и во время отступления проходили через территорию франков и, может быть, именно в этой войне совершали те жестокости, за которые отмстил им сын Хлодвига почти через восемьдесят лет после того. Они умерщвляли и заложников, и пленников; двести молодых девушек были преданы ими пытке с изысканным и неумолимым бесчеловечием; их тела были разорваны в куски дикими конями, их кости были искрошены под тяжестью повозок, а оставленные без погребения их члены были разбросаны по большим дорогам на съедение собакам и ястребам» (Gibbon. Decline and Fall of the Roman Empire[41], XXXV).
Одного вводного оборота «после удаления готов» достаточно, чтобы почувствовать: этот стиль работает опосредованиями, упрощая и обобщая смысл до полной невещественности. Автор разворачивает перед нами игру символов – игру, спору нет, строго организованную, но наполнить ее жизнью – дело нас самих. Ничего, собственно, выразительного здесь нет. Реальность попросту регистрируется, а вовсе не воплощается в образах. Многочисленные упоминания о будущем, на которое нам намекают, возможны лишь при богатейшем совместном опыте, общем восприятии, единых реакциях; все это входит в текст, но отнюдь не содержится в нем. Скажу еще ясней: текст описывает не первичное соприкосновение с реальностью, а итог его окончательной обработки с помощью понятий. Это и составляет суть классического метода, им, как правило, пользуются Вольтер, Свифт, Сервантес. Приведу еще один, выходящий уже за всякие границы пример из этого последнего: «В конце концов он почел за нужное, воспользовавшись отсутствием Ансельмо, сжать кольцо осады, а затем, вооруженный похвалами ее красоте, напал на ее честолюбие, оттого что бойницы тщеславия, гнездящегося в сердцах красавиц, быстрее всего разрушит и сровняет с землей само же тщеславие, вложенное в льстивые уста. И точно: не поскупившись на боевые припасы, он столь проворно повел подкоп под скалу ее целомудрия, что если б даже Камилла была из мрамора, то и тогда бы неминуемо рухнула. Лотарио рыдал, молил, сулил, льстил, настаивал, притворялся – с такими движениями сердца и по виду столь искренне, что стыдливость Камиллы дрогнула, и он одержал победу, на которую менее всего надеялся и которой более всего желал» («Дон Кихот», I, 34)[42].
Пассажи вроде приведенных выше составляют большую – и при этом далеко не худшую – часть мировой литературы. Отвергать их только потому, что кого-то не устраивает сама формула письма, бесперспективно и расточительно. Да, воздействие ее ограниченно, но в заданных рамках она на читателя действует; объяснюсь.
Рискну предложить следующую гипотезу: неточность вполне терпима и даже правдоподобна в литературе, поскольку мы то и дело прибегаем к ней в жизни. Мы каждую секунду упрощаем в понятиях сложнейшие ситуации. В любом акте восприятия и внимания уже скрыт отбор: всякое сосредоточение, всякая настройка мысли подразумевает, что неинтересное заведомо откинули. Мы видим и слышим мир сквозь свои воспоминания, страхи, предчувствия. А что до тела, то мы сплошь и рядом только и можем на него полагаться, если действуем безотчетно. Тело справляется с этим головоломным параграфом, лестницами, узлами, эстакадами, городами, бурными реками и уличными псами, умеет перейти улицу так, чтобы не угодить под колеса, умеет давать начало новой жизни, умеет дышать, спать, а порой даже убивать, – и все это умеет тело, а не разум. Наша жизнь – цепочка упрощений, своего рода наука забывать. Замечательно, что Томас Мор начинает рассказ об острове Утопия растерянным признанием: «точной» длины одного из мостов он, увы, не помнит…
Чтобы добраться до сути классического метода, я еще раз перечитал пассаж Гиббона и заметил почти неощутимую и явно не рассчитанную на глаз метафору: царство молчания. Подобная попытка выразительности, строго говоря, не согласуется со всей остальной его прозой. И оправдана, конечно, именно своей невещественностью: она по природе условна. А это отсылает нас еще к одной особенности классического стиля, вере в то, что любой однажды созданный образ – достояние всех. Для классика разнообразие людей и эпох – обстоятельство второстепенное; главное – что едина литература. Поразительные защитники Гонгоры отражали нападки на его новации, документально доказывая благородное, книжное происхождение его метафор. Романтическое открытие личности им еще и в голову не приходило. Мы же теперь настолько усвоили его, что в любой попытке поступиться или пренебречь индивидуальностью видим еще одну уловку самовыражающегося индивида. А что до тезиса о принудительном единстве поэтического языка, укажу лишь на поразительный факт – воскрешение его Арнольдом, предложившим свести словарь переводчиков Гомера к «Authorized Version»[43] Писания, разрешив в особых случаях некоторые добавки в виде шекспировских вольностей. Сам довод – еще одно свидетельство мощи и влиятельности библейского Слова…
Реальность классической словесности – вопрос веры, как отцовство для одного из героев «Lehrjahre»[44]. Романтики пытаются ее исчерпать, но другого средства, кроме чар, у них нет, а отсюда всегдашняя метода – педалирование, тайное колдовство. Иллюстраций не привожу: любая прозаическая или стихотворная страница из профессионально признанных подойдет с равным успехом.
Допуская реальность, классик может пользоваться разными и по-разному распространенными приемами. Самый легкий – беглое перечисление нужных фактов. (Если закрыть глаза на некоторые громоздкие аллегории, цитированный выше текст Сервантеса – неплохой пример этой первой приходящей на ум и наиболее безотчетной манеры классического письма.) Второй имеет в виду реальность более сложную, чем предлагаемая читателю, но описывает лишь ее косвенные признаки и следствия. Не знаю тут лучшей иллюстрации, чем начало эпического фрагмента Теннисона «Morte d’Arthur»[45], который для технических целей изложу здесь невыразительной прозой. Даю дословный перевод: «И так весь день по горам вдоль зимнего моря перекатывался воинственный гром, пока вся дружина короля Артура, один за другим, не полегла в Лионе вокруг своего вождя, короля Артура; лишь тогда, поскольку рана его была глубока, бесстрашный сир Бедивер поднял его – последний из его рыцарей, сир Бедивер – и отнес в часовню у долины, рухнувший храм с рухнувшим крестом в этом темном углу бесплодной земли. По одну сторону был океан, по другую – вода без края, а над ними – полная луна».
По ходу рассказа здесь трижды допускается наличие другой, более сложной реальности. В первый раз, когда автор начинает с грамматического кунштюка, наречия «так»; потом – и гораздо удачней – когда мельком передает случившееся: «поскольку рана его была глубока», и, наконец, – через неожиданное добавление «полной луны». Таким же манером действует Моррис, после рассказа о мифическом похищении одного из гребцов Ясона воздушными речными богинями сжато передавая события словами: «Вода скрыла зардевшихся нимф и беззаботно спящего пловца. Но прежде чем уйти под воду, одна из них обежала луг и подняла из травы копье с бронзовым острием, обитый гвоздями круглый щит, меч с костяной рукоятью и тонкую кольчугу, лишь потом бросившись в поток. Так что вряд ли кто сумел бы после поведать о случившемся, кроме ветра или птицы, видевшей и слышавшей все из тростника». Привожу цитату ради именно этих свидетелей, вдруг объявляющихся в самом конце.
Третий способ – самый трудный, но и самый действенный – это изобретательность в деталях фона. Воспользуюсь для примера незабываемым пустяком из «Славы дона Рамиро» – парадным «бульоном из свиных шкварок, который подавали в супнице, запертой на замок от прожорливых пажей». Так и видишь эту скромную бедность, вереницу слуг, особняк с его лестницами, закоулками и редкими свечами. Я привел лишь один и краткий пример, но мог бы сослаться на целые произведения – скажем, расчетливо придуманные романы Уэллса[46] или раздражающее жизнеподобие Даниэля Дефо, – которые всего лишь нанизывают или растягивают лаконичные подробности. То же делает в своих кинороманах Джозеф фон Штернберг, переходя от одной значимой детали к другой. Это замечательный и трудный метод, но литературное воздействие его слабее, чем в двух первых случаях, особенно во втором. Там работает сам синтаксис, простое искусство слова. Как, например, в этих строках Мура:
- Je suis ton amant, et la blonde
- Gorge tremble sous mon baiser[47], —
которые замечательны переносом притяжательного местоимения на – совершенно неожиданный здесь – определенный артикль. Симметричный пример обратной процедуры – одна из строк Киплинга:
- Little they trust to sparrow-dust that stop the seal in his sea[48].
Понятно, что «his» управляется словом «seal». Если буквально: «котиков в их собственных морях».
1931
В защиту Лже-Василида
Примерно в 1905 году я узнал, что на всеведущих страницах первого тома испаноамериканского энциклопедического словаря под редакцией Монтанера и Симона (от «А» до «ALL») содержится лаконичное и пугающее изображение некоего царя, с головой петуха в профиль, торсом мужчины, раскинутыми руками, которые держат щит и кнут, и кольцевидным хвостом, заменявшим ему туловище. Примерно в 1916 году я прочел у Кеведо такое краткое перечисление: «Се был проклятый ересиарх Василид. Был и Николай Антиохийский, и Карпократ, и Керинф, и подлый Эбион. Затем явился Валентин, считавший началом всего сущего молчание и море». Наконец, в 1923-м, листая в Женеве какую-то немецкую книгу о ересях, я понял, что на том зловещем рисунке был изображен некий эклектичный бог, которого почитал сам Василид. Наряду с этим я узнал, сколь отчаянными и восхитительными людьми были гностики, и познакомился с их пылкими суждениями. Несколько позже я смог проконсультироваться с работами Мида (в немецком переводе: «Fragmente eines verschollenen Glaubens»[49], 1902), Вольфганга Шульца («Dokumente der Gnosis»[50], 1910) и со статьями Вильгельма Буссе в «Британике». Сегодня я принял решение изложить и разобрать одну из гностических космогоний – а именно космогонию ересиарха Василида. В целом я следую версии Иринея. Мне известно, что многие ставят достоверность его сведений под сомнение, но полагаю, что неупорядоченное изложение умерших сновидений может включать в себя и такое, о котором доподлинно неизвестно, был ли у него вообще сновидец. Ересь Василида, впрочем, не отличается сложностью для постижения. Говорят, что она возникла в Александрии, примерно через сто лет после распятия Христа; говорят, что она распространилась среди греков и сирийцев. В те времена увлечение теологией было всеобщим.
В основании космогонии Василида находится некий бог. Это божество в своей грандиозности лишено как имени, так и происхождения – отсюда его приблизительное обозначение pater innatus[51]. Его среда – плерома, или полнота: невообразимый музей платоновских архетипов, умопостигаемых сущностей и универсалий. Этот бог недвижен и бесстрастен, но из его покоя произошли семь подчиненных ему божеств, которые, снизойдя до действия, сотворили первое небо и на нем воцарились. От этого первого демиургического венца произошел второй – тоже с ангелами, властителями и престолами, который, в свою очередь, создал еще одно – нижестоящее – небо, полностью симметричное первому. Этот второй конклав воспроизвелся в третьем, третий – в следующем, более низком, и так происходило до триста шестьдесят пятого. Властитель наиболее низкого неба – Бог из Писания, и доля его божественности стремится к нулю. Он и его ангелы создали то небо, которое мы видим, из небытия замесили землю, которую мы попираем, и затем разделили ее между собой. Вполне резонно, что забвение стерло истории, связанные в этой космогонии с происхождением рода человеческого, однако примеры из других представлений, относящихся к той же эпохе, позволяют нам восполнить этот пробел – хотя бы в общих чертах и гипотетически. Во фрагменте, опубликованном Хильгенфельдом, утверждается, что тьма и свет сосуществовали вечно, не ведая друг о друге, а когда они наконец встретились, свет отвернулся, едва удостоив ее взглядом, а влюбленная тьма завладела его отражением (или воспоминанием): так возник человек. В похожей системе Сатурнина небо являет трудолюбивым ангелам короткое видение, по образу и подобию которого сотворяется человек, – однако он пресмыкается по земле, подобно змею, пока Господь не смилостивится и не наделит его искрой своей силы. Для нас важно то общее, что содержится в этих повествованиях: человек есть плод взаимодействия убогого божества с неблагодатным материалом, результат дерзкого или преступного спонтанного деяния. Возвращаюсь к истории Василида. Низменное человечество, порожденное тяжеловесными ангелами иудейского Бога, удостоилось милости Бога всевечного – и Он послал им спасителя. Спаситель этот должен был принять иллюзорный облик, поскольку всякая плоть принижает. Его нечувствительный призрак был публично распят на кресте, в то время как истинный Христос вознесся через вышеположенные небеса и возвратился к плероме. Пересечение небесных слоев не принесло ему вреда, ибо он ведал тайные имена их божеств. «И тот, кому известна правда об этой истории, – так заключается вероучение, переданное Иринеем, – освободится от власти сильных, создавших сей мир. У всякого неба есть свое имя, а равно и у всякого ангела, божества и властителя, на небе своем обретающегося. Всяк, кто знает их имена несравненные, вознесется, незримый и невредимый, подобно спасителю. И точно Сын Господень, не узнанный никем, и гностик не будет узнан. И тайны сии надлежит не разглашать, но хранить в молчании. Знай всех, дабы тебя не узнали».
Числовая космогония первоначала в конце вырождается в числовую магию: 365 небесных страт по семь властителей на каждой требуют невозможного запоминания 2555 вербальных оберегов: долгие годы свели весь этот язык к восхитительному имени спасителя – Каулакау, и незыблемого бога – Абраксаса. Спасение, согласно этой дерзновенной ереси, – не более чем плод мнемонических усилий мертвых, а страсти спасителя – оптический обман; вместе они составляют два симулякра, таинственным образом согласованных с непрочной реальностью этого мира.
Глумиться над тщетным умножением поименованных ангелов и отражений симметричных небес этой космогонии весьма несложно. С ней легко можно покончить, применив строгий принцип Оккама: «Entia non sunt multiplicanda praeter necessitate»[52]. Со своей стороны замечу, что такая категоричность представляется мне анахроничной и лишенной смысла. По-настоящему важно лишь то, что эти мрачные и зыбкие символы можно весьма успешно использовать. Я вижу две возможности: первая – общее место в критике, а вторая – не буду чваниться ею как моим открытием – до сей поры не была освещена должным образом. Начну с более очевидной. Она состоит в том, чтобы мирно разрешить проблему зла посредством введения условной ступенчатой системы божеств между не менее условным богом и реальностью. В изложенной выше системе эти производные бога деградируют и ослабевают по мере удаления от него, пока наконец не опускаются на самое дно в самом отвратительном виде, – чтобы из сомнительного материала состряпать человека. Согласно Валентину, который на самом деле не считал первоначалом всего сущего море и молчание, падшая богиня по имени Ахамот рождает от мрака двух детей: Творца мироздания и дьявола. Симону Волхву вменяют в вину предельно обостренную версию той же истории: Симон якобы вызволил Елену Троянскую – первую дочь Бога, которую ангелы обрекли на болезненные перерождения, – из портового притона города Тир[53]. Тридцать три человеческих года Иисуса Христа и Его сумерки на кресте для суровых гностиков не казались достаточным искуплением.
Остается рассмотреть другое возможное значение этих темных измышлений. Головокружительная башня небес, представленная в ереси Василида, плодовитость ангелов, планетарная тень демиургов, разрушающая землю, интриги нижеположенных небес против плеромы, невообразимая или мыслимая лишь на словах плотность населения его пространной мифологии – все это способствует умалению нашего мира. Не наше зло в ней проповедуется, но наша фундаментальная ничтожность. Как на равнине в дивный час заката: огромное великолепное небо – и сирая, убогая земля. В этом и заключается оправдательный замысел мелодраматической космогонии Валентина, которая эксплуатирует нескончаемый сюжет о двух многосильных братьях, узнающих друг друга, о падшей женщине, о злых ангелах, вотще плетущих интриги, и со свадьбой в финале. Сотворение мира в этой мелодраме – или бульварном романе – отходит на второй план. Чем не идея: представить мир как нечто по природе своей ничтожное, как косвенное и искаженное отражение древних небесных событий. Сотворение становится случайным актом.
Замысел был дерзновенным; ортодоксальное религиозное чувство и каноническое богословие яростно его отвергли. Сотворение мира для них – свободный и необходимый Божественный акт. Вселенная, как дает понять святой Августин, началась не во времени, но одновременно с ним – суждение, отрицающее какое бы то ни было первенство Творца. Штраусс считает гипотезу о первоначальном мгновении иллюзорной, поскольку таковое мгновение запятнало бы темпоральностью не только последующие мгновения, но и «предшествующую» вечность.
В течение первых столетий нашей эры гностики полемизировали с христианами. Гностиков истребили, однако мы можем представить себе их возможную победу. Если бы взяла верх Александрия, а не Рим, безумные грязные истории, кратко изложенные мною выше, казались бы связными, возвышенными и вполне обыденными. Такие сентенции, как «жизнь есть болезнь духа»[54] Новалиса или «настоящей жизни нет и в помине, нас в мире нет» Рембо, гордо пылали бы в священных книгах. Суждения, подобные отвергнутой гипотезе Риттера о звездном происхождении жизни и ее случайном попадании на Землю, были бы безоговорочно приняты благочестивыми лабораториями. И правда, можно ли ожидать лучшего дара, нежели пребывать в ничтожестве, и нет ли вящей славы для Господа, нежели быть свободным от этого мира?
1932
Толкования Гомера
Ни одна проблема так тесно не связана с текстом и сокрытыми в нем загадками, как проблема перевода. Забывчивость, одухотворенная тщеславием, страх признаться в мыслях, которые мы сами почитаем тривиальными, попытка сохранить нетронутой завесу главной тайны – все это затемняет наши собственные писания. Перевод же, напротив, как будто создан для иллюстрации эстетических споров. Модель, предназначенная для имитации, – это зримый текст, а не сомнительный лабиринт предшествовавших замыслов или внезапное искушение простотой. Бертран Рассел определяет внешний объект как круговую систему, из которой исходят лучи возможных впечатлений; то же самое можно сказать и о тексте, имея в виду неисчислимые отзвуки и отражения словесного объекта. Нет более ценного и подробного документа о трансформациях текста, чем его перевод. Что представляют собой переводы «Илиады» (от Чапмена до Маньена), если не различные точки зрения на одно неустойчивое явление, не длинный ряд проб и ошибок, упущений и подчеркиваний? (Нет существенной необходимости менять языки, такая преднамеренная игра точек зрения возможна и в рамках одной литературы.) Предположить, что всякая перестановка элементов обязательно уступает исходной, – значит допустить, что черновик № 9 обязательно уступает черновику «H», хотя перед нами всего-навсего черновики. Концепция окончательного текста может быть порождена лишь религией либо усталостью.
Предрассудок о неполноценности переводов – растиражированный известной итальянской пословицей – возникает в силу ущербности нашего опыта. Не существует хорошего текста, который не показался бы нам неизменным и окончательным, если мы посвятим ему достаточно времени. Юм отождествлял привычную идею причинности с последовательностью. Согласно этому принципу, хороший фильм после второго просмотра кажется еще лучше; мы склонны воспринимать как необходимость то, что на самом деле не более чем повторение. В случае с известными книгами первый раз – на деле второй, поскольку мы беремся их читать, уже имея о них представление. Пошлая фраза «перечитывать классиков» неожиданно оказывается справедливой. Не знаю, насколько хорошо свидетельство: «В некоем селе Ламанчи, имени которого мне не хочется упоминать, не очень давно жил один идальго из числа тех, что имеют родовое копье, древний щит, тощую клячу и борзую собаку»[55] для некоего бесстрастного божества, но я точно знаю, что всякое искажение этой фразы кощунственно, и я не могу себе представить иного зачина «Дон Кихота». Верю, что Сервантес не считался с этим мелочным предрассудком и вполне мог не опознать собственного фрагмента. Мне же, напротив, любое искажение кажется отвратительным. Поскольку мой родной язык испанский, «Дон Кихот» для меня – это единый, цельный монумент без каких-либо вариаций, кроме тех, что зависят от издателя, переплетчика и наборщика. «Одиссея» же для меня – в силу того, что я весьма кстати не знаю древнегреческого – это многонациональная библиотека в стихах и прозе: от парных рифм Чапмена до «Authorized Version» Эндрю Лэнга; это и классическая французская драма Берара, и мужественная сага Морриса, и иронический мещанский роман Сэмюэла Батлера. Я намеренно перечисляю в основном англичан: британская литература всегда была тесно связана с этим морским эпосом, и свода английских версий «Одиссеи» хватило бы, чтобы показать движение литературы. Это разнородное и даже противоречивое богатство объясняется главным образом не эволюцией английского языка, не длиной оригинала, не ошибками или мерой таланта переводчиков, а уникальным обстоятельством, свойственным лишь одному Гомеру: принципиальной невозможностью определить, что принадлежит поэту, а что языку. Именно этому счастливому затруднению мы обязаны великим количеством переводов: искренних, подлинных и разнообразных.
Я не знаю лучшего тому примера, чем гомеровские прилагательные. «Божественный Патрокл», «незыблемая земля», «винноцветное море», «однокопытные кони», «многошумные волны», «черные суда», «черная кровь», «любимые колени» – все это выражения, которые так трогательно приходят в голову без всякого повода. В одном эпизоде говорится о «гражданах богатых, пиющих Эзеповы черные воды»[56], в другом – об Эдипе, который был осужден «гибельно царствовать в Кадмовом доме, в возлюбленных Фивах»[57]. Александр Поуп, к чьему помпезному переводу мы обратимся позже, полагал, что такие вот постоянные эпитеты носят литургический характер. Реми де Гурмон в своем длинном эссе о стиле пишет, что когда-то эти эпитеты, должно быть, потрясали воображение, хоть сейчас и утратили свою силу. Я склонен полагать, что эти постоянные эпитеты были тем, чем до сих пор являются предлоги: обязательными и скромными звуками, которые традиция добавила к определенным словам и которые невозможно видоизменять на свой лад. Мы знаем, что правильно говорить «ходить по дороге», а не «на дороге». Рапсод знал, что Патрокла правильно определять прилагательным «божественный». Никакой эстетической цели здесь определенно нет. Я с нерешительностью высказываю эти предположения; единственное, в чем я уверен, – это невозможность отделить то, что принадлежит писателю, от того, что принадлежит языку. Читая Агустина Морето (если мы по какой-то причине решили читать Агустина Морето):
- Чем же заняты они
- каждый божий день? —
мы знаем, что божественность этого дня возникла по воле испанского языка, а не писателя. В случае с Гомером мы, напротив, никак не можем вычленить его особую интонацию.
Если бы речь шла о лирическом или элегическом поэте, то наша неуверенность в его намерениях была бы фатальна, но мы имеем дело с кропотливым отобразителем обширных сюжетов. Факты из «Илиады» и «Одиссеи» сохранились и до наших дней, но исчезли Ахиллес и Улисс, утрачено то, что представлял Гомер, когда употреблял их имена, и что он на самом деле о них думал. Нынешнее состояние его поэм подобно сложному уравнению, фиксирующему точные соотношения между неизвестными величинами. Более щедрого подарка для переводчиков и быть не может. Самая известная книга Браунинга состоит из десяти подробных рассказов об одном преступлении от лица десяти причастных к нему героев. Контраст проистекает из характеров, а не из фактов, и он почти столь же силен и глубок, как и между десятью точными переводами одной поэмы Гомера.
Блестящая дискуссия между Ньюменом и Арнольдом (1861–1862), более значительная сама по себе, чем ее участники, четко выявила два основных способа перевода. Ньюмен обосновал буквализм, сохранение всех словесных особенностей; Арнольд – решительное устранение деталей, тормозящих или затрудняющих чтение, подчинение Гомера, в каждой строке отклоняющегося от нормы, Гомеру сущностному или общепринятому, сотворенному из идеологической и синтаксической простоты, Гомеру динамическому и возвышенному. Первый способ доставляет удовольствие тем, что не перестает удивлять даже в мелочах, второй способ – своей единообразностью и основательностью.
Перехожу к рассмотрению нескольких судеб одного и того же гомеровского текста. Меня интересуют факты, сообщенные Одиссеем призраку Ахилесса на берегах киммерийцев, в царстве тьмы (песнь XI). Рассказывается о Неоптолеме, сыне Ахиллеса. Буквалист Бакли передает эту историю так:
- Город Приамов разграбили мы, и отправился после,
- Долю свою получив и дарами упившись своими,
- В край он родимый на судне своем, не пронзенный стрелою,
- В жарком бою невредимый, что редко бывает в сраженьи,
- Коли на поле кровавом лишь Марс обезумевший властен[58].
Вот буквалистская, но несколько архаизированная версия Бутчера и Лэнга:
- Град неприступный Приама разграбив, с добычею дивной
- На корабле он отправился в море. Копье миновало
- Воина славного, не был он ранен в бою рукопашном:
- Много опасностей войны готовят, поскольку Ареса
- Гнев безрассудный предела не знает вовеки.
Перевод Уильяма Коупера 1791 года:
- И наконец, разграбив дивный край
- Приамов, он отплыл, богат дарами,
- Не раненный ни дротом, ни копьем,
- Хоть на войне безумствующий Марс
- Нередко славных воинов пронзает.
Перевод 1725 года принадлежит Поупу:
- Божественный венец во славу боя
- Возложен на щиты – дымится Троя,
- Но скорбь сменил воитель на отраду,
- Зане дары несет ему Эллада.
- Велик во славе, он, непобежденный,
- Ни дротом, ни стрелой не пораженный,
- Плывет домой, покуда миновала
- Его игра коварного металла.
Версия Чапмена, 1614-й:
- И, опустев, пал город разоренный,
- А воин поднялся на дивный челн,
- Что разными сокровищами полн,
- Не тронут ни стрелами, ни мечом,
- Хоть воин славный и просил о том,
- Поскольку раны – милости войны,
- Но не были они ему даны:
- В бою отважном ран слепая лихость —
- Лишь Марса обезумевшего прихоть.
Наконец, версия Батлера 1900 года: «Едва мы разграбили Приамов город, он погрузил на корабль свою весомую долю добычи и (такова военная удача) отправился домой без единой раны, ибо ярость Марса – лишь дело случая».
Две первые – буквалистские – версии трогают по разным причинам: здесь есть и уважительное упоминание грабежа, и наивное объяснение, что на войне часто ранят, и внезапное соединение бесконечных проявлений хаоса войны в едином боге, и самый факт безумия бога. Радуют также и менее значительные детали: в одном из приводимых текстов имеет место милый плеоназм: «Долю свою получив и дарами упившись своими», в другом – использование условного союза[59] как каузального: «Коли на поле кровавом лишь Марс обезумевший властен». Третий перевод – Каупера – самый невыразительный из всех: он буквален ровно настолько, насколько позволяет мильтоновский размер. Версия Поупа – это особенное явление. Его пышный идиолект (сравнимый разве что с гонгоровским) определяется необоснованной и механической гиперболизацией. Например, одинокий черный корабль героя увеличивается до размеров эскадры. Подчиняясь этому принципу умножения, все строки его текста распадаются на два больших класса. Одни исключительно риторические: «Божественный венец во славу боя возложен на щиты», а другие сугубо визуальные: «Дымится Троя». Риторика и зрелища – в этом весь Поуп. Не менее зрелищен и пламенный Чапмен, однако его перевод носит скорее лирический, а не риторический характер. Батлер, напротив, демонстрирует решимость избегать каких бы то ни было визуальных средств и превращает гомеровский текст в ровную сводку новостей.
Возможно, мой читатель захочет узнать: какой из множества этих переводов является верным? Повторюсь: ни один и в то же время все. Если требуется сохранять верность воображению Гомера и тем невозвратимым временам и людям, которых он себе представлял, то ни один перевод не устроит нас, зато все подойдут для грека, жившего в десятом веке до нашей эры. Если же критерием выступает соответствие Гомеровым целям, то подходит всякий из процитированных мною переводов, кроме буквалистских, все достоинство которых строится на контрасте с современной традицией. Не исключено, что спокойная версия Батлера и есть самая верная.
1932
Повествовательное искусство и магия
Анализ приемов, характерных для романа, не получил широкого распространения. Естественная причина этой длительной сдержанности – приоритет других жанров; главная же причина – почти непреодолимая сложность романных приемов, ведь их тяжело отделить от сюжета. Исследователь детективного рассказа или элегии имеет в своем распоряжении особый словарь и возможность с легкостью привести подходящие цитаты; исследователю пространного романа не хватает общепринятых терминов, и он не может проиллюстрировать свои утверждения однозначно убедительными примерами. Поэтому я призываю проявить толику снисхождения к моим догадкам.
Я начну с рассмотрения романного аспекта книги «The Life and Death of Jason»[60] (1867) Уильяма Морриса. Задача моя – литературная, а не историческая, а стало быть, я пренебрегаю всяким научным – или наукообразным – изучением связи этой книги с эллинской культурой. Мне достаточно указать, что древние (например, Аполлоний Родосский) уже изложили в стихах все этапы подвига аргонавтов, и упомянуть более позднее описание, книгу 1474 года «Les faits et prouesses du noble et vaillant chevalier Jason»[61], в Барселоне, разумеется, недоступную, однако английские комментаторы могут с ней свериться.
Перед Моррисом стояла нелегкая задача: правдоподобное повествование о легендарных подвигах Ясона, царя Иолка. Удивление от каждой строки, привычное средство лирики, оказалось недоступным для истории в десять тысяч стихов. Прежде всего, такая история нуждалась в ярком ощущении достоверности, способной поставить нас на грань сомнения, в чем и состоит – по Кольриджу – поэтическая вера. Моррису удается пробуждать эту веру; я хочу исследовать, как ему это удается.
Вот пример из Книги первой. Эсон, старый царь Иолка, отдает своего сына в лес, на воспитание кентавру Хирону. Проблема заключается в малом правдоподобии кентавра. Моррис решает ее неявным способом. Он начинает с упоминания этого создания рядом с названиями зверей, которых тоже встретишь нечасто:
- Where bears and wolves the centaurs’ arrows find[62], —
невозмутимо поясняет автор. Это первое мимолетное упоминание через тридцать строк подкрепляется другим, предваряющим описание. Старый царь приказывает рабу отвезти ребенка в рощу у подножия гор и протрубить в мраморный рог, тогда появится кентавр, который будет (предупреждает царь) «лицом свиреп, сложеньем тела мощен», и раб должен опуститься перед ним на колени. Следует череда приказов, а среди них появляется и третье упоминание, обманчиво-негативное. Царь советует рабу совершенно не бояться кентавра. Затем, словно печалясь о грядущей потере сына, Эсон пытается вообразить его жизнь в лесу, среди «quick-eyed centaurs»[63] – эта черта наполняет образ жизнью, а подтверждается она их славой искусных лучников[64]. Раб скачет вместе с царским сыном и на рассвете останавливает коня перед рощей. Он пешим пробирается меж дубов, неся мальчика за спиной. А потом трубит в рог и ждет. Слышно утреннее пение дрозда, но раб уже различает стук копыт, чувствует в своем сердце легкий страх и отвлекается от мальчика, который в это время пытается добраться до сверкающего рога. Появляется Хирон: нам сообщают, что прежде он был пегий, но теперь почти окончательно поседел, окрас его мало чем отличается от его людской шевелюры, а на теле у него – там, где звериное переходит в человеческое, – венок из дубовых листьев. Раб падает на колени. Отметим попутно, что Моррису необязательно передавать читателю свое представление о кентавре, не нужно даже пробуждать наше воображение – ему достаточно, что мы продолжаем верить его словам, как и в реальной жизни.
С таким же способом убеждения, только более степенным, мы встречаемся и в Книге четырнадцатой, в эпизоде с сиренами. К этому эпизоду читателя подводят самые нежные образы. Приветливое море, ветерок с апельсиновым ароматом, коварная музыка, которую раньше других улавливает колдунья Медея, первый отпечаток радости на лицах моряков, которые едва ли сознают, что слышат музыку, и такая правдоподобная деталь: моряки не сразу различают слова, но выражено это не прямо.
- And by their faces could the queen behold
- How sweet it was, although no tale it told,
- To those worn toilers o’er the bitter sea[65], —
вот какие звуки предшествуют появлению легендарных созданий. А сирены, хотя в конце концов гребцы их и видят, все время находятся на некотором расстоянии, что имплицитно заложено в строении следующей фразы:
- for they were near enow
- To see the gusty wind of evening blow
- Long locks of hair across those bodies white
- With golden spray hiding some dear delight[66].
Последняя деталь – «златая роса» – то ли их буйных локонов, то ли моря, то ли того и другого, то ли чего-то еще, – «скрывающая какие-то услады», выполняет также и вторую роль: показать силу очарования. Такое удвоение задачи повторяется и в следующем обстоятельстве: дымка слез вожделения застит мужчинам глаза. (Оба приема той же природы, что и венец из ветвей на воображаемом кентавре.) Ясон, в котором разочарование в сиренах[67] пробудило ярость, нарекает их «морскими ведьмами» и приказывает спеть сладкоголосому Орфею. Напряжение нарастает, а Моррис с восхитительной дотошностью предупреждает, что песни, вложенные им в нецелованные уста сирен и в уста Орфея, заключают в себе не более чем искаженное воспоминание о том, что было спето тогда. Столь же усердная скрупулезность в передаче цветов – желтая кромка пляжа, золоченая пена, серая роза – наполняет нас восхищением: ведь эти хрупкие цвета как будто спасены из сумерек древности. Поют сирены, их голоса предлагают счастье, зыбкое, как вода, – «Such bodies garlanded with gold, so faint, so fair»[68]; поет Орфей, противопоставляя такому счастью прочные радости земли. Сирены обещают беззаботное подводное небо, «roofed over by the changeful sea» («покрытое непостоянным морем»), как мог бы повторить две с половиной тысячи лет спустя – или всего пятьдесят? – Поль Валери. Сирены поют, и можно заметить, как что-то от их притворной сладости проникает и в спасительную песнь Орфея. В конце концов аргонавты проходят мимо, но, когда опасность уже позади, а за кораблем тянется долгая пенная борозда, один высокий афинянин бегом преодолевает ряды гребцов и бросается с кормы в море.
Я перехожу к другому произведению, к «The Narrative of A. Gordon Pym»[69] (1838) Эдгара По. Скрытый сюжет этого романа – боязнь и демонизация всего белого. По изобретает племена, обитающие рядом с Южным полярным кругом, поблизости от бескрайней родины этого цвета; много поколений назад эти племена претерпели ужасное нашествие белых людей и белых бурь. Для них этот цвет – проклятие, и, могу вас заверить, то же происходит и с читателем, достойным этой книги, поблизости от последней строки последней главы. У «Гордона Пима» два сюжета: непосредственное повествование о превратностях морского путешествия и второй – неотвратимый, скрытый и нарастающий, являющий себя только в финале. Говорят, что Малларме сказал: «Назвать предмет – значит на три четверти уничтожить наслаждение от стихов, которое состоит в постепенном разгадывании. Подсказать его – вот мечта поэта». Мне не верится, что этот поэт-аккуратист допустил бы такую числовую вольность, как «три четверти», однако общая идея вполне в его духе, Малларме буквально воплотил ее в описании заката:
- Victorieusement fuit le suicide beau
- Tison de gloire, sang par écume, or, tempête![70]
Без сомнения, эти строки были подсказаны «Повестью о приключениях Артура Гордона Пима». Сама идея обезличенного белого – разве это не похоже на Малларме? (Думаю, По выбрал этот цвет по причинам – или по озарению, – позже изложенным Мелвиллом в главе «The Whiteness of the Whale»[71] другой блистательной галлюцинации – «Моби Дика».) Недостаток места не позволяет рассмотреть или проанализировать «Гордона Пима» целиком, я ограничусь переводом одного показательного приема, который – как и все другие – подчинен тайному сюжету романа. Речь идет об упомянутом выше странном племени и о ручьях на их острове. Определить цвет воды как красноватый или голубой значило бы слишком открыто опровергнуть идею белизны. По решает эту задачу, обогащая своих читателей: «Вода была какого-то странного вида, и мы не стали пить, предположив, что она загрязнена, и лишь впоследствии мы узнали, что она именно такова на всех островах архипелага. Я затрудняюсь дать точное представление об этой жидкости и уж никак не могу сделать это, не прибегая к пространному описанию. Хотя на наклонных местах она бежала с такой же скоростью, как и простая вода, но не растекалась свободно, как обычно бывает с последней, за исключением тех случаев, когда падала с высоты. 〈…〉 С первого взгляда, и особенно на ровном месте, она по плотности напоминала гуммиарабик, влитый в обычную воду. Но этим далеко не ограничивались ее необыкновенные качества. Она отнюдь не была бесцветна, но не имела и какого-то определенного цвета; она переливалась в движении всеми возможными оттенками пурпура, как переливаются тона у шелка. 〈…〉 Набрав в посудину воды и дав ей хорошенько отстояться, мы заметили, что она вся расслаивается на множество отчетливо различимых струящихся прожилок, причем у каждой был свой определенный оттенок, что они не смешивались и что сила сцепления частиц в той или иной прожилке несравненно больше, чем между отдельными прожилками. Мы провели ножом поперек струй, и они немедленно сомкнулись, как это бывает с обыкновенной водой, а когда вытащили лезвие, никаких следов не осталось. Если же аккуратно провести ножом между двумя прожилками, то они отделялись друг от друга, и лишь спустя некоторое время сила сцепления сливала их вместе»[72].
Из вышесказанного прямо следует, что центральная проблема романистики – это проблема причинных связей. Одна из разновидностей жанра, медлительный роман характеров, изобретает или применяет такое сцепление мотивов, которое (по замыслу) не должно отличаться от реальной жизни. Однако же это лишь частный случай. В романе, состоящем из череды приключений, такая причинность не работает; не работает она и в рассказе на несколько страниц, и в бесконечном визуальном романе, который Голливуд выстраивает из серебреных idola[73] Джоан Кроуфорд, – его раз за разом перечитывают города. Такими повествованиями управляет совсем иной, ясный и атавистический закон – примитивная простота магии.
Этот метод (или надежду) людей древности Джордж Фрэзер объединил общим и действенным законом симпатии, утверждающим нерушимую связь между отдаленными предметами – будь то по сходству форм (подражательная, или гомеопатическая, магия), будь то в силу прошлого соседства этих предметов (контагиозная, то есть заражающая магия). Иллюстрацией второго принципа может служить целительная мазь Кенелма Дигби, которую наносили не на перевязанную рану, а на металл, повинный в ее причинении, и тогда рана затягивалась сама собой, без варварских методов врачевания. Примеров гомеопатической магии не счесть. Индейцы в Небраске надевали скрипучие бизоньи шкуры, гривы и рога, а потом день и ночь отплясывали в пустыне грохочущий танец, вызывая бизонов. Колдуны в Центральной Австралии наносят себе рану в предплечье, пускают кровь, чтобы небо в свою очередь начало источать дождь. Жители Малайского полуострова истязают и калечат восковую фигурку врага, чтобы погубить ее оригинал. Бесплодные женщины на Суматре баюкают и наряжают деревянного младенца, чтобы сделать плодородным свое чрево. По той же логике подобия желтый корень имбиря служил для лечения желтухи, а отвар из крапивы был призван остановить крапивную лихорадку. Нет никакой возможности составить полный свод этих ужасных и смехотворных методов; однако мне кажется, что я привел достаточно примеров, чтобы доказать: магия – это венец и кошмар причинности, а не ее антипод. В магической вселенной чудо не менее чужеродно, чем во Вселенной астрономов. Здесь действуют все законы природы, а наряду с ними – и вымышленные законы. Для человека суеверного непреложная связь существует не только между выстрелом и покойником, но и между покойником и изувеченной восковой фигуркой, или пророчески разбившимся зеркалом, или просыпанной солью, или чертовой дюжиной гостей за одним столом.
Точно такая жутковатая гармония, такая необоримо-точная причинность правит и в романе. Историки-сарацины, у которых доктор Хосе Антонио Конде позаимствовал материалы для своей «Истории владычества арабов в Испании», никогда не пишут, что их цари и халифы скончались, – они пишут так: «Он был уведен к воздаяниям и наградам», или «Он заслужил милосердие Всемогущего», или «Он дождался своей судьбы через столько-то лет, столько-то лун и столько-то дней». Опасение приблизить ужасное событие через его упоминание выглядит дерзостным и тщетным в азиатском хаосе реального мира, но все иначе в мире романа, которому надлежит быть выверенной игрой отсылок, отголосков и подобий. В грамотном повествовании каждый эпизод является следствием предыдущего. Так, например, в одной из фантасмагорий Честертона один незнакомец набрасывается на другого незнакомца, чтобы того не сбил грузовик, и это необходимое, но пугающее насилие предвосхищает финал: человека объявляют душевнобольным, спасая тем самым от казни за преступление. В другой его фантасмагории опасный масштабный заговор, сплетенный одним человеком (с помощью бород, масок и псевдонимов), заранее предсказан таинственной точностью двустишия:
- As all stars shrivel in the single sun,
- The words are many, but The Word is one[74],
каковое будет расшифровано позже, посредством игры с заглавными буквами:
- The words are many, but the word is One[75].
В третьей фантасмагории изначальная maquette[76] – скупое упоминание об индейце, который убил своего врага, метнув нож, – есть точный перевертыш основного сюжета: один человек в высокой башне закалывает другого стрелой. Летящий нож, колющая стрела. Слова обладают долгим эхом. Мне уже доводилось указывать, что само по себе вводное упоминание сценических подмостков заражает неприятной ирреальностью описания рассвета, пампы и заката, вкрапленные в текст «Фауста» Эстанислао дель Кампо. Такая же вездесущая телеология слов и эпизодов правит и в хороших фильмах. В начале «Решающего поединка» («The Showdown») лихие парни разыгрывают в карты право переспать с проституткой; в финале один из них ставит на кон любимую женщину. Темой начального диалога фильма «Подполье» выступает донос, его первая сцена – уличная перестрелка; эти обстоятельства оказываются провозвестниками ключевого события. В «Обесчещенной» («Dishonored») есть повторяющиеся темы: шпага, поцелуй, кот, предательство, виноград, пианино. Но самый верный образчик автономной вселенной, состоящей из подтверждений, знамений и памятников, – это «Улисс» Джойса. Достаточно прочесть обзорную книгу Гилберта или, в ее отсутствие, сам головокружительный роман.
Постараюсь резюмировать сказанное. Я подразделяю причинные связи на два вида: первый – естественный, это вековечный результат бессчетных неуправляемых действий; второй – магический, прозрачный и ограниченный, и здесь пророческое значение обретают детали. Думаю, что единственный честный вид причинности для романа – это второй. А первый пусть остается для психологических имитаций.
1932
Оправдание каббалы
Оно не первый раз предпринимается и не последний раз кончается ничем, однако в моем случае два обстоятельства заслуживают внимания. Первым является мое почти полное незнание еврейского, второе заключается в том, что оправдывать я намерен не доктрину, а герменевтические и криптографические приемы, которые она использует. К этим приемам, как известно, относится чтение священных текстов по вертикали, чтение, называемое bouestrophedon (одна строка читается справа налево, а следующая – слева направо), осуществляемая по определенному принципу: замена одних букв алфавита другими, подсчет количества букв и т. д. Легче всего отнестись к этим манипуляциям с иронией; я попытаюсь в них разобраться.
Очевидна обусловленность этих штудий представлением, что в создании Библии решающей была роль наития. Взгляд, согласно которому евангелисты и пророки суть писари, бездумно воспроизводящие то, что диктует Бог, с особой резкостью заявлен в «Formula consensus helvetica»[77], которая претендует на неоспоримую авторитетность в отношении согласных букв Священного Писания и даже диакритических знаков, отсутствовавших в древнейших версиях. (Подобное неукоснительное осуществление человеком сочинительских устремлений Божества проявляется в виде воодушевления и восторга, что еще точнее было бы назвать исступленностью.) Мусульмане идут еще дальше, утверждая, что Коран в своем доподлинном виде – мать Книги, – это одно из проявлений Бога, подобно Его Милосердию, Его Ярости, а следовательно, он предшествовал и языку, и Творению. Встречаются и лютеранские теологи, которые не решаются признать сотворенность Писания и видят в нем воплощение Духа.
Итак, Духа. Здесь близки мы к разгадке тайны. Не абсолютным божеством, а лишь третьей ипостасью божества внушена была Библия. Представление это общепринято. Бэкон писал в 1625 году: «Повествуя о радости Соломона, перо Духа Святого не так замедляло свой бег, как при описании скорби Иова»[78]. Ему вторит его современник Джон Донн: «Дух Святой наделен даром красноречия, даром могучим и щедрым, но сколь далек он от пустословия, от словесной нищеты и избыточности».
Дать определение Духу невозможно, как невозможно отмахнуться от пугающей природы триединства, частью которого он является. Мирянам-католикам она видится неким триединым телом, в равной мере вызывающим восхищение и скуку; прогрессистам – никчемным цербером теологизма, предрассудком, который помогут изжить успехи цивилизации. Истинная сущность Троицы неизмеримо сложнее. Если зримо представить себе сведенных воедино Отца, Сына и нечто бесплотное, то перед нами предстанет монстр, порожденный больным сознанием, жуткий гибрид, сродни чудовищам ночных кошмаров. Пожалуй, это так, но зададимся вопросом, не производит ли жуткого впечатления все то, что недоступно нашему пониманию. Эта общая закономерность выступает еще рельефнее благодаря непостижимости самого явления.
Вне учения об искуплении догмат о единстве в трех лицах представляется малосущественным. Если видеть в нем всего лишь непреложность, вытекающую из веры, то, обретая большую определенность и действенность, он не становится менее загадочным. Мы понимаем, что, отвергая идею о Боге в трех лицах – в сущности, даже и в двух, – мы неизбежно отводим Христу роль случайного посланца Господа, непредвиденно вошедшего в историю, а не вечного, недремлющего судьи нашего благочестия. Не будь Сын одновременно Отцом, и в искуплении не было бы Божьего промысла; если он не вечен, то не вечно и самоуничижение до участи человека, умирающего на кресте. «Ни на что, кроме безбрежного совершенства, грешная душа на безбрежные годы не согласится», – утверждал Иеремия Тейлор. Так догмы обрастают доказательствами, несмотря на то что постулаты о порождении Отцом Сына и об исхождении Духа от них обоих наводят на еретическую мысль о предшествовании, не говоря уже об их весьма предосудительной метафорической сущности. Теология, настаивающая на их различиях, утверждает, что для путаницы нет оснований, ибо в первом случае речь идет о Сыне, а во втором – о Духе. Блистательное решение предложил Ириней – вечное порождение Сына и вечное исхождение Духа; то есть некое вневременное деяние, обделенный zeitloses Zeitwort[79], с которым – подобострастно или скептически – мы обязаны считаться. Ад обрекает на муки одно наше тело, в то время как неразрешимая загадка трех лиц наполняет ужасом душу, являя собой теснящую кажущуюся бесконечность, подобную взаимоотражающим зеркалам. Данте представил их в образе прозрачных, разного цвета кругов, отражающих друг друга; Донн – сплетением дивных змей. «Toto coruscat trinitas mysterio», – писал святой Павлин («Объята таинством, сияет Троица»).
Если Сын – это примирение Бога с миром, то Дух – это освящающее начало, ангельская сущность, согласно Афанасию, а по мнению Македония, главное в нем – быть связующим началом между нами и Богом, растворенным в сердцах и душах. (По мнению социнианцев – боюсь, весьма близких к истине, – перед нами лишь персонифицирующая формула речи, метафора божественного промысла, впоследствии многократно повторенная и перетолкованная.) Чем бы ни было это смутное третье лицо единосущей Троицы – скромной синтаксической конструкцией или чем-то большим, – но ему приписывается авторство Священного Писания. В той главе своего труда, где речь идет об исламе, Гиббон приводит список сочинений о Духе Святом, по самым скромным подсчетам насчитывающий более сотни наименований; меня в данном случае интересуют истоки: содержание каббалы.
Каббалисты, подобно немалому числу нынешних христиан, были убеждены в божественной сути этой истории, убеждены в том, что она была задумана и осуществлена высшим разумом. А этим обстоятельством, в свою очередь, было обусловлено многое другое. Рассеянное поглощение расхожего текста – к примеру, столь недолговечных газетных статеек – предполагает изрядную толику случайного. Сообщают – навязывая его – некий факт: информируют о том, что вчерашнее происшествие, как всегда непредвиденное, имело место на такой-то улице, таком-то углу, в такое-то время дня – перечень ни для кого ничего не значащий – и, наконец, что по такому-то адресу можно узнать подробности. В подобных сообщениях протяженность абзацев и их звучание являются фактором второстепенным. Совершенно иначе обстоит дело со стихами, незыблемым законом которых является подчиненность смысла эвфоническим задачам (или прихотям). Второстепенным является не мелодия стиха, а содержание. Таковы ранний Теннисон, Верлен, поздний Суинберн: они стремились запечатлеть настроение чарующими и капризными переливами звуков. Присмотримся к третьему типу писателя – интеллектуалу. Обращаясь к прозе (Валери, Де Куинси) или к поэзии, он не исключает полностью случайного, однако настолько, насколько возможно, ограничивает этот неизбежный союз. Он уже ближе к Творцу, для которого зыбкий элемент случайности попросту не существует. К Творцу, всепреблагому Богу теологов, которому изначально ведомо – uno intelligendi actu[80] – не только все происходящее в этом многообильном мире, но и события, которые при слегка ином стечении обстоятельств были бы возможны, – в том числе неосуществимые.
Представим теперь этот астральный творческий тип, проявивший себя не в описании монархий, разрушительных войн или птиц, а в истолковании написанных слов. Представим себе также, в соответствии с предавгустинианскими взглядами об устном внушении, что Бог диктует слово за словом все, что он задумал сказать[81]. Суть допущения (на котором основывались каббалисты) сводилась к представлению о Священном Писании как об абсолютном тексте, в котором доля случайности практически равна нулю. Прозрение замысла Писания чудом ниспослано тем, кто заполняет его страницы. Книга, в которой нет места случайному, формула неисчислимых возможностей, безупречных переходов смысла, ошеломляющих откровений, напластований света. Можно ли удержаться от соблазна снова и снова на все лады перетолковывать ее, подобно тому, как это делала каббала?
1932
Наука злословия
Старательное и пылкое изучение других литературных жанров привело меня к мысли, что оскорбление и насмешка определенно заслуживают большего внимания. Хулитель (подумал я) знает, что хула падет на него самого и что «любое произнесенное им слово может быть обращено против него», как честно предупреждают сотрудники Скотленд-Ярда. Эта опасность наверняка заставляет атакующего проявлять особую осмотрительность, каковой он может пренебречь в более комфортных обстоятельствах. Он захочет остаться неуязвимым – и на страницах книг таковым и останется. На эту гипотезу меня вдохновило – или, по крайней мере, помогло к ней подойти – сличение метких поношений Поля Груссака с его неуклюжими панегириками (чтобы не упоминать аналогичные случаи у Свифта, у Джонсона и у Вольтера). Гипотеза развалилась, когда я перешел от отрадного чтения ругательств к их методическому анализу.
Вот что я сразу заметил: принципиальная правомочность моих построений требует одного малого уточнения. Насмешник действительно работает аккуратно, но это аккуратность шулера, согласного жить по законам карточной колоды, под ненадежным небом с созвездиями из двуглавых персонажей. Три короля решают дело в покере и ничего не означают в труко. Не меньше условности и в полемике. Впрочем, уже рецепты уличной перебранки являют собой показательную maquette всего, что можно назвать полемикой. Мужчина на перекрестке Коррьентес и Эсмеральды угадывает, каким ремеслом занималась мать каждого из собеседников, или хочет, чтобы все присутствующие немедленно переместились в очень известное место с множеством названий, или издает грубый звук – а нелепая конвенция по этому поводу гласит, что все эти выходки оскорбляют не его, а молчаливо внимающую аудиторию. Не нужно прибегать даже к языковым средствам. Укусить себя за палец или занять место у стены (Sampson: I will take the wall of any man or maid of Montague’s; Abram: Do you bite your thumb at us, sir?)[82] – такие приемы служили в 1592 году ходовой монетой среди задир в подложной шекспировской Вероне, а также в пивных, в борделях и на медвежьих потехах в Лондоне. В современных школах ту же роль играют высунутый язык и наставленный нос.
Другое распространенное поношение – это слово «собака». Из ночи 146-й книги «Тысяча и одна ночь» любознательный читатель может почерпнуть, что сын льва был заперт в сундук без выхода сыном Адама, который поносил его следующими словами: «Знай, собака пустыни, что ты попался туда, куда боялся, и судьба тебя туда бросила, и не поможет тебе осторожность»[83].
Условная азбука злословия включает в себя также и обращения. Слово «сеньор», которым по недосмотру нередко пренебрегают в устной практике, будучи отпечатанным на бумаге, становится уничижительным. «Доктор» тоже принижает оппонента. Написать о сонетах, составленных доктором Лугонесом, – это равносильно вечному клейму, уничтожению каждой из его метафор. С первым же упоминанием доктора умирает полубог и остается лишь надутый аргентинский кабальеро, который носит накладные бумажные воротнички, раз в два дня ходит бриться и может скончаться от закупорки дыхательных путей. Остается принципиальная и неизлечимая ничтожность любого человеческого существа. Но остаются также и сонеты, и музыка их не смолкает. (Один итальянец, желая покуражиться над Гёте, выпустил короткую статейку, в которой раз за разом обзывал его «il signore Wolfgang»[84]. И это выглядело почти как похвала, равносильная признанию, что подлинных аргументов против Гёте у него нет.)
Составить сонет, выпустить статейку. Язык – это свод условных колкостей, которые расходуются преимущественно в перебранках. Сказать, что писатель вымучил, состряпал или накарябал книгу – с таким вызовом еще можно справиться; здесь лучше подойдут термины бюрократические или торговые: осуществить, пустить в оборот, выбросить на прилавок. Сухие глаголы идут в сочетании с самыми пылкими эпитетами, и оппонент обрекается вечному позору. На вопрос об одном аукционисте, который при этом занимался еще и декламацией, некто безжалостно ответил, что он энергично добивает «Божественную комедию». Эпиграмма не потрясает остроумием, но механизм ее действия типичен. Мы имеем дело (как и во всех эпиграммах) с обыкновенной языковой подменой. Глагол «добивать» (усиленный наречием «энергично») дает понять, что обвиняемый – всего-навсего презренный аукционист, оглохший от стука молотка, а его дантовская декламация – это просто нелепые потуги. Слушатель принимает этот аргумент без раздумий, потому что его подают не в форме аргумента. В корректной формулировке это суждение не внушало бы доверия. Во-первых, декламация и работа на аукционе имеют много общего. Во-вторых, давняя мечта о декламации могла помочь этому человеку с выбором занятия, развивающего умение говорить на публику.
Один из традиционных сатирических приемов (ему отдали дань и Маседонио Фернандес, и Кеведо, и Джордж Бернард Шоу) – это ничем не мотивированные перевертыши. Пользуясь этим достославным рецептом, врача неизбежно обвиняют в том, что он сеет заразу и смерть; стряпчего – в воровстве; палача – в продлении человеческой жизни; приключенческие романы – в усыплении или замораживании читателя; Вечного жида – в параличе; портного – в наготе; тигра и людоеда – в пожирании ревеня. Разновидность этой традиции – невинное замечание, исподволь извращающее свой прямой смысл. Вот, например: «Прославленная койка, под которой генерал ни одного сражения еще не проиграл». Или: «Последний фильм замечательного режиссера Рене Клера прямо-таки завораживает! Когда нас разбудили…»
Еще один действенный метод – это неожиданная концовка. К примеру: «Юный жрец Красоты, разум, воспитанный в эллинском духе, эстет, настоящий человек вкуса (омерзительного)». Так же построена и андалусийская копла с резким переходом от сообщения к угрозе:
- В этом стуле плашек
- Ровно двадцать пять.
- Я тебе все ребра
- Могу пересчитать!
Еще раз укажу на условность этой игры, в которой по необходимости используются сомнительные аргументы. По-настоящему ратовать за какое-нибудь дело и при этом не скупиться на бурлескные преувеличения, фальшивые похвалы, предательские оговорки и кроткое презрение – это действия не то чтобы несовместимые, но столь несхожие, что никто до сих пор не сопрягал их вместе. Поищем известные примеры. Что делает Груссак, задавшись целью уничтожить Рикардо Рохаса? Вот его слова, которые смаковал весь литературный Буэнос-Айрес: «Так, например, смиренно прослушав два или три фрагмента вычурной прозы из пухлого фолианта, который публично превозносят люди, даже его не открывавшие, я считаю себя вправе не продолжать знакомство, а ограничиться оглавлением и указателями к этой пространной истории того, чего в действительности никогда не происходило. Я имею в виду главным образом первую, самую неудобоваримую часть этой громадины (занимающую три тома из четырех): бормотание туземцев и полукровок…» Это славное брюзжание Груссака – образец исполнения всех ритуалов сатирической игры. Он притворяется, что огорчен недостатками книги («смиренно прослушав»); приоткрывает картину охватившего его раздражения (сначала «пухлый фолиант», затем «громадина»); использует хвалебные эпитеты с целью поношения («к этой пространной истории») – в общем, играет, как умеет только он. Против синтаксиса Груссак не грешит – синтаксис безупречен, чего не скажешь об аргументации. Критиковать произведение за размер, намекать, что такой кирпич никому не осилить, а под конец объявить о своем безразличии к глупой болтовне индейцев и мулатов – все это более к лицу куманьку-поножовщику, но не Груссаку.
Приведу другое знаменитое обличение того же авторства: «Нам будет очень жаль, если открытая продажа сочинения доктора Пиньеро явится серьезным препятствием для его распространения и этот достойный плод полуторагодовалых дипломатических скитаний оставит свой „отпечаток“ только лишь в типографии Кони, где его и отпечатали. Господь этого не допустит; нам бы, по крайней мере, не хотелось, чтобы книгу Пиньеро постигла такая незавидная судьба». Все то же показное сожаление; все те же хитросплетения синтаксиса. Все та же блистательная банальность самой критики: насмешник издевается над малым количеством тех, кого заинтересует книга, и над неспешностью ее создания. Элегантным оправданием этой мелочности может послужить сумрачное происхождение сатиры как таковой. Сатира (если верить самым последним изысканиям) ведет свою родословную от магических яростных проклятий, а не от умозаключений. Это отголосок того непередаваемого состояния, когда удары, нанесенные имени, обрушивались на его владельца.
Ангелу Сатанаилу, первородному сыну Бога, коему поклонялись богомилы, отсекли частицу «ил», сохранявшую за ним и нимб, и сияние, и дар предвидения. Нынешнее его обиталище – это огонь, а властвует над ним гнев Всевышнего. А каббалисты передают историю с противоположным смыслом: семя древнего Аврама было бесплодным, пока в его имя не добавили еще одну букву, что сделало Авраама способным к зачатию.
Свифт, воплощение человеческой горечи, в хрониках путешествий капитана Лемюэля Гулливера задается целью опорочить человеческий род. Первые два путешествия – в уменьшенное государство Лилипутия и в непомерный Бробдингнег, – по мнению Лесли Стивена, вполне приемлемы: это антропометрический сон, в котором ничто не задевает сложного устройства человеческой природы, ее огня и ее алгебры. В третьей, самой любопытной части Свифт высмеивает экспериментальную науку с помощью вышеназванного приема инверсии: взбалмошные академики желают разводить овец без шерсти, применять лед для производства селитры, размягчать мрамор для набивки подушек, ковать тонкие пластины из огня и использовать питательные вещества, которые содержатся в фекальных массах. (Эта же книга включает в себя и яркое описание неудобств старческой немощи.) Четвертое и последнее путешествие стремится доказать, что животные лучше людей. Свифт описывает добродетельное государство лошадей – говорящих и моногамных, то есть человечных, а в роли пролетариев там выступают четвероногие люди, которые живут стаями, роются в земле, хватаются за коровье вымя, чтобы украсть молока, кидаются друг в друга экскрементами, пожирают гнилое мясо и скверно пахнут. Фабула, как мы видим, незамысловатая. Все прочее – литература и синтаксис. В заключение Свифт пишет: «Меня ничуть не раздражает вид судейского, карманного вора, полковника, шута, вельможи, игрока, политика, сводника»[85]. В этом занятном перечислении некоторые слова пачкаются от одного соседства с другими.
Два последних примера. Первый – это знаменитая пародия на оскорбление, к которой, как говорят, однажды прибег доктор Джонсон: «Ваша супруга, сэр, под предлогом работы в публичном доме торгует контрабандными товарами». И второй – великолепнейшее поношение из всех, что мне известны, тем более примечательное, если принять в расчет, что это единственное прикосновение автора к литературе: «Боги не допустили, чтобы Сантос Чокано осквернил эшафот своей смертью. Поэтому он жив, и даже бесчестье от него утомилось». Осквернить эшафот. Утомить бесчестье. Эти великолепные абстракции помогают проклятию, запущенному Варгасом Вилой, избежать прямого контакта с жертвой, оставляя ее невредимой, но при этом человек выглядит малореальным, весьма второстепенным и, возможно, начисто лишенным морали. Достаточно вскользь упомянуть про Чокано – и в памяти сразу же возникает это проклятье, очерняющее своим зловещим блеском все, что имеет отношение к Чокано, – вплоть до каждой детали, до каждого образа.
Постараюсь обобщить вышесказанное. Сатира не менее условна, чем диалог влюбленных или сонет, в награду за который Хосе Мария Моннер Санс вручает живой цветок. Метод сатиры – это нанизывание софизмов, единственный ее закон – бесконечное выдумывание обидных колкостей. Да, чуть не забыл: сатира обязательно должна оставаться в памяти.
Здесь придется к месту полная достоинства реплика, которую приводит Де Куинси (Writings[86], том 11, страница 226). Одному джентльмену в ходе теологического или литературного спора плеснули в лицо вином из бокала. Потерпевший как ни в чем не бывало произнес: «Сэр, это было отступление от темы. Я жду ваших аргументов». (Автор этой реплики, некий доктор Хендерсон, скончался в 1787 году в Оксфорде, не оставив по себе иной памяти, кроме этих емких слов; достаточно для красивого бессмертия.)
Устное предание, услышанное мною в Женеве в последние годы Первой мировой войны, гласит, что Мигель Сервет сказал судьям, приговорившим его к сожжению: «Да, я сгорю, но это лишь эпизод. Мы продолжим дискуссию в вечности».
1933
Переводчики «Тысячи и одной ночи»
1. Капитан Бёртон
Триест, 1872 год. Во дворце, полном влажных статуй и пошлых картин, джентльмен с африканским шрамом на лице – британский посол капитан Ричард Френсис Бёртон – осуществил знаменитую попытку перевода «Quitab alif laia ua laila» – книги, которую немусульмане всего мира знают под именем «Тысяча и одна ночь». Одной из секретных целей его труда было уничтожение другого джентльмена (столь же загорелого и с такою же темной мавританской бородой), который составил обширный компендиум и умер задолго до того, как его уничтожил Бёртон. Этим человеком был Эдвард Лейн: востоковед, автор весьма скрупулезной версии «Тысячи и одной ночи», пришедшей на смену версии Галлана. Лейн переводил против Галлана, Бёртон – против Лейна. Чтобы понять действия Бёртона, необходимо разобраться в перипетиях этой наследственной вражды.
Начну с ее основателя. Им был Жан Антуан Галлан – французский арабист, который привез с собой из Стамбула небольшую коллекцию монет, монографию о распространении кофе, арабскую копию «Ночей» и, в довесок, одного маронита, чья память была ничуть не хуже, чем у Шахерезады. Этому малоизвестному консультанту, имя которого не должно пропасть, – говорят, его звали Ханна, – мы обязаны некоторыми основополагающими историями, которых не ведает оригинал: об Аладдине, о Сорока разбойниках, о принце Ахмаде и джиннии Пери-Бану, об Абу-ль-Хасане, грезящем наяву, о ночном приключении Харуна ар-Рашида, о двух сестрах-завистницах и их младшей сестре. Простого перечисления этих названий достаточно, чтобы ясно показать: Галлан утвердил канон, включив в него истории, которые со временем стали незаменимыми и которые последующие переводчики – его противники – не решились опустить. Есть и еще один неоспоримый факт. Самые известные и удачные похвалы «Тысяче и одной ночи» принадлежат Кольриджу, Томасу де Куинси, Стендалю, Теннисону, Эдгару Аллану По, Ньюмену – читателям перевода Галлана. Прошло двести лет, появилось не менее десяти более качественных и точных переводов, но всякий европейский или американский читатель, думая о «Тысяче и одной ночи», непременно имеет в виду именно Галланов перевод. Эпитет «тысячаодноночный» («тысячаиоднаночный» страдает креолизмом, а от «тысячаоднанощного» несет напыщенностью) не имеет ничего общего с учеными непотребствами Бёртона или Мардрюса, но целиком и полностью связан с магией версии Галлана.
С точки зрения буквальной точности перевод Галлана – худший из когда-либо написанных, но насколько он был слаб, настолько был и читаем. Всякий, кто проводил с этой книгой часы уединения, познавал восторженную радость. Его ориентализм, ныне представляющийся нам плоским, воспламенил великое множество любителей вдыхать табак и сочинять трагедии в пяти актах. С 1707 по 1717 год вышло двенадцать превосходных томов, переведенных затем на самые разные языки, включая хинди и арабский. Однако мы, скромные старомодные читатели двадцатого века, ощущаем в этих книгах лишь сладковатый привкус века восемнадцатого, а не утонченный восточный аромат, обеспечивший им двести лет назад удивительную славу. Никто не виноват в этой путанице, и менее всех – Галлан. Порой – то был, по всей видимости, Галланов случай – развитие языка оказывает пагубное воздействие. В предисловии к немецкому переводу «Тысячи и одной ночи» доктор Вайль писал: «Когда торговцы скрупулезного Галлана по сюжету должны пересечь пустыню, они запасаются „чемоданом фиников“ („valija“)». На это можно возразить, что к 1710 году одного упоминания о финиках было достаточно, чтобы стереть образ чемодана, но в этом нет необходимости: чемодан («valise») в то время был разновидностью седельной сумки («alforja»).
Имеют место и другие неточности. В одном безрассудном панегирике, опубликованном в «Morceaux choisis»[87] (1921), Андре Жид, целомудрие которого значительно превосходит репутацию, резко критикует Галлана за излишнее своеволие, чтобы скорее разделаться с Мардрюсом и присущим его переводу буквализмом – столь же типичным для fin de siècle[88], сколь и Галланов метод – для века восемнадцатого, и при этом гораздо менее точным.
Переделки Галлана по природе своей земные. Они вдохновлены благопристойностью, а не моралью. Вот несколько строк с третьей страницы его «Ночей»: «Il alla droit à appartement de cette princesse, qui, ne s’attondant pas à le revoir, avait reçu dans son lit un des derniers officiers de sa maison»[89]. Бёртон так конкретизирует этого туманного «officier»: «черный повар, лоснящийся от жира и копоти». Оба искажают, но на свой манер: оригинал не такой церемонный, как у Галлана, и не такой сальный, как у Бёртона (обратная сторона мнимой благопристойности: в сдержанной прозе английского джентльмена выражение Галлана «recevoir dans son lit»[90] звучит грубо).
Спустя девяносто лет после смерти Антуана Галлана рождается новый переводчик «Ночей» – Эдвард Лейн. Его биографы непрестанно повторяют, что его отцом был доктор Теофилиус Лейн, каноник Херефорда. Одного этого факта (и чудовищного требования обращаться к нему) вполне достаточно. Арабизированный Лейн прожил в Каире пять долгих лет, занимаясь исследованиями и «находясь практически все время среди мусульман, говоря только на их языке, с величайшей аккуратностью и почтением приноравливаясь к их традициям и принятый ими как равный». Несомненно, ни долгие египетские ночи, ни дивный черный кофе с зернами кардамона, ни постоянные литературные дискуссии со знатоками закона, ни почтенный муслиновый тюрбан, ни привычка есть руками не избавили его от британского стыда – утонченного одиночества, свойственного хозяевам мира. Посему этот ученейший из переводов «Ночей» оказался (или только показался) настоящей энциклопедией уверток и умолчаний. Умышленных непристойностей в оригинале нет; Галлан исправляет попавшиеся ему грубости, списывая их появление на последствия плохого вкуса. Однако Лейн выискивает их и преследует с неистовством инквизитора. Порядочность его не может хранить молчание: он предпочитает ряд взволнованных пояснений, набранных мелким шрифтом, которые сбивчиво сообщают: «Здесь я опускаю один достойный порицания эпизод. Опускаю омерзительное объяснение. Здесь строка чрезвычайно груба для перевода. В силу необходимости уклоняюсь от рассказа еще одной истории. С оного места и далее – ряд купюр. Отсутствующая здесь история о рабе Бухайте столь предосудительна, что недостойна пера переводчика». Но изувечить – не значит оставить в живых: ряд сказок был полностью выброшен из текста, «ибо их нельзя исправить, не исказив». Этот категорический отказ, на мой взгляд, не лишен логики: пуританские увертки – вот что я не приемлю. Лейн – мастер увертки, он, без сомнений, предтеча лакированной стыдливости Голливуда. Среди своих записей я нашел несколько примеров: в 391-й ночи один рыбак приносит рыбу царю царей, и тот желает знать, самец это или самка, а ему говорят – гермафродит. Лейн пытается смягчить это возмутительное место; он переводит, будто царь спрашивает, какого рода это существо, а хитроумный рыбак отвечает, что оно смешанного рода. В 217-й ночи рассказывается о царе и двух его женах: одну ночь он спал с одной женой, другую – с другой, и были они счастливы. Лейн объясняет нам счастье этого монарха, говоря, что тот обращался с женщинами «беспристрастно». Причина таких замысловатых уверток в том, что Лейн предназначал свой труд «для чтения за столиком в гостиной», а там, как правило, читали и осмотрительно обсуждали вещи куда менее щекотливого характера.
Самого туманного и отдаленного намека на плотское достаточно для Лейна, чтобы забыть о своей чести и вновь пуститься по извилистым дорогам укрывательства. Иной вины за ним нет. Когда Лейн свободен от искушения чистотой, он оказывается поразительно точен. У него нет никаких установок, а это, несомненно, преимущество. Он не ставит себе целью подчеркнуть варварский колорит, как это делает капитан Бёртон, а равно не пытается забыть или затенить его, подобно Галлану. Последний как бы адаптировал своих арабов под парижские стандарты, чтобы те ненароком не отпугнули читателей; Лейн отнюдь не магометанин. Галлан отказывался от всякого буквализма; Лейн обосновывает каждую интерпретацию всякого сомнительного слова. Галлан ссылается на сокрытую от взора рукопись и покойного маронита; Лейн же кропотливо указывает издание и страницу. Галлан не заботился о ссылочном аппарате; у Лейна набирается огромное количество пояснений, которые, приведенные в систему, образуют целый отдельный том. Различать – вот чего требует Галлан. Лейн выполняет это требование: для него достаточно не сокращать оригинал.
Любопытная дискуссия между Ньюменом и Арнольдом (1861–1862), более примечательная сама по себе, нежели ее участниками, подытожила два основных способа перевода. Ньюмен защищал буквалистский способ, сохранение всех лексических особенностей; Арнольд поддерживал категорический отказ от всех отвлекающих или задерживающих внимание деталей. Первая стратегия грозит обернуться единообразием и тяжеловесностью, вторая же – открытиями разного рода и масштаба. Обе стратегии значат меньше, чем собственно переводчик и его литературные способности. Переводить дух подлинника – намерение столь грандиозное и несбыточное, что рискует остаться благим; переводить букву – требует такой невероятной точности, что едва ли кто-нибудь отважится на это. Более серьезным, чем эти недосягаемые цели, представляется передача (а равно отказ от передачи) определенных подробностей; более серьезными, чем эти предпочтения и пропуски, представляются особенности синтаксиса. У Лейна он приятен, каким и подобает быть слогу «столика в гостиной». Его лексический состав характеризуется злоупотреблением латинизмами, что нельзя оправдать никаким стремлением к краткости. Весьма занятно: на первой странице перевода он вводит прилагательное «романтический», что для речи бородатого мусульманина двенадцатого века – своего рода футуризм. Порой недостаток чувственных деталей у него вполне уместен, потому что позволяет вводить в патетический эпизод очень простые слова с неожиданно удачным результатом. Пожалуй, ярчайший пример подобного взаимодействия разнородных слов следующий: «And in this palace is the last information respecting lords collected in the dust»[91]. Второй, по всей видимости, – вот это обращение: «Во славу Присносущего, который не умер и не умрет, во имя Того, в чьих руках слава и пребывание земное». У Бёртона – случайной предтечи достославного Мардрюса – я усомнился бы в столь упоительно восточных формах; у Лейна же их так мало, что мне не остается ничего, кроме как признать их непреднамеренными, а стало быть, и правомочными.
Повторять всю серию историй, связанных со скандальной благопристойностью переводов Галлана и Лейна, стало своего рода традицией. И сам я тоже останусь в рамках этой традиции. Хорошо известно, что они не одолели ни несчастного, увидевшего Ночь Власти, ни проклятия мусорщика тринадцатого века, обманутого дервишем и склонного к содомии. Ни для кого не секрет, как выхолощены их «Ночи».
Противники аргументируют тем, что такая дезинфекция наносит вред чистоте и невинности подлинника или вовсе ее уничтожает. Ошибочное суждение: книга «Тысяча и одна ночь» не наивна (в этическом смысле); она, в сущности, есть не что иное, как адаптация древних историй к грубым или низменным вкусам средних классов Каира. За исключением образцовых сказок о Синдбаде, непристойности «Тысячи и одной ночи» не имеют ничего общего с простодушной райской свободой. Они суть отражение мыслей составителя: его цель – насмешить, его герои никогда не выбиваются из круга наложниц, нищих или евнухов. Напротив, старинные любовные истории сборника, рассказывающие нам о пустыне или городах Аравии, вовсе не столь легкомысленны – как и все остальные произведения доисламской литературы. Они страстны и печальны, один из наиболее часто встречающихся мотивов – смерть от любви, та самая смерть, которую улемы объявили не менее священной, чем смерть мученика, погибшего за веру… Если мы примем этот довод, то стыдливость Галлана и Лейна покажется нам не чем иным, как попыткой восстановить первоначальную редакцию.
Впрочем, мне известно оправдание получше. Опускать эротические моменты из первоисточника – не та вина, которую Господь не прощает, – особенно когда первейшей задачей является сохранение волшебной атмосферы. Предложить публике новый «Декамерон» – такая же коммерческая операция, как и другие; предложить ей «Старого моряка» или «Пьяный корабль» – дело принципиально иное. Литтман пишет, что «Тысяча и одна ночь» есть в первую очередь сборник чудес. Всеобщее принятие такой точки зрения западным сознанием – целиком и полностью плод трудов Галлана. В этом нет никаких сомнений. Меньше, чем нам, повезло разве что самим арабам, поскольку им уже известны обычаи, люди, талисманы, пустыни и джинны, о которых мы узнаем из сказок; арабы же вследствие своего предварительного знания оригиналом пренебрегают.
В одной из своих работ Рафаэль Касинос-Ассенс клянется, что может поприветствовать звезды на четырнадцати языках, как современных, так и классических. Бёртон видел сны на шестнадцати и рассказывал, что владел тридцатью пятью: семитскими, дравидскими, индоевропейскими, эфиопскими и пр. Его поток воистину неиссякаем – черта, вполне уживающаяся в нем вместе с другими, столь же чрезмерными. Никто не соответствовал расхожей насмешке из «Гудибраса» над учеными мужами, неспособными связать и двух слов на множестве языков, меньше, чем Бёртон: ему, без сомнения, было что сказать, и семьдесят два тома его сочинений служат тому подтверждением. Приведу несколько названий наугад: «Гоа и Голубые горы» (1851); «Система штыковых приемов» (1853); «Рассказ о моем путешествии в Медину» (1855); «Озерные территории Экваториальной Африки» (1860); «Город Святых» (1861); «Исследование Бразильской месеты» (1869); «Об одном гермафродите с островов Зеленого Мыса» (1869); «Письма с поля боя в Парагвае» (1870); «Последний Туле, или Лето в Исландии» (1875); «К золотому берегу в поисках золота» (1883); «Книга Меча» (первый том – 1884); «Благоухающий сад Мафусаила» – книга, сожженная леди Бёртон после смерти супруга наряду с «Эпиграммами, вдохновенными Приапом». Образ писателя ясно различим за этим перечнем: английский капитан, имевший слабость к географии и всем способам человеческого бытования, какие только известны людям. Я отдам ему должное, сравнив с Мораном, билингвом-домоседом, бесконечно катающимся вверх-вниз на лифте международного отеля и благоговеющим при виде дорожного чемодана… Бёртон, переодевшись афганцем, путешествовал по священным городам Аравии; голос его молил Господа, чтобы тот бросил его кожу и кости, его несчастную плоть и кровь в Огонь Гнева и Справедливости; его иссушенные самумом губы запечатлели в Каабе поцелуй на поверхности аэролита. Приключение, сколь знаменитое, столь и дерзкое: если бы разнеслась весть, что необрезанный, «назрани», осквернил святыню, его смерть была бы неминуемой. До этого, переодевшись дервишем, он занимался медициной в Каире – не без различных шарлатанских приемов и магии, дабы завоевать доверие больных. До 1858 года он руководил экспедицией к таинственным истокам Нила, что, в свою очередь, привело его к открытию озера Танганьика. В эту пору он заболел лихорадкой; в 1855 году сомалийцы пиками пронзили ему щеки. (Бёртон прибыл из Харрара, который был тогда закрытым для европейцев городом в глубине Абиссинии.) Девять дней спустя он познал чудовищное гостеприимство церемонных каннибалов из Дагомеи; а когда он вернулся, ходили слухи (и распространившиеся случайно, и, безусловно, поддержанные им самим), будто он «питался странным мясом» – подобно всеядному проконсулу Шекспира[92]. Постоянными объектами его ненависти служили евреи, демократия, министерство иностранных дел и христианство; объектами обожания – Лорд Байрон и ислам. Одинокий труд писателя он возвысил и разнообразил: он вставал с первыми лучами солнца, садился в обширной зале, обставленной одиннадцатью столами, на каждом из которых лежал материал для книги, а на одном, помимо материалов, – цветок жасмина в вазе с водой. Он был связан узами любви и дружбы с известными людьми: достаточно упомянуть его дружбу со Суинберном, который именно ему посвятил второй цикл «Poems and Ballads – in recognition of a friendship which I must always count among the highest honours of my life»[93] и затем оплакивал его кончину в многочисленных строфах. Человек слова и дела, Бёртон вполне мог заслужить похвалу из «Дивана» Аль-Мутанабби:
- Пустыня, конь и сумрак мне знакомы,
- А равно гость, калам, томар и сабля.
Обратите внимание, что я не опустил ни одной черты Ричарда Бёртона, которые без преувеличения можно было бы назвать легендарными: он и антропофаг-любитель, и сонливый полиглот. Причина проста: Бёртон, герой легенды о Бёртоне, – переводчик «Ночей». Как-то раз мне пришло в голову, что ключевое различие между поэзией и прозой заключается в степени вовлеченности читателя: первая предполагает концентрацию, недопустимую для последней. Нечто в таком роде можно сказать и о творчестве Бёртона: у него есть авторитет первооткрывателя, какого нет ни у одного арабиста. В этой связи вспоминают притягательность запрещенного. Я имею в виду то единственное издание всего в тысячу экземпляров, которое предназначалось для подписчиков «Клуба Бёртона» и на перепечатку которого был наложен строжайший запрет. (В переиздании Леонарда С. Смайерса «изъяты определенные места, отличающиеся дурным вкусом, чье отсутствие не заставит никого пожалеть об этом»; представительная подборка Беннетта Серфа – будто бы полная – составлена на основе этого вычищенного текста.) Осмелюсь предложить гиперболу: путешествие по книге «Тысяча и одна ночь» в интерпретации сэра Ричарда Бёртона не менее невероятно, чем захватывающе, как и путешествие по книге, «переведенной с арабского и прокомментированной» Синдбадом-мореходом.
Проблемы, которые разрешил Бёртон, неисчислимы, однако их вполне можно свести к трем: 1) доказать и утвердить репутацию арабиста; 2) окончательно отойти от Лейна; 3) вызвать интерес британских джентльменов девятнадцатого века к письменным переводам мусульманских сказок века тринадцатого. Первое из этих намерений, по всей видимости, было несовместимо с третьим. Второе же привело к одной серьезной ошибке, о которой я и хочу поведать. Сотни дистихов и песен фигурируют в «Тысяче и одной ночи»; Лейн, неспособный лгать нигде и никогда, за исключением тех случаев, когда речь идет о плоти, перевел их прозой – при этом очень точно. Бёртон же был поэтом: в 1880 году он напечатал «Касыды», эволюционистскую рапсодию, достоинства которой, по мнению леди Бёртон, превосходили «Рубаи» Фитцджеральда… Решение вопроса «прозаическим» методом со стороны его соперника возмутило Бёртона, и потому он предпринял попытку перевести текст с использованием английского стиха – попытку, заранее обреченную на провал, поскольку она противоречила собственной бёртоновской установке на тотальный буквализм. Слух, помимо всего прочего, это оскорбляло ничуть не меньше, чем здравый смысл. Вполне вероятно, что следующее переведенное четверостишие – одно из лучших:
- A night whose stars refused to run their course,
- A night of those which seem outworn:
- Like Resurrection-day, of longsome length
- To him that watched and waited for the morn[94].
Очень возможно, что наихудшее – вот это:
- A sun on wand in knoll of sand she showed,
- Clad in her cramoisy-hued chemisette:
- Of her lips’ honey-dew she gave me drink
- And with her rosy cheeks quencht fire she set[95].
Я упоминал о фундаментальном различии между примитивной аудиторией сказок и клубе подписчиков Бёртона. Первые были плутами и сплетниками, невежами, которые к настоящему относились с недоверием, но принимали за чистую монету все связанное с прошлым и чудесным. Вторые были, в свою очередь, господами из Вест-Энда, склонными к презрению и бравированию эрудицией и не расположенными к страху и смеху. Первым нравилось, что кит погибал, заслышав человеческий крик; вторым – что есть люди, верящие в то, что такой крик может убить. Чудеса, пригодные для Кордофана и Булака, где их принимали всерьез, могли оказаться бедноватыми для Англии. (Никто не требует от правды правдоподобия или особого рода гениальности: лишь немногие читатели «Жизни и переписки» Карла Маркса потребуют от нее симметрии «Контрарифм» Туле или строгой точности акростиха.) Чтобы не потерять подписчиков, Бёртон насыщал примечания заметками об «укладе людей ислама». Следует подчеркнуть, что Лейна интересовала почва. Предметы быта и одежды, распорядок дня, религиозные практики, архитектура, отсылки к истории или к Корану, игры, искусства, мифология – все это было уже освещено в трех томах его неудобного предшественника. Оставалась, таким образом, эротика. Бёртон (чей первый литературный опыт был сопряжен с заметкой весьма пикантного характера о домах терпимости в Бенгалии) был, пожалуй, даже слишком готов взяться за такое дополнение. Из всех особо упомянутых им мавританских увеселений хорошим примером может послужить своевольное пояснение к седьмой книге, изящно озаглавленное в содержании «меланхолическими покровами». «Эдинбургское обозрение» обвинило его в том, что он пишет для клоаки общества; Британская энциклопедия решила, что полный перевод неприемлем и что труд Эдварда Лейна «остается непревзойденным для по-настоящему серьезного изучения». Нас не слишком раздражает эта мрачная теория о научном и фактическом превосходстве вымарывания: Бёртон уважал этот гнев. Более того, не очень разнообразно варьируемые вариации на тему плотской любви не затмевают внимание его комментария. Он энциклопедичен и неповоротлив и тем более интересен сам по себе, чем менее необходим для «Ночей». Так, шестой том (что лежит сейчас перед моими глазами) включает около трехсот примечаний, из которых нужно отметить следующие: осуждение тюрем и защита телесных наказаний и штрафов; несколько примеров мусульманского почтения к хлебу; легенда о необычайно тонкой коже ног царицы Белькис; история о четырех символических цветах смерти; восточная теория и практика неблагодарности; сообщение о том, что ангелы предпочитают палевое оперение, в то время как духи – золотистое; краткий пересказ мифологемы таинственной Ночи Власти или Ночи Ночей; обвинение Эндрю Лэнга в поверхностности; диатриба против демократического правления; список имен Мухаммеда, пребывающего на Земле, в Огне и в Саду; упоминание о народе амалекитов, долгожителях и великанах; заметка о запретных участках тела у мусульман, располагающихся у мужчин от пупа до колена, а у женщин – с ног до головы; восхваление понятию «asa’o» аргентинских гаучо; информация о трудностях «верховой езды», когда человек выступает в роли верхового животного; монументальный проект скрещивания павианов с женщинами и получения в результате низшей расы превосходных пролетариев. К пятидесяти годам в человеке накапливаются нежность, ирония, глупость и разнообразные истории – Бёртон их вынес в свои примечания. Однако оставался фундаментальный вопрос: как развлечь джентльменов девятнадцатого века сказками века тринадцатого? Стилистическое однообразие «Ночей» ни для кого не является тайной. Бёртон упоминает «сухой и коммерческий тон», свойственный арабским прозаикам, противопоставляя его риторическим ухищрениям персидских авторов. Литтман, переводчик новейших времен, обвиняется в интерполяции таких слов, как «спросил», «попросил», «ответил», на пяти тысячах страниц, не ведающих никакой иной формулы, кроме «сказал». Бёртон не жалеет слов для замен такого порядка. Его словарь столь же разнообразен, сколь и его примечания. Архаизмы соседствуют с арготизмами, канцелярский или морской жаргон уживается с технической терминологией. Бёртона не приводит в замешательство даже прославленная гибридизация английского языка: не скандинавизмы Морриса и латинизмы Джойса получают его одобрение, но их столкновение и размежевание. Можно обнаружить множество неологизмов: «кастрат», «inconséquence», «hauteur», «in gloria», «bagno», «langue fourrée», «дело чести», «vendetta»[96], «визирь». Каждое из этих слов, должно быть, верное, однако, употребленные вместе, они производят впечатление фальши. Фальши недурной, ибо такое лексическое – и, кроме того, синтаксическое – разнообразие порой развлекает во время монотонного процесса чтения «Ночей». Бёртон возводит это разнообразие в абсолют: сначала он чинно переводит «Sulayman of David (on the twain be he peace)»[97]; затем, когда читатель уже познакомился с Его Величеством, он низводит его до Solomon Davidson[98]. Царя, бывшего для других переводчиков «самаркандским царем в Персии», он превращает в «a King of Samarkand in Barbarian-land»[99]; а покупатель, который для остальных «вспыльчивый», становится у Бёртона «a man of wrath»[100]. И это не конец: Бёртон полностью переписывает – дополняя повествование малозначительными деталями и физиологическими подробностями – начало и финал. Тем самым он в 1885 году открывает метод, доведение которого до совершенства (или reductio ad absurdum)[101] будет осуществлено уже Мардрюсом. Англичанин, в отличие от француза, всегда выглядит моложе своих лет: стилистическая разноголосица Бёртона состарилась куда менее, чем стиль Мардрюса, истинный возраст которого очевиден.
2. Доктор Мардрюс
Судьба Мардрюса парадоксальна. Ему приписывают моральное право быть самым точным переводчиком «Тысячи и одной ночи», книги упоительного сладострастия, смысл которой до некоторых пор был скрыт от читателей либо хорошим воспитанием Галлана, либо пуританскими увертками Лейна. Он снискал множество похвал за гениальный буквализм, который наиболее ярко отражают как безапелляционный подзаголовок «Дословный и полный перевод с арабского», так и намерение назвать книгу «Книгой тысячи ночей и одной ночи». История этого названия весьма примечательна; будет не лишним вспомнить о ней, перед тем как перейти к Мардрюсу.
В «Златых лугах и копях камней драгоценных» Масуди описывается некий сборник «Hezár Afsane», что в переводе с персидского обозначает «Тысяча приключений» – в народе же его именуют «Тысяча ночей». Другой документ десятого века, «Фихрист», пересказывает вводный сюжет цикла: царь дает тяжелую клятву венчаться с девственницей вечером, чтобы обезглавить ее на рассвете, а Шахразада решается развлечь его чудесными историями, пока их не минует тысяча ночей и она не покажет ему дитя. Об этой выдумке – столь превосходящей непримечательные и повторяющиеся истории благочестивого паломничества Чосера или эпидемию Джованни Боккаччо – говорят, что она появилась уже после названия, с целью оправдания оного. Как бы там ни было, примитивное число 1000 возросло до 1001. Откуда возникла дополнительная ночь, столь важная и необходимая сегодня, эта maquette[102] насмешек Кеведо – а затем Вольтера – над «Книгой обо всем и о многом другом» Пико делла Мирандола? Литтман предполагает, что имела место контаминация турецкого выражения «bin bir», буквально означающего «тысяча и один» и имеющего смысл «много». Лейн в начале 1840 года отыскал более изящную причину: магическую боязнь четных цифр. Однако на этом приключения названия не закончились. Антуан Галлан в 1709 году отказался от тавтологической формулировки оригинала и перевел «Тысяча и одна ночь» – и это стало именем, под которым эту книгу сегодня знают во всех странах Европы, за исключением Англии, где устоялся вариант «Арабские ночи». В 1839 году У. Х. Макноттен, издатель типографии в Калькутте, набравшись смелости, предложил для «Китаб алф лайла уа лайла» перевод «Книга тысячи ночей и одной ночи». Эта буквалистская новация не прошла незамеченной. В 1882 году Джон Пейн начал публиковать свою «Book of the Thousand Nights and One Night»; капитан Бёртон в 1885-м – свою «Book of the Thousand Nights and a Night»; Ж. К. Мардрюс в 1899-м – «Livre des mille nuits et une nuit»[103].
Ищу тот фрагмент, который определенно заставил меня усомниться в точности последнего варианта. Это часть поучительной истории о Медном городе, что занимает во всех версиях переводов конец 566-й и часть 578-й ночи. Однако у доктора Мардрюса, по причине, которую, вестимо, знает только его ангел-хранитель, она перенесена в ночи с 338-й по 346-ю. Я не настаиваю; эта необъяснимая реформа вымышленного календаря не должна нас страшить. Вот какие речи ведет Шахразада-Мардрюс: «Потоки растекались по четырем каналам с восхитительными изгибами, проведенными в полу залы, и русло каждого канала окрашено было в особый цвет: русло первого – в порфирно-розовый; второго – в цвет топаза; третьего – в изумрудный; а четвертого – под цвет бирюзы; так что вода окрашивалась в зависимости от цвета русла; и, осиянная неярким светом, пробивающимся чрез шелка высоких занавесок, на предметах обстановки и мраморных стенах отражалась прелесть морского пейзажа».
Как опыт визуальной прозы на манер «Портрета Дориана Грея» я принимаю это описание и даже отдаю ему должное; как «дословный и полный» перевод фрагмента, сочиненного в тринадцатом веке, повторюсь, оно меня бесконечно беспокоит. Тому есть ряд причин. Шахразада (без Мардрюса) описывает перечислением частей, а не их взаимодействием; не приводит подробных деталей, как в случае с потоком воды, сквозь который виднеется русло, не определяет свет, пробивающийся через шелк, и, наконец, не отсылает к Салону акварелистов, живописуя последний образ. Еще одна помарка: «восхитительные изгибы» – фраза не арабская, а определенно французская. Не знаю, достаточно ли приведенных аргументов; мне – недостаточно, и я вяло, но прилежно сверил три немецких перевода Вайля, Хеннинга и Литтмана и два английских – Лейна и сэра Ричарда Бёртона. Оттуда я выяснил, что десять строк Мардрюса в оригинале таковы: «Три потока сливались в мраморном разноцветном водоеме».
Вставки Мардрюса не единообразны. Порой они обескураживающе анахроничны – словно внезапно меняется тема и речь заходит об отступлении Маршана. Например: «Они взяли город мечты. На чем только не замирал взгляд, останавливающийся на горизонтах, окутанных ночью, – своды дворцов, террасы домов, тихие сады, – все они замыкались в этом бронзовом мире; и каналы, озаренные светилом, протекали по тысяче прозрачных русел к тени цветов, покуда в глубине море, чей цвет был схож с металлом, хранило в своей холодной груди отраженный небесный огонь». Или этот фрагмент, галлицизмы которого не менее явны: «Чудесный ковер, что был выделан из дивной шерсти и чей цвет был невероятно ярок, раскрывал свои цветы, у коих не было запаха, на полях, у коих не было жизни, и жил искусственной жизнью лесов, исполненных птиц и зверей, удивительных в абсолютной и естественной красоте своей и утонченных линиях». (В арабских изданиях в этом месте говорится: «По сторонам лежали ковры с изображением птиц и зверей, вышитых червонным золотом по белому серебру, и с глазами цвета жемчуга или рубина. Кто видел их, непрестанно удивлялся».)
Мардрюс непрестанно удивляется бедности «восточного колорита» «Тысячи и одной ночи». С упорством, которому бы позавидовал сам Сесил Б. Милль, он щедро рассыпает по тексту визирей, поцелуи, пальмовые ветви и луны. Ему случилось прочесть в 570-й ночи: «И однажды они шли и вдруг увидели столб из черного камня и в нем существо, которое погрузилось в землю до подмышек, и было у него два больших крыла и четыре руки: две из них – как руки у людей, а две – как лапы льва, с когтями. И на голове у него были волосы, как конский хвост, и было у него два глаза, подобные углям, и третий глаз, на лбу, как глаз барса»[104]. Мардрюс переводит с напыщенностью и лоском: «Однажды вечером караван приблизился к колонне из черного камня, к которой было приковано странное существо; оно выступало из камня более чем наполовину, а другая его половина была погребена под землей. Этот выступающий из земли бюст казался каким-то чудовищным выродком, прикованным здесь мощью инфернальных сил. Он был черным, размером со ствол старой рухнувшей пальмы, очищенной от листьев. У него было два огромных крыла и четыре руки, две из которых были похожи на когтистые лапы льва. Всклокоченная шевелюра, как жесткая грива дикого осла, беспорядочно тряслась на испуганном его черепе. В глубине глазных орбит пламенели два красных зрачка, а двурогий лоб был пробуравлен единственным глазом, неподвижным и застывшим, что, открываясь, сверкал зеленым блеском, как зрачки тигров и пантер»[105].
Далее он пишет: «Бронза стен, сияющие на куполах драгоценные камни, прохладные террасы, каналы и все море, как и тени, падавшие на запад, сливались воедино под магической луной, овеваемые ночным зефиром». «Магическим» для человека тринадцатого века должно быть только очень четкое определение – а вовсе не простенький эпитет галантного доктора… Мне кажется, по-арабски «дословный и полный» перевод абзаца Мардрюса невозможен, точно так же как на латыни или на испанском Мигеля де Сервантеса.
Книга «Тысяча и одна ночь» стоит на двух столпах: первый, исключительно формальный, – ритмизованная проза; второй – нравственные проповеди. Первый, сохраненный Бёртоном и Литтманом, соотносится с духом рассказчика: прекрасные люди, дворцы, сады, волшебные деяния, упоминания божества, закаты, сражения, зори, начало и конец каждой сказки. Мардрюс, должно быть в силу особого рода сострадания, все это опускает. Второй требует двух способностей: блистательно комбинировать абстрактные слова и без зазрения совести вводить общие места. Мардрюсу не достает ни того ни другого. Из того стиха, что замечательно перевел Лейн: «And in this palace is the last information respecting lords collected in the dust», наш доктор едва-едва вытягивает: «Исчезли, все они! У них едва хватило времени передохнуть в тени моих башен». Вот исповедь ангела: «Я в плену у Власти, я заперт Сиянием, я наказан до тех пор, пока правит Вечный, кому подчинены Сила и Величие» – для читателя Мардрюса эти строки таковы: «Здесь я навеки закован Незримой Силой».
Волшебству Мардрюс тоже не помощник. Он не способен говорить о сверхъестественном без улыбки. Безуспешна попытка перевода следующего фрагмента: «Однажды халиф Абд-аль-Малик, заслышав о неких вазах из старинной меди, в которых содержится загадочный черный дым, формой своею похожий на дьявола, невероятно удивился и, казалось, засомневался в том, что столь известные вещи реальны, пока не вмешался странник Талиб ибн-Сахль». В этом отрывке (относящемся, как и прочие, что я привел, к истории Медного города, построенного, по Мардрюсу, из величественной Бронзы) умышленная наивность «столь известных» и весьма неправдоподобное сомнение халифа Абд-аль-Малика – не что иное, как два собственных домысла переводчика.
Мардрюс постоянно силится закончить работу, которую не доделали ленивые арабские анонимные авторы. Он добавляет пейзажи в духе ар-нуво, милые непристойности, короткие комические вставки, детали и обстоятельства, симметрию, много визуального ориентализма. Один из таких примеров: в 573-й ночи эмир Муса ибн-Носейр приказывает своим кузнецам и плотникам сделать очень прочную лестницу из дерева и железа. Мардрюс (для него эта ночь – 344-я) видоизменяет этот пресный фрагмент, добавляя, что люди эмира искали сухие ветки, саблями и ножами счищали с них кожуру, перевязывали их тюрбанами и поясами, верблюжьими уздечками, подпругами и сбруей из кожи, пока не сделали очень длинную лестницу, которую приставили к стене, подперев камнями со всех сторон… В целом нужно сказать, что Мардрюс не переводит слова – он работает со сценами: эта свобода недоступна переводчикам, но позволительна художникам, которые разрешают себе добавлять детали такого толка… Я не знаю, эти ли забавные вещи сообщают переводу такое настроение счастья, впечатление придумки, а не кропотливой словарной возни. Мне только кажется, что так называемый перевод Мардрюса является самым читаемым из всех – после версии несравненного Бёртона, которого также нельзя заподозрить в отменной точности. (В этом переводе фальшь имеет другой характер. Она состоит в чрезмерном употреблении грубого английского языка, перегруженного архаизмами и варваризмами.)
Я буду сожалеть (не из-за Мардрюса, но из-за себя), если в доказательствах, приведенных мною выше, читатель увидит ретроградные намерения и нападки. Мардрюс – единственный арабист, чья слава обеспечена литераторами, при этом сам он так успешен, что даже настоящие арабисты знают, кто он такой. Андре Жид был одним из первых, кто восславил Мардрюса в августе 1899 года; не думаю, что Кансела или Капдевила будут среди последних. Моя цель – не умалить этот восторг, а задокументировать его. Отмечать точность Мардрюса – значит забыть о его душе, значит толком не обрисовать его даже в общих чертах. Его неточность, неточность авторская и удачная – вот что имеет для нас значение.
3. Энно Литтман
Родина знаменитого арабского издания «Тысячи и одной ночи», Германия, может (тще)славиться четырьмя версиями перевода: Густава Вайля, «библиотекаря, хоть и израильтянина», как недоброжелательно выразились на страницах одной каталонской энциклопедии; Макса Хеннинга, переводчика Корана; Феликса Пауля Греве, литератора; и Энно Литтмана, дешифровщика надписей эфиопской крепости Аксум. Четыре тома первого перевода (1839–1842) наиболее примечательны, поскольку их автор – вынужденный покинуть Африку и Азию из-за дизентерии – заботится о сохранении и приумножении восточного стиля. Его интерполяции не вызывают у меня ничего, кроме уважения. Некие выскочки на совете говорят: «Мы не хотим уподобляться утру, что расcеивает праздник». О благородном царе он утверждает: «Огонь, что горит для его гостей, напоминает Ад, а роса из его добрых рук сродни Потопу»; о другом он говорит, что руки его «были щедры, как море». Эти замечательные неточности достойны Бёртона и Мардрюса, и переводчик частично сохраняет их и в стихах, где его дивное воображение может служить ersatz, или заменителем, оригинальных рифм. Проза его, насколько я понимаю, переведена в той же манере: купюры оправданны и противостоят в равной степени как ханжеству, так и бесстыдству. Бёртон хвалил эту работу, в которой «все верно ровно настолько, насколько может быть в популярном переложении». Недаром доктор Вайль был евреем, «хоть и библиотекарем»; в его языке ясно ощущается привкус Писания.
Вторая версия перевода (1895–1897) в равной мере лишена очарования как достоверности, так и стиля. Я говорю об издании, которое подготовил Хеннинг, арабист из Лейпцига, для «Universalbibliothek»[106] Филиппа Реклама. Речь идет о сокращенном переводе, хотя издательство и утверждает обратное. Стиль безвкусный и непреклонный. Самое бесспорное достоинство этого издания – объем. Помимо рукописей Зотенберга и дополнительных ночей Бёртона, в нем отражены также издания Булак и Бреслау. Хеннинг – переводчик сэра Ричарда буквально выше Хеннинга – переводчика с арабского, что, в свою очередь, служит еще одним доказательством превосходства сэра Ричарда над арабами.
В предисловии и заключении этого издания имеет место множество похвал Бёртону, которые почти опровергаются утверждением, что тот использовал «язык Чосера, а вместе с ним средневековый арабский». Назвать Чосера одним из источников словаря Бёртона было бы более резонно. (Другой источник – Рабле сэра Томаса Уркхарта.)
Третья версия, чей автор – Греве, опирается на английский перевод Бёртона и повторяет его, за исключением пространных примечаний. Опубликована перед войной издательством «Инзель-Ферлаг».
Четвертый перевод (1923–1928) был призван прийти на смену предыдущему. Как и последний, он насчитывает шесть томов. Его автор – Энно Литтман, дешифровщик памятников Аксума, пронумеровавший 283 эфиопских манускрипта, хранящихся в Иерусалиме, сотрудник «Zeitschrift fur Assyriologie»[107]. Здесь нет простительной Бёртону обходительности – перевод Литтмана совершенно точен. Его не сбивают с толку самые неизъяснимые непристойности – он переливает их на свой спокойный немецкий и реже – на латынь. Он не опускает ни единого слова, даже тех, что отмечают – не менее тысячи раз – переход от одной ночи к другой. Он отказывается от педалирования местного колорита или же не обращает на него внимания; он посчитал существенным указать издателям, чтобы имя «Аллах» было сохранено и не заменялось «Богом». Подобно Бёртону и Джону Пейну, он переводит европейским стихом арабский. Он гениально обращает внимание на то, что, если после ритуального предупреждения «Некто произнес такие стихи» следует абзац немецкой прозы, читатели окажутся в смятении. Он снабжает текст необходимыми комментариями для корректного понимания текста: по два десятка на каждый том, каждый – лаконичен. Он всегда ясен, понятен, усреднен. Он следует (как говорят) за дыханием подлинника. Согласно Британской энциклопедии, его перевод – лучший из всех представленных. Я слышал, что арабисты придерживаются того же мнения; и не имеет значения, если какой-то литератор – тем более из такой республики, как Аргентинская, – предпочитает с этим не согласиться.
Мои аргументы таковы: появление переводов Бёртона и Мардрюса и даже перевода Галлана было возможно только в рамках литературной традиции. Какими бы ни были их недостатки или достоинства, эти характерные труды предполагают насыщенный предшествовавший литературный и интеллектуальный процесс. До некоторой степени практически неисчерпаемый опыт английского, стоящий за переводом Бёртона, подавляет: резкие пикантности Джона Донна, огромный словарь Шекспира и Сирила Тернера, архаический вымысел Суинберна, предельная эрудированность ученых мужей XVII века, их энергия и всеобщность, любовь к невзгодам и магии. На легкомысленных страницах Мардрюса сочетаются «Саламбо» и Лафонтен, «Ивовый манекен» и русский балет. У Литтмана же – который, подобно Вашингтону, совершенно не способен лгать, – нет ничего, кроме германской благопристойности. Этого мало, слишком мало. В результате сделки между «Ночами» и Германией мир должен был увидеть нечто большее.
И на философской, и на романной почвах Германия располагает только фантастической литературой. И в «Ночах» есть чудеса, которые я мечтал увидеть в немецком зеркале. Формулируя это желание, я разумею как предумышленные чудеса сборника – всесильных рабов лампы или перстня, царицу Лаб, что превращает мусульман в птиц, медного лодочника, хранящего в груди талисманы и заклятья, – так и другие, более общие, берущие свое начало в коллективном творчестве, в необходимости заполнить тысячу и один раздел.
Когда разновидности волшебства иссякли, переписчикам не оставалось ничего, кроме обращения к историческим и благочестивым событиям, включение которых служило своего рода подтверждением правдоподобия других историй. В одном томе обретаются рубин, устремляющийся к небесам, и первое описание Суматры, характеристика двора Аббасидов и серебряные ангелы, чей хлеб – Господня милость. Именно это смешение и составляет поэзию «Ночей»; то же самое могу сказать и о некоторых повторах. Неужели не чудесно, что в 602-й ночи царь Шахрияр слышит из уст царицы собственную историю? Имитируя цельную рамочную конструкцию, сказка обычно содержит другие сказки, не уступающие по объему: сцены на сцене, как в «Гамлете»; сон возводится в степень. Кажется, пламенный и ясный стих Теннисона вполне может определить их:
- Laborious orient ivory, sphere in sphere[108].
К вящему удивлению, исчезающие и вновь отрастающие головы Гидры могут быть куда более осязаемыми, чем тело. Шахрияр, сказочный царь «островов Китая и Индостана», получает новые земли от Тарика ибн-Зийяда, правителя Танжера и победителя битвы при Гуадалете… Комнаты смешались со своими зеркальными отражениями, лица смешались с масками, и никто не в силах понять, где человек, а где его идол. И ничего из этого не имеет значения; этот хаос незамысловат и приемлем, как сон, являющийся в другом сне.
Случай поиграл с симметрией, с контрастом, с отклонениями. И чего только не придумал какой-нибудь человек, – скажем, Кафка, – сооружающий и очерчивающий эти игры, переделывающий их на германский манер, на манер германской Unheimlichkeit?[109]
1934–1936
Среди использованных книг следует упомянуть следующие:
Les Mille et une Nuits / contes arabes traduits par Galland. Paris, s. f.
The Thousand and One Night / commonly called The Arabian Nights Entertainments. A new translation from the arabic by E. W. Lane. London, 1839.
The Book of the Thousand Night and a Night / a plain and literal translation by Richard F. Burton. London (?), s. f. Vols. VI, VII, VIII.
Le Livre des Mille Nuits et Une Nuit / traduction littérale et complète du texte arabe, par le Dr J. C. Mardrus. Paris, 1906.
Tausend und eine Nacht / aus dem arabischen übertragen von Max Henning. Leipzig, 1897.
Die Erzählungen aus den Tausendundein Nächten / nach dem arabischen urtext der Calcuttar Ausgabe vom Jahre 1839 übertragen von Enno Littmann. Leipzig, 1928.
Я – еврей
Как друзы и луна, как смерть и прошлая неделя, далекое прошлое – из тех вещей, глубина которых измеряется нашим незнанием. Его мягкость и предупредительность не знают границ; оно, в отличие от будущего, всегда готово к услугам, а хлопот сулит куда меньше. Понятно, что прошлое – заповедник любых мифологий.
Кто хотя бы однажды не забавлялся поисками собственных предков, не воображал себе предысторию родных и близких? Я забавлялся этим неоднократно и всякий раз испытывал удовольствие, представляя себя евреем. Речь всего лишь о выдумке, о мысленном приключении тихони и домоседа, которое ведь не задевает никого и меньше других – репутацию Израиля, поскольку мое иудейство, подобно песням Мендельсона, остается музыкой без слов. Тем не менее журнал «Тигель» решил увековечить мою обращенную в прошлое надежду, объявив миру о «коварно скрываемых» мною еврейских корнях (подобное причастие, да еще вкупе с наречием, не может оставить писателя равнодушным).
Мое полное имя – Борхес Асеведо. В одном из примечаний к главе пятнадцатой своей книги «Росас и его эпоха» Рамос Мехия перечисляет буэнос-айресские семейства того времени, доказывая, что все или почти все они «ведут происхождение от португальских евреев». В списке есть и фамилия Асеведо: таков единственный документ в поддержку моих семитофильских притязаний (точнее, он был единственным до торжественного посвящения на страницах «Тигля»). Тем не менее капитан Онорио Асеведо предался соответствующим разысканиям, о результатах которых мне вряд ли дадут умолчать. Из них следует, что первым из Асеведо на латиноамериканский континент ступил каталонец дон Педро де Асеведо, землевладелец, около 1728 года пустивший корни в Паго-делос-Аройосе, отец и дед скотоводов этого края, почетный гражданин, фигурирующий в анналах одного из приходов Санта-Фе и в документах времен вице-королевства, – то бишь предок, увы, из неисправимых испанцев.
Два столетия не смогли придать ему иудейское происхождение, два столетия ничья рука не тревожила его памяти.
Я благодарен журналу «Тигель», подвигнувшему меня на эти розыски, но теперь у меня еще меньше надежд включить в свою родословную Жертвенник всесожжения, Медное море, Генриха Гейне, Глейзера и десять праведников, Екклесиаста и Чарли Чаплина.
Говоря языком статистики, евреи весьма немногочисленны. Что бы мы сказали о человеке, в четырехтысячном году открывшем, что отовсюду окружен выходцами из провинции Сан-Хуан? Наши изобличители упорно ищут чужие корни среди евреев, но никогда – среди финикийцев, нумидийцев, скифов, вавилонян, персов, египтян, гуннов, вандалов, остроготов, эфиопов, иллирийцев, пафлагонцев, сарматов, мидийцев, оттоманцев, берберов, британцев, ливийцев, циклопов и лапифов. Ночи Александрии, Вавилона, Карфагена или Мемфиса никогда не подарят тебе предка: эта способность оставлена лишь племенам смолистого Мертвого моря.
1934
Лабиринты детектива и Честертон
Англичанином владеют две взаимоисключающие страсти: необъяснимая тяга к приключениям и необъяснимое пристрастие к закону. Называю их «необъяснимыми», поскольку для уроженца Ла-Платы они именно таковы. Думаю, изменивший своему воинскому долгу и возведенный за это в ранг святого Мартин Фьерро, равно как изменивший своему долгу полицейского и тоже возведенный за это в ранг святого издольщик Крус, не стесняясь в выражениях и насмешках, немало подивились бы понятиям англичан (и североамериканцев) о непогрешимой правоте закона. Но еще несуразней была бы для них мысль, что их собственная кривая судьба головорезов может кого-то заинтересовать или увлечь. Убить для уроженца Ла-Платы – беда. Это напасть, и сама по себе она не прибавляет и не умаляет достоинств мужчины. Полная противоположность «Убийству как разновидности изящных искусств» у «болезненного искусника» Де Куинси или «Теории хладнокровного убийства» у любителя сидячей жизни Честертона.
Обе страсти – к телесным испытаниям и мстительной законности – находят свое удовлетворение в современной детективной прозе. Ее прототип – старые романы-фельетоны и новейшие еженедельные выпуски прославившего свое имя Ника Картера, чистоплотного и белозубого атлета, отцом которого стал репортер Джон Кориел, а матерью – не знающая сна и производящая по семьдесят тысяч слов в месяц пишущая машинка. Надо ли напоминать, что настоящий детективный роман с одинаковым презрением отвергает как физическую опасность, так и уравнительную справедливость. Кроме того, он безмятежно обходится без подземных застенков, потайных лестниц, угрызений совести, гимнастических упражнений, накладных бород, фехтования, бодлеровских нетопырей и превратностей судьбы. Как в первых образцах жанра («Тайна Мари Роже» Эдгара Аллана По, 1842), так и в одном из последних («Распутанные узлы» баронессы Орчи) история ограничивается абсолютно отвлеченным обсуждением и разгадкой, которые чаще всего отделены от преступления множеством миль и лет. Будничные способы детективного дознания – отпечатки пальцев, пытки, доносы – нарушили бы эту стерильную чистоту. Условность подобного запрета легко оспорить, но в данном конкретном случае невозможно упрекнуть: ее задача – не устранять трудности, а, напротив, нагромождать их. Это не чисто писательская условность, наподобие безликих наперсников Жана Расина или сценических реплик в сторону. Объемистый детектив близок уже к роману характеров, к психологическому роману («Лунный камень» Уилки Коллинза, 1868; «Мистер Дигвид и мистер Лэм» Филпотса, 1934). В рассказе же главное – загадочность и точность. Набор требований здесь я бы сформулировал так:
1. Благоразумное ограничение числа действующих лиц шестью. Опрометчивое нарушение этого закона – причина путаницы и скуки во всех детективных фильмах. В каждом из них зрителю показывают полтора десятка неведомых ему персонажей, чтобы в конце объявить, что хладнокровным преступником был вовсе не подглядывавший в замочную скважину А, не судорожно прятавший монету Б, не безутешно рыдавший в углу передней В, а ничем не примечательный молодой Ч, которого мы все время путали с Ш, невероятно похожего на Щ, в роковой день замещавшего лифтера. И я еще во много раз приуменьшаю то замешательство, в которое нас обычно повергают.
2. Демонстрация всех подробностей по ходу расследования. Если память (или ее слабость) меня не обманывает, многоразличные нарушения этого закона – любимая ошибка Конан Дойла. Скажем, речь идет о собранных Холмсом за спиной у читателя крупицах пепла, приводящих несравненного сыщика к одному-единственному сорту сигар из бирманского табака, которые продаются в одной-единственной лавке, а ею пользуется один-единственный клиент. В других случаях увертки куда серьезней. Я говорю об истинном виновнике, которого вдруг раскрывают в последний момент, предъявляя нам совершеннейшего незнакомца, безвкусную и неуклюжую интерполяцию. В честных рассказах преступник – один из сквозных персонажей и находится у нас на виду с самого начала.
3. Экономия средств. Открытие в решающий момент, что два персонажа – на самом деле один, читатель только приветствует, если, конечно, перемены достигаются не накладной бородой или фальшивым голосом, а игрой обстоятельств и имен. В противоположном случае – когда два героя преображаются в третьего, делая его вездесущим, – трудно избавиться от чувства, что перед тобой – топорная работа.
4. Превосходство «как» над «кто». Мошенники, уже заклейменные мною в пункте 1, кишат в историях о драгоценном камне, который доступен любому из пятнадцати участников – лучше сказать, пятнадцати фамилий, поскольку об их характерах мы ничего не знаем, – и в конце концов оказывается в руках одного из них. Легко догадаться, что задача узнать, какой из фамилий принадлежат упомянутые руки, вызывает у читателя достаточно скромный интерес.
5. Сдержанность в изображении смерти. Гомер мог рассказывать о мече, отрубившем руку Гипсенора, об окровавленной руке, упавшей в прах, о кровавой Смерти и могучей Участи, смеживших очи троянцу. Однако вся эта предсмертная помпа совершенно неуместна в детективном повествовании, бесстрастные музы которого – чистоплотность, хитрость и упорядоченность.
6. Предопределенность и поразительность разгадки. Первое предполагает, что загадка должна быть однозначной, иметь один ответ. Второе требует, чтобы эта разгадка поражала читателя; разумеется, автор не должен прибегать к сверхъестественному, обращаться к которому в данном жанре – слабость и вероломство. Соответственно, запрещен гипноз, телепатические галлюцинации, пророчества, непредсказуемого действия эликсиры, жульнические псевдонаучные трюки и талисманы любого рода. Честертон, как правило, идет на tour de force[110], предлагая сначала сверхъестественное объяснение, а затем без малейшей потери заменяя его посюсторонним.
Его недавняя книга «The scandal of Father Brown»[111] (Лондон, 1935) и внушила мне соображения, приведенные выше. Из пяти выпусков хроники деяний низкорослого пастыря этот, должно быть, наименее удачный. Однако здесь есть два рассказа, которые не хотелось бы потерять для будущей антологии или брауновского канона: третий, под названием «Книга, поражающая молнией», и восьмой, который называется «Неразрешимая загадка». Посылка первого впечатляет: речь идет о приходящей в негодность сверхъестественной книге, которая исчезает, стоит ее неосмотрительно открыть. Один из героев сообщает по телефону, что держит перед собой книгу и сейчас откроет ее; испуганный собеседник «слышит как бы беззвучный взрыв». Другому остается дыра в окне, третьему – дыра в брезенте, четвертому – безжизненная деревяшка вместо ноги. Dénouement[112] придумана неплохо, но готов поклясться, что пристальный читатель угадает ее уже на странице 73… В изобилии встречаются характерные мотивы Г. К. Ч.; скажем, грустный человек в черных перчатках, который оказывается потом аристократом и ярым противником нудизма.
Места действия, как обычно у Честертона, выбраны бесподобно: они намеренно и поразительно не подходят для преступления. Неужели никто до сих пор не отметил родства между фантастическим Лондоном Стивенсона и Честертона, между господами в трауре среди ночных садов «Suicide Club»[113] и нынешней обстановкой пятитомной саги об отце Брауне?
1935
Учение о циклах
Учение это (которое самый недавний его автор называет Вечным Возвращением) можно примерно сформулировать так:
«Число атомов, образующих Вселенную, хотя и немыслимо велико, но все же конечно и, как свойственно числу конечному (хотя и немыслимо огромному), имеет определенное количество перестановок. По прошествии бесконечно большого срока количество перестановок достигнет предела и Вселенная должна повториться. Ты снова родишься из чрева, снова твой скелет будет расти, снова эта же страница попадет в те же твои руки».
Таков обычный ход рассуждений на эту тему, начиная с банального вступления и до чудовищной, пугающей развязки. Учение это принято приписывать Ницше.
Прежде чем его опровергать – задача, возможно, для меня непосильная, – надо бы представить себе, хотя бы поверхностно, нечеловечески огромные числа, на которые оно ссылается. Начну с атома. Диаметр атома водорода вычислен, он составляет приблизительно одну стомиллионную долю сантиметра. Эта головокружительно ничтожная величина отнюдь не означает, что атом неделим. Напротив, Резерфорд представляет нам его в виде некой солнечной системы – центральное ядро и вращающийся вокруг него электрон, в сто тысяч раз меньший, чем весь атом. Но оставим это ядро и электрон и вообразим себе крохотную вселенную, состоящую из десятка атомов. (Разумеется, речь идет о скромной модели вселенной – невидимой, ибо микроскопы о ней и подозревать не могут; не поддающейся взвешиванию, ибо никакими весами ее не взвесить.) Предположим также – ни на йоту не отступая от гипотез Ницше, – что число изменений в этой вселенной определяется количеством комбинаций, возможных для десяти атомов, которые будут располагаться в различном порядке. Сколько разных состояний может смениться в этой вселенной, прежде чем наступит Вечное Возвращение? Рассчитать нетрудно, надо лишь перемножить 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 – в результате долгой, нудной операции получим число 3 628 800. Если эта почти бесконечно малая частица вселенной способна на такое множество изменений, трудно, а то и невозможно поверить в идею повторяемости космоса. Я взял десять атомов; чтобы получить два грамма водорода, нам их понадобится более миллиарда миллиардов. Вычислить количество возможных комбинаций в этих двух граммах – иначе говоря, перемножить миллиард миллиардов натуральных чисел соответственно количеству атомов, – такая операция уже далеко превосходит мои человеческие возможности.
Не знаю, убежден ли мой читатель, я-то не убежден. Беззаботное, невинное щеголянье огромными числами, несомненно, доставляет особое наслаждение, как все чрезмерное, однако Возвращение все же остается более или менее Вечным, пусть и отдаленным во времени. Ницше мог бы мне возразить: «Вращающиеся электроны Резерфорда – это для меня новость, равно как идея, для филолога возмутительная, что атом может быть расщеплен. Но, кстати говоря, я никогда не отрицал, что преобразования материи выражаются большими числами, я лишь утверждал, что они не бесконечны». Это предположительное возражение Фридриха Заратустры вынуждает меня обратиться к Георгу Кантору и его отважной теории множеств.
Кантор разрушает самую основу тезиса Ницше. Он утверждает, что число точек во Вселенной, и даже в одном метре Вселенной, или в отрезке этого метра – бесконечно. Сама операция счета – для него не что иное, как сопоставление двух рядов. Например, если в Египте первенцы были умерщвлены Ангелом во всех домах, кроме тех, где дверь была отмечена красным знаком, то, очевидно, что спаслось их столько, сколько было красных знаков, и тут вовсе не требуется высчитывать, сколько их было. Здесь количество неопределенно; есть другие группы, где оно бесконечно. Количество натуральных чисел бесконечно, но можно доказать, что нечетных столько же, сколько четных:
Доказательство столь же безупречное, сколь примитивное, но таким же оно будет для следующего утверждения, что для трех тысяч восемнадцати имеется столько же кратных, сколько существует чисел – не исключая из их ряда и три тысячи восемнадцать и его кратные:
То же самое можно утверждать и о степенях этого числа, как бы они ни возрастали:
Гениальное толкование этих фактов подсказало формулу, гласящую, что всякий бесконечный ряд – к примеру, натуральный ряд чисел – есть множество, которое в свой черед может состоять из бесконечных подмножеств. (Точнее, дабы избежать какой-либо неясности: бесконечное множество есть такое множество, которое может быть эквивалентно любому из своих подмножеств.) На этом высочайшем уровне счисления часть будет не меньше целого; точное количество точек, имеющихся во Вселенной, равно тому, сколько их есть в одном метре, или в одном дециметре, или в самой крутой траектории небесного тела. Ряду натуральных чисел присущ строгий порядок; элементы, его образующие, упорядочены: 28 предшествует 29 и следует за 27. Ряд точек в пространстве (или мгновений во времени) невозможно расположить в таком порядке – ни у одного члена тут нет ни непосредственного предшественника, ни последователя. Мы тут имеем дело как бы с дробями, расположенными в ряд по величине. Какую дробь мы назовем после 1/2? He 51/100, потому что 101/200 будет ближе; не 101/200, потому что еще ближе будет 201/400; не 201/400, потому что… и т. д. То же самое, согласно Георгу Кантору, происходит с точками. Мы всегда можем втиснуть еще и еще одну, до бесконечности. Тем не менее надо стараться не воображать чисел нисходящих. Каждая точка «уже» является пределом бесконечного деления.
Сопоставление изящной игры Кантора с изящной игрой Заратустры – смертельно для Заратустры. Если Вселенная состоит из бесконечного множества элементов, стало быть, она должна быть способна на бесконечное количество комбинаций – и неизбежность Возвращения отпадает. Остается всего лишь его возможность, равная нулю.
Осенью 1883 года Ницше пишет: «Этот паук, медленно ползущий при лунном свете, и сам этот лунный свет, и ты, и я, стоящие в прихожей и шепотом говорящие о вечном, – не случалось ли всем нам уже сойтись вместе когда-то в прошлом? И не встретимся ли мы снова на долгом пути, на этом долгом, волнующем пути, не будем ли мы вечно встречаться? Так говорил я, все понижая голос, потому что мне внушали страх мои мысли и мои предчувствия». Века за три до Креста Евдем, толкователь Аристотеля, писал: «Если верить пифагорейцам, то все будет в точности повторяться, и вы будете снова со мною, и я буду повторять слова этого учения, и рука моя будет играть этой палкой, и так во всем прочем». В космогонии стоиков Зевс питается миром: с циклической повторяемостью вселенную пожирает огонь, ее создавший, и она снова возникает из небытия, дабы опять пройти тот же исторический путь. Снова образуются комбинации различных зародышевых частиц, снова обретают форму камни, деревья и люди – и даже различные силы и дни, ибо для греков невозможно было представить себе имя существительное без какой-либо телесности. Снова возникнут каждый меч и каждый герой, снова повторится каждая бессонная ночь со всеми ее подробностями.
Как и другие гипотезы школы стоиков, учение о всеобщем повторении распространилось со временем, и его специальное обозначение «апокатастаз» вошло в Новый Завет (Деян. 3: 21), хотя и с не вполне ясным смыслом. В двенадцатой книге «Civitas Dei»[114] Блаженного Августина несколько глав посвящено опровержению столь мерзостного учения. Главы эти (они сейчас передо мной) изложены чересчур запутанно для краткого их пересказа, однако можно заметить, что епископская ярость автора выделяет два мотива: первый – грандиозная бесполезность подобного «колеса»; второй – высмеивание того, что Логос тут погибает на кресте неоднократно, как некий фокусник на бесконечно повторяющихся цирковых представлениях. Разлука и самоубийство, повторяясь слишком часто, теряют свою значительность; то же самое, по-видимому, думал Блаженный Августин о Распятии. Посему он с негодованием отвергает предположение стоиков и пифагорейцев. Они полагали, что Богу познание бесконечности не присуще и что вечное повторение мирового развития нужно для того, чтобы Бог его познавал и к нему привыкал. Блаженный Августин высмеивает эти бесплодные коловращения и утверждает, что Иисус – прямая стезя, позволяющая нам выбраться из кругообразного лабиринта подобных ересей.
В той главе своей «Логики», где речь идет о законе причинности, Джон Стюарт Милль заявляет, что периодическое повторение истории вполне вообразимо – хотя и нереально, – и цитирует «мессианскую эклогу» Вергилия: «Jam redit et virgo, redeunt Saturnia regna…»[115]
Неужто эллинист Ницше мог не знать об этих своих предшественниках? Ницше, автор фрагментов о досократиках, мог не знать учения, которое усвоили ученики Пифагора?[116] Поверить в это очень трудно – и не нужно. Да, действительно, Ницше указал на достопамятной странице своего дневника точное место, где его осенила мысль о Вечном Возвращении: лесная тропинка у Сильвапланского озера, вблизи большой пирамидальной кучи камней, в некий августовский полдень 1881 года – «на расстоянии шести тысяч футов от человека и от современности». Да, действительно, это мгновение – одно из славнейших для Ницше. «Бессмертен тот миг, – записывает он, – когда я создал теорию Вечного Возвращения. Ради этого мига я согласен терпеть Возвращение» («Unschuld des Werdens»[117], II, 1308). Думаю, однако, что мы не должны здесь предполагать разительное невежество, или человеческую – слишком человеческую! – способность смешивать озарение с воспоминанием, или же грех тщеславия. Моя разгадка имеет характер грамматический, даже, я сказал бы, синтаксический. Ницше знал, что Вечное Возвращение принадлежит к тем сюжетам, или страхам, или забавам, которые вечно возвращаются, но также он знал, что из всех грамматических лиц самое убедительное – первое лицо. Для пророка же, можно утверждать, оно просто единственное. Вести происхождение своего открытия от какого-нибудь краткого изложения или от «Historia philosophiae graecoromanae»[118] адъюнкт-профессоров Риттера и Преллера было для Заратустры невозможно по причинам престижа и вопиющего анахронизма – и даже типографским. Ведь в пророческом слоге неуместны кавычки, а также ученые ссылки на книги и авторов…
Если моя человеческая плоть усваивает животную плоть овец, кто может помешать человеческому уму усваивать разные состояния других человеческих умов? В итоге долгих размышлений о Вечном Возвращении и глубоких переживаний на сей предмет идея уже принадлежит ему, Ницше, а не какому-то там покойнику, от которого только и осталось что греческое имя. Но довольно об этом, у Мигеля де Унамуно тоже где-то сказано о подобной родословной идей.
Ницше были по душе люди, способные выдержать бессмертие. Это я повторяю его слова, записанные в тетрадях в «Nachlass»[119], где также значится следующее: «Если ты думаешь, что, прежде чем ты возродишься, тебя ждет долгий покой, клянусь тебе, ты ошибаешься. Между последним мгновением твоего сознания и первым проблеском новой жизни пролегает „отсутствие времени“ – срок краткий, как молния, хотя, чтобы измерить его, не хватит миллиардов лет. Когда отсутствует „я“, бесконечность может быть равноценна мгновению».
До Ницше личное бессмертие было всего лишь порожденной надеждами иллюзией, смутным предвкушением. Ницше представляет его как неизбежность и придает ему жестокую отчетливость образов бессонницы. «Бессонница, – читаю я в старинном трактате Роберта Бёртона, – это мука крестная меланхоликов», а нам известно, что Ницше страдал от этой муки и вынужден был искать спасения от нее в горьком хлоралгидрате. Ницше хотелось быть Уолтом Уитменом, хотелось всесторонне возлюбить свою судьбу. Он избрал героический способ: откопал чудовищную гипотезу о Вечном Возвращении и попытался превратить этот интеллектуальный кошмар в повод для ликования. Разыскал самый ужасающий образ Вселенной и предложил людям восхищаться им. Робкий оптимист обычно воображает себя ницшеанцем; Ницше преподносит ему круги Вечного Возвращения и тем самым отшвыривает его от себя.
Ницше писал: «Не желать труднодоступных удач и милостей и благословений, но жить такой жизнью, какую бы хотелось прожить снова и снова, и так целую вечность». Маутнер замечает, что приписывать наималейшее моральное, сиречь практическое, влияние теории Вечного Возвращения означает отрицать эту теорию, ибо это все равно что воображать, будто что-то может происходить по-другому. Ницше на это ответил бы, что формулировка теории о Вечном Возвращении и его широком моральном (сиречь практическом) воздействии, и возражения Маутнера, и его, Ницше, опровержение возражений Маутнера – все это необходимые моменты мировой истории, результат движения атомов. Он по праву мог бы повторить то, что было им написано: «Достаточно того, что циклическое возвращение вероятно или возможно. Сама мысль о такой возможности может нас потрясти и преобразить. Какое могучее воздействие оказала возможность вечных мук!» И в другом месте: «В тот миг, когда в нашем уме появляется эта идея, все цвета меняются – и начинается другая история».
Порой нас поражает чувство, будто «подобный момент я уже переживал». Приверженцы Вечного Возвращения клянутся, что так оно и есть, и привлекают эти смутные состояния ума в подкрепление своей веры. Они забывают о том, что воспоминание само по себе есть нечто новое, а это уже отрицание их тезиса о повторении, и что время постоянно отодвигало бы воспоминание все дальше – вплоть до того далекого цикла, где индивидуум уже предвидит свою судьбу и предпочитает поступать иначе… Впрочем, Ницше никогда не говорил о каком-либо мнемоническом подтверждении Возвращения[120].
Он также не говорил – и это также надо подчеркнуть – о конечном количестве атомов. Ницше отрицает атомы; атомистику он считал не чем иным, как моделью Вселенной, созданной лишь для глаз и для математического восприятия… Обосновывая свой тезис, он говорил об ограниченной силе, действующей в бесконечном времени, но неспособной на неограниченное число вариаций. Тут кроется коварный подвох: сперва Ницше предостерегает нас от мысли о некой бесконечной силе – «остережемся подобных оргий мысли», – а затем великодушно допускает, что время бесконечно. Точно так же ему нравится ссылаться на Предыдущую Вечность. Например: равновесие космической энергии невозможно, ибо в противном случае оно уже установилось бы в Предыдущей Вечности. Или так: всемирная история повторялась бесконечное число раз – в Предыдущей Вечности. Ссылка кажется убедительной, однако нелишне напомнить, что эта Предыдущая Вечность (или aeternitas a parte ante[121], как сказали бы теологи) есть не что иное, как наша природная неспособность представить, что у времени может быть начало. Такая же неспособность присуща нам и в отношении пространства, и потому ссылаться на Предыдущую Вечность столь же плодотворно, как упоминать некую Бесконечность Справа. Иначе говоря: если для наших чувств время бесконечно, то бесконечно и пространство. Эта Предыдущая Вечность не имеет ничего общего с реальным прошедшим временем; пойдем вспять от первой секунды – и мы увидим, что ей должна предшествовать другая, а той – еще другая, и так до бесконечности. Дабы остановить это regressus in infinitum[122], Блаженный Августин решил, что первая секунда времени совпала с первой секундой Творения – non in tempore sed cum tempore incepit creatio[123].
Ницше прибегает к сравнению с энергией; второй закон термодинамики гласит, что есть необратимые энергетические процессы. Тепло и свет – это всего лишь формы энергии. Достаточно спроецировать луч света на черную поверхность, и он превратится в тепло. Тепло, напротив, уже не обретет форму света. Это доказательство, с виду безобидное и банальное, уничтожает «циклический лабиринт» Вечного Возвращения.
Первый закон термодинамики гласит, что количество энергии во Вселенной постоянно; второй – что энергия эта стремится к распаду, к беспорядку, хотя общее ее количество не уменьшается. Эта постепенная дезинтеграция сил, образующих Вселенную, есть энтропия. Как только будет достигнут максимум энтропии, как только разность температур выровняется, как только устранится (или компенсируется) всякое воздействие одного тела на другое, мир станет беспорядочным скоплением атомов. В глубинном центре небесных тел это труднодоступное и губительное равновесие уже наступило. Благодаря взаимодействию атомов его достигнет вся Вселенная, и тогда она станет остылой и мертвой.
Свет, переходя в тепло, исчезает; Вселенная, минута за минутой, становится все более невидимой. Она также становится более легкой. Когда-нибудь вся она обратится в тепло, тепло всюду одинаковое, неподвижное, ровное. Тогда Вселенная умрет.
Последнее сомнение, на сей раз метафизического рода. Если принять тезис Заратустры, мне все же непонятно, каким образом два тождественных процесса не сливаются в один. Неужто достаточно простой их последовательности, причем никем не удостоверенной? Раз нет особого архангела, который вел бы счет, тогда что означает тот факт, что мы проходим цикл тринадцать тысяч пятьсот четырнадцатый, а не первый в ряду, или цикл номер триста двадцать два с показателем степени две тысячи? Для практики – ничего не означает, но мыслителю это не помеха. Для мысли – тоже ничего, а это уже серьезный недостаток.
1936
Из книг, которыми я пользовался для вышеизложенного очерка, я должен упомянуть следующие:
Nietzsche, Friedrich. Die Unschuld des Werdens. Leipzig, 1931.
Nietzsche, Friedrich. Also sprach Zarathustra. Leipzig, 1892.
Russell, Bertrand. Introduction to Mathematical Philosophy. London, 1919.
Russell, Bertrand. The ABC of Atoms. London, 1927.
Eddington, Arthur Stanley. The Nature of the Physical World. London, 1928.
Deussen, Paul. Die Philosophic der Griechen. Leipzig, 1919.
Mauthner, Fritz. Wörterbuch der Philosophie. Leipzig, 1923.
San Agustin. La ciudad de Dios / versión de Diaz de Beyral. Madrid, 1922.
История вечности
В одном отрывке из «Эннеад», где задается вопрос о времени и его природе, говорится, что прежде времени надо знать, что такое вечность, ибо она, как известно, есть модель и прообраз времени. Это предупреждение, если принять его всерьез, очень существенно, потому что, похоже, оно исключает возможность какого бы то ни было взаимопонимания с человеком, это написавшим. Время для нас – проблема, проблема жгучая и настоятельная и, возможно, во всей метафизике самая жизненно актуальная, вечность же – игра и докучливая мечта. У Платона в «Тимее» мы читаем, что время – это текучий образ вечности, мнение, ничуть не поколебавшее всеобщее убеждение, что именно вечность соткана из времени. Историю вечности, этого неуклюжего слова, вокруг которого столько разнотолков, я и намерен описать.
Выворачивая наизнанку метод Плотина – единственный способ им воспользоваться, – я начну с того, что припомню все темное и невразумительное, что связано со временем, этой естественной метафизической тайной, которая стоит прежде вечности – детища людей. Одно из таких мест, не самое темное, но и не самое ясное, касается направления времени. Все считают, что оно течет из прошлого в будущее, но вполне вероятно и обратное, то, о чем пишет испанец Мигель де Унамуно: «В сумерках река времени струится из вечного завтра…»[124]
И то и другое одинаково правдоподобно и одинаково непроверяемо. Брэдли отвергает обе концепции и выдвигает свою собственную: будущее следует изъять, оно всего лишь выражает наши чаяния, а «актуальное» – представить как распад исчезающего в прошлом настоящего. Этот уход в прошлое обычно соответствует периодам упадка и засилья пошлости, тогда как всякое энергетическое действие мы соотносим с устремленностью в будущее…
Брэдли отрицает будущее, одна из философских школ Индии отрицает настоящее, считая его неуловимым. «Апельсин или вот-вот сорвется с ветки, или он уже на земле, – утверждают эти странные вульгаризаторы. – Никто не видит, как он падает».
Есть и другие трудности. Одна из них, и возможно, наибольшая – как сочетать личное время каждого с общим математическим временем – вызвала много толков в связи с релятивистским бумом, и все это помнят или помнят, что совсем недавно помнили. По крайней мере, мне эта проблема представляется так: если время у нас в голове, то как оно может быть одним и тем же в головах тысяч или хотя бы у двух людей? Другая трудность описана элеатами в связи с отрицанием движения. Ее можно изложить так: четырнадцать минут не пройдут за восемьсот лет, потому что до того, как пройдут четырнадцать минут, должны пройти семь, а до семи – три с половиной минуты, а до того – минута и три четверти, и так до бесконечности, так что четырнадцать минут никогда не пройдут. Рассел оспаривает этот довод, утверждая, что бесконечные числа реальны и что в них нет ничего необычного, но что они, по определению, даются сразу, а вовсе не как «предел» беспредельного процесса исчисления. Эти огромные величины Рассела удачно предвосхищают ту вечность, которая образуется не через прибавление частей.
Ни одна из придуманных людьми вечностей – ни вечность номинализма, ни вечность Иринея или Платона – не соединяет механически прошлого, настоящего и будущего. Она и проще, и чудеснее, это одновременность всех этих времен. Язык современности и тот поразительный словарь, dont chaque édition fait regretter la précédente[125], похоже, проходят мимо этого, но именно так полагали метафизики. «Вещи в душе располагаются последовательно: сначала Сократ, потом лошадь, – читаю я в пятой книге „Эннеад“, – всегда отдельная вещь воспринимается, а тысячи вещей теряются, но Божественный Промысел объемлет все вещи. И прошлое находится в настоящем, в точности как грядущее. Ничто не проходит в этом мире, все вещи пребывают, и удел их – спокойствие и безмятежность».
Я перехожу к рассмотрению той вечности, из которой развились все последующие. Действительно, ее первооткрыватель не Платон – в одном платоновском тексте говорится о «древних и священных философах», предшественниках Платона, – но он с блеском углубляет и сводит воедино все сделанное до него. Дейссен сравнивает платоновский труд с закатом: тот же пронзительный свет в предчувствии конца. Все греческие концепции вечности вошли в тексты Платона и были им либо отвергнуты, либо изложены в духе трагедии. Поэтому я и ставлю Платона прежде Иринея с его второй вечностью, увенчанной тремя разными и непостижимо одинаковыми фигурами.
Вот что так пылко говорит Плотин: «Всякая вещь на умопостигаемых небесах есть небо, и земля там тоже небо, как и животные, растения, люди и море. И зрят они мир нерожденный. Все смотрится в иное. И нет в сем царстве вещи непрозрачной, нет ничего непроницаемого, мутного, но свет сталкивается со светом. Все везде и все – это все. Каждая вещь есть все вещи. И солнце – это все светила, и всякое светило – это все светила и солнце. И никому тот мир не чужбина». Этот слаженный универсум, этот апофеоз уподобления и согласия еще не вечность, но прилегающее к ней небо, не вполне свободное от чисел и пространства. К созерцанию вечности, мира универсальных форм, призывает и следующий отрывок из пятой книги: «Пусть люди, зачарованные здешним миром, его мощью, красотой, упорядоченностью непрерывного движения, богами видимыми и невидимыми, в нем обитающими, демонами, деревьями и животными, вознесутся мыслью к Реальности, ибо все это лишь ее отражение. И увидят они там умопостигаемые формы, не заемные у вечности, но истинно вечные, и узрят ее предводителя, чистый Ум, и недостижимую Мудрость, и истинный век Хроноса, чье имя Полнота. Все бессмертные вещи в нем. Всякий ум, всякий бог и всякая душа. Он везде, зачем ему куда-то идти? Он счастлив, для чего ему перемены и превратности? И то, что потом он обрел, было у него вначале. Все ему принадлежит в единой вечности – той вечности, которой вторит время, кружа вокруг души, всегда бегущей от прошлого, всегда стремящейся в будущее».
Частое употребление множественного числа в предыдущих абзацах может ввести в заблуждение. Идеальный универсум, в который нас приглашает Плотин, не так тяготеет к изменчивости, как к исполненности, в нем все тщательно отобрано, нет никаких повторов и плеоназмов. Это недвижное и страшное собрание платоновских архетипов. Не знаю, видели ли этот мир когда-нибудь глаза простого смертного – я не говорю о мистических откровениях и кошмарах, – или это был плод воображения изобретшего его грека, но есть в нем что-то от музея: что-то застывшее, монструозное, разложенное по полочкам. Это, впрочем, личное впечатление, которым читатель может пренебречь, но из-за этого не стоит пренебрегать основными сведениями о платоновских архетипах или первозданных причинах и идеях, которые населяют и составляют вечность.
Здесь не место детальному обсуждению платоновской системы, сделаю только несколько замечаний предварительного порядка. Для нас последняя реальность вещей заключается в том, что они суть материя, вращающиеся электроны, пробегающие целые галактики вокруг атомов. Для тех, кто мыслит как платоник, это вид, форма. В третьей книге «Эннеад» мы читаем, что материя нереальна, что она чистая и полая пассивность, принимающая любые универсальные формы, как их принимает зеркало, формы будоражат материю, не меняя ее сущности. Ее наполненность – это именно наполненность зеркала, прикидывающегося наполненным, но на самом деле оно пусто, это призрак, который не исчезает, потому что ему недостает сил даже на то, чтобы перестать быть. Главное же – формы. О них, вторя Плотину, но много позже, Малон де Чайде говорит следующее: «Чтобы постичь действия Бога, вообразите, что у вас есть восьмигранная золотая печать, на одной стороне которой вычеканен лев, на другой – лошадь, на третьей – орел, и так подряд. И вот вы на одном куске воска отпечатываете льва, на другом – орла, на третьем – лошадь… конечно, все, что есть на воске, есть и на золоте, и нельзя отпечатать того, чего не было вычеканено на печати. С одним различием: то, что есть на воске, всего лишь воск и ничего не стоит, а то, что на золоте, есть золото и стоит дорого. В тварном мире добродетели конечны и ничего не стоят. В Боге они золотые, потому что они суть сам Бог». Отсюда можно заключить, что материя – это ничто.
Как ни плох этот критерий, как ни туманен, мы постоянно им пользуемся. Отрывок из Шопенгауэра – это не бумага лейпцигской конторы, не печать, не утонченная графика готического шрифта, не совокупность звуков, составляющих слова, не даже наше мнение о нем. Мириам Хопкинс сотворена из Мириам Хопкинс, а не из азотистых соединений или минералов, водных растворов углерода, алкалоидов и жиров, образующих преходящую субстанцию этого неуловимого серебристого привидения или умопостигаемой сущности Голливуда. Этот рассудительный ход мыслей побуждает нас отнестись к платоновскому тезису более примирительно. Мы его сформулируем так: индивиды и вещи существуют в той мере, в которой они причастны виду, который их составляет и является их непреходящей реальностью. Вот удачный пример: птица. Ее привычка к стае, маленькие размеры, неизменность внешнего вида, издревле идущая связь с двумя зорями – утренней и вечерней, то обстоятельство, что птиц мы чаще слушаем, чем смотрим на них, – все это вынуждает нас отдать предпочтение виду и ни во что не ставить индивид как таковой[126]. Китс очень недалек от истины, когда полагает, что чарующий его соловей – тот самый соловей, которого слышала Руфь, «бредущая по чуждому жнивью». Стивенсон поклоняется одной-единственной птице – соловью, пожирателю времени. Шопенгауэр тоже вносит свою лепту – соображение о чистой телесности, в которой живут животные, об их неведении смерти и памяти. Он не без улыбки присовокупляет: «Если я скажу вам, что играющий во дворе серый кот – тот самый, который прыгал и проказничал пятьсот лет назад, вы вольны думать обо мне что угодно, но еще бóльшая нелепость полагать, что это какой-то другой кот». И далее: «Удел львов требует львиности, которая во времени предстает как некий бессмертный лев, живущий за счет непрестанно воспроизводящихся индивидов, их рождение и смерть не что иное, как биение пульса этого непреходящего льва». И до того: «Некая бесконечность предшествовала моему рождению. Так кем же я был тогда? С метафизической точки зрения можно было бы сказать: я – всегда был „я“, иными словами, все, кто в то время говорил „я“, были мной».
Мне почему-то кажется, что читатель одобрительно отнесется к вечной Львиности, что он испытает какое-то торжественное облегчение перед этим многократно отразившимся в зеркалах времени уникальным Львом. Зато от понятия вечной Человечности я этого не жду, я знаю, что наше «я» ее отвергает, предпочитая бесстрашно распространять ее на чужие «я». Скверно, что Платон предлагает нам еще более недоступные универсальные формы. Такие, как Стольность, или устроившийся на небесах Умопостигаемый Стол, этакий четырехногий архетип, мечта каждого столяра. Начисто отрицать Стольность я, конечно, не могу – без идеального стола нам не добраться до конкретных столов. А то еще Треугольность: пресловутый многоугольник с тремя сторонами, расположенный вне пространства и не снисходящий до равносторонности, разносторонности и равнобедренности. Ну что ж, против азов геометрии тоже сказать нечего. Но вот что касается Необходимости, Разума, Отсрочки, Отношения, Рассмотрения, Размера, Порядка, Медлительности, Положения, Заявления, Беспорядка, то об этих умственных конструктах я не знаю, что и подумать, полагаю, их никто и представить себе не может, разве что у него агония, жар или ум за разум зашел. Впрочем, я совсем позабыл о главном архетипе, том, что объемлет все упомянутые выше и всех так воодушевляет: о вечности, чье разбитое отражение есть время.
Не знаю, достаточно ли моему читателю оснований для того, чтобы перестать доверять платоновскому учению, у меня их полным-полно: во-первых, Платон сополагает несовместимые родовые и абстрактные понятия, сосуществующие в мире архетипов; далее, он умалчивает о способе, которым вещи приобщаются к универсальным формам, да и подверженность этих стерильных архетипов инфекции множественности и разнообразия тоже подозрительна. Проблемы эти, впрочем, можно решить. Ведь архетипы не менее туманны, чем временны́е вещи. Созданные по образу вещей, они страдают теми самыми недостатками, которые им предлагалось устранить. Вот Львиность. Как изъять из нее Надменность, Рыжесть, Гривастость, Когтистость? На этот вопрос нет и не может быть ответа. Не стоит ждать от слова «львиность» чего-то особенного, чего нет в слове «лев»[127].
Возвращаюсь к Плотиновой вечности. Пятая книга «Эннеад» включает в себя самый общий перечень составляющих ее сущностей. Здесь и Справедливость, и Числа (до которого?), и Добродетели, и Деяния, и Движение, но нет там ни ошибок, ни дурных слов, ибо они суть недуги материи, до которой пала форма. Есть Музыка, но в виде Гармонии и Ритма, а не мелодии. У патологии и агрономии нет архетипов, потому что в них нет нужды. Ничего не говорится и о хозяйстве, стратегии, риторике и искусстве правления; впрочем, как явления временны́е, они, возможно, соотносятся с архетипами Красоты и Числа. Там нет индивидов и нет никакой первозданной формы ни для Сократа, ни для Человека Высокого Роста, ни для Императора, а есть только общее понятие «Человек». Напротив, все геометрические фигуры представлены. Из цветов есть только основные; ни Пепельного, ни Пурпурного, ни Зеленого в этой вечности нет. Иерархия важнейших архетипов по восходящей линии такова: Различие, Тождество, Движение, Покой и Бытие.
Мы рассмотрели вечность, которая беднее мира. Нам остается разобрать, как ее освоила церковь, превратив в источник богатства, неизмеримо большего, чем то, которое добывает время.
Лучшее документальное свидетельство первой вечности – пятая книга «Эннеад», второй, или христианской, вечности – одиннадцатая книга «Исповеди» св. Августина. Первую вечность нельзя себе представить вне платоновского учения об идеях, вторую – без тайны Триединства и споров вокруг предназначения и воздаяния. Пятьсот страниц ин-фолио не исчерпали темы; полагаю, две-три странички ин-октаво не покажутся расточительством.
Можно утверждать с большой степенью вероятности, что «нашу» вечность учредили несколько лет спустя после того, как хроническое кишечное недомогание свело в могилу Марка Аврелия, и что местом, где произошло это головокружительное событие, была балка Фурвьер, прежде называемая Форум Ветус, а ныне знаменитая своей базиликой и фуникулером. Эта учрежденная епископом Иринеем всеобъемлющая вечность была не просто новой сутаной, в которую облеклась церковь, не была она и каким-то доктринальным изыском, ей пришлось стать сознательной позицией и оружием. Слово рождается Отцом, и Дух Святой исходит от Отца и от Сына, на основании этих двух бесспорных фактов гностики приходят к заключению, что Отец был раньше Сына и оба предшествовали Духу. Такой вывод разъединял Троицу. Ириней разъяснил, что оба события – рождение Сына Отцом и исхождение Духа от них обоих – осуществляются не во времени, но разом охватывают прошедшее, настоящее и будущее. Эта точка зрения возобладала, сейчас она – догма. Так была провозглашена вечность, таившаяся прежде в тени какого-то безвестного платоновского текста. Неслиянность и нераздельность трех ипостасей Господа ныне представляется слишком незначительным вопросом для того, чтобы на него серьезно отвечать, и, однако, не приходится сомневаться в том, что этот вопрос имел первостепенное значение, поскольку с его решением связывались определенные надежды: «Aeternitas est merum hodie, et immediata et lucida fruitio rerum infinitarum»[128]. Идеологическое значение полемики вокруг Троицы также сомнению не подлежит.
Сейчас в светских католических кругах к Троице относятся как к чему-то само собой разумеющемуся, безупречно верному и беспредельно архаичному. Меж тем в кругах либералов ее рассматривают как воплощение изживающей себя церковной догмы, подлежащей устранению по мере развития демократии. Конечно, троичность не умещается в эти представления. Внезапную идею объединить в одно целое Отца, Сына и призрак можно счесть интеллектуальным извращением, она – как чудище из ночного кошмара, ведь если ад представляет собой физическое насилие как таковое, то сплетение трех фигур – это какой-то интеллектуальный ужас, некая заарканенная вечность, уловленная при помощи двух повешенных друг против друга зеркал. У Данте она изображена в виде разноцветных прозрачных кругов, совпадающих друг с другом. У Донна это толстые змеи, обвившиеся одна вокруг другой. «Toto coruscat trinitas mysterio»[129], – написал св. Павлин.
Идея соединения трех лиц в одном, взятая сама по себе, отдельно от концепции искупления, должна показаться странной. От того, что мы будем рассматривать ее как вынужденную меру, тайна Троицы не станет менее загадочной; правда, может выявиться ее назначение. Нетрудно понять, что отказ от троичности или по крайней мере от двоичности превращает Иисуса из вечного мерила нашей веры в какого-то случайного посланца Господа, некий исторический факт, которого могло и не быть. Если Сын – не Отец, искупление – не дело рук Бога, а если Он не вечен, не вечна и жертва вочеловечения и крестных мук. «Только беспредельное совершенство может спасти навеки падшую душу», – указывает Иеремия Тейлор. Так получает оправдание догма, хотя представление о рождении Сына Отцом и Духа обоими не снимает вопроса о приоритете, не говоря уже вообще об ущербности всякой метафоры. Погрязшие в спорах о троичности богословы приходят к выводу, что для путаницы нет оснований: в одном случае речь идет о рождении Сына, в другом – о рождении Духа. Рождение Сына вечно, исхождение Духа вечно, таков высокомерный вердикт Иринея, выдумавшего деяние вне времени, какое-то искореженное zeitloses Zeitwort[130], которое можно отвергнуть, можно превознести, только нельзя обсуждать. Ириней решил спасти чудовище, и ему это удалось. Известно, что он был ненавистником философов и сражаться с ними философским оружием ему, вероятно, доставляло особенное удовольствие.
Для христианина первый миг времени и первый миг Творения совпадают: так себе и представляешь, как Бог на досуге сматывает века в клубок «отошедшей» вечности. Что-то в этом роде не так давно было описано Валери. А Эмануэлю Сведенборгу («Vera Christiana religio»[131], 1771) привиделась у пределов небесной сферы фигура, пожирающая тех, кто в безрассудстве своем силится узнать, что же это делал Бог до сотворения мира.
Открытая Иринеем христианская вечность с самого начала отличалась от вечности александрийской. В качестве отдельного мира христианская вечность заняла место одного из девятнадцати атрибутов божественного ума. Выставленным на обозрение толпы архетипам грозила участь быть превращенными в божества или ангелов. Их реальность признавалась большей, чем реальность вещей тварного мира, с тем различием, что теперь они в качестве вечных идей были включены в Творящее Слово. Альберт Великий разрабатывает понятие universalia ante res[132], утверждая, что эти универсалии вечны и предшествуют вещам тварного мира как их прообразы или формы. Он тщательно разграничивает их с universalia in rebus[133], которые по сути те же самые понятия божественного ума, но уже получившие разнообразное временно́е воплощение, и больше всего заботится о том, чтобы их не смешивали с universalia post res[134], формируемыми индуктивным мышлением. Временны́е универсалии отличаются от божественных только тем, что им недостает творящей способности; у схоластов не возникает и тени сомнения, что категории божественного ума совпадают с категориями латыни… Впрочем, я, кажется, забегаю вперед.
Богословы не слишком утруждают себя вечностью. Обычно они ограничиваются указанием на то, что это исчерпывающее переживание всех фрагментов времени как актуальных, и мусолят Священное Писание в поисках подтверждения собственных измышлений, при этом складывается впечатление, что Дух Святой так и не сумел толком выразить то, что так внятно говорит комментатор. Потому-то им так нравится это свидетельство то ли великолепного презрения, то ли просто долголетия: «Один день перед Господом как тысяча лет, и тысяча лет как один день», или великие слова, услышанные Моисеем и составлявшие имя Бога: «Я есмь Сущий», или те, что услышал до и после видений стеклянного моря, багряного зверя и птиц, пожирающих трупы тысяченачальников, св. Иоанн Богослов с Патмоса: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец»[135]. И еще они ссылаются на определение Боэция, сформулированное им в тюрьме накануне гибели от руки палача: «Aeternitas est interminabilis vitae tota et perfecta possessio»[136], которое мне еще больше нравится в прочувствованной интерпретации Ханса Лассена Мартенсена: «Aeternitas est merum hodie, est immediata et lucida fruitio rerum infinitarum»[137]. И напротив, богословы предпочитают умалчивать о темных речах стоявшего на море и на земле Ангела (Откр. 10: 6): «И клялся Живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет». По правде говоря, в последнем стихе имеется в виду не столько время, сколько отсрочка.
В итоге вечность осталась атрибутом беспредельного Божественного ума, и хорошо известно, что целые поколения богословов были заняты созиданием этого Божественного ума по своему образу и подобию. Живейшим стимулом к такой деятельности была дискуссия о предопределении ab aeterno[138]. Через четыреста лет после крестной смерти Спасителя английского монаха Пелагия посетила крамольная мысль о том, что невинные младенцы, умершие без крещения, могут спастись[139]. Августин, епископ Гиппона, опроверг его с негодованием, которым и по сей день восхищаются издатели. Указав на еретическую сущность этого учения, которое по праву не приемлют мученики и праведники, он отметил, что оно отрицает постулат, согласно которому в лице Адама согрешили и пали все люди, подчеркнул, что оно предает возмутительному забвению положение о преемственности греха и к тому же пренебрегает кровавым потом, муками и стоном Того, Кто умер на кресте, отвергает таинство благодати и ограничивает Божественную волю. А когда дерзкий британец воззвал к справедливости, св. Августин отвечал ему, как всегда веско и патетически, что если речь зашла о справедливости, то все мы достойны геенны огненной, но что если Богу угодно кого-то из нас спасти, то, стало быть, есть на то Его неисповедимая воля, как много лет спустя безапелляционно скажет Кальвин: «А вот так, и всё» («guia voluit»). Спасутся избранные. Лицемерные богословы закрепили избранность за праведниками. Избранных на муки быть не может; это правда, что не удостоившиеся благодати идут в геенну огненную, но ведь Бог их не осуждает. Он просто о них умалчивает… Все эти доводы значительно обогатили концепцию вечности.
Но известно, что поколения язычников жили без всякого слова Божия. Было бы слишком большой смелостью считать, что они могут попасть в рай, но не меньшей смелостью полагать, что некоторых славных своими добродетелями мужей туда могли бы не допустить. (Цвингли, 1523, уповает на то, что рядом с ним на небесах окажутся Геркулес, Тесей, Сократ, Аристид, Аристотель и Сенека.) Затруднение было устранено при помощи расширенного толкования девятого атрибута Господа (который говорит о всеведении). Всезнание распространялось на все вещи: как на те, которые есть, так и на те, которые могут быть. Стали искать какое-нибудь место в Писании, которое бы подтвердило это безграничное толкование, и нашли целых два: то место в Первой книге Царств, где Бог говорит Давиду, что жители Кеиля предадут его, если он останется в городе, и он уходит, и второе – в Евангелии от Матфея, где проклинаются два города: «Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они покаялись во вретище и пепле». Так с опорой на эти цитаты сослагательное наклонение глагола вступает в вечность: Геркулес пребывает на небесах рядом с Ульрихом Цвингли, потому что Бог знает, что он скрупулезно соблюдал бы религиозные обряды. А лернейская гидра ввергнута в преисподнюю, потому что не пожелала бы креститься. Это мы воспринимаем то, что есть, и воображаем то, что может быть, или то, что будет, меж тем в Боге этих свойственных временнóму миру различий нет. Его вечность единовременно схватывает (uno intelligendi actu) не только все события этого изобильного мира, но и все то, что могло бы случиться, произойди самое призрачное из них иначе, и те, которые случиться не могли, тоже. Эта комбинаторная точечная вечность много богаче Вселенной.
В отличие от платоновских вечностей, рискующих оказаться невзрачными, этой вечности угрожает опасность уподобиться последним страницам «Улисса», и точнее, предпоследней главе книги, этому нескончаемому вопроснику. Августин с его величавой сдержанностью укрощает буйство. Кажется, что его учение никого не обрекает на проклятие, ведь Господь, покоя свой взор на избранных, лишь пренебрегает отверженными. Бог знает все, он только предпочитает иметь дело с праведниками. Иоанн Скот Эриугена, придворный философ Карла Лысого, блестяще преображает эту идею. Он полагает, что для Бога не существует определений, что Бог безразличен ко греху и ко злу. Он очерчивает сферу, в которой обитают платоновские архетипы, проповедует обожение, окончательное и бесповоротное припадение вещей тварного мира, включая черта и время, к изначальному единству в Боге. «Divina bonitas consummabit malitiam, aeterna vita absorbebit mortem, beatitudo miseriam»[140]. Эта эклектичная вечность, включающая, в отличие от платоновских вечностей, судьбу каждой вещи и, в отличие от ортодоксии, не признающая никакого несовершенства и ущербности, была осуждена синодами Валенсии и Лангра. «De divisione naturae, libri V»[141], трактат, излагавший еретическое учение об этой вечности, был публично сожжен. Эта своевременная мера пробудила среди библиофилов интерес к учению Эриугены и позволила его книге дойти до наших дней.
Вселенной потребна вечность. Богословы хорошо знают, что, если Бог хоть на миг оставит своим вниманием мою руку, выводящую эти строки, она обратится в ничто, словно пожранная темным огнем. Потому-то они и говорят, что пребывание в этом мире есть постоянное творение и что глаголы «пребывать» и «творить», так враждующие здесь, на небе – одно и то же.
Такова изложенная в хронологическом порядке всеобщая история вечности. Точнее, вечностей, ибо жаждущее вечности человечество грезило двумя последовательно противоположными грезами с этим наименованием: грезой реалистов – странным томлением по незыблемым архетипам вещей и грезой номиналистов, отрицающей истинность архетипов и стремящейся совместить в едином миге все детали универсума. Одна греза построена на реализме, доктрине, настолько нам сейчас чуждой, что я не верю в истинность любой интерпретации, включая и мою собственную, вторая, связанная с номинализмом, утверждает истинность индивидуума и условность родовых понятий. И ныне мы все, как растерянный и ошеломленный комедийный герой, который случайно обнаруживает, что говорит прозой, исповедуем номинализм sans le savoir[142]. Это как бы общая предпосылка нашего мышления, аксиома, которою мы так удачно обзавелись. А раз речь идет об аксиоме, и говорить здесь не о чем.
Такова изложенная в хронологическом порядке история вечности, предмет долгой тяжбы и споров. Бородатые мужи в епископских шапках излагали ее с амвона и кафедры, дабы посрамить еретиков и отстоять соединение трех лиц в одном, но на самом деле ее проповедовали для того, чтобы остановить утекание времени. «Жить – это терять время: ничего нельзя ни оставить себе, ни удержать иначе, чем в форме вечности», – читаю я у эмерсонианца испанского происхождения Сантаяны. Стоит сопоставить эти слова с гнетущим отрывком из Лукреция о тщете совокупления:
- Как постоянно во сне, когда жаждущий хочет напиться
- И не находит воды, чтоб унять свою жгучую жажду,
- Ловит он призрак ручья, но напрасны труды и старанья:
- Даже и в волнах реки он пьет и напиться не может, —
- Так и Венера в любви только призраком дразнит влюбленных:
- Не в состоянье они, созерцая, насытиться телом,
- Выжать они ничего из нежного тела не могут,
- Тщетно руками скользя по нему в безнадежных исканьях,
- И наконец, уже слившися с ним, посреди наслаждений
- Юности свежей, когда предвещает им тело восторги,
- И уж Венеры посев внедряется в женское лоно,
- Жадно сжимают тела и, сливая слюну со слюною,
- Дышат друг другу в лицо и кусают уста в поцелуе.
- Тщетны усилия их: ничего они выжать не могут,
- Как и пробиться вовнутрь и в тело всем телом проникнуть[143].
Архетипы и вечность – вот два слова, сулящих наиболее устойчивое обладание. Конечно, всякая очередность безнадежно убога, а истинный душевный размах домогается всего времени и всего пространства разом.
Известно, что личность становится сама собой благодаря памяти и что ее утрата приводит к идиотии. То же самое можно сказать о Вселенной. Без вечности, без этого сокровенного и хрупкого зеркала, в котором отражается то, что прошло через души людей, всеобщая история – утраченное время, в котором утрачена и наша личная история, и все это превращает жизнь в какую-то странную химеру. Чтобы закрепить ее, мало граммофонных пластинок и всевидящего глаза кинокамеры, этих отображений отображений, идолов других идолов. Вечность еще более диковинное изобретение. Это правда, что ее нельзя себе представить, но ведь и скромная временнáя последовательность тоже непредставима. Утверждать, что вечности нет, предполагать, что время, в котором были города, реки, радости и горести, полностью изымается из обращения, так же неоправданно, как и верить в то, что все это можно удержать.
Откуда же взялась вечность? Об этом у св. Августина ничего не говорится, он только подсказывает, что частички прошлого и будущего имеются во всяком настоящем, ссылаясь на конкретный случай – чтение стихов на память. «Это стихотворение во мне еще до того, как я начал его читать, как только я кончил его читать, оно ушло в память. Пока я его произношу, оно растягивается, то, что уже сказано, уходит в память, то, что еще надо сказать, ждет своего часа. И то, что происходит со всем стихотворением, происходит и с каждым стихом, и с каждым слогом. И то же самое я скажу о вещах, длящихся дольше, чем чтение стихотворения, о судьбе каждого, слагающейся из целого ряда действий, и о человечестве, слагающемся из ряда судеб». Это доказательство тесной взаимосвязи различных времен времени все равно предполагает их последовательность, что не согласуется с образом единовременной вечности.
Я думаю, что все это идет от ностальгии. Так мечтатель и изгнанник перебирает в памяти счастливые дни, и они видятся ему sub specie aeternitatis[144], и он совершенно упускает из виду, что, осуществись одна-единственная мечта, другие пришлось бы отложить на время или навсегда. Эмоциональная память тяготеет к вневременности, совмещая все радости былого в едином образе. Розовые, багряные и красные закаты, на которые я каждый день смотрю, в воспоминании окажутся одним-единственным закатом. То же самое с нашими надеждами: самые несовместимые чаяния в них беспрепятственно сосуществуют. Иными словами, желание говорит на языке вечности. И похоже на то, что именно ощущение вечности – immediata et lucida fruitio rerum infinitarum[145] – и есть причина того особого рода удовольствия, которое вызывают у нас перечисления.
Мне остается изложить читателю свою собственную теорию вечности. Это бедная вечность, в ней нет ни Бога, ни вообще никакого властителя, ни архетипов. Я описал ее в 1928 году в книге «Язык аргентинцев». Здесь я воспроизвожу то, что было напечатано тогда, страницы эти носили подзаголовок «Чувство смерти».
«Я хочу рассказать о том, что случилось со мной несколько дней тому назад. Безделица эта была слишком эфемерной и экстатической, чтобы назвать ее происшествием, слишком эмоциональной и темной, чтобы записать в идеи. Речь идет об одной сцене и тексте к ней. Текст я уже произнес, хотя до конца и полностью еще его не прочувствовал. Перехожу к описанию сцены со всеми временны́ми и пространственными аксессуарами, в которых она мне предстала.
Мне припоминается это так. Накануне вечером я был в Барракасе, в месте для меня не очень знакомом, сама удаленность которого от тех окраин, по которым мне потом довелось прогуляться, придала всему этому дню особую окраску. У меня не было никаких дел, и, так как вечер выдался мягкий и тихий, я после ужина пошел побродить и подумать. Мне не хотелось идти куда-то в определенное место, и я не стал себя ограничивать каким-то конкретным направлением, чтобы не маячила перед моим внутренним взором одна и та же картина. Я решил отправиться, как говорится, куда глаза глядят. Я намеренно держался вдали от проспектов и широких улиц, а во всем остальном положился на неисповедимую и темную волю случая. И все же, словно к чему-то родному, влекло меня в сторону кварталов, чьи названия я не имею никакой охоты забывать и преданность которым хочу сохранить в сердце. Впрочем, эти названия у меня связываются не столько с самим кварталом и местами, где прошло мое детство, но скорее с теми таинственными окрестностями, округой близкой и незапамятно далекой, над которой я полностью властвовал в уме, но не в реальности. Оборотной стороной всем известного, его изнанкой – вот чем были для меня эти окраинные улицы, неведомые мне так же, как неведом врытый в землю фундамент собственного дома или собственный скелет. Я оказался на каком-то углу и вдохнул ночь, неслышно размышляя. Картина, очень безыскусная, оттого что я устал, выглядела еще непритязательнее. Сама заурядность открывшегося вида делала его призрачным. Улица с низкими домами на первый взгляд казалась бедной, но вслед за впечатлением бедности рождалось ощущение счастья. Она была очень бедной и очень красивой. Все глухо молчало. На углу смутно темнела смоковница. Навесы над дверными проемами разрывали вытянутую линию стен и казались сотканными из бесконечной материи ночи. Крутая пешеходная тропинка обрывалась на улицу. Все из глины, первозданной глины еще не завоеванной Америки. Осыпающийся проулок светился выходом на Мальдонадо. Похоже было, что на темно-бурой земле розовая глиняная стена не столько впитывала лунный свет, сколько источала свой собственный. Можно ли сыскать точнее название нежности, чем этот розовый цвет?
Я смотрел на эту смиренность. И мне подумалось, наверняка вслух: „То же самое, что и тридцать лет назад…“ Я прикинул, что значит тридцать лет… Для иных стран это недавно, а для этой непостоянной части света уже давно. Кажется, пела какая-то птица, и я почувствовал к ней любовь, крохотную, как сама птичка. Точно помню, однако, что в запредельной этой тишине не слышалось ничего, кроме тоже вневременного треска цикад. Сразу пришедшее на ум „я в тысяча восемьсот таком-то“ перестало быть горсточкой неточных слов, начало облекаться плотью. Я ощутил, что я умер, я ощутил, что я сторонний наблюдатель всего того, что происходит, и почувствовал неопределенный, но отчетливый страх перед знанием, который являет собой последнюю истину метафизики. Нет, я не добрался до пресловутых истоков Времени, но мне почудилось, что я владею ускользающим или вообще несуществующим смыслом непредставимого слова „вечность“. Только позже мне удалось выразить в словах свое впечатление.
Вот что это такое. Это чистое соположение однородных вещей – тихой ночи, светящейся стены, характерного для захолустья запаха жимолости, первобытной глины – не просто совпадает с тем, что было на этом углу столько лет назад, это вообще никакое не сходство, не повторение, это то самое, что было тогда. И если мы улавливаем эту тождественность, то время – иллюзия, и чтобы ее развеять, достаточно вспомнить о неотличимости призрачного вчера от призрачного сегодня.
Совершенно очевидно, что число таких состояний не бесконечно. Самые элементарные из них – физическое страдание и физическое удовольствие, миг сильного душевного напряжения и душевной опустошенности, когда засыпаешь и когда слушаешь музыку, – более всего безличны. А отсюда следует вывод: жизнь слишком бедна, чтобы не быть бессмертной. Но и в бедности нашей мы не можем быть совершенно уверены, коль скоро время, легко опровергаемое нашими чувствами, не так-то просто опровергнуть разумом, в самой основе которого заложена идея временнóй последовательности. В итоге нам ничего не остается, кроме раздумья над забавным сюжетом, в который отлилась история одной туманной идеи, и над мигом провидения вечности и восторга, на которые не поскупилась эта ночь».
1936
Чтобы сделать эту биографию вечности более увлекательной и драматичной, пришлось, признаюсь, пойти на известные искажения: скажем, свести процесс векового созревания идей к пяти-шести именам.
Я полагался на случай, собравший мою домашнюю библиотеку. Из книг, сослуживших мне наибольшую службу, не могу не упомянуть следующие:
Deussen, Paul. Die Philosophie der Griechen. Leipzig, 1919.
Works of Plotinus / translated by Thomas Taylor. London, 1817.
Passages Illustrating Neoplatonism / translated with an introduction by E. R. Dodds. London, 1932.
Fouillée, Alfred. La philosophie de Platon. Paris, 1869.
Schopenhauer, Arthur. Die Welt als Wille und Vorstellung / herausgegeben von Eduard Grisebach. Leipzig, 1892.
Deussen, Paul. Die Philosophie des Mittelalters. Leipzig, 1920.
Las confesiones de San Agustin / version literal por el P. Ángel C. Vega. Madrid, 1932.
A Monument to Saint Augustine. London, 1930.
Rothe, Richard. Dogmatik. Heidelberg, 1870.
Menéndez у Pelayo, Marcelino. Ensayos de critica filosófica. Madrid, 1892.
Рецензии на фильмы и критика
Кинематограф и биограф
В иные времена иные называли его «биографом», сегодня все говорят «кинематограф». Первое название прожило недолго. Может быть, славе требовалось имя звонче, а может быть, прежнему угрожала опасная близость к языку Босуэла или Вольтера. И вряд ли кто-нибудь стал бы оплакивать его кончину (одну из многих в бесконечной череде извещений о словах-покойниках), будь наша речь всего лишь собранием бесстрастных символов. Но в этом я уверен все меньше: они контрабандой переносят людские мнения, указания, приговоры. Любое слово предполагает аргумент, а тот вполне может оказаться софизмом. Даже не углубляясь в обсуждение того, какое из двух существительных лучше, легко заметить, что по замыслу «кинематограф» точнее «биографа». Последний, если мой гадательный греческий язык меня не обманывает, намеревается описывать жизнь, первый – только движение. Обе идеи, которые диалектика вполне способна привести к единству, исходят тем не менее из разных ориентиров, что и дает мне право их не смешивать и одну называть словом «кинематограф», а другую – словом «биограф». Впрочем, спешу заверить читателя, что указанное различение не выйдет за пределы данной страницы, а потому совершенно безвредно.
Кинематограф передает движение, особенно подчеркивая скорость, праздничность, сумятицу. В особенности это характерно для раннего этапа, когда единственное содержание ленты – быстрота, когда смешит ошарашенный бедняга, одним выстрелом уверенно крушащий стойки и столы, а воплощением эпоса предстает туча пыли, поднятой, как принято выражаться, «ковбоями». Впрочем, по коварному стечению обстоятельств, всем этим отличается и так называемое авангардное кино – институция, оснащенная не в пример лучше, но пичкающая публику все той же старинной оторопью. Первого зрителя можно было поразить единственным всадником, нынешнему необходимы полчища в сопровождении картин железной дороги, колонн трудящихся или океанского лайнера. Но суть переживаний осталась прежней: ошеломленность горожанина при виде чертовщины, на которую способна техника, – разве не это чувство придумало для игрушки со страниц «Ars magna lucis et umbrae»[146] Атанасиуса Кирхера непомерное имя «волшебного фонаря»? В случае зрителя мы имеем дело с оторопью простеца перед любым механизмом, в случае драмодела – с нерадивостью выдумки, находящей спасение в механической сцепке образов. Та же инерция правит поэтами, пишущими регулярным стихом и не могущими шагу ступить без поддержки накатанного синтаксиса, эшелонированного подхвата фразы фразой. Подобной накатанностью привлекают и пайядоры. Говорю безо всякого осуждения, поскольку никаких доказательств того, что мысль – наша с вами, Шопенгауэра или Бернарда Шоу – полностью независима и порождена чистой случайностью, у меня, увы, нет. Несмотря на сомнения, которыми я обязан, кажется, Маутнеру.
Итак, отбросим кинематограф и, развязав себе руки, сосредоточимся на биографе. Но как нам его отличить, если он смешан со столькими существами низшей природы? Самое легкое – руководствоваться именами Чарли Чаплина, Эмиля Яннингса, Джорджа Бэнкрофта, кого-то из вечно печальных русских. Метод результативный, хоть и слишком привязанный к нынешнему дню, а потому подверженный случаю. Более общий (пусть и не столь провидческий) ход я бы сформулировал так. Биограф описывает судьбы, представляет человеку человечество. Определить его можно в нескольких словах, подтвердить это определение (почувствовать или не почувствовать живое присутствие других, человеческое согласие) еще проще. Мы поступаем так всякий раз, когда распознаем для себя художественную литературу. Роман представляет множество судеб, стихи или эссе – одну судьбу. (Поэт или автор эссе – это романист, единственный персонаж которого – он сам; в двенадцати томах Генриха Гейне не живет никто, кроме Генриха Гейне, в книгах Унамуно – кроме Унамуно. Что до драматических поэтов вроде Браунинга или Шекспира либо авторов повествовательных эссе, как Литтон Стрейчи или Маколей, то они – в полном смысле слова романисты, разве что не так скрывают свою страсть.) Биограф, повторяю, окружает нас людьми. Кинематограф же безлюден, человека в нем замещают заводы, машины, дворцы, навьюченные лошади и другие отсылки к реальности или к общим местам. Его пространство необитаемо, оно давит.
Для полного оправдания биографа (и из чувства приятного долга) обращусь к Чаплину. Более удачных выдумок нет, кажется, во всем кино. Такова его потрясающая эпопея «The gold rush», название которой хорошо передано по-французски – «La ruée vers l’or»[147] и никудышно по-испански – «Золотая химера». Возьму лишь несколько сцен. Хилый еврейский хвастунишка, Чаплин идет по головокружительной тропе между отвесным утесом с одной стороны и крутым обрывом – с другой. Сзади появляется медведь и вышагивает за ним. По-ангельски беспечный Чаплин ничего не замечает. Дальше следуют несколько невыносимых секунд: хищник буквально наступает герою на пятки, а тот старается удержать равновесие, помогая себе тросточкой, котелком, кажется, даже усиками. Зритель ждет, что Чаплин или сорвется, или, к своему ужасу, опомнится. Но тут зверь исчезает в берлоге, а герой, так ничего и не заметив, идет своим путем. Ситуация разрешается (или распадается) самым неожиданным образом: перед нами был не один рассеянный, а двое. Сам Господь Бог не придумал бы тоньше. Или другой эпизод, в основе которого – тоже рассеянность. Разбогатев на Аляске, Чаплин, с непривычки летящий как на крыльях, возвращается домой миллионером. Есть опасность, что он покажется нам слишком победоносным, слишком похожим на свои доллары. Встречающие выстроились на пароходе, который набит чуть ли не одними лизоблюдами-фотографами. Палуба, Чаплин проходит между восторженными шеренгами. И вдруг, по-ангельски простодушный, видит на пути окурок, безотчетно наклоняется и поднимает его. Рассеянность, близкая уже к святости. И такова в «Золотой лихорадке» буквально каждая сцена. К тому же Чаплин здесь – не единственный персонаж, чем и отличается от других созданий своего автора, чистых монологов наподобие «Малыша» или «Цирка». Джим, который натолкнулся на золотую жилу, забыл, где она находится, и теперь со своим безумным воспоминанием и непоправимым забвеньем слоняется по борделям; танцовщица Джорджия, у которой нет ничего, кроме непобедимой красоты, слишком воздушной для этого мира; Ларсен, приветствующий незнакомцев выстрелом из револьвера, человек, с готовностью принимающий судьбу мерзавца и во всех перипетиях сохраняющий убийственную невинность негодяя, – все они – полноправные герои со своей судьбой.
Чаплин – рассказчик собственной личности, иначе говоря – поэт; Яннингс – многоликий романист. Созданное им пересказу не поддается: живой словарь его жестов, непосредственный язык мимики не переводимы ни на какое иное наречие. Помимо умирания в трагедиях, Яннингс умеет воздать должное будням. Он умеет не только умирать (труд небольшой, равно как и подделка несложная, ведь проверить нельзя), он умеет жить. Его манера, построенная на беспрестанных микроскопических находках, не бросается в глаза, но действует безотказно, как проза Сервантеса или Батлера. Его персонажи – мрачная груда похоти со всегдашним молитвенником перед глазами, похожим на издевательскую маску, в «Тартюфе»; отвратительный в своем женоподобии и раздувшейся спеси император в «Камо грядеши»; истинный хозяин своего методичного счастья, кассир Шиллинг, настоящий грансеньор в «Последнем приказе», настолько же преданный родине, насколько знающий ее слабости и темные пятна, – таковы сыгранные Яннингсом совершенно разные, практически не соприкасающиеся друг с другом характеры, и невозможно даже представить, как это между ними может быть что-то общее. С каким ироничным равнодушием отнесся бы повелитель к жалкой драме Шиллинга и какими пророческими проклятиями на героическом наречии Мартина Лютера тот бы его осыпал!
Чтобы умереть, достаточно быть живым, беспрекословно отрéзала в разговоре одна полукровка. Но уж это, добавлю от себя, условие обязательное, и легкость, с какой от него отделывается нынешнее немецкое кино, равнодушное к личности, а озабоченное поиском симметрии и символов, губительна для искусства. Нас пытаются потрясти крахом мироздания или мучениями толпы, жизни которой мы не видели и которая отталкивает своим барельефным видом и гигантскими масштабами. Они забывают, что толпа меньше человека, а целый лес не скроет отсутствия одного-единственного дерева. В искусстве, как в повествовании о всемирном потопе, гибель человечества ничего не значит в сравнении со смертью одной конкретной супружеской пары. Дефо поделил бы эту пару надвое и сказал: в сравнении с Робинзоном.
1929
Фильмы
Несколько слов о последних кинопремьерах.
Лучшим фильмом, даже с некоторым отрывом, мне представляется «Убийца Дмитрий Карамазов» (Фильмрайх, 1931). Оцепу, режиссеру картины, удалось, с одной стороны, без видимых затруднений избежать наиболее распространенных ошибок сегодняшнего немецкого кинематографа: мрачного символизма, тавтологии (т. е. напрасного повторения однотипных образов), непристойности, склонности к тератологии и сатанизму; а с другой стороны, Оцеп с тем же успехом сумел не поддаться еще менее похвальному влиянию советской школы с ее отсутствием персонажей, простой демонстрацией операторских находок, с грубым перекосом в идеологию. (О влиянии французов говорить не приходится: они до сих пор упорно стремятся быть не похожими на американцев, но эта опасность им точно не грозит.) Я не читал многотомного романа, послужившего основою для фильма, и этот грех, по счастью, позволил мне насладиться кинокартиной, не впадая в искушение накладывать то, что у меня перед глазами, на воспоминания о прочитанном. Таким образом, независимо от того, имеются ли в фильме образцы гнуснейшей профанации или достойной похвалы верности оригиналу (и то и другое несущественно), картина производит сильнейшее впечатление. Ее реальность, хоть и является исключительно галлюцинаторной и лишенной какого-либо внутреннего порядка, на деле оказывается не менее насыщенной и бурной, чем мир «Пристаней Нью-Йорка» Джозефа фон Штернберга. Изображение подлинного, искреннего счастья после совершенного убийства – один из сильнейших моментов. Операторская работа – кадры занимающейся зари, тяжеловесных бильярдных шаров, ожидающих удара, руки Смердякова, с поповским благочестием забирающего деньги, – превосходна как по замыслу, так и по исполнению.
Перехожу к другому фильму. Картина Чаплина с загадочным названием «Огни большого города» была встречена бурными овациями всех наших критиков; правда, всеобщее одобрение в печати является скорее проверкой безупречной работы наших почтовых и телеграфных служб, нежели актом высказывания собственного мнения. Кто осмелится поспорить с тем, что Чарли Чаплин – один из общепризнанных богов в мифологии нашего времени и стоит в одном ряду с тяжеловесными кошмарами де Чинео, неистовыми пулеметами из «Лица со шрамом», конечной, но обозримой вселенной, обнаженной спины Греты Гарбо или кинодиссидентом Ганди? Кто не признает заранее, что новейшая comédie larmoyante[148] Чаплина безусловный шедевр? В действительности – в том, что я считаю действительностью, – этот невероятно популярный фильм от блистательного создателя и главного героя «Золотой лихорадки» не более чем блеклая антология мелких злоключений, наложенных на сентиментальную историю. Некоторые из этих эпизодов отличаются новизной, но, например, сцена провиденциальной (и в итоге безрезультатной) встречи героя-мусорщика со слоном, которая должна снабдить персонажа крупицей raison d’être[149], является не чем иным, как факсимильной копией аналогичной сцены встречи мусорщика с троянским конем из фильма «Частная жизнь Елены Троянской». Против «Огней большого города» можно высказать соображения и более общего характера. Нехватка реального в этом фильме сопоставима лишь с такой же безнадежной нехваткой ирреального. Все фильмы можно разделить на две категории: реалистические («Для защиты», «Улица везения», «Толпа», «Бродвейская мелодия») и намеренно ирреальные (в высшей степени своеобразные картины Борзеги, ленты Гарри Лэнгдона, Бастера Китона и Эйзенштейна). Именно ко второй категории относились незамысловатые шалости Чаплина – непременно с примитивной операторской работой, космической скоростью действия, а также с фальшивыми усиками, безумными накладными бородами, взъерошенными париками и странноватыми короткими пальто, которые нацепляют на актеров. «Огни большого города» не достигают этой степени условности и потому остаются неубедительными. За исключением блистательной слепой, невероятность которой состоит в ее красоте, и самого Чарли, как водится, переодетого во все неприметное и линялое, остальные персонажи оказываются чудовищно нормальными. Слабый сюжет фильма напрямую связан с устаревшей двадцать лет назад техникой монтажа, размывающей повествование. Архаизм и анахронизм тоже являются литературными жанрами, это мне известно, но следует отличать намеренное использование жанра от неудачной попытки. Смею надеяться, что, как это слишком часто бывало, я окажусь не прав.
Усталость заметна и в «Марокко» Штернберга, хотя ее масштаб нельзя назвать вселенским и самоубийственным. Лаконизм изображения, изысканная структура кадра и тонкое непрямое воздействие, характерные для «Подполья», уступили место простому нагромождению массовых сцен и броской палитре сугубо марокканских цветов. Желая обозначить тамошний колорит, Штернберг не нашел менее топорного средства, чем кропотливая фальсификация мавританского города в окрестностях Голливуда – с роскошными халатами, бассейнами, с высокими гортанными криками муэдзинов на заре и с караванами верблюдов под палящим солнцем. Но сюжет как таковой хорош, а финал картины – в сияющей пустыне, в исходной точке сюжета – сравним с концовкой нашего «Мартина Фьерро» или русского романа Арцыбашева «Санин». «Марокко» оставляет приятное впечатление, но не доставляет того интеллектуального удовольствия, которое приносят героические «Сети зла».
1931
«Уличная сцена»
Русские обнаружили, что перспективная (и, следовательно, искаженная) съемка огромной бутылки, бычьей шеи или колонны обладает большей пластической ценностью, нежели тысячи голливудских статистов, загримированных под ассирийцев и затем превращенных Сесилом Демиллем в одну безликую массу. Они также заметили, что условности Среднего Запада – добродетели доноса и шпионажа, финальное семейное счастье, нерушимое целомудрие проституток, увесистый апперкот от молодого трезвенника – можно заменить другими, достойными не меньшего восхищения. (В одном из мощнейших советских фильмов броненосец в упор обстреливает многолюдный одесский порт, повреждая только мраморных львов. Такая гуманная меткость объясняется тем, что огонь ведет добродетельный большевистский броненосец.) Русские открытия были предложены уставшему от голливудской продукции миру. И мир их оценил и даже в благодарность провозгласил, что советский кинематограф навсегда уничтожил американский, – это произошло в те годы, когда русский поэт Александр Блок с интонацией, достойной Уолта Уитмена, объявил, что русские суть скифы. Однако все забыли (или захотели забыть), что величайшее достижение русского кинематографа в том, что ему удалось прервать долгую эпоху калифорнийского господства. Забыли, что невозможно противопоставлять хорошее или великолепное насилие (как в «Иване Грозном», «Броненосце Потемкине» и, возможно, в «Октябре») огромной, сложной литературе, качественно выполненной в самых разных жанрах: от несравненной комедии (Чаплин, Бастер Китон, Лэнгдон) до чистейшей фантастики (мифология Крейзи Кэт и Бимбо). Русская тревога отгремела; Голливуд изменил и обогатил свой арсенал приемов операторской работы и все так же стоит, не шелохнется.
Теперь о Кинге Видоре. Я говорю о весьма неоднозначном режиссере таких памятных фильмов, как «Аллилуйя!», и таких ненужных и тривиальных, как «Билли Кид». Это скромная хроника двух десятков смертей (не считая мексиканцев) от руки самого известного головореза Аризоны; у этой картины нет никаких достоинств, кроме панорамных снимков и методичного игнорирования крупных планов для создания эффекта пустыни. Его последняя работа «Уличная сцена», представляющая собой адаптацию одноименной комедии экс-экспрессиониста Элмера Райса, вдохновлена простым желанием не повторять «standard»[150]. Сюжет неудовлетворительно прост. Есть положительный герой, которому досаждает громила. Имеется пара влюбленных, но заключать какой-либо союз – как церковный, так и гражданский – им запрещено. Есть великолепный тучный итальянец, larger than life[151], который отвечает за комедийную составляющую и который столь ярок, что его огромная ирреалистическая тень падает даже на вполне живых персонажей. Одни герои кажутся правдоподобными, другие – лишь маски. Нет, это, конечно, не реалистический фильм, скорее пример разочарования или подавления романтизма.
Внимания стоят только два эпизода: сцена рассвета, где музыка передает все богатство ночной жизни, и сцена убийства, непоказанного, скрытого за хаотическим потоком лиц.
Актеры и съемка: превосходны.
1932
«Кинг-Конг»
Обезьяна ростом в четырнадцать метров (особо рьяные поклонники говорят, что пятнадцать), конечно, очаровательна, но одного роста, пожалуй, недостаточно. Кинг-Конг не похож на обезьяну из плоти и крови – это скорее сухая пыльная машина, которая двигается неуклюже и угловато. Единственное достоинство, рост, не производит должного впечатления, ибо оператор упорно снимает Кинг-Конга сверху, а не снизу – ошибочный ракурс, поскольку он скрадывает и уменьшает высоту. Мало того, Кинг-Конг горбат и кривоног, из-за чего тоже кажется ниже. Чтобы лишить его всякой оригинальности, его заставляют сражаться с еще более неслыханными чудовищами и поселяют в исполинских размеров пещере, где его пресловутый рост вновь становится неощутимым. Но что окончательно губит и огромную гориллу, и весь фильм, так это ее плотское – или романтическое – влечение к Фэй Рэй.
1933
«Осведомитель»
Я не читал известного романа, по мотивам которого был снят этот фильм, что весьма кстати позволило мне смотреть его без извечного соблазна сверять происходящее на экране с первоисточником. Я просто смотрел фильм – и считаю, что это одна из лучших кинокартин за прошедший год; он настолько врезался мне в память, что я до сих пор о нем говорю и высказываю претензии. Точнее, целый ряд претензий: фильм можно было бы считать совсем удавшимся, если бы не два-три недостатка.
