Ярость бесплатное чтение
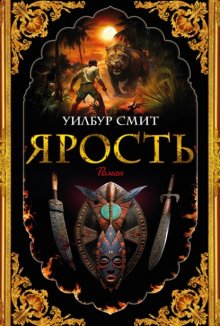
Wilbur Smith
RAGE
Copyright © Orion Mintaka (UK) Ltd, 1987, 2018
Originally published in the English language in the UK by Zaffre, an imprint of Bonnier Books UK Limited The moral rights of the author have been asserted
All rights reserved
Перевод с английского Татьяны Голубевой
© Т. В. Голубева, перевод, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство Азбука®
Тара Кортни не надевала белого со дня свадьбы. Ее любимым цветом был зеленый, потому что он лучше всего оттенял ее густые каштановые волосы.
Однако белое платье, которое она надела сегодня, заставляло ее снова почувствовать себя невестой, трепетной и слегка испуганной, но исполненной радости и глубокой серьезности. Манжеты платья и его высокий ворот украсили кружева цвета слоновой кости, и Тара расчесывала волосы до тех пор, пока они не заиграли рубиновыми бликами в ярком свете кейптаунского солнца. Волнение вызвало румянец на ее щеках, и, хотя Тара выносила уже четверых детей, талия у нее оставалась тонкой, как у девушки. Поэтому широкий черный траурный шарф, перекинутый через одно плечо, выглядел более чем неуместным: юность и красота в убранстве скорби. Несмотря на смятение, она стояла молча и неподвижно, сложив перед собой руки и склонив голову.
Без малого пятьдесят женщин, одетых в белое, с такими же черными траурными шарфами, выстроились в ряд. Тара была одной из них. Женщины стояли на тщательно отмеренном расстоянии друг от друга вдоль тротуара напротив главного входа в здание парламента Южно-Африканского Союза.
Почти все они были молодыми дамами из круга Тары, богатыми, привилегированными и скучающими оттого, что жизнь текла мимо, ничего не требуя от них. Многие присоединились к протесту просто ради небольшого эмоционального всплеска, бросая вызов установленной власти и возмущая равных им. Иные стремились вернуть внимание своих мужей, которое угасало после первого десятка лет брака, когда мужчины начинали куда больше интересоваться бизнесом или гольфом и прочими внебрачными делами. Однако у движения имелось твердое ядро, состоявшее в основном из женщин постарше, но включавшее и нескольких дам помоложе вроде Тары и Молли Бродхерст. Ими двигало только отвращение к несправедливости. Тара пыталась выразить свои чувства этим утром на пресс-конференции, когда женщина-репортер из газеты «Кейп Аргус» резко спросила у нее: «Почему вы этим занимаетесь, миссис Кортни?» – а она ответила: «Потому что мне не нравятся тираны и претит мошенничество». И ее мнение теперь частично оправдывалось.
– А вот и большой злой волк явился, – негромко сказала женщина, стоявшая в пяти шагах справа от Тары. – Держитесь, девочки!
Молли Бродхерст была одной из основательниц «Черных шарфов» – маленькая решительная женщина слегка за тридцать, которой Тара искренне восхищалась и старалась подражать.
Черный «шевроле» с правительственными номерами остановился на углу Парламентской площади, и на тротуар вышли четверо. Один из них был полицейским фотографом, и он тут же принялся за работу: быстро шагая вдоль ряда женщин в белом и черном, фотографировал каждую камерой «Хассельблад». За ним следовали двое с блокнотами. Хотя они были одеты в плохо сшитые темные костюмы, тяжелые черные ботинки выдавали в них полицейских, к тому же эти мужчины вели себя бесцеремонно и деловито. Они обошли шеренгу протестующих и записали имя и адрес каждой участницы акции. Тара, которая схватывала все на лету и уже могла считать себя кем-то вроде эксперта, предположила, что это, скорее всего, сержанты полиции безопасности, но вот четвертого мужчину она, как и большинство женщин, знала и по имени, и в лицо.
Он был одет в светло-серый летний костюм с простым темно-бордовым галстуком; коричневые ботинки и серая фетровая шляпа завершали ансамбль. Несмотря на средний рост и непримечательные черты лица, улыбка у него была широкой и дружелюбной, и он приподнял шляпу, поравнявшись с Молли:
– С добрым утром, миссис Бродхерст. Вы рановато. Процессия появится не раньше чем через час.
– А вы собираетесь сегодня снова нас арестовать, инспектор? – ядовитым тоном поинтересовалась Молли.
– Боже упаси! – Инспектор вскинул брови. – Это свободная страна, знаете ли.
– Вы уже меня дурачили.
– Ах, непослушная миссис Бродхерст! – Инспектор покачал головой. – Вы пытаетесь меня спровоцировать!
Его английский был безупречен, в нем слышался лишь едва заметный акцент африкаанса.
– Нет, инспектор. Мы возражаем против вопиющих махинаций при выборах этого порочного правительства, против искажения закона и лишения основных человеческих прав большинства жителей Южной Африки просто на основании цвета их кожи.
– Мне кажется, миссис Бродхерст, вы повторяетесь. Вы уже говорили мне все это при нашей прошлой встрече. – Инспектор усмехнулся. – Потом вы потребуете, чтобы я снова вас арестовал. Но давайте не будем портить нынешнее грандиозное событие…
– Открытие этого парламента, посвященное беззаконию и угнетению, является поводом для скорби, а не для празднования.
Инспектор коснулся полей своей шляпы, но под его внешне легкомысленными манерами крылось искреннее уважение и, возможно, даже некоторое восхищение.
– Продолжайте, миссис Бродхерст, – тихонько сказал он. – Уверен, мы вскоре снова встретимся.
И он неторопливым шагом проследовал дальше, пока не очутился напротив Тары.
– С добрым утром, миссис Кортни. – Он помолчал, на этот раз не скрывая восхищения. – А что думает о вашем предательском поведении ваш прославленный супруг?
– Разве это предательство – противостоять Национальной партии, которая нарушает закон и проводит политику, основанную на расовой принадлежности и цвете кожи, инспектор?
Его взгляд на мгновение скользнул к груди Тары, пышной и четко обрисованной под светлым кружевом, но тут же вернулся к ее лицу.
– Вы слишком хороши собой для всей этой ерунды, – сказал он. – Оставьте ее седовласым старым девам. Идите домой, там ваше место, и занимайтесь своими детьми.
– Ваше мужское высокомерие просто невыносимо, инспектор.
Тара вспыхнула от гнева, не осознавая, что это лишь прибавляет ей привлекательности, только что отмеченной инспектором.
– Мне бы хотелось, чтобы все предательницы выглядели так, как вы. Это сделало бы мою работу намного приятнее. Спасибо, миссис Кортни.
Он улыбнулся, чем окончательно разъярил Тару, и двинулся дальше.
– Не позволяй ему смущать тебя, дорогая, – негромко посоветовала Молли. – Он в этом специалист. Мы протестуем мирно, пассивно. Вспомни Махатму Ганди.
Тара с усилием совладала со своим гневом и снова приняла вид кающейся грешницы. За ее спиной на тротуаре начала собираться толпа зрителей. Ряд женщин в белом стал объектом любопытства и веселья, кто-то их одобрял, кто-то проявлял враждебность.
– Проклятые коммунисты! – ворчливо заговорил с Тарой какой-то мужчина средних лет. – Вы хотите отдать страну в руки толпы дикарей. Вас следует запереть – всех вас!
Он был хорошо одет, говорил грамотно. На его лацкане блестел маленький медный значок в виде шлема, означавший, что во время войны с фашистами этот человек служил в добровольческих силах. Его поведение напоминало о том, сколько молчаливых сторонников имела Национальная партия даже среди англоязычных членов белой общины.
Тара прикусила губу и заставила себя промолчать. Она не поднимала головы, когда грубые насмешки сыпались из уст цветных в собравшейся толпе.
Становилось жарко, солнце сияло ровным средиземноморским светом; и хотя над огромным плоским бастионом Столовой горы уже собирались пухлые облачка, возвещая о перемене ветра на юго-восточный, этот ветер еще не добрался до города, приютившегося у подножия. Толпа к этому времени стала плотной и шумной, и Тару то и дело толкали – намеренно, как она подозревала. Но она держала себя в руках, сосредоточившись на здании по другую сторону дороги.
Построенное по проекту сэра Герберта Бейкера, этого певца имперской архитектуры, оно было массивным и впечатляющим, с колоннадой из красного кирпича на фоне сияющей белизны, что весьма не соответствовало современным вкусам Тары, склонной к открытым пространствам и четким линиям, стеклу и светлой сосновой скандинавской мебели. Это здание словно выражало непоколебимое и устаревшее прошлое, все то, что Таре хотелось увидеть снесенным и выброшенным.
Ее мысли прервал поднявшийся вокруг гул – долгое ожидание с минуты на минуту должно было оправдаться.
– Ну вот, идут! – крикнула Молли, и толпа заволновалась и разразилась приветственными криками.
По мостовой застучали копыта, и на авеню показался верховой полицейский эскорт. На пиках весело развевались флажки, опытные всадники ехали на лошадях одинаковой масти и стати, и конские начищенные бока сияли на солнце, как полированный металл.
За ними катили открытые экипажи. В первом сидели генерал-губернатор и премьер-министр Дэниел Малан, победитель-африканер, с отталкивающим, будто лягушачьим, лицом. Его единственным желанием и заявленным намерением было установить в Африке верховенство африканерского народа на тысячу лет, и никакая цена не казалась ему слишком высокой для достижения этой цели.
Тара уставилась на него с нескрываемой ненавистью. Он воплощал собой все то, что она находила отвратительным в правительстве, обретшем ныне власть над землей и людьми, которых она так страстно любила. Когда экипаж проносился мимо того места, где она стояла, их взгляды встретились на краткий миг, и Тара постаралась донести до Малана всю силу своих чувств, но тот явно не узнал ее, и даже тени раздражения не мелькнуло в его задумчивом взоре. Он смотрел на нее, но не видел, и теперь к ее гневу примешалось отчаяние.
«Что нужно сделать, чтобы заставить этих людей хотя бы прислушаться?» – гадала она, но важные персоны уже вышли из экипажей и замерли, пока звучал национальный гимн. Тара и не подозревала, что при открытии южно-африканского парламента «Боже, спаси короля» звучало в последний раз.
Оркестр завершил гимн фанфарами, и члены кабинета министров вслед за генерал-губернатором и премьером вошли в массивную парадную дверь. За ними следовали представители оппозиции. Именно этого момента страшилась Тара, потому что в процессии были ее родные. Сразу за лидером оппозиции шагали отец Тары и ее мачеха. Они составляли самую потрясающую пару среди всех: ее отец был высок и полон достоинства, как лев-патриарх, а под руку с ним шла Сантэн де Тири-Кортни-Малкомс, стройная и грациозная, в желтом шелковом платье, как нельзя лучше подходившем для данного случая, и на ее маленькой аккуратной головке красовалась изящная шляпка без полей, с вуалью, падавшей на один глаз. Мачеха выглядела ровесницей Тары, хотя все знали, что ее назвали Сантэн[1], потому что она родилась в первый день двадцатого века.
Таре казалось, что ей удалось остаться незамеченной, поскольку никто в семье не знал, что она намеревалась присоединиться к протесту, но на верхних ступенях широкой лестницы процессия на мгновение приостановилась, и Сантэн, прежде чем войти в дверь, намеренно обернулась и посмотрела назад. С такой выигрышной позиции она могла видеть поверх голов эскорта и прочих участников процессии; ее взгляд устремился через дорогу, и она на миг поймала взгляд Тары. Хотя выражение ее лица не изменилось, сила ее неодобрения даже с такого расстояния ударила Тару, как пощечина. Для Сантэн честь, достоинство и доброе имя семьи имели первостепенную важность. Она не раз предостерегала Тару от участия в публичных спектаклях, а неподчинение Сантэн являлось делом рискованным, потому что она была не только мачехой Тары, но и ее свекровью, а заодно и главой семейного бизнеса и распорядителем состояния Кортни.
На полпути вверх по лестнице, за спиной матери, Шаса Кортни увидел, куда направлен яростный взгляд Сантэн, и, быстро оглянувшись, тоже увидел Тару, свою жену, в ряду протестующих с черными шарфами. Когда Тара утром за завтраком сказала ему, что не хочет вместе с ним участвовать в церемонии открытия парламента, Шаса едва оторвал взгляд от финансовой страницы утренней газеты.
– Поступай как знаешь, дорогая. Это будет скучновато, – пробормотал он. – Но не можешь ли ты налить мне еще чашечку кофе?
Теперь, узнав жену, Шаса чуть заметно улыбнулся и покачал головой в притворном отчаянии, словно Тара была ребенком, впутавшимся в дурную проделку, а потом отвернулся, потому что процессия снова тронулась с места.
Шаса был почти до невозможности красив, а черная повязка на глазу придавала ему вид обаятельного пирата, что большинство женщин находили интригующим и вызывающим. Вместе с Тарой они были признаны самой красивой молодой парой в обществе Кейптауна. Но странным было то, что за несколько прошедших лет пламя их любви превратилось в кучку серого пепла.
«Поступай как знаешь, дорогая», – сказал Шаса, как часто делал в последние дни.
Последние из рядовых членов парламента исчезли в дверях, верховой эскорт и пустые экипажи уехали, и толпа начала расходиться. Демонстрация закончилась.
– Ты идешь, Тара? – окликнула ее Молли, но Тара покачала головой.
– Мне нужно встретиться с Шасой, – ответила она. – Увидимся в пятницу днем.
Тара на ходу сняла с себя широкий черный шарф, сложила его и спрятала в сумку, пробираясь сквозь редеющую толпу. И перешла дорогу.
Она не видела никакой иронии в том, что теперь предъявила швейцару у входа для посетителей свой парламентский пропуск и вошла в учреждение, против которого только что решительно протестовала. Поднявшись по боковой лестнице, она заглянула на галерею для посетителей. Та была битком набита женами и важными гостями, и Тара через их головы посмотрела вниз, в обшитый панелями зал, на ряды членов парламента в темных костюмах, сидевших на скамьях, обитых зеленой кожей, – все они сосредоточились на важном парламентском ритуале. Но Тара знала, что речи будут банальными, пошлыми и скучными до боли, а она с раннего утра стояла на улице… и ей срочно требовалось посетить дамскую комнату.
Она улыбнулась служащему галереи и потихоньку ушла, поспешив по широкому коридору. Закончив свои дела в дамской туалетной, она направилась к кабинету отца, которым пользовалась как своим собственным.
Повернув за угол коридора, Тара чуть не столкнулась с мужчиной, шедшим ей навстречу. Она едва успела остановиться и увидела высокого чернокожего человека в униформе парламентского слуги. Она бы прошла мимо, кивнув и улыбнувшись, но тут сообразила, что слугам не следует находиться в этой части здания во время парламентской сессии, потому что в конце этого коридора располагались кабинеты премьер-министра и лидера оппозиции. К тому же, хотя слуга нес швабру и ведерко, в его лице не было ничего подобострастного, рабского, и Тара пристально всмотрелась в него.
И тут ее кольнуло странное чувство. Да, прошло много лет, но она никогда не забыла бы этого лица – лица египетского фараона, благородного и жестокого, с темными глазами, в которых светился ум. Он по-прежнему был одним из самых красивых мужчин, которых ей приходилось видеть, и она помнила его голос, низкий и волнующий, так что одно воспоминание о нем вызвало в ней легкую дрожь. И даже его слова вспыхнули в памяти: «Это поколение, чьи зубы остры, как мечи… чтобы пожрать всю нищету на земле».
Именно этот человек впервые дал Таре понять, что это такое – родиться черным в Южной Африке. И ее истинный выбор произошел во время той далекой встречи. Этот мужчина несколькими словами изменил жизнь Тары.
Она остановилась, загораживая ему дорогу, и попыталась найти какой-нибудь способ выразить свои чувства, но у нее перехватило горло, и она обнаружила, что дрожит от потрясения. А он в то самое мгновение, когда понял, что его узнали, изменился, как леопард, насторожившийся при запахе охотников. Тара почувствовала, что она в опасности, потому что от него теперь исходило ощущение африканской жестокости… но она не испугалась.
– Я ваш друг, – тихо сказала она и отступила в сторону, давая ему пройти. – Мы на одной стороне.
Мгновение-другое он не двигался, но пристально смотрел на нее. И Тара поняла, что теперь он никогда ее не забудет, от его внимательного изучающего взгляда у нее словно загорелась кожа… а потом он кивнул.
– Я знаю вас, – сказал он, и снова его голос вызвал в ней дрожь, низкий и мелодичный, наполненный ритмом и модуляциями Африки. – Мы еще встретимся.
А потом он пошел дальше и, даже не оглянувшись, исчез за углом обшитого панелями коридора. Тара стояла, глядя ему вслед, и ее сердце бешено колотилось, дыхание обжигало горло.
– Мозес Гама, – громко прошептала она его имя. – Африканский мессия и воин. – Потом, помолчав немного, она встряхнула головой. – Что же ты здесь делаешь, именно здесь?
Возможные причины заинтриговали и взволновали ее, потому что теперь Тара неким глубинным инстинктом ощущала, что крестовый поход близок, и она страстно желала в нем участвовать. Ей хотелось делать нечто большее, чем просто стоять на углу улицы с черным шарфом через плечо. Она знала, что Мозесу Гаме достаточно лишь поманить пальцем, и она последует за ним, как и миллионы других.
«Мы еще встретимся», – пообещал он, и Тара ему поверила.
На крыльях радости она помчалась дальше по коридору. У нее был ключ от отцовского кабинета, и она, вставляя его в замок, остановила взгляд на бронзовой табличке:
ПОЛКОВНИК БЛЭЙН МАЛКОМС
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЛИДЕРА ОППОЗИЦИИ
Тара с удивлением обнаружила, что замок уже отперт, и, широко распахнув дверь, вошла в кабинет.
Сантэн Кортни-Малкомс резко повернулась к ней от окна за письменным столом:
– Я ждала тебя, юная леди.
Французский акцент Сантэн выглядел манерностью, раздражавшей Тару. «За тридцать пять лет Сантэн возвращалась во Францию всего один раз», – подумала она и вызывающе вскинула подбородок.
– Нечего трясти на меня головой, chérie[2] Тара, – продолжила Сантэн. – Если ты ведешь себя как ребенок, тебе следует ожидать, что с тобой и обращаться будут как с ребенком.
– Нет, матушка, ты ошибаешься. Я не ожидаю, чтобы ты обращалась со мной как с ребенком, ни сейчас, ни когда-либо еще. Я замужняя женщина тридцати трех лет, мать четверых детей и хозяйка собственной жизни.
Сантэн вздохнула.
– Хорошо, – кивнула она. – Мое беспокойство портит мои манеры, и я приношу извинения. Давай не станем делать это обсуждение для нас труднее, чем оно уже есть.
– Я и не знала, что нам необходимо что-то обсуждать.
– Сядь, Тара, – приказала Сантэн, и Тара инстинктивно повиновалась, тут же рассердившись из-за этого на себя.
Сантэн села на стул отца Тары за столом, и это тоже возмутило Тару – это был папин стул, и Сантэн не имела на него права.
– Ты только что напомнила мне, что ты жена с четырьмя детьми, – тихо заговорила Сантэн. – Разве ты не согласна с тем, что твой долг…
– О моих детях хорошо заботятся, – вспыхнула Тара. – Ты не можешь обвинять меня в этом.
– А как насчет твоего мужа и твоего брака?
– А что насчет Шасы? – Тара мгновенно заняла оборонительную позицию.
– Это ты мне скажи, – предложила Сантэн.
– Это не твое дело!
– О, как раз мое, – возразила Сантэн. – Я всю свою жизнь посвятила Шасе. Я планирую, что он станет одним из лидеров этой нации…
Сантэн замолчала, ее глаза на мгновение покрылись мечтательной дымкой, она как будто даже слегка прищурилась. Тара и прежде замечала это выражение, когда Сантэн погружалась в размышления, и теперь ей захотелось прервать их как можно резче.
– Это невозможно, и ты это знаешь.
Взгляд Сантэн снова сфокусировался, и она уставилась на Тару:
– Ничего нет невозможного – ни для меня, ни для нас.
– А вот и есть! – злорадно произнесла Тара. – Ты не хуже меня знаешь, что националисты добились победы нечестным путем, что они даже сенат заполнили своими назначенцами. И никогда уже те, кто не принадлежит к националистам-африканерам, не займут в стране положение лидеров, до самой революции, а когда она случится, лидером станет чернокожий.
Тара умолкла и на мгновение вспомнила о Мозесе Гаме.
– Ты слишком наивна, – огрызнулась Сантэн. – Ты ничего не понимаешь в таких вещах. Твои разговоры о революции – ребячество и безответственность.
– Будь по-твоему, матушка. Но в глубине души ты знаешь, что это так. Твой дорогой Шаса никогда не осуществит твои мечты. Даже он уже начинает понимать бессмысленность вечной оппозиции. И теряет интерес к невозможному. Я бы не удивилась, если бы он решил не участвовать в следующих выборах, отказался от политических устремлений, которые ты ему навязываешь, и просто занялся зарабатыванием очередного миллиарда фунтов.
– Нет. – Сантэн покачала головой. – Он не сдастся. Он борец, как и я.
– Он никогда не станет даже членом кабинета министров, а тем более премьер-министром, – категорически заявила Тара.
– Если ты в это веришь, то ты не жена моему сыну, – сказала Сантэн.
– Это ты говоришь, – негромко произнесла Тара. – Ты, а не я.
– О Тара, дорогая, извини… – Сантэн потянулась через стол, но он был слишком широк, чтобы она могла коснуться руки Тары. – Прости меня. Я сорвалась. Все это чрезвычайно важно для меня. Это очень серьезная для меня тема, но я совсем не намеревалась настраивать тебя против меня. Я хочу лишь помочь тебе… я так тревожусь за тебя и Шасу. Я хочу помочь, Тара. Ты позволишь тебе помочь?
– Не замечала, чтобы мы нуждались в помощи, – сладким тоном соврала Тара. – Мы с Шасой абсолютно счастливы. У нас четверо чудесных детей…
Сантэн нетерпеливо взмахнула рукой:
– Тара, мы с тобой далеко не всегда сходимся во мнениях. Но я твой друг, это действительно так. Я хочу наилучшего для тебя, Шасы и малышей. Так ты позволишь вам помочь?
– Как, матушка? Давая нам деньги? Но ты уже дала нам десять или двадцать миллионов… или там было тридцать миллионов фунтов? Я иногда сбиваюсь со счета.
– Не позволишь ли мне поделиться собственным опытом? Не выслушаешь ли мой совет?
– Да, матушка. Не обещаю, что приму его, но выслушаю.
– Во-первых, Тара, ты должна оставить эту свою безумную левую деятельность. Ты навлечешь на всю семью дурную славу. Ты выставляешь себя на посмешище, а следовательно, и нас, странно наряжаясь и стоя на углах улиц. Кроме того, это, безусловно, опасно. Коммунистическая партия теперь запрещена законом. Тебя могут объявить коммунисткой вне закона. Просто подумай об этом, ты ведь можешь стать никем, лишиться всех человеческих прав и положения. И дальше – политическая карьера Шасы. То, что ты делаешь, отражается на нем.
– Матушка, я обещала выслушать, – ледяным тоном ответила Тара. – Но теперь я беру свое обещание обратно. Я знаю, что делаю.
Она встала и направилась к двери, но там остановилась и оглянулась:
– Ты когда-нибудь задумывалась, Сантэн Кортни-Малкомс, о том, что моя мать умерла с разбитым сердцем и разбило его твое вопиющее прелюбодеяние с моим отцом? И все же ты теперь можешь сидеть здесь с самодовольным видом и советовать мне, как управляться с собственной жизнью, чтобы не опозорить тебя и твоего драгоценного сына.
Она вышла и тихо закрыла за собой тяжелую дверь из тикового дерева.
Шаса Кортни сидел развалясь на передней скамье оппозиции, сунув руки в карманы, а ноги вытянув вперед и скрестив в лодыжках, и внимательно слушал министра полиции, излагающего подробности законопроекта, который он намеревался представить парламенту на нынешней сессии.
Министр полиции был самым молодым членом кабинета, мужчиной примерно того же возраста, что и Шаса, что было весьма необычно. Африканеры почитали возраст и не питали доверия к неопытности и импульсивности молодости. Средний возраст других членов кабинета националистов был не ниже шестидесяти пяти лет, размышлял Шаса, и все же перед ними стоял Манфред де ла Рей, просто юнец, которому еще и сорока не исполнилось, и излагал основное содержание Акта о поправках к уголовному законодательству, который он предлагал и проводил через разные стадии обсуждения.
– Он просит предоставить ему право объявить чрезвычайное положение, которое поставит полицию выше закона, без обращения к суду, – проворчал сидевший рядом с Шасой Блэйн Малкомс.
Шаса кивнул, не глядя на своего отчима и тестя: он не сводил глаз с выступавшего.
Манфред де ла Рей говорил, как обычно, на африкаансе. В качестве незначительного жеста в сторону англоязычных членов парламента он иногда переходил на английский, но делал это неохотно, в его речи слышался сильный акцент и напряжение. А вот на своем родном языке он говорил красноречиво и убедительно, его ораторское искусство было настолько отточенным, что выглядело совершенно естественным, и он не раз вызывал смешок раздраженного восхищения на скамьях оппозиции и одобрительное «ура!» своей партии.
– Этот парень чертовски нагл и дерзок. – Блэйн Малкомс покачал головой. – Он просит предоставить ему право приостановить действие закона и установить полицейское государство по прихоти правящей партии. Нам придется бороться с этим не на жизнь, а на смерть.
– Именно так! – спокойно согласился Шаса.
Но он понял, что завидует этому человеку и в то же время его таинственным образом влечет к нему. Казалось странным, что их судьбы как будто неумолимо связаны.
Впервые он встретился с Манфредом де ла Реем двадцать лет назад, и они вроде бы без видимой причины тут же набросились друг на друга, как молодые бойцовые петухи, и дрались на кулаках до крови. Шаса поморщился при воспоминании о том, чем это кончилось, полученная им трепка раздражала его даже спустя столько времени. С тех пор их дорожки пересекались снова и снова.
В 1936 году оба они оказались в национальной команде, которая отправилась в Берлин на Олимпийские игры Адольфа Гитлера, но именно Манфред де ла Рей завоевал на ринге единственную золотую медаль, доставшуюся их команде, а Шаса вернулся с пустыми руками. Они горячо и яростно боролись за одно и то же место на выборах 1948 года, когда Национальная партия стремительно набирала силы, и снова Манфред де ла Рей победил и прошел в парламент, а Шасе пришлось ждать дополнительных выборов в надежном округе Объединенной партии, чтобы сесть на скамьях оппозиции, с которых он опять противостоял своему сопернику. Теперь Манфред стал министром, занял должность, которой Шаса жаждал всем сердцем, и с его несомненно блестящими способностями и ораторским искусством вкупе с политической проницательностью и солидной поддержкой партии будущее Манфреда де ла Рея виделось воистину замечательным.
Зависть, восхищение и отчаянная неприязнь – вот что чувствовал Шаса, слушая этого человека, и внимательно присматривался к нему.
Манфред де ла Рей обладал боксерским телосложением, у него были широкие плечи и мощная шея, но он начал слегка полнеть в талии, а его подбородок немного заплывал. Он не поддерживал себя в форме, и крепкие мускулы понемногу слабели. Шаса с некоторым удовлетворением посмотрел на собственные стройные бедра и подтянутый живот, а потом снова сосредоточился на своем противнике.
Нос Манфреда де ла Рея был искривлен, а поперек одной из темных бровей тянулся блестящий белый шрам – травмы, полученные на ринге. А вот глаза у него были странного бледного цвета, как желтый топаз, неумолимые, как глаза кошки, хотя в их глубине горел огонь незаурядного интеллекта. Как все члены националистического кабинета министров, за исключением самого премьер-министра, он был высокообразованным человеком, благочестивым и преданным своему делу, полностью убежденным в божественном праве своей партии и своего народа.
«Они искренне верят, что они – Божий инструмент на этой земле. Это и делает их такими чертовски опасными». Шаса мрачно улыбнулся, когда Манфред закончил речь и сел под одобрительный гул со своей стороны парламента. Националисты размахивали документами с указом, а премьер-министр наклонился, чтобы похлопать Манфреда по плечу, в то время как с задних рядов ему передавали десятки записок с поздравлениями.
Шаса воспользовался шумом, чтобы тихо извиниться перед отчимом:
– Я тебе уже не понадоблюсь сегодня, но если что, ты знаешь, где меня найти.
Потом он встал, поклонился спикеру и как можно незаметнее направился к выходу. Однако Шаса был ростом шесть футов и один дюйм, и, с черной повязкой на глазу, темными вьющимися волосами и приятной внешностью, он привлекал к себе немало любопытных взглядов молодых женщин, что сидели на галерее для посетителей, и враждебные оценивающие взгляды со скамей правительства.
Когда Шаса проходил мимо, Манфред де ла Рей оторвался от записки, которую читал, и взгляд, которым они обменялись, был пристальным, но загадочным. Потом Шаса покинул зал, снял пиджак и перебросил его через плечо, отвечая на приветствие швейцара, и вышел на солнечный свет.
У Шасы не было своего кабинета в здании парламента, потому что семиэтажное строение Сантэн-хаус, штаб-квартира «Компании Кортни по разработкам месторождений и финансированию», находилось всего в двух минутах ходьбы через парк. Шагая под дубами, Шаса уже мысленно сменил головной убор, заменяя политический цилиндр на фетровую шляпу делового человека. Шаса делил свою жизнь на две части, и он уже научился сосредоточиваться на каждой из них по очереди, никогда не позволяя распылять энергию, чтобы не ослабить ее.
К тому времени, когда он пересек дорогу перед кафедральным собором Святого Георгия и вошел во вращающуюся дверь Сантэн-хауса, он уже думал о финансах и руднике, жонглируя цифрами и возможностями, взвешивая факты и оценивая собственные предчувствия, и наслаждался игрой денег так же сильно, как наслаждался ритуалами и противоборствами в залах парламента.
В холле с мраморным полом и колоннами его встретили стоящие за стойкой приема две хорошенькие девушки, лица которых расцвели улыбками.
– Добрый день, мистер Кортни, – одновременно произнесли они, и Шаса одарил их ответной улыбкой, направляясь к лифтам.
Его реакция была чисто инстинктивной: ему нравилось видеть вокруг симпатичных женщин, хотя он никогда не прикоснулся бы ни к одной из своих служащих. Это казалось ему чем-то вроде кровосмесительства, непорядочным действием, ведь они едва ли смогли бы ему отказать, слишком это походило на выстрел по сидящей птице. Но девушки за стойкой все равно вздохнули и закатили глаза, когда дверь лифта закрылась за Шасой.
Джанет, его секретарь, услышала, как поднялся лифт, и уже ждала, когда откроются двери. Она была вполне во вкусе Шасы – более зрелая и уравновешенная, ухоженная и деловитая; и хотя она почти не пыталась скрывать свое восхищение, правила, установленные Шасой для самого себя, действовали и здесь.
– Что мы имеем, Джанет? – спросил он, и, следуя за ним через приемную в его кабинет, она на ходу зачитала список встреч на остаток дня.
Прежде всего Шаса подошел к стоявшему в углу телеграфному аппарату и просмотрел ленту с ценами на момент закрытия биржи. Фунт упал почти на два шиллинга, пора было снова покупать.
– Позвони Аллену и отмени встречу. Я еще не готов, – сказал он Джанет, направляясь к своему письменному столу. – Дай мне пятнадцать минут, потом созвонись с Дэвидом Абрахамсом.
Когда Джанет вышла из кабинета, Шаса просмотрел полученные по телетайпу сведения и срочные сообщения, оставленные ею. Он делал это быстро, не отвлекаясь на величественную картину Столовой горы в окне на противоположной стене; и когда зазвонил один из телефонов, он уже был готов говорить с Дэвидом.
– Привет, Дэви, как дела в Йоханнесбурге?
Вопрос был риторическим, Шаса прекрасно знал, что там происходит и что он намерен с этим делать. Ежедневные доклады и сметы лежали среди бумаг на его столе, но он внимательно выслушал выводы Дэвида.
Дэвид был управляющим директором компании. Они с Шасой дружили еще с университетских дней, и Дэвид был так близок с Шасе, как никто другой, кроме Сантэн.
Хотя алмазный рудник Ха’ани, расположенный на севере, рядом с Виндхуком, по-прежнему оставался основным источником процветания компании, как и все тридцать два года с тех пор, как Сантэн Кортни его открыла, под управлением Шасы компания расширилась, капитал теперь вкладывался в разные отрасли, и в итоге Дэвиду пришлось перебраться из Виндхука в Йоханнесбург. Йоханнесбург был коммерческим центром страны, и такой переезд стал неизбежностью, но Йоханнесбург также являлся унылым, скучным и непривлекательным городом. Сантэн Кортни-Малкомс отказалась покинуть прекрасный Кейптаун на мысе Доброй Надежды, чтобы обосноваться там, так что финансовая и административная штаб-квартира компании осталась здесь. Такое удвоение руководства было неудобным и дорогим, но Сантэн всегда поступала по-своему. Более того, Шасе было удобнее оставаться поблизости от парламента, и поскольку он любил Кейптаун так же, как Сантэн, то даже не пытался как-то переубедить ее.
Шаса и Дэвид проговорили десять минут, прежде чем Шаса сказал:
– Ладно, это мы не можем решить по телефону. Я приеду.
– Когда?
– Завтра днем. У Шона матч по регби в десять утра. Я не могу это пропустить. Я обещал ему.
Дэвид мгновение-другое помолчал, оценивая сравнительную важность спортивных достижений школьника и возможных вложений на сумму более десяти миллионов фунтов в разработку новых золотых приисков компании в Оранжевом свободном государстве.
– Позвони, когда отправишься, – сдался он. – Я сам встречу тебя на аэродроме.
Шаса повесил трубку и посмотрел на наручные часы. Ему хотелось вовремя вернуться в Вельтевреден, чтобы провести часок с детьми до их купания и ужина. А работу он сможет закончить, когда и сам поужинает. Он начал укладывать оставшиеся на столе бумаги в черный портфель крокодиловой кожи, когда, постучав в дверь, вошла Джанет.
– Прошу прощения, сэр. Это только что доставили с посыльным. Из парламента, и он сказал, что это весьма срочно.
Шаса взял у нее дорогой плотный конверт. Такие использовались членами кабинета министров, на нем красовался герб Союза – разделенный на четверти щит и стоящие на задних ногах антилопы, поддерживающие ленту с девизом «Ex Unitate Vires» – «Сила в единстве».
– Спасибо, Джанет.
Он открыл конверт и достал листок бумаги. На нем в верхней части было отпечатано: «Кабинет министра полиции», а само сообщение написано от руки на африкаансе.
Уважаемый мистер Кортни!
Зная Ваш интерес к охоте, некое важное лицо просило меня пригласить вас на охоту на антилоп-прыгунов на его ранчо в ближайшие выходные. Там есть посадочная полоса, ее координаты таковы: 28°32’S 26°16’E.
Могу заверить Вас, что там будут хороший спорт и интересная компания. Пожалуйста, дайте мне знать, сможете ли Вы приехать.
Искренне Ваш,
Манфред де ла Рей
Шаса усмехнулся и негромко присвистнул сквозь зубы, подойдя к крупномасштабной карте на стене и проверив координаты. Записка предполагала не приглашение, а вызов, и Шаса мог догадаться, кем является «важное лицо». Он увидел, что ранчо находится в Оранжевом свободном государстве, к югу от золотых приисков у Велкома, и это могло означать лишь небольшое отклонение от его обратного курса из Йоханнесбурга.
– Интересно, что они теперь замышляют, – задумчиво произнес он, и его укололо некое предвкушение. Все походило на загадку, какими он всегда наслаждался, и Шаса написал ответ на листке своей личной почтовой бумаги:
Благодарю за Ваше любезное приглашение поохотиться с вами в выходные. Прошу передать, что я рад приехать и с нетерпением жду охоты.
Запечатав конверт, он пробормотал:
– Вообще-то, вам пришлось бы приколотить меня к земле гвоздями, чтобы удержать в стороне…
На своем зеленом спортивном «ягуаре SS» Шаса въехал в массивные белые ворота Вельтевредена. Их фронтон был задуман и выполнен в 1790 году Антоном Анрейтом, архитектором и скульптором Голландской Ост-Индской компании, и это изысканное произведение искусства служило парадным входом в имение.
С тех пор как Сантэн передала имение сыну и переехала к Блэйну Малкомсу на дальнюю сторону гор Констанция-Берг, Шаса так же щедро заботился об имении, как прежде Сантэн. Название переводилось с голландского как «всем довольные», и именно это чувствовал теперь Шаса, замедляя ход «ягуара», чтобы не осыпать пылью виноградники, обрамлявшие дорогу.
Урожай уже созрел, и вдоль рядов лоз, по плечо высотой, работали женщины в таких ярких платках, что они по красочности соперничали с красными и золотыми листьями. Женщины выпрямлялись, чтобы улыбнуться и помахать рукой проезжавшему мимо Шасе, и мужчины, сгибавшиеся под полными корзинами красных ягод, тоже встречали его улыбками.
Юный Шон сидел на одной из повозок в середине поля и медленно вел лошадей, придерживаясь темпа общей работы. Повозка уже была наполнена зрелыми гроздьями, сверкавшими, как рубины, там, где с ягод был стерт мучнистый налет.
Увидев отца, Шон бросил поводья вознице, который тактично наблюдал за ним, и, выскочив из фургона, побежал на перехват зеленого «ягуара» между рядами лоз. Несмотря на одиннадцать лет, он был крупным для своего возраста. Шон унаследовал чистую кожу матери и внешность отца, и, хотя он пока был немного неловок, бежал он, как антилопа, легко и стремительно. Наблюдая за ним, Шаса чувствовал, как его сердце переполняется гордостью.
Шон открыл дверцу с пассажирской стороны машины и свалился на сиденье, но тут же взял себя в руки.
– Добрый вечер, папа, – поздоровался он, и Шаса обнял его за плечи, прижимая к себе.
– Привет, приятель. Как прошел день?
Они поехали дальше мимо винодельни и конюшни, и Шаса остановился в переоборудованном амбаре, где держал свою коллекцию из дюжины винтажных автомобилей. А этот «ягуар» был подарком Сантэн, и Шаса предпочитал его даже «роллс-ройсу-фантом» выпуска 1928 года, с кузовом от Хупера, рядом с которым он и поставил машину.
Другие дети увидели из окон детской, что он приехал, и уже неслись навстречу через лужайку. Майкл, самый младший, обогнал всех, даже Гаррика, среднего сына. Разница в возрасте между ними была меньше года. Майкл был фантазером в семье, ребенком с чудинкой, он в девять лет мог долгими часами читать «Остров сокровищ» или весь день заниматься рисованием акварельными красками, не обращая внимания ни на что другое. Шаса обнял его с такой же нежностью, как старшего, а потом подбежал Гаррик, задыхаясь от астмы, бледный и тощий, с жиденькими волосами, торчащими вверх.
– Добрый день, папа, – с запинкой выговорил он.
Он воистину был уродливым маленьким недоразумением, подумал Шаса, и откуда у него взялось все это – астма и заикание?
– Привет, Гаррик.
Шаса никогда не называл его «сынок», «мой мальчик» или «приятель», как двух других. Для него он всегда был просто Гаррик. Шаса легонько потрепал его по макушке. Ему и в голову не пришло обнять этого ребенка, маленького бедолагу, который до сих пор мочился в постель в свои десять лет.
Шаса с облегчением повернулся навстречу дочери:
– Иди сюда, мой ангел, иди к своему папочке!
Девочка бросилась в его объятия и восторженно взвизгнула, когда он подбросил ее высоко в воздух, а потом обхватила его шею обеими руками и осыпала лицо теплыми влажными поцелуями.
– Чем сейчас хочет заняться мой ангел? – спросил Шаса, не опуская ее на землю.
– Хочу катася! – заявила Изабелла. На ней уже были новенькие бриджи для верховой езды.
– Значит, катася, – согласился Шаса.
Когда Тара бранила его за то, что он поощряет шепелявость дочери, он протестовал:
– Да она же еще совсем малышка!
– Она расчетливая маленький лисичка, которая отлично знает, как обвести тебя вокруг ее пальчика, а ты позволяешь ей это делать!
Шаса посадил дочь себе на плечи, и она уселась верхом ему на шею, вцепившись в волосы отца, чтобы не упасть, и стала подпрыгивать, напевая:
– Я люблю папочку!
– Вперед, все вместе! – приказал Шаса. – Прокатимся перед ужином.
Шон был уже слишком взрослым, чтобы держать отца за руку, но он ревниво шел рядом с ним справа, почти вплотную; Майкл пристроился слева, без малейшего смущения ухватив руку Шасы, а Гаррик тащился в пяти шагах позади и обожающе смотрел на отца.
– Я сегодня первый по арифметике, папа, – негромко сказал Гаррик, но сквозь общий смех и крики Шаса его не услышал.
Конюхи уже оседлали лошадей, потому что вечерняя прогулка была семейным ритуалом. Шаса, зайдя в седельную, сменил городские туфли на старые, отлично начищенные верховые сапоги, а потом посадил Изабеллу на спину ее пухлого маленького пегого шетландского пони. Затем вскочил в седло своего жеребца и взял у конюха поводья лошадки Изабеллы.
– Эскадрон, вперед! Рысью марш!
Он скомандовал по-военному и выбросил руку вперед и вверх – жест, который всегда вызывал у Изабеллы восторженный визг, – и они с грохотом вылетели со двора конюшни.
Они сделали обычный круг по имению, останавливаясь поболтать со всеми чернокожими бригадирами, каких встречали, обмениваясь веселыми приветствиями с группами рабочих, что возвращались домой с виноградников. Шон обсуждал с отцом урожай вполне по-взрослому, сидя в седле прямо и важно, пока не вмешалась Изабелла, почувствовав себя забытой, и Шаса тут же наклонился к ней, уважительно слушая, что она собиралась ему сказать.
Мальчики, как всегда, завершили прогулку бешеным галопом через поле для гольфа и вверх по холму к конюшне. Шон, скакавший как кентавр, намного обогнал остальных; Майкл был слишком мягок, чтобы пользоваться хлыстом, а Гаррик и вовсе неловко подскакивал в седле. Несмотря на все уроки Шасы, он сидел отвратительно, его ступни и локти торчали в стороны под странными углами.
«Скачет как мешок с картошкой», – с раздражением подумал Шаса, следуя за сыновьями размеренным шагом, приноравливаясь к ходу дородного пони Изабеллы, которого вел в поводу. Шаса, будучи игроком в поло международного класса, воспринимал неуклюжую посадку среднего сына как личное оскорбление.
Когда всадники вернулись, Тара на кухне присматривала за последними приготовлениями к ужину. Подняв голову, она небрежно поприветствовала Шасу:
– Хороший был день?
На ней были ужасные брюки из выцветшей синей джинсовой ткани, которые Шаса терпеть не мог. Ему нравилась женственность.
– Неплохой, – ответил он, стараясь освободиться от Изабеллы, все еще висевшей на его шее. Наконец он снял дочь и передал няне.
– За ужином будут двенадцать человек. – Тара снова повернулась к повару-малайцу, почтительно стоявшему рядом.
– Двенадцать? – резко переспросил Шаса.
– Я в последний момент пригласила Бродхерстов.
– О боже! – простонал Шаса.
– Для разнообразия мне захотелось, чтобы кто-то завел за столом по-настоящему увлекательную беседу, а не только о лошадях, охоте и бизнесе.
– В последний раз, когда они здесь были, из-за вашего с Молли оживленного разговора ужин закончился еще до девяти. – Шаса взглянул на наручные часы. – Пойду лучше переоденусь.
– Папочка, ты меня покормишь? – закричала Изабелла из детской столовой за кухней.
– Ты уже большая девочка, ангел мой, – ответил он. – Ты должна учиться есть сама.
– Я умею есть сама – просто мне вкуснее, когда ты меня кормишь. Пожалуйста, папочка, ну миллион раз пожалуйста!
– Миллион? – уточнил Шаса. – Предлагаю миллион… кто больше?
Но он откликнулся на призыв дочери.
– Ты ее портишь, – заметила Тара. – Она становится невыносимой.
– Знаю, – откликнулся Шаса. – Ты постоянно это твердишь.
Шаса быстро побрился, пока его чернокожий лакей доставал из гардеробной вечерний смокинг и прикреплял к рубашке платиновые запонки с сапфирами. Несмотря на пылкие возражения Тары, он всегда настаивал на том, чтобы вечером надевать черный галстук.
– Это так ханжески, старомодно и снобистски!
– Это цивилизованно, – возражал он.
Одевшись, Шаса пересек широкий коридор, устланный восточными коврами, с акварелями Томаса Бейнса, постучал в дверь комнат Тары и вошел, услышав ответ.
Тара перебралась в эти комнаты, когда вынашивала Изабеллу, да так и осталась здесь. Год назад она заново все отделала, убрав бархатные гардины и мебель эпохи Георга Второго и Людовика Четырнадцатого, а заодно и турецкие ковры из города Кум и великолепные холсты Герма де Йонга и Питера Науде, ободрала обои с ворсистым рисунком и отчистила золотистую патину с полов желтого дерева, пока они не стали выглядеть предельно просто.
Теперь стены были ослепительно-белыми, лишь единственный огромный холст висел напротив кровати, изображавший чудовищные геометрические фигуры примитивных цветов в стиле Жоана Миро, но написал это неизвестный студент кейптаунской Школы искусств при университете, и картина не имела никакой ценности. По мнению Шасы, картинам следовало быть приятным украшением, но в то же время долговременным вложением средств. Эта картина не являлась ни тем ни другим.
Мебель, выбранная Тарой для своего будуара, представляла собой угловатые конструкции из нержавеющей стали и стекла, и ее было очень мало. Кровать почти прижималась к голым доскам пола.
– Это шведский стиль, – объяснила Тара.
– Отошли его обратно в Швецию, – посоветовал Шаса.
Сейчас он пристроился на одном из стальных стульев и закурил сигарету. Тара сквозь зеркало нахмурилась на него.
– Извини. – Шаса встал и подошел к окну, чтобы выбросить сигарету. – Я буду работать допоздна после ужина. – Он снова повернулся к ней. – И я хотел предупредить тебя, пока не забыл, что завтра днем улетаю в Йоханнесбург и буду отсутствовать несколько дней – может быть, пять или шесть.
– Хорошо.
Она надула губки, накладывая на них помаду бледного розовато-лилового тона, который Шаса терпеть не мог.
– И еще кое-что, Тара. Банк лорда Литлтона собирается выпустить новые акции для нашего возможного расширения на золотых приисках в Оранжевом Свободном государстве. И я бы счел за личное одолжение, если бы вы с Молли воздержались от размахивания вашими черными шарфами у него перед носом и не потчевали его веселыми историями о несправедливости белых и о кровавой революции черных.
– Я не могу отвечать за Молли, но обещаю вести себя хорошо.
– Почему бы тебе не надеть сегодня свои бриллианты? – сменил тему Шаса. – Они так отлично на тебе смотрятся.
Тара перестала носить комплект желтых бриллиантов с рудника Ха’ани с тех пор, как присоединилась к движению «Черных шарфов». Бриллианты заставляли ее чувствовать себя кем-то вроде Марии-Антуанетты.
– Не сегодня, – ответила она. – Они слишком бросаются в глаза, а у нас просто семейный званый ужин.
Она припудрила нос и в зеркало посмотрела на мужа.
– Почему бы тебе не отправиться вниз, дорогой? Твой драгоценный лорд Литлтон прибудет с минуты на минуту.
– Я просто хочу сначала заглянуть к Белле. – Он подошел к Таре и остановился за ее спиной.
Они серьезно посмотрели друг на друга в зеркало.
– Что с нами происходит, Тара? – мягко спросил Шаса.
– Не знаю, о чем ты, дорогой, – откликнулась она, но тут же опустила взгляд и старательно поправила лиф своего платья.
– Увидимся внизу, – сказал он. – Не задерживайся и не ссорься с Литлтоном. Он важный человек, и он любит женщин.
Когда за Шасой закрылась дверь, Тара мгновение-другое смотрела на нее, а потом вслух повторила вопрос мужа:
– Что с нами происходит? Вообще-то, все довольно просто. Я выросла, и мне надоели все те банальности, которыми ты заполняешь свою жизнь.
По пути вниз она заглянула к детям. Изабелла уже спала, уткнувшись лицом в плюшевого медведя. Тара спасла дочь от удушения и отправилась в комнаты мальчиков. Только Майкл все еще не спал. Он читал.
– Гаси свет! – приказала она.
– О мама, только до конца главы!
– Гаси!
– Ну до конца страницы!
– Гаси, я сказала! – И она нежно поцеловала его.
На верхней площадке лестницы она сделала глубокий вдох, как ныряльщик на трамплине, лучезарно улыбнулась и спустилась в голубую гостиную, где первые гости уже потягивали шерри.
Лорд Литлтон оказался куда интереснее, чем она ожидала, – высокий, седовласый и добродушный.
– Вы охотитесь? – спросила она при первой же возможности.
– Не выношу вида крови, дорогая.
– Ездите верхом?
– Лошади? – Он фыркнул. – Проклятые глупые животные!
– Думаю, мы с вами можем стать хорошими друзьями, – сказала Тара.
В Вельтевредене было множество комнат, не нравившихся Таре; особенно она ненавидела столовую, в которой висели головы зверей, давно убитых Шасой, – они таращились со стен стеклянными глазами. Этим вечером она рискнула усадить Молли по другую сторону от Литлтона, и уже через несколько минут та заставила его безудержно хохотать.
Когда дамы оставили мужчин с портвейном и кубинскими сигарами и перешли в дамскую гостиную, Молли отвела Тару в сторонку, переполненная восторгом.
– Я весь вечер просто умирала от желания остаться с тобой наедине! – зашептала она. – Ни за что не угадаешь, кто прямо сейчас находится в Кейптауне!
– Так скажи!
– Секретарь Африканского национального конгресса, вот кто! Мозес Гама, вот кто!
Тара, застыв на месте и побледнев, уставилась на нее.
– Он приедет к нам домой, хочет поговорить, соберется небольшая группа. Я его пригласила, и он специально просил, чтобы ты тоже присутствовала. Я и не знала, что вы знакомы.
– Я с ним встречалась только один раз… Нет, дважды, – поправила себя Тара.
– Ты можешь прийти? – настаивала Молли. – И как ты понимаешь, будет лучше, если Шаса ничего не узнает.
– Когда?
– В субботу вечером, в восемь.
– Шаса как раз уедет. Я приду, – ответила Тара. – Ни за что на свете не пропустила бы такого.
Шон Кортни был ярым приверженцем своей подготовительной школы для мальчиков Западной[3] провинции, или школы Мокрых Щенков, как ее называли. Быстрый и сильный, он лишний раз пронес мяч за голевую черту в игре в регби против школьной команды Рондебоша, лично добыв победу, в то время как его отец и двое младших братьев следили за игрой с боковой линии поля, подбадривая криками юного игрока.
Когда прозвучал финальный свисток, Шаса задержался лишь настолько, чтобы поздравить сына, с усилием сдерживаясь, чтобы не обнять вспотевшего ухмыляющегося подростка с пятнами от травы на белых шортах и ободранным коленом. Такое проявление чувств на глазах сверстников Шона могло унизить мальчика. Вместо этого они просто пожали друг другу руки.
– Хорошая игра, приятель. Я тобой горжусь, – сказал Шаса. – Извини за выходные, но я все исправлю.
Хотя Шаса искренне выражал сыну сожаление за то, что вынужден отсутствовать в выходные, но по дороге к аэродрому в Янгсфилде ощущал небывалый подъем духа. Дикки, его механик, уже вывел самолет из ангара на бетонированную площадку.
Шаса вышел из «ягуара» и остановился, сунув руки в карманы, с сигаретой в углу рта, с восхищением глядя на элегантную машину. Это был военный бомбардировщик «Москит DH98». Шаса купил его на одной из распродаж Королевского воздушного флота на аэродроме Биггин-Хилл и полностью отремонтировал с помощью опытных мастеров фирмы «Де Хэвиленд». Он даже заставил их переклеить все фанерные конструкции новейшим эпоксидным клеем «Аралдит». Изначальный «Родукс» показал свою ненадежность в условиях тропиков. Избавленный от вооружения и всех военных приспособлений, «москит» тем не менее выглядел грозно. Даже компания Кортни не могла бы себе позволить новый гражданский реактивный самолет, но этот был следующим в ряду наилучших.
Прекрасная машина присела на площадке, как сокол, который вот-вот взмахнет крыльями; сдвоенные моторы «роллс-ройс-мерлин» были готовы ожить и унести ее в синеву неба. Голубой был ее цветом, небесно-голубой и серебристый; самолет сиял на ярком солнце Кейптауна, а на фюзеляже, где некогда красовался символ Королевских воздушных сил, теперь находился логотип компании Кортни – стилизованный серебряный алмаз с первыми буквами названия компании.
– Как левый индуктор? – требовательно спросил Шаса у механика, который не спеша подошел к нему.
Маленький мужчина в замасленном комбинезоне возмутился.
– Да уж стучит, как швейная машинка! – ответил он.
Дикки любил этот самолет даже сильнее, чем Шаса, и любое несовершенство, пусть даже едва заметное, глубоко ранило его. Когда Шаса сообщал о чем-то подобном, механик воспринимал это тяжело.
Он помог Шасе уложить портфель, сумку с вещами и чехол с ружьем в бомбовый отсек, превращенный в багажник.
– Баки полны, – сообщил он и отошел в сторону с видом превосходства, когда Шаса настоял на том, чтобы самому все осмотреть, а затем с деловым видом и сам обошел самолет.
– В порядке, – наконец согласился Шаса и не удержался от того, чтобы погладить крыло, словно это была рука прелестной женщины.
Шаса поднялся на высоту одиннадцать тысяч футов, включил подачу кислорода и выровнялся, усмехаясь в старую военную кислородную маску. Он положил самолет на курс, внимательно следя за температурой выхлопных газов и оборотами двигателя, а потом откинулся назад, наслаждаясь полетом.
«Наслаждение» было слишком слабым словом для того, что он ощущал. Полет вызвал ликование духа и жар в крови. Под ним проплывал бесконечный желтовато-коричневый, как лев, континент, омываемый миллионом солнц и обожженный жаркими, пахнущими травами пустынными ветрами, его древняя шкура лопалась, морщилась и разрывалась ущельями, каньонами и пересохшими руслами рек. Только здесь, высоко над ней, Шаса по-настоящему осознавал, как близко ему все это, как глубока его любовь к этой земле. Но эта земля была также суровой и жестокой, она рождала суровых людей, черных и белых, и Шаса знал, что он тоже один из них. Здесь нет места слабакам, подумал он, здесь может процветать только сильный.
Возможно, дело было в чистом кислороде, которым он дышал, усиленном экстазом полета, но здесь, наверху, его мышление становилось более четким и отточенным. Стоявшие перед Шасой проблемы прояснялись, неопределенность исчезала, и часы проносились так же стремительно, как чудесная машина пронзала небесную синеву; когда Шаса приземлился в Йоханнесбурге, он точно знал, что необходимо сделать. Дэвид Абрахамс уже ждал его, такой же тощий и долговязый, как всегда, но он начал слегка лысеть и носил теперь очки в золотой оправе, которые придавали ему постоянно удивленный вид.
Шаса спрыгнул с крыла «москита», и они радостно обнялись. Они были ближе, чем братья. Потом Дэвид похлопал по крылу самолета.
– Когда же я смогу снова полететь? – задумчиво произнес он.
Дэвид получил крест «За летные боевые заслуги», воюя в Западной пустыне, и планку к нему в Италии. Он сбил девять вражеских машин и закончил войну в качестве командира авиакрыла, в то время как Шаса остался командиром эскадрильи, потеряв глаз в Абиссинии и отправившись после этого домой.
– Он слишком хорош для тебя, – заявил Шаса, перенося свой багаж на заднее сиденье «кадиллака» Дэвида.
Пока Дэвид выводил машину за ворота аэродрома, они обменялись семейными новостями. Дэвид был женат на Матильде Джанин, младшей сестре Тары Кортни, так что Дэвид и Шаса породнились. Шаса похвастался успехами Шона и Изабеллы, не упоминая о двоих других сыновьях, а потом они наконец перешли к настоящей причине их встречи.
По порядку важности первым шло решение относительно возможного участия в новом проекте на Серебряной реке в Оранжевом Свободном государстве. Потом – проблемы на химической фабрике компании на побережье в Натале. Местные активисты подняли шум из-за отравления морского дна и рифов там, где фабрика сбрасывала в море промышленные отходы. И наконец, имелась безумная навязчивая идея Дэвида, с которой Шасе никак не удавалось справиться: Дэвид полагал, что они должны потратить чуть больше четверти миллиона фунтов на один из огромных новых электрических калькуляторов.
– Янки провели все расчеты для атомной бомбы на таком оборудовании, – убеждал друга Дэвид. – И они называют такие машины компьютерами, а не калькуляторами, – поправил он Шасу.
– Да ладно, Дэви, разве мы собираемся что-то взорвать? – возражал Шаса. – Я же не создаю атомную бомбу!
– У англо-американцев есть такая машина. Это запах будущего, Шаса! Нам лучше не отставать.
– Это запах четверти миллиона фунтов, старина, – напомнил Шаса. – И именно тогда, когда нам нужен каждый пенни для Серебряной реки.
– Если бы у нас имелся такой компьютер для анализа геологических проб с Серебряной реки, мы бы уже сэкономили на стоимости разработок и были куда более уверены, принимая окончательное решение, чем сейчас.
– Да разве машина может быть лучше человеческого мозга?
– Давай просто пойдем и посмотрим на нее, – уговаривал его Дэвид. – В университете как раз установили IBM-701. Я устроил для тебя демонстрацию сегодня днем.
– Ладно, Дэви, – сдался Шаса. – Я посмотрю, но это не значит, что я ее куплю.
Главному администратору полуподвального этажа инженерного факультета было не больше двадцати шести лет.
– Они тут все дети, – пояснил Дэвид. – Это наука молодых.
Администратор пожала Шасе руку, затем сняла очки в роговой оправе. И вдруг Шаса понял, что в нем проснулся интерес к компьютерам. У администратора были чистые ярко-зеленые глаза, а волосы цвета дикого меда, собранного с цветов мимозы. На ней был обтягивающий зеленый свитер из ангорской шерсти и клетчатая юбка, открывавшая гладкие загорелые лодыжки. И сразу стало очевидно, что она настоящий эксперт: на вопросы Шасы она отвечала без малейших колебаний, говоря с дразнящей южной протяжностью.
– Мэрили получила степень магистра электротехники в Массачусетском технологическом институте, – тихонько сообщил Дэвид, и к первоначальному интересу Шасы прибавилось уважение.
– Но эта штука чертовски огромная! – возразил он. – Весь этаж занимает! Она же размером с дом на четыре спальни!
– Охлаждение, – пояснила Мэрили. – Выделение тепла гигантское. Большая часть всего объема здесь приходится на устройства для отведения тепла.
– Чем вы занимаетесь в данный момент?
– Обрабатываем археологические материалы профессора Дарта, из пещер Стеркфонтейна. Мы сопоставляем примерно двести тысяч его наблюдений с более чем миллионом из других частей Восточной Африки.
– Сколько времени на это понадобится?
– Мы запустили программу двадцать минут назад, а закончим перед концом рабочего дня в пять часов.
– Это через пятнадцать минут, – усмехнулся Шаса. – Да вы меня разыгрываете!
– Я бы не возражала, – задумчиво пробормотала она, и, когда она улыбнулась, ее рот стал широким, влажным и желанным для поцелуя.
– Говорите, вы заканчиваете в пять? – спросил Шаса. – А когда начинаете?
– В восемь утра.
– И машина бездействует всю ночь?
Мэрили бросила взгляд вдоль полуподвала. Дэвид стоял в другом его конце, наблюдая, как машина что-то печатает, и гудение компьютера заглушало их голоса.
– Совершенно верно. Она бездельничает всю ночь. Как и я.
Мэрили явно была из тех леди, которые точно знают, чего хотят и как этого добиться. Она посмотрела на Шасу прямо, вызывающе.
– Это недопустимо. – Шаса серьезно покачал головой. – Мама научила меня вот чему: «Не растрачивай ничего впустую – ни в чем не будешь нуждаться». Я знаю одно местечко, оно называется «Звездная пыль». Оркестр там невероятный. Держу пари, что смогу танцевать с вами до тех пор, пока вы не взмолитесь о пощаде.
– Пари принимается, – серьезно согласилась Мэрили. – А вы не смошенничаете?
– Непременно, – ответил Шаса. И, увидев возвращающегося к ним Дэвида, без паузы продолжил деловым тоном: – Во сколько она обходится в месяц?
– В целом, включая страховку и износ, немного меньше четырех тысяч фунтов, – сообщила Мэрили с таким же деловым выражением лица.
Когда они попрощались и пожали друг другу руку, девушка вложила в ладонь Шасы карточку.
– Мой адрес, – чуть слышно сказала она.
– Значит, в восемь? – спросил он.
– Буду ждать.
В «кадиллаке» Шаса закурил сигарету и выпустил безупречное кольцо дыма, беззвучно разбившееся о лобовое стекло.
– Ладно, Дэви, завтра утром первым делом свяжись с деканом инженерного факультета. Предложи арендовать это чудище на все время с пяти вечера до восьми утра следующего дня, а также на выходные. Предложи ему четыре тысячи в месяц и подчеркни, что сам он будет пользоваться машиной бесплатно. Мы возьмем на себя все его расходы в связи с работой компьютера.
Дэвид повернулся к нему с изумленным видом и чуть не въехал на тротуар, но тут же спохватился и резко вывернул руль.
«Почему я сам до этого не додумался?» – задался он вопросом, снова справляясь с машиной.
– Тебе придется вставать пораньше. – Шаса усмехнулся. – Когда мы разберемся, сколько времени понадобится нам самим для работы с этой махиной, мы сможем передавать излишнее время в субаренду компаниям, которые не являются нашими конкурентами и не имеют компьютера, но подумывают о его покупке. Таким образом, для нас самих аренда станет бесплатной, а когда IBM поработает над дизайном и сделает эту чертову штуковину поменьше, мы купим собственную.
– Чертов ты тип! – Дэвид благоговейно покачал головой. А потом его осенило. – Я включу юную Мэрили в наши платежные ведомости…
– Нет, – резко возразил Шаса. – Найди кого-нибудь другого.
Дэвид снова посмотрел на него, и его энтузиазм угас. Он слишком хорошо знал своего родственничка.
– Значит, ты не примешь приглашение Мэтти на ужин сегодня? – мрачно спросил он.
– Не сегодня, – подтвердил Шаса. – Передай ей мою любовь и извинения.
– Будь поосторожнее. Это маленький городок, а ты человек заметный, – предостерег Дэвид, высаживая Шасу у отеля «Карлтон», где компания снимала постоянный номер. – Думаешь, завтра ты будешь в состоянии работать?
– В восемь утра, – ответил Шаса. – Ровно!
По обоюдному согласию в танцевальном соревновании была объявлена ничья, и Шаса с Мэрили вскоре после полуночи вернулись в его номер в «Карлтоне».
Тело девушки было молодым, гладким и упругим, и как раз перед тем, как заснуть, разбросав медовые волосы по груди Шасы, она пробормотала:
– Ну, пожалуй, это единственное, чего не может сделать моя IBM-701.
На следующее утро Шаса явился в контору компании Кортни на пятнадцать минут раньше Дэвида. Ему нравилось держать всех в узде. Помещения конторы занимали весь третий этаж здания «Стандард» на Комиссионер-стрит. Хотя Шаса владел собственной недвижимостью на углу Диагональной улицы, напротив фондовой биржи и совсем рядом с главным офисом Англо-Американской корпорации, он еще не удосужился заняться там обустройством; все свободные деньги компании, похоже, всегда оказывались нужны для рудника, расширения или каких-то других прибыльных инициатив.
Молодая кровь в совете директоров компании была разумно уравновешена несколькими седыми головами. Доктор Твентимен-Джонс по-прежнему оставался здесь, все в таком же старомодном черном пиджаке из альпаки и при узком галстуке, и все так же скрывал свою привязанность к Шасе за скорбным выражением лица. Он руководил самым первым проектом на руднике Ха’ани для Сантэн в начале двадцатых годов и был одним из трех наиболее опытных и одаренных консультантов по добыче полезных ископаемых в Южной Африке, а значит, и во всем мире.
Отец Дэвида Абрахам Абрахамс, продолжавший руководить юридическим отделом, сидел рядом со своим сыном, светлый и веселый, как маленький серебряный воробей. Перед ним на столе громоздились папки, но ему редко приходилось сверяться с ними. Вместе с полудюжиной новичков, которых Сантэн и Шаса выбрали совместно, это была сбалансированная и функциональная команда.
– Давайте прежде всего поговорим о химической фабрике Кортни на Чака-Бей, – призвал собрание к порядку Шаса. – Сколько там серьезных возражений против нас, Эйб?
– Мы сбрасываем в море горячую серную кислоту от одиннадцати до шестнадцати тонн в день в концентрации одна к десяти тысячам, – деловито ответил Эйб Абрахамс. – Я попросил независимого морского биолога сделать заключение для нас. – Он постучал пальцем по документу. – Это нехорошо. Мы изменили pH на пять миль вдоль береговой линии.
– Вы же не обнародовали это заключение? – резко спросил Шаса.
– А ты как думаешь? – покачал головой Эйб.
– Хорошо. Дэвид. Во сколько нам обойдется модификация производственного процесса, чтобы избавляться от кислотных отходов каким-либо иным способом?
– Есть два варианта, – сообщил Дэвид. – Самый простой и дешевый – собирать ее в танкеры, но тогда нам придется искать место для захоронения. Идеальное решение – переработка кислоты.
– Цена?
– Сто тысяч фунтов в год за танкеры – и почти в три раза больше на другой вариант.
– Годовая прибыль сойдет на нет, – подытожил Шаса. – Неприемлемо. А кто такая эта Пирсон, которая возглавляет протесты? Можем ли мы с ней договориться?
Эйб покачал головой:
– Мы уже пытались. Она держит под пятой весь комитет. Без нее они просто развалятся.
– Каково ее положение?
– Ее муж владеет местной пекарней.
– Купите ее, – велел Шаса. – Если не захочет продавать, объясните, что мы откроем другую пекарню и будем ее субсидировать. Я хочу, чтобы эта Пирсон исчезла еще вчера. Есть вопросы? – Он оглядел сидевших за столом.
Все делали пометки, никто на него не смотрел, и Шасе захотелось поинтересоваться у них: «Ладно, джентльмены, вы готовы потратить триста тысяч фунтов, чтобы обеспечить убежищем лобстеров и морских ежей в заливе Чаки?»
Но вместо этого он кивнул:
– Вопросов нет. Хорошо, теперь перейдем к главному. Серебряная река.
Все заерзали на своих местах и одновременно нервно выдохнули.
– Джентльмены, мы все прочитали и изучили геологический отчет доктора Твентимен-Джонса, основанный на бурении тех участков. Это великолепная работа, и мне незачем вам говорить, что это наилучшее мнение, какое только вы можете получить с Харли-стрит. А теперь я хочу услышать мнение каждого из вас как руководителей подразделений. Можем мы начать с тебя, Руперт?
Руперт Хорн был самым молодым членом правления. Как казначей и главный бухгалтер, он обеспечивал финансовую поддержку проектов.
– Если мы упустим эту возможность, нам придется списать два целых три десятых миллиона, которые мы потратили на исследования за последние восемнадцать месяцев. Если мы используем эту возможность, это будет означать начальные вложения в четыре миллиона сразу.
– Мы можем покрыть это из резервных средств, – перебил его Шаса.
– Мы держим четыре и три десятых миллиона в резервном фонде, – согласился Руперт Хорн. – Сейчас они вложены в «Эском» под семь процентов, но если мы используем эти деньги, то окажемся в крайне уязвимом положении.
Менеджеры один за другим, в порядке старшинства, излагали взгляды в соответствии со своими подразделениями, а в конце Дэвид свел все воедино:
– В общем, похоже на то, что у нас остается двадцать шесть дней на принятие решения и четыре миллиона, если мы за это возьмемся. Это приведет к тому, что мы останемся без гроша в кармане и перед лицом расходов в три миллиона фунтов на разработку только главной шахты, плюс еще пять миллионов на фабрику, проценты и текущие расходы, чтобы добраться до фазы получения продукции, а это четыре года с настоящего момента, в пятьдесят шестом году.
Дэвид умолк, и все пристально наблюдали, как Шаса достал сигарету и легонько постучал ею по крышке золотого портсигара.
Шаса выглядел крайне сосредоточенным. Он лучше, чем кто-либо из них, знал, что решение может уничтожить компанию или вознести ее на новый высокий уровень, и никто не сделает выбор вместо него. Он стоял один на вершине командования.
– Мы знаем, что там есть золото, – заговорил он наконец. – Богатая жила. Если мы доберемся до нее, она будет работать пятьдесят лет. Однако золото держится на тридцати пяти долларах за унцию. Американцы застолбили цену и грозятся вечно ее удерживать. Тридцать пять долларов за унцию – и это обойдется от двадцати до двадцати пяти за унцию на то, чтобы докопаться до него и поднять на поверхность. Небольшая прибыль, джентльмены, слишком небольшая.
Он закурил, и все вздохнули и расслабились, испытывая одновременно разочарование и облегчение. Да, все могло обернуться и победой, и поражением. Им этого уже не узнать. Но Шаса еще не закончил. Он выпустил кольцо дыма вдоль стола и продолжил:
– Однако я не думаю, что американцам удастся долго удерживать цену на золото. Их ненависть к нему эмоциональна, она не основана на экономической реальности. Я знаю, просто чую, что недалек тот день, когда мы увидим золото по шестьдесят долларов, а однажды, раньше, чем любой из нас думает, оно будет стоить сто пятьдесят долларов, а то и двести!
Все задвигались на стульях, недоверчиво уставившись на него, а Твентимен-Джонс выглядел так, словно готов разрыдаться перед лицом такого безумного оптимизма, но Шаса не обратил на него внимания и заговорил с Эйбом Абрахамсом:
– Эйб, в полдень восемнадцатого числа следующего месяца, за двенадцать часов до истечения срока действия предложения, вы вручите чек на четыре миллиона владельцам земли на Серебряной реке и приобретете ее от имени компании, которая будет создана. – Шаса повернулся к Дэвиду. – В то же время мы откроем подписку на акции стоимостью в один фунт на фондовых биржах в Йоханнесбурге и Лондоне. На десять миллионов акций по одному фунту – на золотые прииски на Серебряной реке. Вы с доктором Твентимен-Джонсом сегодня же начнете составлять проспекты. Компания Кортни зарегистрирует собственность на имя новой компании в обмен на акции на пять миллионов, переведенных на нее. Мы также будем отвечать за управление и развитие.
Шаса быстро и лаконично объяснил структуру, финансирование и управление новой компании, и не раз все закаленные управленцы отрывались от своих блокнотов и откровенно изумлялись некоторым необычным и ловким ходам, которые он добавлял к общей схеме.
– Я что-нибудь упустил из виду? – спросил наконец Шаса и, когда все покачали головами, усмехнулся.
Дэвиду это напомнило фильм, на который они с Мэтти водили детей в прошлую субботу, «Морской ястреб», хотя повязка на глазу придавала Шасе еще большее сходство с пиратом, чем было у Эррола Флинна, игравшего главную роль.
– Основательница нашей компании, мадам Сантэн де Тири-Кортни-Малкомс, никогда не одобряла употребление спиртного в совете директоров. Однако…
Все так же ухмыляясь, Шаса кивнул Дэвиду, который подошел к главной двери зала заседаний и открыл ее, и секретарь вкатил внутрь столик на колесах, уставленный позвякивавшими бокалами и зелеными бутылками «Дом Периньон» в серебряных ведерках со льдом.
– Старые обычаи уступают место новым, – объявил Шаса и с осторожным хлопком откупорил первую бутылку.
Шаса сбросил обороты моторов «роллс-ройс», и «москит» нырнул вниз сквозь полосы редких перистых облаков, а навстречу ему устремились бесконечные золотые равнины возвышенности. На западе Шаса уже различал толпящиеся здания шахтерского города Велком, центра золотых приисков Оранжевого Свободного государства. Основанный всего несколько лет назад, когда Англо-Американская корпорация начала открывать эти месторождения, он уже стал образцовым городом с населением более ста тысяч человек.
Шаса расстегнул кислородную маску, позволив ей висеть на груди, когда наклонился вперед и всмотрелся сквозь ветровое стекло перед голубым носом «москита».
Он заметил крошечную стальную башню буровой установки, почти затерявшуюся в необъятности пыльной равнины, и, используя ее как ориентир, проследил за паутиной изгородей, что окружали фермерские земли у Серебряной реки – одиннадцать тысяч акров, по большей части голые, необработанные. Просто изумляло, что геологи крупных добывающих компаний просмотрели этот маленький карман, но ведь никто не мог предположить, что рудная жила даст подобное ответвление, – точнее сказать, никто, кроме доктора Твентимен-Джонса и Шасы Кортни.
Однако жила пряталась тут под землей, на глубине, что равнялась высоте, на которой летел сейчас «москит». Казалось невозможным, чтобы кто-то из людей сумел зарыться так глубоко, но Шаса уже видел в воображении надшахтные копры у Серебряной реки, возвышающиеся на две сотни футов над унылой равниной, и шахты, уходящие на милю и более в недра земли, к подземной реке драгоценного металла.
– А янки не сумеют вечно держаться за свое – им придется отпустить цены на золото, – сказал себе Шаса.
Он положил самолет на крыло, и на приборном щитке мягко повернулась стрелка гирокомпаса. Шаса выровнял машину, и теперь она пошла точно на 125 градусов.
– Пятнадцать минут при таком ветре, – проворчал Шаса, поглядывая на крупномасштабную карту, лежавшую у него на коленях, и прекрасное расположение духа не покидало его остаток полета, пока он наконец не увидел прямо впереди темную прямую линию дыма, что поднималась в воздух. Внизу зажгли дымовой маяк, чтобы указать ему нужное место.
Перед одиноким ангаром из оцинкованного железа в конце посадочной полосы стояла «Дакота». На большом самолете красовались знаки Воздушных сил. Сама полоса представляла собой укатанную желтую глину, гладкую и твердую, и «москит» сел на нее почти без толчка. Шасе понадобились бесконечные тренировки, чтобы научиться вот так оценивать дистанцию после того, как он потерял глаз.
Шаса отодвинул назад фонарь кабины и медленно подрулил к ангару. Там он уже видел зеленый «форд» рядом с мачтой ветроуказателя и одинокую фигуру в шортах и рубашке цвета хаки; человек стоял рядом с дымником, уперев руки в бока, и наблюдал, как Шаса останавливается и глушит моторы. Потом, когда Шаса спрыгнул на землю, он шагнул вперед и протянул правую руку, но выражение его лица, серьезное и сдержанное, никак не вязалось с приветственным жестом.
– Добрый день, министр. – Шаса тоже не улыбнулся, и их рукопожатие было крепким, но кратким.
Затем, когда Шаса пристально посмотрел в светлые глаза Манфреда де ла Рея, у него возникло странное ощущение дежавю, как будто он уже смотрел в эти самые глаза прежде, в каких-то отчаянных обстоятельствах. Ему даже пришлось слегка встряхнуть головой, чтобы избавиться от этого чувства.
– Я рад за нас обоих, что вы сумели приехать. Могу я вам помочь с багажом? – спросил Манфред де ла Рей.
– Не беспокойтесь. Я сам справлюсь.
Шаса вернулся к самолету, чтобы закрыть его и забрать багаж из бомбового отсека, а Манфред тем временем загасил дымник.
– Вы прихватили свою винтовку, – заметил Манфред. – Что это?
– Семимиллиметровый «ремингтон-магнум». – Шаса забросил вещи в кузов грузовика и сел на пассажирское место «форда».
– Идеально для такой охоты, – одобрил Манфред, заводя мотор. – Дальняя стрельба на ровной местности.
Он развернул грузовик, и несколько минут они ехали молча.
– Премьер-министр не сможет приехать, – сказал наконец Манфред. – Он собирался, но прислал для вас письмо. Там подтверждение, что я говорю и от его имени.
– Хорошо, – с невозмутимым видом произнес Шаса.
– Здесь министр финансов, а министр сельского хозяйства – хозяин, это его ферма. Одна из самых больших в Свободном государстве.
– Я впечатлен.
– Да, – кивнул Манфред. – Я и предполагал, что так будет. – Он в упор посмотрел на Шасу. – Не странно ли, что мы с вами словно обречены всегда противостоять друг другу?
– Да, мне такое приходило в голову, – признал Шаса.
– Вам не кажется, что для этого есть какая-то причина – нечто такое, о чем мы не подозреваем? – не отступал Манфред, и Шаса пожал плечами:
– Я бы такого не подумал; полагаю, просто совпадение.
Похоже, такой ответ разочаровал Манфреда.
– А ваша мать когда-нибудь говорила с вами обо мне?
Шаса явно удивился:
– Моя мать? Господи, а при чем тут она? Нет, не думаю. Могла, конечно, случайно о вас упомянуть… а почему вы спрашиваете?
Манфред словно и не слышал его, он смотрел вперед.
– Вот и усадьба, – сказал он, решительно закрывая тему.
Дорога шла по краю неглубокой долины, а внизу перед ними виднелась усадьба. Видимо, здесь вода подходила близко к поверхности земли, потому что пастбища выглядели пышными и зелеными; и по долине были разбросаны десятки стальных конструкций ветряков. Усадьбу окружали эвкалиптовые рощи, а за ними располагались крепкие хозяйственные постройки, все недавно покрашенные и в хорошем состоянии. Более двадцати новехоньких тракторов выстроилось перед одним из длинных гаражей, на лугах паслись стада жирных овец. Равнина за имением, тянувшаяся почти до горизонта, была уже вспахана, и тысячи акров шоколадной земли стояли готовыми к посеву кукурузы. Это было сердце страны африканеров, здесь поддержка Национальной партии оставалась непоколебимой, и именно поэтому избирательные округа были перераспределены так, чтобы убрать центры власти от городского населения в эти сельские места. Именно поэтому националисты должны были всегда иметь власть, и Шаса кисло скривился. Манфред тут же посмотрел на него, но Шаса ничего не стал объяснять, и они съехали вниз по склону и остановились во дворе фермы.
За длинным кухонным столом из желтого дерева сидела дюжина мужчин, они курили и пили кофе, разговаривая, а женщины хлопотали вокруг них. Мужчины поднялись навстречу Шасе, и он обошел стол, пожимая руки каждому из них и обмениваясь вежливыми приветствиями.
Шаса знал их всех. С каждым он встречался в парламенте и почти всех резко критиковал, а в ответ каждый всячески поносил его, но сейчас они освободили для него место за столом, хозяйка налила ему крепкого черного кофе и поставила перед ним тарелку со сладким печеньем и хрустящими сухариками. Все обращались к Шасе с прирожденной любезностью и гостеприимством, которые отличали африканеров. Хотя все были одеты в грубые охотничьи костюмы и притворялись простыми фермерами, на деле это была группа проницательных и опытных политиков, а заодно и самых богатых и влиятельных в стране людей.
Шаса безупречно говорил на их языке, понимал даже самые завуалированные намеки, смеялся над их личными шутками, но он не был одним из них. Он был руйнек[4] – их традиционный враг, – и они неуловимо смыкали свои ряды против него.
Когда Шаса выпил кофе, хозяин дома, министр сельского хозяйства, сказал:
– Я покажу вам вашу комнату. Вам наверняка захочется переодеться и распаковать винтовку? Мы отправимся на охоту, как только станет прохладнее.
Вскоре после четырех часов все расселись в грузовички-пикапы: старшие, наиболее важные гости ехали в кабинах, а остальные стояли в открытых кузовах. Кавалькада выбралась из долины, обогнула вспаханные земли, а потом помчалась к ряду невысоких холмов на горизонте.
Они уже видели дичь – небольшие стада антилоп-прыгунов вдали, похожих на россыпь мелкой корицы на светлой земле, – но машины ехали дальше и замедлили ход лишь тогда, когда достигли подножия каменистых холмов. Первый грузовик на мгновение остановился, и двое охотников спрыгнули на землю и спустились в неглубокое ущелье.
– Удачи! Меткой стрельбы! – крикнули они остальным, когда те проезжали мимо, и через несколько сотен ярдов колонна снова остановилась, чтобы двое других могли занять свои позиции.
В течение получаса все охотники спрятались вдоль неровной линии под холмами. Манфред де ла Рей и Шаса остановились вместе среди обломков серых камней и присели на корточки, положив винтовки на колени, глядя через равнину, усеянную темными кустами.
Грузовики, управляемые младшими сыновьями хозяина, ушли дальше широким кругом, превратившись наконец в точки на фоне светлого горизонта; каждый оставлял за собой страусиное перо пыли. Потом они снова повернули к холмам, но теперь ехали медленнее, почти со скоростью пешехода, гоня перед собой рассыпанные группы антилоп.
Шасе и Манфреду пришлось почти час ждать, пока загнанная дичь приблизится на расстояние выстрела, и они просто обменивались словами, сначала слегка коснувшись политики, но в основном обсуждая их хозяина, министра сельского хозяйства, и других гостей. Потом Манфред довольно искусно сменил направление разговора и заметил, как на самом деле мало разницы между курсом и стремлениями правящей Национальной партии и собственной партии Шасы, оппозиционной Объединенной.
– Если внимательно все рассмотреть, разница между нами лишь в стиле и степени. Мы оба хотим сделать Африку безопасной для белых людей и для европейской цивилизации. Мы оба знаем, что для всех нас апартеид – вопрос жизни и смерти. Без него мы все просто утонем в черном море. После смерти Смэтса ваша партия стремительно движется к нашему образу мысли, а все левые и либералы начали от вас отходить, ведь так?
Шаса уклонился от ответа, но вопрос оказался уместным и болезненным. В его партии намечался глубокий раскол, и с каждым днем становилось все более очевидным, что им уже никогда не сформировать в этой стране свое правительство. Однако ему стало интересно, к чему ведет Манфред де ла Рей. Он давно научился тому, что нельзя недооценивать своего противника, и чувствовал, что его искусно подводят к истинной цели приглашения. Ясно было и то, что их хозяин намеренно свел их вместе и что все остальные члены компании были посвящены в предстоящее дело. Шаса говорил мало, внимательно следя за репликами собеседника, и с растущим нетерпением ждал, когда его предчувствие приобретет конкретные формы.
– Вам известно, что мы защищаем права, язык и культуру англоязычных южноафриканцев. Никогда не будет даже попытки нарушить эти права – мы смотрим на всех англоговорящих, искренне считающих себя в первую очередь южноафриканцами, как на своих братьев. Наши судьбы скованы стальными цепями…
Манфред умолк и поднес к глазам бинокль.
– Они уже приближаются, – негромко произнес он. – Нам лучше подготовиться.
Он опустил бинокль и осторожно улыбнулся Шасе:
– Я слышал, вы хороший стрелок. С нетерпением жду демонстрации вашего мастерства.
Шаса ощутил разочарование. Ему хотелось знать, к чему подведет тщательно отрепетированная речь, но он скрыл нетерпение за непринужденной улыбкой и поднял винтовку.
– В одном вы правы, министр, – сказал он. – Мы скованы стальными цепями. Так давайте надеяться, что их вес не утопит нас.
Шаса заметил странную вспышку в топазово-желтых глазах, но был ли это огонек гнева или триумфа – он не понял, да и возникла она всего лишь на мгновение.
– Я буду стрелять только вправо от линии между нами, – сказал Манфред. – А вы – только влево. Согласны?
– Согласен, – кивнул Шаса, хотя его кольнуло раздражение из-за того, что его так быстро и легко перехитрили. Манфред заранее устроился так, чтобы прикрывать правый фланг, естественную сторону для праворукого стрелка.
«Тебе понадобится удача», – мрачно подумал Шаса и спросил вслух:
– Я слышал, вы тоже отличный стрелок. Как насчет небольшого пари на количество добычи?
– Я не игрок в азартные игры, включая пари, – просто ответил Манфред. – Это все происки дьявола, но буду с интересом подсчитывать.
Эти слова напомнили Шасе, насколько пуританским был крайний кальвинизм, который исповедовал Манфред.
Шаса тщательно зарядил винтовку. Он всегда сам набивал патроны, потому что не доверял массовой фабричной продукции. Блестящие медные гильзы он наполнял бездымным черным порохом, который был способен придать пуле «нослер-партишн» скорость более трех тысяч футов в секунду. Особая конструкция этих пуль гарантировала, что они раскроются при ударе в цель.
Он взвел курок и поднял винтовку к плечу, через оптический прицел оглядывая равнину. Пикапы находились меньше чем в миле от них, они медленно катили взад-вперед, мешая стадам развернуться, заставляя их медленно двигаться к линии холмов и охотникам, скрытым под ними. Шаса несколько раз быстро моргнул, проясняя зрение, и смог рассмотреть уже каждое отдельное животное в стаде антилоп-прыгунов, скакавших перед грузовиками.
Они были легкими, как дым, и мелькали на равнине, словно облако теней. Элегантно подпрыгивая, высоко держа головы с изогнутыми рогами, похожими на безупречные маленькие лиры, эти животные были грациозны и неописуемо прекрасны.
Без стереоптического зрения Шасе было трудно оценить дистанцию, но он развил в себе умение определять относительные расстояния и добавлял к этому своего рода шестое чувство, благодаря которому мог вести самолет, точно бить по мячу при игре в поло или стрелять так же хорошо, как любой человек с двумя глазами.
Ближайшая из антилоп была уже почти на расстоянии выстрела, когда раздался треск винтовок дальше на линии охотников, и тут же стадо взлетело в воздух. Каждое маленькое существо танцевало и подскакивало на длинных ногах не толще мужского большого пальца. Они словно больше не подчинялись силам гравитации, каждый длинный прыжок делал их расплывчатыми на фоне обожженной земли, они кувыркались и снова взлетали в колеблющийся, как мираж, воздух, демонстрируя акробатическое искусство, давшее им имя, и серебристые гривы на их спинах встали дыбом от испуга.
Попасть в них было труднее, чем в стремительно взлетающую куропатку, невозможно было удержать в прицеле мечущиеся нереальные очертания, бессмысленно целиться прямо в мчащееся животное – скорее следовало метить в пустое пространство, где они очутятся через микросекунду, только так их могла достать сверхзвуковая пуля.
Чтобы стать хорошим стрелком, большинство нуждалось в долгой практике и сосредоточении. Шаса обладал таким талантом от рождения. Когда он слегка повернулся, ствол его винтовки направился точно туда, куда он смотрел, и перекрестье оптического прицела плавно переместилось в нужную точку, остановившись на подвижном теле бегущей антилопы, то и дело взлетавшей в воздух. Шаса не осознавал момента, когда он нажал на спуск, винтовка как будто выстрелила по собственному желанию, и отдача ударила его в плечо точно в нужный момент.
Самец умер прямо в воздухе, перевернутый пулей так, что его снежно-белый живот сверкнул на солнце, он перекувыркнулся от силы маленького кусочка металла, пронзившего его сердце, упал на землю, уронив рогатую голову на изящные копытца, и затих.
Шаса передернул затвор и выбрал другое бегущее существо, и винтовка снова выстрелила, а резкий запах вспыхнувшего пороха защекотал его ноздри. Шаса продолжал стрелять до тех пор, пока ствол винтовки не разогрелся настолько, что мог обжечь до пузырей, а его уши не заболели от треска выстрелов.
Потом последнее стадо промчалось мимо них за холмы позади, и грохот выстрелов затих. Шаса разрядил винтовку от оставшихся в ней патронов и посмотрел на Манфреда де ла Рея.
– Восемь, – сказал Манфред. – И две ранены.
Изумляло то, как эти крошечные существа могли умчаться с неудачно попавшей в них пулей. Теперь требовалось найти их. Недопустимо было позволять раненому животному бессмысленно страдать.
– Восемь – хороший счет, – заметил Шаса. – Вы должны быть довольны.
– А у вас? – спросил Манфред. – Сколько?
– Двенадцать, – бесстрастно ответил Шаса.
– А сколько ранено? – Манфред отлично скрыл свое разочарование.
– О! – Шаса наконец улыбнулся. – Я не раню животных – я стреляю туда, куда целюсь.
Этого было достаточно. Он не собирался втирать соль в рану.
Шаса оставил Манфреда и направился к ближайшей туше. Антилопа лежала на боку, глубокие складки кожи вдоль ее спины расслабились, и между ними появилась снежно-белая грива. Шаса опустился на одно колено и погладил ее. Из желез в коже потекла красновато-коричневая жидкость, и Шаса, раздвинув длинную шерсть гривы, коснулся ее пальцем, затем поднес палец к лицу и вдохнул сладкий аромат. Мускус пахнул скорее цветком, чем животным. А потом на Шасу напала охотничья меланхолия, он скорбел по маленькому прекрасному существу, убитому им.
– Спасибо, что умер ради меня.
Шаса прошептал древнюю молитву бушменов, которой Сантэн научила его давным-давно, и все же к его грусти примешивалось удовольствие, и в глубине души его атавистическая жажда охоты была на мгновение удовлетворена.
В вечерней прохладе мужчины собрались вокруг ям с тлеющими углями перед усадьбой. Запекание мяса – браавлейс — было ритуалом, который следовал за охотой; мясом занимались мужчины, а женщинам поручалось готовить салаты и пудинги у длинных столов на веранде. Дичь предстояло замариновать, залить свиным жиром или превратить в пряные колбаски, а печень, почки и рубец обрабатывали по тщательно сберегаемому рецепту, прежде чем уложить на угли в жаркую яму, в то время как превратившиеся на время в поваров мужчины удерживали жар на нужном уровне, поливая угли крепким персиковым бренди мампоэр.
Наспех собранный оркестр из цветных рабочих фермы наигрывал традиционные местные мелодии на банджо и концертино, и кое-кто из гостей танцевал на широкой передней террасе. Несколько молодых женщин выглядели очень интересными, и Шаса задумчиво поглядывал на них. Они были загорелыми, сияли здоровьем и неискушенной чувственностью, что выглядело и вовсе привлекательным при мысли об их строгом кальвинистском воспитании. Их неприкосновенность и, скорее всего, девственность делали их еще более соблазнительными для Шасы, который наслаждался подобными преследованиями так же, как охотой.
Однако на кону стояло слишком многое, чтобы рискнуть хотя бы в малейшей степени и, возможно, тем самым нанести хозяевам оскорбление. Шаса избегал застенчивых, но расчетливых взглядов, которые некоторые из девушек бросали в его сторону, и точно так же старательно избегал безумно крепкого персикового бренди, наполнив свой стакан имбирным пивом. Он знал, что ему понадобится вся сила его ума, прежде чем закончится эта ночь.
Когда их аппетит, обостренный охотой в вельде, притупился благодаря блюдам с исходящей паром жареной олениной, а остатки были унесены радостными слугами, Шаса оказался сидящим в конце длинного стола, самом дальнем от оркестра. Манфред де ла Рей сидел напротив, а еще два министра с довольным видом развалились в глубоких шезлонгах по обе стороны от него. Несмотря на их расслабленный вид, они осторожно наблюдали за Шасой краем глаза.
«Сейчас они перейдут к главному», – решил Шаса, и почти в то же мгновение Манфред пошевелился.
– Я говорил минхееру[5] Кортни, что во многих отношениях мы очень близки, – тихо начал он, и его коллеги глубокомысленно кивнули. – Мы все хотим защитить нашу страну и сохранить все прекрасное и ценное, что в ней есть. Господь избрал нас стражами, и наш долг – защищать ее народы и следить, чтобы индивидуальность каждой группы и каждой отдельной культуры оставалась нетронутой и не смешивалась с другими.
Такова была линия его партии, ее представление о божественном выборе, и Шаса уже слышал все это сотни раз; но, хотя он просто кивал и издавал неопределенные звуки, он начал ощущать беспокойство.
– Многое еще предстоит сделать, – сказал ему Манфред. – После следующих выборов нас ждет большая работа, мы каменщики, строящие величественное социальное здание, которое простоит тысячу лет. Образцовое общество, в котором каждая группа получит свое место и не будет вторгаться в чужое пространство, широкая и устойчивая пирамида, образующая уникальный социум.
Все немного помолчали, созерцая прекрасное видение, и хотя Шаса сохранял нейтральное выражение лица, он все же внутренне улыбнулся удачной метафоре пирамиды. Можно было не сомневаться, какая именно группа, по мнению присутствующих, была назначена Богом для того, чтобы занять вершину.
– Но ведь остаются и враги? – подал нужную реплику министр сельского хозяйства.
– Да, враги есть, внутри и снаружи. Они станут более крикливыми и опасными по мере продвижения нашего дела. Чем ближе мы подходим к успеху, тем настойчивее они станут мешать нам достигнуть цели.
– Они уже поднимают головы.
– Да, – согласился Манфред. – И даже наши старые, традиционные друзья предостерегают нас и угрожают нам. Даже Америка, которой следовало бы соображать получше, учитывая ее собственные расовые проблемы и то, что там возникает противоестественное волнение негров, привезенных из Африки в качестве рабов. Даже Британия, при ее-то проблемах в Кении с этим восстанием мау-мау и расколом индийской империи, намерена диктовать нам свои условия и помешать идти курсом, который мы считаем верным.
– Они уверены, что мы слабы и уязвимы.
– Они уже намекают на военное эмбарго, отказываются снабжать нас оружием для самозащиты от темного врага, затаившегося в тени.
– Они правы, – резко вмешался Манфред. – Мы слабы и дезорганизованы в военном отношении. Мы зависим от их милости…
– Мы должны это изменить, – жестко заговорил министр финансов. – Мы должны стать сильными.
– Следующий бюджет выделит на цели защиты пятьдесят миллионов фунтов, а к концу десятилетия сумма составит миллиард.
– Мы должны поставить себя выше их угроз санкциями, бойкотом и эмбарго.
– Сила в единстве, Ex Unitate Vires, – четко проговорил Манфред де ла Рей. – И все же по традиции и предпочтению народ африканеров всегда был фермерами и сельскими жителями. Из-за дискриминации, которую обрушивали на нас более ста лет, мы были изгнаны из торговли и промышленности, и у нас нет тех знаний и навыков, которые с такой легкостью получают наши англоязычные соотечественники. – Манфред сделал паузу, посмотрел на двух других министров, словно ожидая одобрения, и продолжил: – В чем отчаянно нуждается эта страна, так это в богатстве, которое превратит нашу мечту в реальность. Это именно то дело, с которым мы незнакомы. Нам нужен особенный человек.
Теперь все смотрели прямо на Шасу.
– Нам нужен человек, полный молодой энергии, но уже обладающий опытом зрелости, человек, доказавший свою гениальность в финансовых и организационных вопросах. Мы не смогли найти такого в рядах нашей партии.
Шаса уставился на них. То, что они предлагали, выглядело возмутительно. Он вырос в тени Яна Кристиана Смэтса и питал естественную и непоколебимую преданность партии, которую основал этот великий и добрый человек. Шаса открыл рот, чтобы дать гневный ответ, однако Манфред де ла Рей вскинул руку, останавливая его.
– Выслушайте меня, – сказал он. – Человек, избранный для этих патриотических трудов, немедленно получит высокую должность в кабинете министров, премьер-министр создаст ее специально для него. Он станет министром рудной промышленности.
Шаса медленно закрыл рот. Как тщательно они, должно быть, изучали его, как точно проанализировали и оценили. Сами основы его политических убеждений и принципов пошатнулись, и стены треснули. Они привели его на высоту и показали приз, который он мог получить.
На высоте двадцать тысяч футов Шаса выровнял «москит» и уточнил курс. Он увеличил подачу кислорода в маску, чтобы прочистить мозги. У него было впереди четыре часа на перелет до Янгсфилда, четыре часа, чтобы все тщательно обдумать, и он постарался отвлечься от страстей и эмоций, которые все еще обуревали его, и принять решение логически, но в размышления вторгалось волнение. Перспектива обладать огромной властью, создать арсенал, который сделал бы его страну величайшей в Африке и значимой силой в мире, внушала благоговейный трепет. Это была сила. Власть. Мысль обо всем этом вызывала легкое головокружение, потому что наконец-то все это появилось, все то, о чем он грезил. Ему нужно было только протянуть руку и поймать момент. Но какова будет цена, если говорить о чести и гордости, как он сможет объяснить это людям, доверявшим ему?
Внезапно Шаса подумал о Блэйне Малкомсе, своем наставнике и советчике, человеке, который все эти годы занимал место его отца. Что он может подумать о том чудовищном предательстве, о котором размышлял сейчас Шаса?
– Я могу принести больше пользы, присоединившись к ним, Блэйн, – прошептал Шаса в маску. – Я смогу помочь изменить и сдержать их изнутри куда эффективнее, чем оставаясь в оппозиции, потому что теперь у меня будет власть…
Но он знал, что обманывает себя, что все это просто накипь.
В итоге все сводилось лишь к одному – к власти, и Шаса понимал, что, хотя Блэйн Малкомс никогда не примирится с тем, в чем увидит предательство, только один человек сможет его понять, поддержать и ободрить. Потому что, в конце концов, именно Сантэн Кортни-Малкомс так старательно учила своего сына приобретению и использованию богатства и власти.
«Все это может сбыться, матушка. Это все же может случиться, пусть не совсем так, как мы задумывали, но тем не менее оно может произойти».
Потом Шасу осенила другая мысль, и тень пробежала по яркому свету его триумфа.
Он посмотрел на красную папку, которую перед полетом вручил ему Манфред де ла Рей, министр полиции, когда Шаса уже готов был забраться в самолет, и теперь эта папка лежала рядом, на месте второго пилота.
– Есть только одна проблема, с которой нам придется столкнуться, если вы примете наше предложение, – сказал Манфред, протягивая эту папку, – и проблема серьезная. Здесь все изложено.
В папке содержался отчет специального отделения безопасности полицейского управления, и на обложке стояло имя:
ТАРА ИЗАБЕЛЛА КОРТНИ, УРОЖДЕННАЯ МАЛКОМС
Тара Кортни зашла в детское крыло, заглядывая в каждую из спален. Няня только что уложила Изабеллу под розовое атласное одеяльце, и дитя восторженно вскрикнуло, увидев Тару:
– Мамуля, мамуля, Тедди плохо себя вел! Мне пришлось уложить его спать на полку с другими куклами!
Тара села на кровать дочери и обнимала ее, пока они обсуждали провинности Тедди. Изабелла была розовой и теплой, от нее пахло мылом. Ее шелковистые волосы касались щеки Тары, и Таре пришлось сделать над собой усилие, чтобы поцеловать дочь и встать.
– Пора спать, Белла, детка.
В тот момент, когда свет погас, Изабелла издала такой вопль, что Тара испуганно обернулась:
– В чем дело, детка? – Она снова включила свет и бросилась к кроватке.
– Я простила Тедди. Он все-таки может спать со мной.
Плюшевый медвежонок был торжественно возвращен Изабелле, и она тут же нежно обхватила его за шею и сунула в рот большой палец другой руки.
– А когда папочка приедет домой? – сонно спросила она у большого пальца, но ее глаза уже закрылись, и она заснула до того, как Тара подошла к двери.
Шон сидел на груди Гаррика посреди спальни и с садистским наслаждением крутил волосы на висках брата. Тара разогнала их.
– Шон, немедленно вернись к себе, слышишь? Я тебя тысячу раз предупреждала, чтобы ты не издевался над братьями! Твой отец узнает обо всем, как только вернется.
Гаррик смахнул слезы и, задыхаясь, бросился на защиту старшего брата:
– Мы просто играли, мама. Он не издевался надо мной.
Однако Тара слышала, что он на грани нового приступа астмы. Она колебалась. Ей, конечно же, не следовало сейчас уходить, особенно при угрозе приступа, но сегодня это было так важно…
«Я приготовлю ему ингалятор и велю няне заглядывать к нему каждый час до моего возвращения», – решила она, найдя компромисс.
Майкл читал и едва взглянул на нее в ответ на поцелуй.
– Погаси свет в девять. Обещай мне, милый.
Тара старалась никогда этого не показывать, но Майкл всегда был ее любимчиком.
– Обещаю, мама, – пробормотал Майкл, но под одеялом старательно скрестил пальцы.
Спускаясь по лестнице, Тара посмотрела на наручные часы. Было без пяти восемь. Она опаздывала и, подавив материнское чувство вины, поспешила к своему старому «паккарду».
Шаса терпеть не мог этот «паккард», воспринимая его выгоревшую на солнце покраску и старую грязную обивку как вызов семейному достоинству. Он подарил Таре на ее последний день рождения новый «астон-мартин», однако тот так и стоял в гараже. «Паккард» соответствовал ее собственному спартанскому представлению о себе. Старый автомобиль оставлял за собой грязный дым, когда Тара все быстрее разгонялась по длинной подъездной дорожке, испытывая извращенное удовольствие от того, что на обожаемые мужем виноградные лозы ложился слой светлой пыли. Странно, что даже спустя столько лет она чувствовала себя чужой в Вельтевредене, посторонней среди его сокровищ и душной старомодной обстановки. Если бы она прожила здесь еще пятьдесят лет, имение все равно не стало бы для нее домом, это был дом Сантэн Кортни-Малкомс, рука и дух другой женщины ощущались в каждой комнате, а Шаса никогда бы не позволил ей обставить все заново.
Тара промчалась через огромные, нарочито показные ворота Анрейта в реальный мир страданий и несправедливости, где подавляемые массы рыдали и боролись, взывая о помощи, и где она ощущала себя полезной и значимой, где вместе с другими пилигримами могла идти вперед навстречу будущему, полному трудностей и перемен.
Дом Бродхерстов находился в пригороде Пайнлендс, где обитал средний класс; это был современный дом в стиле ранчо, с плоской крышей и большими панорамными окнами, с простой мебелью массового производства и нейлоновыми коврами от стены до стены. На стулья налипла собачья шерсть, потрепанные интеллектуальные книги громоздились стопками в углах или валялись открытыми на обеденном столе, в коридорах под ноги попадались детские игрушки, на стенах криво висели дешевые репродукции картин Пикассо и Модильяни, а на самих стенах виднелись отпечатки грязных детских пальчиков. Здесь Тара чувствовала себя уютно и легко, к счастью избавленная от утонченного великолепия Вельтевредена.
Молли Бродхерст бросилась ей навстречу, как только Тара припарковала «паккард». Она была одета в удивительно яркий кафтан.
– Ты опоздала!
Она сердечно поцеловала Тару и потащила через беспорядок гостиной в музыкальную комнату в глубине дома.
Музыкальная комната была пристроена к задней части дома по запоздалым соображениям, никто и не подумал об эстетической стороне такого архитектурного добавления, а теперь помещение было заполнено гостями Молли, приглашенными для того, чтобы послушать Мозеса Гаму. Тара воспрянула духом, оглядевшись; здесь были только энергичные творческие люди, одухотворенные и умеющие выражать свои мысли, наполненные азартом жизни и обостренным чувством справедливости, гнева и бунтарства.
Это было собрание, какого Вельтевредену никогда не увидеть. Прежде всего здесь присутствовали чернокожие, студенты из университета для черных в Форт-Хэйре и нового университета Западного Кейптауна, учителя и юристы, и даже чернокожий врач, и все они являлись политическими активистами. Хотя им было отказано в праве голосовать или избираться в белый парламент, они начинали говорить со страстью, которую невозможно было не услышать. Присутствовали там и редактор черного журнала «Драм», и местный корреспондент газеты «Советан», названной в честь расширяющегося черного поселения.
Одно лишь это социальное смешение с черными делало Тару бесконечно отважной.
Белые в этой комнате оказались не менее необычными. Некоторые из них состояли в коммунистической партии Южной Африки еще до того, как эта организация была распущена несколько лет назад. Был тут человек по имени Харрис, с ним Тара уже встречалась в доме Молли. Он сражался в рядах еврейской подпольной организации «Иргун» на территории Палестины с британцами и арабами, высокий свирепый мужчина, который возбуждал в Таре восхитительный страх. Молли намекала, что он имеет немалый опыт партизанской войны и диверсионной работы и наверняка постоянно втайне разъезжает по стране или проникает через границу в соседние государства по каким-то таинственным делам.
С мужем Молли о чем-то с жаром беседовал другой юрист, из Йоханнесбурга, Брэм Фишер – он специализировался на защите черных клиентов, против которых были приняты мириады законов, предназначенных для того, чтобы заставить их молчать, обезоружить и ограничить в передвижениях. Молли говорила, что Брэм реорганизовал старую коммунистическую партию, превратив ее в подпольные ячейки, и Тара воображала, что, может быть, однажды и ее пригласят присоединиться к такой ячейке.
В той же группе состоял и Маркус Арчер, еще один бывший коммунист и индустриальный психолог Витватерсранда. Он отвечал за подготовку тысяч черных рабочих для золотодобывающей индустрии, и Молли говорила, что он помог организовать профсоюз чернокожих шахтеров. А еще Молли шепотом сообщила, что он был гомосексуалистом, но использовала для этого новый термин, которого Тара никогда прежде не слышала:
– Он гей, все это знают!
И поскольку это было абсолютно неприемлемо в приличном обществе, Тара сочла это восхитительным.
– О боже, Молли! – прошептала она. – Это так интересно! Это же настоящие люди, они заставляют меня наконец-то почувствовать себя по-настоящему живой!
– А вот и он. – Молли улыбнулась словам Тары и потащила ее сквозь толпу.
Мозес Гама прислонился к дальней стене, окруженный поклонниками, возвышаясь над ними на целую голову, и Молли подтолкнула Тару в передний ряд.
Тара вдруг оказалась лицом к лицу с Мозесом Гамой и тут же подумала, что даже в этом блестящем обществе он выделяется, как черная пантера в стае шелудивых уличных кошек. Хотя его голова казалась высеченной из глыбы черного оникса, а прекрасное египетское лицо оставалось бесстрастным, все равно в нем ощущалась сила, наполнявшая, казалось, всю комнату. Стоять рядом с ним было примерно так же, как стоять на высоких склонах темного Везувия, понимая, что в любое мгновение он может взорваться катастрофическим извержением.
Мозес Гама повернул голову и посмотрел на Тару. Он не улыбнулся, но что-то неясное мелькнуло в глубине его темных глаз.
– Миссис Кортни, я попросил Молли пригласить вас.
– Пожалуйста, не зовите меня так. Меня зовут Тара.
– Мы должны поговорить позже, Тара. Вы останетесь?
Тара не могла ответить, ее слишком захватило то, что ее выделили из толпы, но она кивнула.
– Если вы готовы, Мозес, мы можем начать, – предложила Молли и увела его от группы поклонников на небольшое возвышение, где стояло пианино.
– Друзья! Друзья! Прошу внимания!
Молли хлопнула в ладоши, и оживленные разговоры тут же затихли. Все повернулись к эстраде.
– Мозес Гама – один из самых одаренных и почитаемых лидеров нового поколения молодых чернокожих африканцев. Он член Африканского национального конгресса еще с довоенного времени и один из главных инициаторов создания профсоюза африканских шахтеров. Хотя черные профсоюзы официально не признаны нынешним правительством, все же тайный профсоюз шахтеров – одно из наиболее представительных и могучих объединений всех чернокожих, в нем более ста тысяч членов, платящих взносы. В пятидесятом году Мозес Гама был избран секретарем Африканского национального конгресса, и он неустанно, самоотверженно и весьма эффективно трудился над тем, чтобы крик сердец наших чернокожих гражан был услышан, даже несмотря на то что им отказано в праве решать собственную судьбу. На какое-то время Мозес Гама был назначен членом правительственного Совета представителей коренных народов – это была печально известная попытка усмирить политические устремления чернокожих, – но именно он подал в отставку с ныне известными словами: «Я разговаривал по игрушечному телефону, а на другом конце меня никто не слушал».
Присутствующие взорвались смехом и аплодисментами, а Молли повернулась к Мозесу Гаме:
– Я знаю, вы не скажете нам ничего, что могло бы нас успокоить и умиротворить, но, Мозес Гама, в этой комнате много сердец, которые бьются в одном ритме с вашим, и мы готовы проливать кровь вместе с вами.
Тара аплодировала, пока у нее не онемели ладони, а потом подалась вперед, чтобы жадно слушать, когда Мозес Гама подошел к краю возвышения.
Он был одет в аккуратный синий костюм с темно-синим галстуком и белую рубашку. Как ни странно, он был наиболее официально одетым человеком в этой комнате, в то время как облачение остальных состояло их мешковатых шерстяных свитеров и старых твидовых спортивных курток с кожаными заплатками на локтях и пятнами на лацканах. Его костюм строгого покроя элегантно сидел на атлетических плечах, но выглядело все это так, словно Гама был одет в королевский плащ из шкуры леопарда, а на его коротко остриженной голове красовался убор из голубых перьев цапли. Голос у Гамы был низкий, волнующий.
– Друзья мои, есть лишь один идеал, за который я держусь всем сердцем и который буду защищать даже ценой собственной жизни, и он таков: каждый африканец имеет изначальное, прирожденное и неотъемлемое право на Африку, которая является его континентом и его единственной родиной, – начал Мозес Гама.
Тара зачарованно слушала, когда он подробно рассказывал о том, как черным отказывали в их правах триста лет подряд и как за последние несколько лет, с тех пор как к власти пришло правительство националистов, это лишение прав стало законодательно закрепленным в огромном своде законов, постановлений и деклараций, а это и являет собой на практике политику апартеида.
– Мы все слышали о том, что сама концепция апартеида настолько абсурдна, настолько очевидно безумна, что просто не может работать. Но предупреждаю вас, друзья мои, что люди, придумавшие эту ненормальную схему, настолько фанатичны, настолько закоснелы, насколько убеждены в своем божественном праве, что заставят ее работать. Они уже создали огромную армию мелких гражданских прислужников, чтобы проводить в жизнь их безумие, и за ними стоят все ресурсы страны, богатой золотом и минералами. Предупреждаю вас, они не станут колебаться и растратят это богатство на создание своего идеологического монстра Франкенштейна. Для них нет слишком высокой цены, исчисляемой материальными богатствами или человеческими страданиями, они пойдут на все.
Мозес Гама замолчал и посмотрел на собравшихся, и Таре показалось, что он лично ощущает всю боль своего народа, что он наполнен такой болью, какую не вынести обычному смертному человеку.
– Если им не противостоять, друзья мои, они превратят эту прекрасную землю в мир опустошения и мерзости, мир, лишенный сострадания и справедливости, обанкротившийся материально и духовно.
Мозес Гама развел руками:
– Эти люди называют тех из нас, кто противостоит им, предателями. Что ж, друзья мои, я называю любого, кто не противостоит им, предателем – предателем Африки!
После этого он умолк, обвиняюще глядя на них, а они на мгновение онемели, прежде чем разразились приветственными возгласами. Только Тара хранила молчание в общем шуме, глядя на него снизу вверх; она лишилась голоса и дрожала, как от приступа малярии.
Голова Мозеса опустилась так, что подбородок коснулся груди, и все подумали, что выступление закончено. Но он снова поднял свою великолепную голову и раскинул руки:
– Противостоять им? Как мы можем противостоять им? Я отвечаю вам: мы боремся с ними всей нашей силой, всей нашей решимостью и от всего сердца. Если для них нет слишком высокой цены, то и для нас таковой нет. Говорю вам, друзья мои, нет ничего, – он сделал паузу ради большей выразительности, – нет ничего, чего бы я не сделал ради продолжения борьбы. Я готов и умереть, и убивать ради нее.
Все затихли перед лицом такой смертельной решительности. Для тех из них, кто практиковался в элегантной социалистической диалектике, изнеженных интеллектуалов, подобное заявление звучало угрожающе и тревожно, в нем слышался хруст ломающихся костей и вонь свежепролитой крови.
– Мы готовы начать, друзья мои, и наши планы уже созрели. Мы начнем через несколько месяцев: проведем по всей стране кампанию неповиновения этим чудовищным законам апартеида. Мы сожжем пропуска, которые нам приказано носить согласно парламентскому акту, ненавистные домпас, что сродни тем звездам, которые евреи были вынуждены носить, уничтожим документ, который вешает на нас ярлык низшей расы. Мы бросим все это в костер, и его дым будет жалить и оскорблять обоняние цивилизованного мира. Мы будем сидеть в ресторанах и кинотеатрах «только для белых», мы будем ездить в вагонах «только для белых» и купаться на пляжах «только для белых». Мы будем кричать фашистской полиции: «Давай! Арестуй меня!» И мы тысячами переполним тюрьмы белых людей и остановим работу судов бесконечным множеством дел, пока наконец весь гигантский аппарат апартеида не сломается от напряжения.
Тара задержалась после собрания, как и просил ее Гама; и когда Молли проводила последних гостей, она подошла и взяла Тару за руку:
– Рискнешь попробовать мои спагетти болоньезе, милая Тара? Как ты знаешь, я худшая повариха во всей Африке, но ты ведь у нас храбрая девочка.
На поздний ужин были приглашены всего несколько человек, и они уже сидели во внутреннем дворике. Вокруг них тихонько гудели комары, а ветер то и дело приносил сернистый смрад сточных вод с другого берега Черной реки. Но это, похоже, ничуть не портило им аппетит, и они поглощали прославленные спагетти Молли, запивая их дешевым красным вином. Тара нашла это весьма приятным после замысловатых блюд, что подавались в Вельтевредене и всегда сопровождались почти религиозной церемонией дегустации того или иного вина, цена за бутылку которого равнялась месячному заработку простого человека. Здесь еда и вино служили просто топливом, поддерживающим силу ума и речи, а не предметом хвастовства.
Тара сидела рядом с Мозесом Гамой. Хотя отсутствием аппетита он явно не страдал, но к вину почти не прикоснулся. Он вел себя за столом по-африкански. Жевал шумно, с открытым ртом, но, как ни странно, Тару это ничуть не оскорбляло. Каким-то образом это лишь подчеркивало его инаковость, отмечая как человека своего народа.
Поначалу Мозес уделял внимание остальным гостям, отвечая на их вопросы и замечания. Затем он постепенно сосредоточился на Таре, сперва вовлекая ее в общую беседу, и, наконец покончив с едой, развернул свой стул и сел лицом к ней, понизив голос, чтобы остальные не слышали.
– Я знаю вашу семью, – сказал он ей. – Хорошо их знаю: и миссис Сантэн Кортни, и особенно вашего мужа, Шасу Кортни.
Это изумило Тару.
– Я никогда не слышала, чтобы они говорили о вас.
– А с какой бы стати? На их взгляд, я никогда не был важен. Они могли давным-давно обо мне забыть.
– А когда вы с ними познакомились и где?
– Двадцать лет назад. Ваш муж был еще мальчишкой. А я был контролером на руднике Ха’ани в Юго-Западной Африке.
– Да, Ха’ани, – кивнула Тара. – Это источник состояния Кортни.
– Мать отправила Шасу Кортни учиться шахтному делу. Мы с ним провели вместе несколько недель, работая бок о бок… – Мозес умолк и улыбнулся. – Мы хорошо ладили – полагаю, настолько хорошо, насколько это возможно для чернокожего мужчины и маленького белого бааса[6]. Мы много разговаривали, и он подарил мне одну книгу, «Историю Англии» Маколея. Она все еще у меня. И я помню, как кое-что из того, что я говорил, удивляло и тревожило его. Однажды он сказал мне: «Мозес, это политика. Чернокожие не участвуют в политике. Это занятие белых людей».
Мозес усмехнулся при этом воспоминании, но Тара нахмурилась.
– Просто слышу, как он это говорит, – кивнула она. – Он не слишком изменился за двадцать лет.
Мозес перестал смеяться.
– Ваш муж стал могущественным человеком. Он обладает огромным богатством и влиянием.
Тара пожала плечами:
– Что толку во власти и богатстве, если не использовать их с мудростью и состраданием?
– У вас есть сострадание, Тара, – негромко произнес Мозес. – Даже если бы я не знал, что вы делаете для моего народа, я бы все равно ощутил это в вас.
Тара опустила глаза под обжигающим взглядом.
– Мудрость… – Его голос стал еще тише. – Думаю, у вас есть и она тоже. Было весьма мудро не упомянуть при других о нашей прошлой встрече.
Тара вскинула голову и уставилась на него. В суматохе вечера она почти забыла о том, как столкнулась с ним в запретных коридорах парламента.
– Почему? – прошептала она. – Почему вы там оказались?
– Однажды я смогу вам сказать, – ответил Мозес. – Когда мы станем друзьями.
– Мы уже друзья, – сказала она.
Мозес кивнул:
– Да, думаю, мы друзья, но дружбу необходимо испытать и доказать. А сейчас расскажите мне о вашей работе, Тара.
– Это так мало, что я могу сделать… – и она заговорила о больнице и о том, как они кормят детей и стариков, не осознавая собственного энтузиазма и оживления, пока Гама не улыбнулся снова:
– Я был прав, вы полны сострадания, Тара, огромного сострадания. Мне бы хотелось увидеть вашу работу. Это возможно?
– О, если бы вы могли прийти… это было бы чудесно!
Молли привела его в больницу уже следующим днем.
Клиника стояла на южном краю черного поселения Ньянги – на языке коса это слово означало «рассвет», но вряд ли сюда подходило. Как и большинство поселений чернокожих, оно представляло собой ряды одинаковых кирпичных коттеджей с крышами из листов асбеста, разделенных пыльными проулками; хотя выглядело все это уродливо и скучно, здесь имелись необходимые удобства – вода, канализация и электричество. Однако за всем этим среди поросших кустами дюн раскинулся целый трущобный городок, в котором проживала масса мигрантов из нищих сельских областей, и клиника Тары получала своих клиентов в основном из среды этих несчастных.
Тара с гордостью повела Мозеса и Молли по маленькому зданию.
– Сегодня выходной, никого из наших докторов-волонтеров нет, – пояснила она.
Мозес остановился поболтать с чернокожими медсестрами и с некоторыми из мамаш, терпеливо ожидавших во дворе со своими детишками.
Потом Тара приготовила кофе в своем крошечном кабинете, а когда Мозес спросил, как финансируется клиника, Тара неопределенно ответила:
– О, мы получаем дотации от властей местной провинции…
Но тут вмешалась Молли:
– Не позволяйте ей дурачить вас! Большинство средств – из ее собственного кармана!
– Я немножко жульничаю с расходами на ведение дома, – засмеялась Тара, отмахиваясь.
– А могли бы мы проехать по этому поселению? – спросил Мозес. – Мне бы хотелось увидеть тамошних людей.
Мозес посмотрел на Молли, но она прикусила губу и бросила взгляд на наручные часы:
– О черт, я должна возвращаться!
Тара тут же вмешалась:
– Не беспокойся, Молли. Я могу возить Мозеса повсюду. Ты возвращайся, а я подброшу его к тебе домой позже, вечером.
В старом «паккарде» они тряслись по ухабистым песчаным дорогам между заросшими дюнами, где ивовые акации были расчищены, чтобы дать место лачугам из ржавых железных листов, картона и кусков старого пластика. Время от времени они останавливались и прогуливались между хижинами. С залива дул сильный юго-восточный ветер, наполняя воздух клубами пыли. Им приходилось наклоняться навстречу ему на ходу.
Здешние люди знали Тару и с улыбкой приветствовали ее, когда она проходила мимо, а дети бежали ей навстречу и прыгали вокруг, выпрашивая дешевые леденцы, которые она всегда держала в кармане.
– Где они берут воду? – спросил Мозес, и Тара показала ему, как дети постарше сооружают нечто вроде тачек из старых автомобильных шин и канистр из-под растительного масла. Они набирают в канистры воду у общественной колонки на границе официального поселения в миле отсюда и везут к своим хижинам.
– А для топлива они рубят акации, – пояснила Тара. – Но зимой дети всегда простужаются и болеют гриппом и пневмонией. О канализации здесь и говорить не приходится.
Она слегка принюхалась к густой вони, что исходила от неглубоких ям, служивших уборными и огороженных занавесками из старой мешковины.
Уже темнело, когда Тара остановила «паккард» у задней двери клиники и заглушила мотор. Несколько минут они сидели молча.
– То, что мы видели, ничем не хуже, чем сотни других трущобных поселений, мест, где я прожил большую часть своей жизни, – сказал наконец Мозес.
– Мне очень жаль.
– Почему вы извиняетесь? – спросил Мозес.
– Не знаю, я просто чувствую себя виноватой.
Тара понимала, как не к месту это прозвучало, и просто открыла дверцу «паккарда».
– Мне нужно забрать из кабинета кое-какие документы. Я всего на минуту, а потом отвезу вас к Молли.
В больнице было пусто. Две медсестры закончили работу и ушли домой час назад. Тара открыла дверь своим ключом и прошла через маленькую приемную в свой кабинет. Подойдя к умывальнику помыть руки, она заглянула в зеркало, висевшее в углу над раковиной. Лицо ее порозовело, глаза блестели. Тара настолько привыкла к убожеству нищих поселений, что оно уже не подавляло ее, как прежде; вместо этого она чувствовала себя переполненной жизнью и странно воодушевленной.
Она сунула папку с письмами и счетами в кожаную сумку на ремне и заперла ящик письменного стола, убедилась, что вилка электрического чайника вынута из розетки и что окна закрыты, потом погасила свет и быстро вышла в приемную. И удивленно остановилась. Мозес Гама следом за ней вошел в больницу и теперь сидел на покрытой белой простыней смотровой кушетке у дальней стены.
– О, – опомнилась она. – Извините, я задержалась…
Он покачал головой, потом встал и подошел к ней. Остановился, глядя на нее. Тара ощущала неловкость и неуверенность, пока он серьезно изучал ее лицо.
– Вы замечательная женщина, – произнес он низким тихим голосом; Тара не слышала прежде, чтобы он говорил вот так. – Я никогда не встречал белых женщин, похожих на вас.
Тара не нашлась с ответом, а Гама негромко продолжил:
– Вы богаты, принадлежите к высшему обществу. Вам дано все, что только может предложить жизнь, но вы приходите сюда. В мир нищеты и горестей.
Он коснулся ее руки. Его ладонь и внутренняя сторона пальцев имели бледно-розовый цвет, резко контрастируя с черной кожей тыльной стороны и мускулистого предплечья, и эта кожа была прохладной. Тара не поняла, так ли это на самом деле, или просто она сама слишком разгорячилась. Ей стало жарко, словно глубоко внутри нее разгоралась печь. Она посмотрела на его пальцы, лежавшие на ее гладкой светлой коже. К ней никогда прежде не прикасался чернокожий мужчина – намеренно, неторопливо.
Ремень сумки соскользнул с ее плеча, и сумка с глухим стуком упала на плитки пола. Перед этим Тара держала руки скрещенными спереди в инстинктивном защитном жесте, но теперь они упали, повисли вдоль боков, и Тара почти бессознательно выгнула спину и качнулась бедрами к Мозесу.
В то же мгновение она вскинула голову и посмотрела ему прямо в глаза. Ее губы приоткрылись, дыхание ускорилось. Она видела, как все это отразилось в его глазах, и сказала:
– Да.
Мозес погладил ее руку, снизу вверх, от локтя к плечу, и Тара содрогнулась всем телом и закрыла глаза. Он коснулся ее левой груди, и она не отшатнулась. Рука Мозеса обхватила ее грудь, и она почувствовала, как ее плоть напряглась, сосок затвердел, упираясь в его ладонь, и он слегка сжал ее. Ощущение было настолько острым, что почти причиняло боль, и Тара задохнулась, когда оно прокатилось по ее позвоночнику, разбегаясь, как волны от брошенного в тихую воду камня.
Возбуждение накатило на нее так внезапно, что Тара оказалась не готова к нему. Она никогда не считала себя чувственной натурой. Шаса был единственным мужчиной, которого она знала, и ему требовались весь его опыт и терпение, чтобы разбудить ее тело, но теперь от одного прикосновения ее кости размякли от желания, лоно таяло, как воск в огне, и она не могла дышать, настолько сильно она желала этого мужчину.
– Дверь… – пробормотала она. – Запри дверь…
А потом она увидела, что дверь уже закрыта на засов, и была благодарна за это, потому что уже не смогла бы выдержать промедления. Мозес быстро подхватил ее на руки и перенес на кушетку. Покрывавшая ее простыня была безупречно чистой и так накрахмалена, что слегка затрещала под ее весом.
Мозес был таким огромным, что пугал ее; и хотя она родила четверых детей, ей казалось, что она разрывается на части, когда ее заполнила его чернота, а потом страх миновал, сменившись необычным чувством безгрешности. Она стала жертвенным агнцем, этим актом она искупала все грехи своей расы, весь вред, причиненный черному народу в течение столетий; она смывала чувство вины, лежавшее на ней позорным пятном с тех пор, как она себя помнила.
Когда наконец он тяжело опустился на нее, и его дыхание громыхало в ее ушах, и последние яростные конвульсии пробежали по его огромным черным мускулам, она обняла его с радостной благодарностью. Потому что он одновременно и освободил ее от стыда, и сделал навеки своей рабыней.
Слегка подавленная грустью после любовного акта и пониманием того, что ее мир теперь навсегда изменился, Тара на пути к дому Молли молчала. Она остановилась за квартал до него и, не глуша мотор, повернулась, чтобы всмотреться в лицо Мозеса в слабом свете уличных фонарей.
– Мы еще увидимся?
Она задала вопрос, который задавало до нее бесчисленное множество женщин, оказавшихся в таком же положении.
– А ты хочешь увидеть меня снова?
– Больше чего-либо в жизни.
В этот момент Тара даже не вспомнила о своих детях. Для нее существовал только Мозес.
– Это может быть опасно.
– Я знаю.
– Если нас поймают, наказание будет серьезным… бесчестье, изгнание из общества, тюрьма. Ты можешь погубить свою жизнь.
– Моя жизнь – сплошное притворство, – тихо сказала Тара. – И ее погибель станет не слишком большой потерей.
Он внимательно изучил ее лицо, ища признаки неискренности. Наконец удовлетворился.
– Я пришлю за тобой, когда это будет безопасно.
– Я приду мгновенно, когда бы ты ни позвал.
– А сейчас я должен уйти. Отвези меня.
На сей раз Тара остановилась у дома Молли, в тени, где их не могли увидеть с дороги.
«Теперь начнутся увертки и скрытность, – спокойно подумала Тара. – Да, это так. Моя жизнь уже не будет прежней».
Мозес не сделал попытки обнять ее, это было не в обычае африканцев. Он просто смотрел на Тару, и белки его глаз светились в полутьме, как слоновая кость.
– Ты понимаешь, что, выбирая меня, ты выбираешь борьбу? – спросил он.
– Да, я это знаю.
– Тебе придется стать воином, и ты сама, твои желания и даже твоя жизнь уже не будут иметь значения. Если тебе придется погибнуть в этой борьбе, я не протяну руку, чтобы спасти тебя.
Тара кивнула:
– Да, я понимаю.
Благородство самой этой идеи наполнило ее грудь, мешая дышать, поэтому голос Тары стал хриплым, когда она прошептала:
– Ни у кого нет большей любви, чем эта… я пожертвую чем угодно, если ты попросишь.
Мозес ушел в гостевую спальню, которую предоставила ему Молли; и пока он умывался, Маркус Арчер без стука проскользнул к нему, закрыл дверь и прислонился к ней, наблюдая за Мозесом через зеркало.
– Получилось? – наконец спросил он таким тоном, словно ему не хотелось слышать ответ.
– Именно так, как мы и задумали. – Мозес вытер лицо чистым полотенцем.
– Ненавижу эту глупую маленькую сучку, – чуть слышно произнес Маркус.
– Мы ведь решили, что это необходимо.
Мозес выбрал чистую рубашку в чемодане, лежавшем на кровати.
– Знаю, что решили, – ответил Маркус. – Я сам это предложил, если помнишь, но я не обязан любить ее за это.
– Она просто инструмент. С твоей стороны неразумно примешивать сюда личные чувства.
Маркус Арчер кивнул. В конце концов, он питал надежду, что сможет действовать как истинный революционер, один из тех стальных непреклонных людей, в которых нуждалась их борьба. Но его чувства к этому человеку, Мозесу Гаме, были сильнее, чем любые политические убеждения.
Он знал, что эти чувства не взаимны. Уже много лет Мозес Гама использовал его так же цинично и расчетливо, как теперь задумал использовать эту женщину, Кортни. Мозес Гама рассматривал собственную огромную сексуальную привлекательность просто как еще одно оружие в его арсенале, еще одно средство для управления людьми. Он мог обращать ее на мужчин или женщин, молодых или старых, при этом не важно, хороши они были или отвратительны, и Маркус восхищался этой его способностью, но в то же время она опустошала его.
– Мы завтра уезжаем в Витватерсранд, – сказал он, отодвигаясь от двери и на мгновение справляясь со своей ревностью. – Я уже все подготовил.
– Так быстро? – спросил Мозес.
– Все уже подготовлено. Поедем на машине.
Это была одна из проблем, мешавших их работе. Чернокожему человеку трудно было путешествовать по огромному субконтиненту, поскольку у него в любой момент могли потребовать предъявить домпас и подвергнуть допросу, если бы власти обнаружили, что он находится далеко от постоянного места жительства без видимой причины или что на его пропуске нет печати нанимателя.
Связь Мозеса с Маркусом и его формальная работа, которую устроил ему Маркус на рудниках, давали Гаме весьма ценное прикрытие, когда возникала необходимость куда-то поехать, но им всегда требовались посыльные. Это вполне могла обеспечить им Тара Кортни. К тому же она по рождению и замужеству занимала высокое положение, и та информация, которую она могла раздобыть, оказалась бы весьма ценной для их планов. Позже, когда она докажет свою преданность, ей могут дать и другие, более опасные задания.
В конце концов Шаса Кортни осознал, что именно совет матери склонил чашу весов и помог ему решить, принимать или отвергнуть предложение, полученное во время охоты на антилоп на открытых равнинах Оранжевого Свободного государства.
Шаса первым презрел бы любого мужчину своего возраста, до сих пор цепляющегося за материнскую юбку, но ему и в голову не приходило, что это относится и к нему самому. Тот факт, что Сантэн Кортни была его матерью, выглядел совершенно несущественным. Что привлекало его в ней, так это острейший финансовый и политический ум; она также была его деловым партнером и единственным доверенным лицом. И принять такое серьезное решение, не посоветовавшись с ней, он никогда бы не решился.
Он выждал неделю после возвращения в Кейптаун, разбираясь в своих чувствах и ища возможности поговорить с Сантэн наедине, потому что ничуть не сомневался, какой будет реакция его отчима на подобное предложение. Блэйн Малкомс представлял оппозицию в парламентском подкомитете, изучавшем проект замены нефти на уголь, это было частью долговременного плана правительства по снижению зависимости страны от импортной сырой нефти. Комитет намеревался рассмотреть все доводы за и против, изучив ситуацию на месте, и Сантэн в кои-то веки не сопровождала мужа. Именно такого случая и выжидал Шаса.
До имения Малкомсов от Вельтевредена ехать на машине было меньше получаса, через перевал Констанция-Нек и вниз по другую сторону гор к побережью Атлантики, где на пятистах акрах земли стоял дом, построенный Сантэн для Блэйна; поросшие дикой протеей склоны круто спускались к скалистым мысам и белым пляжам. Старый дом, Родс-Хилл, построил во время правления королевы Виктории один из прежних магнатов-шахтовладельцев из Рэнда, но Сантэн полностью изменила и обновила его внутри.
Когда Шаса припарковал «ягуар», она уже ждала его на веранде, и он взбежал по ступеням, чтобы обнять ее.
– Ты худеешь, – нежно пожурила она его.
По его телефонному звонку она поняла, что сын хочет обсудить нечто важное, и Сантэн поступила в соответствии с их традицией. Она надела хлопковую блузку с открытым воротом, просторные брюки и удобные ботинки для пеших прогулок и, ничего не говоря, взяла сына под руку, и они пошли по дорожке, которая огибала ее розовый сад и поднималась по заросшему склону холма.
Последняя часть подъема была крутой, а тропа неровной, но Сантэн миновала ее без остановок и вышла на вершину впереди Шасы. Ее дыхание почти не изменилось и через минуту уже вернулось в норму. «Она держит себя в прекрасной форме, и одному небу известно, сколько она тратит на разные оздоровительные средства, да еще и тренируется, как профессиональный атлет», – подумал Шаса, с гордой улыбкой посматривая на нее. Он обнял мать за тонкую крепкую талию.
– Разве здесь не прекрасно? – Сантэн легко прислонилась к сыну, глядя на холодные зеленые воды Бенгельского течения, окружавшего белым пенным кружевом мыс, который, словно ступня средневекового рыцаря, был закован в доспехи из черного камня. – Это одно из моих любимых мест.
– Кто бы сомневался, – пробормотал Шаса и повел ее к плоскому камню, поросшему лишайником.
Сантэн уселась на него, обхватив колени, а Шаса растянулся на пышном мху под ней. Какое-то время они оба молчали, и Шаса задумался о том, как часто они сидели вот так в этом особенном для Сантэн месте и сколько трудных решений было принято здесь.
– Ты помнишь Манфреда де ла Рея? – внезапно спросил он, но оказался не готов к ее реакции.
Сантэн вздрогнула и уставилась на него широко раскрытыми глазами, кровь отлила от ее щек, и Шаса не понял выражения ее лица.
– Что-то не так, мама?
Он начал встать, но она жестом остановила его.
– Почему ты спрашиваешь о нем? – спросила она, но Шаса не ответил прямо.
– Разве не странно, что наши пути пересекаются с его семьей? С тех самых пор, как его отец спас нас, когда я был еще младенцем и мы жили с бушменами в Калахари.
– Нам незачем снова перебирать все это, – резко перебила его Сантэн.
Шаса сообразил, что был бестактен. Отец Манфреда ограбил рудник Ха’ани, похитив алмазов почти на миллион фунтов в качестве мести за воображаемые обиды, которые, как он убедил себя, Сантэн причинила ему. За это преступление он был приговорен к пожизненному заключению и провел в тюрьме почти пятнадцать лет, но был помилован, когда в 1948 году к власти пришли националисты. В то же самое время националисты помиловали многих африканеров, отбывающих наказание за государственную измену, саботаж и вооруженное ограбление, осужденных правительством Смэтса за попытку помешать стране воевать с нацистской Германией. Однако украденные алмазы так и не были найдены, и это едва не уничтожило состояние, которое Сантэн Кортни создавала с таким трудом, жертвуя многим.
– Почему ты заговорил о Манфреде де ла Рее? – повторила она вопрос.
– Он пригласил меня на некую встречу. Тайную встречу – в стиле плащей и кинжалов.
– И ты пошел?
Шаса медленно кивнул:
– Мы собрались на одной ферме в Свободном государстве, и там присутствовали еще два министра.
– Ты говорил с Манфредом наедине? – спросила Сантэн.
Тон вопроса, как и тот факт, что она назвала де ла Рея просто по имени, насторожил Шасу. Потом он вспомнил неожиданный вопрос, который задал ему Манфред де ла Рей.
«Ваша мать говорила с вами обо мне?» – спросил он тогда, и теперь при реакции Сантэн на его имя вопрос приобретал новое значение.
– Да, мама, я разговаривал с ним наедине.
– Он упоминал обо мне? – резко произнесла Сантэн, и Шаса слегка озадаченно хихикнул:
– Он задал мне тот же самый вопрос – говорила ли ты со мной о нем. Почему вы оба так интересуетесь друг другом?
Лицо Сантэн помрачнело, Шаса увидел, как она замкнулась. Это была тайна, которую он не раскрыл бы, продолжая настаивать, поэтому следовало проявить осторожность.
– Они сделали мне некое предложение.
Он увидел, как в Сантэн снова пробудился интерес.
– Манфред? Предложение? Рассказывай.
– Они хотят, чтобы я перешел на другую сторону.
Она медленно кивнула, не выказывая особого удивления и не отвергая сразу эту идею. Шаса понимал, что, окажись здесь Блэйн, все было бы совсем иначе. Чувство чести Блэйна, его твердые принципы не оставили бы места для маневра. Блэйн был человеком Смэтса; и хотя старый фельдмаршал умер от разрыва сердца вскоре после того, как националисты лишили его парламентского мандата и отобрали бразды правления, Блэйн все равно оставался верным его памяти.
– Могу догадаться, зачем ты им нужен, – не спеша произнесла Сантэн. – Им нужен выдающийся финансовый аналитик, организатор и предприниматель. Это единственное, чего нет в их кабинете.
Шаса кивнул. Сантэн мгновенно все поняла, и его огромное уважение к ней в очередной раз подтвердилось.
– Какую цену они готовы заплатить? – требовательно спросила она.
– Назначение в кабинет министров – министром рудной промышленности.
Шаса увидел, как взгляд матери стал рассеянным, как у близорукой, когда она уставилась вдаль, на море. Он знал, что означает это выражение. Сантэн делала расчеты, оценивая будущее, и он терпеливо ждал, пока она не сосредоточилась снова.
– У тебя есть какие-то причины отказаться? – спросила она.
– А как насчет моих политических принципов?
– Чем они отличаются от их собственных?
– Я не африканер.
– Это может послужить к твоей выгоде. Ты станешь их символическим англичанином. Это придаст тебе особый статус. Ты получишь свободу действий. И если им понадобится кого-то уволить, то они скорее избавятся от кого-то из своих, чем от тебя.
– Но я не согласен с их национальной политикой, с этим их апартеидом, он просто ошибочен в финансовом отношении.
– Боже мой, Шаса! Ты ведь не веришь в равные политические права для чернокожих, не так ли? Даже Ян Смэтс этого не хотел! Ты же не хочешь, чтобы нами правил очередной вождь вроде Чаки, не хочешь черных судей и черных полицейских, защищающих черного диктатора? – Она содрогнулась. – Они бы с нами быстро расправились!
– Нет, мама, конечно не хочу. Но апартеид – это же просто уловка, средство захватить весь пирог целиком. Мы должны дать и им кусок, мы же не можем съесть все сами! Это уж точно отличный рецепт для кровавой революции.
– Отлично, chéri. Если ты войдешь в состав кабинета, ты сможешь присмотреть за тем, чтобы они получили пару крошек.
Шаса явно сомневался; он демонстративно достал сигарету из своего золотого портсигара и закурил.
– У тебя особый дар, Шаса, – убежденно продолжала Сантэн. – Твой долг – использовать его на благо всем.
Но он все еще колебался; ему хотелось, чтобы мать высказалась до конца. Ему нужно было знать, хочет ли она этого так же сильно, как он сам.
– Мы должны быть честны друг с другом, chéri. Это ведь именно то, ради чего мы трудились с самого твоего детства. Прими эту работу и делай ее хорошо. А потом… кто знает, что еще может произойти?
Воцарилось молчание; они знали, на что надеялись в будущем. Они ничего не могли с собой поделать, такова была их природа – всегда стремиться к высочайшей вершине.
– А как же Блэйн? – спросил наконец Шаса. – Как он это воспримет? Я не горю желанием объясняться с ним.
– Я сама это сделаю, – пообещала Сантэн. – Но тебе придется поговорить с Тарой.
– Тара, – вздохнул Шаса. – Да, тут может возникнуть проблема.
Они снова молчали, пока наконец Сантэн не спросила:
– Как ты это сделаешь? Если просто перейдешь на другую сторону, ты приобретешь дурную славу…
Итак, все уже было решено без лишних слов, осталось обсудить технические средства.
– На следующих всеобщих выборах я просто проведу кампанию под другими цветами, – ответил Шаса. – Они обеспечат мне надежное место.
– Значит, у нас есть немного времени, чтобы согласовать детали.
Они посвятили обсуждению еще час, выстраивая план с предельным вниманием, который делал их такой невероятно успешной командой на протяжении многих лет, и наконец Шаса посмотрел на мать.
– Спасибо тебе, – просто сказал он. – Что бы я без тебя делал! Ты сильнее и умнее всех мужчин, каких я только знал.
– Вот этого не надо, – улыбнулась она. – Ты знаешь, как я ненавижу лесть.
Они оба засмеялись над этой бессмыслицей.
– Я тебя провожу вниз, мама.
Но Сантэн покачала головой:
– Мне нужно еще кое о чем подумать. Останусь здесь.
Она наблюдала, как сын спускается с холма, и ее любовь и гордость были так сильны, что почти мешали ей дышать.
«В нем есть все, что я всегда хотела видеть в сыне. Спасибо тебе, мой сынок, спасибо за радость, которую ты всегда приносишь мне».
Но тут слова «мой сынок» внезапно вызвали новую реакцию, и Сантэн вернулась мыслями к началу их разговора.
«Ты помнишь Манфреда де ла Рея?» – спросил у нее Шаса, но он и представить себе не мог, каким должен быть ответ.
– Может ли женщина забыть дитя, которое она выносила? – вслух прошептала ответ Сантэн, но ее слова затерялись в ветре и шуме зеленого прибоя, бившегося о каменистый берег под холмом.
Все скамьи в церкви были заняты. Разноцветные чепчики женщин напоминали поле диких маргариток в Намакваленде весной, а костюмы мужчин были темными и строгими. Все лица обратились к великолепной резной кафедре черного дерева, на которой стоял преподобный Тромп Бирман, глава Голландской реформатской церкви Южной Африки.
Манфред де ла Рей в очередной раз задумался над тем, как сильно постарел дядя Тромп за годы, прошедшие после войны. Он так и не оправился до конца от пневмонии, которой переболел в концентрационном лагере у Коффифонтейна, куда этот любитель англичан Ян Смэтс отправил его вместе с сотнями других патриотов-африканеров на все время войны англичан с Германией.
Теперь борода дяди Тромпа стала снежно-белой, что выглядело еще более эффектно, чем тот черный куст, которым она была когда-то. Волосы на голове, тоже седые, он стриг коротко, чтобы скрывать, как они поредели, и они сверкали, словно стеклянная пудра на большой голове. Однако глаза Тромпа пылали огнем, когда он смотрел на свою паству, а голос, благодаря которому он получил прозвище Глас Божий, ничуть не утратил мощи и гремел под высоким сводчатым потолком.
Дядя Тромп по-прежнему собирал полную церковь, и Манфред серьезно, но гордо кивал, когда над ним взрывалась яростная проповедь. На самом деле он не вслушивался в слова, а просто наслаждался чувством единства, наполнявшим его; мир становился безопасным и добрым местом, когда на кафедру поднимался дядя Тромп. И человек мог вверить себя Господу своего народа, когда дядя Тромп говорил об этом с такой уверенностью, и не сомневаться в божественном вмешательстве, направляющем его жизнь.
Манфред де ла Рей сидел на передней скамье, справа от кафедры, ближе к проходу. Это было самое почетное место в общине, и Манфред занимал его по праву, как наиболее могущественный и важный человек в этой церкви. Скамья была предназначена именно для него и его семьи, их имена были напечатаны золотом на книгах псалмов, что лежали рядом с каждым сиденьем.
Хейди, его жена, была великолепной женщиной, высокой и сильной; ее руки, открытые под пышными рукавами, были гладкими и крепкими, она обладала пышной грудью прекрасной формы, длинной шеей. Густые золотистые волосы она заплела в косы и уложила под черную широкополую шляпу. Манфред познакомился с ней в Берлине, когда стал золотым медалистом среди боксеров в полутяжелом весе на Олимпийских играх 1936 года, и сам Адольф Гитлер присутствовал на их свадьбе. В годы войны им пришлось разлучиться, но потом Манфред привез ее в Африку вместе с их сыном, маленьким Лотаром.
Теперь Лотару было почти двенадцать лет, он стал чудесным сильным парнишкой, светловолосым, как мать, и крепким, как отец. Он сидел на их скамье очень прямо, его волосы были аккуратно зачесаны назад и смазаны бриллиантином, а жесткий белый воротник стягивал шею. Как и отец, он мог бы стать атлетом, но вместо этого предпочел регби и уже делал немалые успехи. Три его младшие сестры, светленькие и хорошенькие, сияющие здоровьем, сидели за ним, их личики обрамляли традиционные чепчики фуртреккеров, предков африканеров, а длинные юбки падали до лодыжек. Манфреду нравилось, что по воскресеньям они надевали национальные платья.
Дядя Тромп закончил проповедь призывом к спасению, заставившим его паству затрепетать перед угрозой адского огня, и все встали, чтобы запеть заключительный гимн. Глядя в одну книгу с Хейди, Манфред заодно посматривал на ее красивые немецкие черты лица. Она была женой, которой можно гордиться, хорошей хозяйкой и матерью, прекрасной спутницей, которой можно доверять, и блестящим украшением его политической карьеры. Такая женщина могла бы стоять рядом с любым мужчиной, даже с премьер-министром могущественной и процветающей страны.
Манфред позволил себе задержаться на этой тайной мысли. Но ведь все было возможно, он был молодым человеком, самым молодым на сегодняшний день в кабинете министров, и он никогда не совершал политических ошибок. Даже его деятельность во время войны принесла ему доверие и уважение среди равных, хотя за пределами самого близкого круга мало кто по-настоящему знал о той роли, которую он играл в военной антибританской и пронацистской секретной армии Оссевабрандваг, «Стража воловьей повозки».
Все поговаривали, что он многообещающий человек, и это было видно по огромному уважению, которое ему оказывали по окончании службы, когда община покидала церковь. Манфред с Хейди стояли на лужайке перед церковью, а важные и влиятельные люди подходили к ним, чтобы вручить приглашения на прием, попросить об одолжении, поздравить Манфреда с удачной речью в парламенте по поводу нового акта о поправках к уголовному законодательству или просто засвидетельствовать свое почтение. Прошло почти двадцать минут, прежде чем он смог покинуть двор церкви.
Семья отправилась домой пешком. Им нужно было пройти всего два квартала под зелеными дубами, что обрамляли улицы Стелленбоса, маленького университетского городка, ставшего цитаделью интеллектуализма и культуры африканеров. Три девочки шли впереди, Лотар следовал за ними, а Манфред с Хейди под руку замыкали шествие, каждые несколько шагов останавливаясь, чтобы выслушать приветствия или обменяться несколькими словами с соседями, друзьями или с кем-то из избирателей Манфреда.
Манфред купил этот дом, когда они вернулись сюда после войны. Хотя при доме имелся лишь маленький садик, а само здание почти вплотную подходило к улице, дом был большим, с просторными комнатами и высокими потолками, отлично подходившим для их семьи. Манфред не видел причин переезжать отсюда, он чувствовал себя уютно в тевтонской обстановке, которую создала Хейди. Теперь Хейди с девочками поспешили вперед, чтобы помочь слугам на кухне, а Манфред обошел дом сбоку, направляясь к гаражу. Он никогда не пользовался в выходные своим служебным лимузином с шофером, а взял свой личный «шевроле-седан» и теперь поехал к отцу, чтобы привезти его на воскресный семейный обед.
Старик редко посещал церковь, в особенности когда проповедовал преподобный Тромп Бирман. Лотар де ла Рей жил один в небольшом доме, который Манфред купил для него на окраине города у подножия перевала Хельшугте. Лотар был в персиковом саду, занимался ульями, и Манфред остановился у калитки, наблюдая за отцом со смесью жалости и глубокой любви.
Лотар де ла Рей когда-то был высоким и стройным, как теперь внук, носящий его имя, но артрит, полученный им за годы, проведенные в Центральной тюрьме Претории, согнул и искривил его тело и превратил единственную оставшуюся руку в гротескную лапу. Левую руку ему ампутировали выше локтя, слишком высоко, чтобы использовать протез. А руку он потерял в результате ограбления, которое и привело его в тюрьму. Сейчас он был одет в грязный голубой джинсовый комбинезон, на голове у него красовалась испачканная коричневая шляпа, надвинутая на лоб до бровей. Один рукав комбинезона был заколот на спине.
Манфред открыл калитку и прошел в сад, где старик склонился над одним из деревянных ульев.
– С добрым утром, папа, – мягко произнес Манфред. – Ты еще не готов.
Его отец выпрямился и непонимающе посмотрел на него, а потом удивленно вздрогнул:
– Мани! Неужели сегодня снова воскресенье?
– Идем, па. Надо переодеться. Хейди готовит жареную свинину – она знает, как ты любишь свинину.
Он взял старика за руку и повел в дом; Лотар не сопротивлялся.
– Какой тут беспорядок, па!
Манфред с отвращением оглядел маленькую спальню. Постельное белье явно давно не меняли, грязная одежда была разбросана по полу, использованные тарелки и чашки стояли на прикроватной тумбочке.
– А что случилось с новой горничной, которую нашла тебе Хейди?
– Она мне не понравилась, наглая темная чертовка, – пробормотал Лотар. – Ворует сигары, пьет мой бренди. Я ее выгнал.
Манфред подошел к шкафу и достал чистую белую рубашку. Он помог старику переодеться.
– Когда ты в последний раз мылся, папа? – мягко спросил он.
– А? – Лотар уставился на него.
– Ладно, не важно. – Манфред застегнул рубашку на отце. – Хейди найдет тебе другую горничную. Ты должен на этот раз постараться не выгонять ее хотя бы пару недель.
Старик ни в чем не виноват, напомнил себе Манфред. Это тюрьма искалечила его рассудок. Он был гордым свободным человеком, солдатом и охотником, порождением дикой пустыни Калахари. Нельзя запирать в клетку вольного зверя. Хейди хотела, чтобы старик жил с ними, и Манфред чувствовал себя виноватым из-за того, что отказался. Это означало бы, что придется купить дом побольше, но главным было другое. Манфред не мог допустить, чтобы Лотар, одетый как цветной рабочий, рассеянно бродил по дому, без приглашения заходя в его кабинет, когда у него были важные посетители, неопрятно ел и бросал бессмысленные замечания, когда обедал у них. Нет, для всех лучше, и для старика в особенности, что он живет отдельно. Хейди придется поискать ему новую горничную, но все же Манфреда грызло чувство вины, когда он за руку вел Лотара к «шевроле».
Он ехал медленно, почти со скоростью пешехода, собираясь с духом, чтобы сделать то, чего не в силах был сделать за годы после того, как Лотар был помилован и выпущен из тюрьмы по настоянию Манфреда.
– Помнишь, каково было в прежние времена, папа? Когда мы ловили рыбу в заливе Уолфиш? – спросил он, и глаза старика засияли.
Далекое прошлое было для Лотара куда реальнее настоящего, и он радостно вспоминал те дни, без колебаний называя события, людей и места давних лет.
– Расскажи мне о моей матери, па, – попросил наконец Манфред и возненавидел себя за то, что загонял старика в тщательно подготовленную ловушку.
– Твоя мать была прекрасной женщиной, – радостно кивнул Лотар, повторяя то, что Манфред слышал много раз с детских лет. – У нее были волосы цвета пустынных дюн, когда на них падают первые лучи солнца. Прекрасная женщина из благородной немецкой семьи.
– Па, – осторожно произнес Манфред. – Ты не хочешь сказать мне правду, да? – Он словно говорил с капризным ребенком. – Та женщина, которую ты называешь моей матерью, та, что была твоей женой, умерла задолго до моего рождения. У меня есть копия свидетельства о ее смерти, подписанного английским врачом в концентрационном лагере. Она умерла от дифтерии, «белого горла».
Говоря это, Манфред уставился вперед через ветровое стекло, не в силах бросить взгляд на отца, но потом услышал тихий сдавленный звук рядом с собой и в тревоге быстро повернулся. Лотар плакал, слезы катились по его морщинистым старческим щекам.
– Прости, папа… – Манфред съехал с дороги и заглушил двигатель. – Мне не следовало этого говорить.
Он достал из кармана белый носовой платок и подал его отцу.
Лотар медленно отер лицо, но его рука не дрожала, а рассеянный разум, похоже, сосредоточился из-за потрясения.
– Как давно ты знаешь, что она была твоей настоящей матерью? – спросил он, и его голос прозвучал твердо и уверенно.
Душа Манфреда дрогнула, он ведь надеялся услышать, что его отец опровергнет этот факт.
– Она приходила ко мне, когда я впервые баллотировался в парламент. Она шантажировала меня ради своего другого сына. Он тогда был в моей власти. Она пригрозила раскрыть тот факт, что я ее незаконный сын, и уничтожить меня как кандидата, если я стану выступать против ее второго сына. Она даже предложила мне спросить тебя, правда ли это, но я не смог заставить себя сделать это.
– Это правда, – кивнул Лотар. – Прости меня, сынок. Я лгал только для того, чтобы защитить тебя.
– Я знаю.
Манфред потянулся к отцу и сжал его костлявую руку, а старик продолжил:
– Когда я нашел ее в пустыне, она была такой юной, беспомощной – и прекрасной. Я был молод и одинок – мы оказались вдвоем, с ее младенцем, одни в пустыне. Мы полюбили друг друга.
– Тебе незачем объяснять, – сказал Манфред, но Лотар словно не слышал его.
– Однажды ночью в наш лагерь пришли два диких бушмена. Я подумал, что это грабители, желающие украсть наших лошадей и скот. Я последовал за ними и на рассвете догнал. Я застрелил их, когда оказался достаточно далеко от их ядовитых стрел. В те дни мы именно так поступали с этими опасными маленькими желтыми животными.
– Да, папа, я знаю.
Манфред читал историю конфликта его народа с бушменами и уничтожения их племен.
– Тогда я этого не знал, но она жила именно с этими двумя маленькими дикарями до того, как я нашел ее. Они помогли ей выжить в пустыне и ухаживали за ней, когда она родила первого ребенка. Она полюбила их, она даже называла их «маленький дедушка» и «маленькая бабушка». – Лотар удивленно покачал головой, до сих пор не в силах осмыслить подобные отношения между белой женщиной и дикарями. – Я этого не знал и застрелил их, не представляя, что они значат для нее. И ее любовь ко мне превратилась в лютую ненависть. Теперь я понимаю, что она и не любила меня достаточно глубоко, скорее это были просто одиночество и благодарность, а вовсе не любовь. После этого она возненавидела меня, и эта ненависть распространилась на моего ребенка, которого она носила в своем чреве. На тебя, Мани. Она заставила меня забрать тебя сразу, как только ты появился на свет. Она ненавидела нас обоих так, что не пожелала даже взглянуть на тебя. После этого я сам растил тебя.
– Ты был мне и отцом, и матерью… – Манфред склонил голову, пристыженный и разгневанный тем, что заставил старика заново пережить те трагические и жестокие события. – То, что ты рассказал, объясняет очень многое из того, чего я не мог понять.
– Ja[7]. – Лотар вытер слезы белым платком. – Она ненавидела меня, но, видишь ли, я продолжал ее любить. Не важно, как она со мной обошлась, я был ею одержим. Именно поэтому я пошел на то ограбление. Это было безумием, и оно стоило мне руки. – Он приподнял пустой рукав. – И свободы. Она жесткая женщина. Женщина безжалостная. Она без колебаний уничтожит что угодно и кого угодно, если это окажется на ее пути. Да, она твоя мать, но будь осторожен с ней, Манфред. Ее ненависть – это нечто ужасное. – Старик схватил сына за руку и в волнении потряс ее. – Ты не должен иметь с ней никаких дел, Мани. Она погубит тебя, как погубила меня. Обещай, что никогда не станешь связываться ни с ней, ни с ее семьей.
– Прости, па. – Манфред покачал головой. – Но я уже связан с ней через ее сына… – Он слегка замялся, прежде чем смог произнести следующие слова: – Через моего брата, единоутробного брата, Шасу Кортни. Похоже, папа, что наши семьи и наши судьбы так тесно переплелись, что нам никогда не освободиться друг от друга.
– Ох, сынок, сынок, – сокрушенно произнес Лотар де ла Рей. – Будь осторожен… прошу тебя, будь осторожен.
Манфред потянулся к зажиганию, чтобы запустить мотор, но немного помедлил.
– Скажи мне, папа… Что ты теперь чувствуешь к этой женщине, к моей матери?
Лотар помолчал, прежде чем ответить.
– Я ненавижу ее почти так же сильно, как продолжаю любить.
– Как странно, что мы способны любить и ненавидеть одновременно. – Манфред недоуменно покачал головой. – Я ненавижу ее за то, что она сделала с тобой. Я ненавижу ее за все то, что она защищает, и все равно ее кровь взывает ко мне. В конце концов, если оставить в стороне все прочее, Сантэн Кортни – моя мать, а Шаса Кортни – мой брат. Любовь или ненависть – что одержит победу, папа?
– Хотел бы я знать ответ, сынок, – горестно прошептал Лотар. – Я могу лишь повторить то, что уже сказал тебе. Будь с ними осторожен, Мани. И мать, и сын – опасные враги.
Уже почти двадцать лет Маркус Арчер владел маленькой старой фермой в Ривонии. Он купил небольшое поместье площадью пять акров до того, как этот район вошел в моду. Теперь же поля для гольфа и лужайки Загородного клуба Йоханнесбурга, самого привилегированного частного клуба Витватерсранда, подходили прямо к границе его земель. Доверенные лица Загородного клуба уже предлагали ему сумму, в пятнадцать раз превосходившую изначальную цену, более ста тысяч фунтов, но Маркус упорно отказывался продать землю.
На всех других участках, что окружали имение в Ривонии, процветающие новые владельцы – предприниматели, биржевые маклеры и преуспевающие врачи – построили большие вычурные дома, в основном невысокие, в модном стиле ранчо, или с розовыми черепичными крышами в подражание мексиканским гасиендам или средиземноморским виллам; главные здания окружали конюшни и выгулы для лошадей, теннисные корты, бассейны и широкие лужайки, которые от зимних морозов высокогорного вельда окрашивались в цвет вяленых табачных листьев.
Маркус Арчер заново покрыл крышу старого фермерского дома, побелил стены, посадил франжипани, бугенвиллею и прочие цветущие кусты и предоставил земле зарастать без ухода, так что даже от его собственного забора дом был совершенно не виден.
Хотя в целом этот район являлся настоящим бастионом богатой белой элиты, Загородный клуб нанимал огромное количество официантов, кухонных работников, садовников и мальчиков-кадди для игроков в гольф, так что черные лица не представляли здесь редкости, как это выглядело бы на улицах какого-нибудь другого богатого белого пригорода. Друзья и политические союзники Маркуса могли приезжать и уезжать, не возбуждая нежеланного любопытства. Поэтому Пак-Хилл, как с недавних пор стал именовать свою ферму Маркус, постепенно превратился в место сбора некоторых наиболее активных участников африканского национального движения, лидеров черного самосознания и их белых сторонников, остатков распущенной коммунистической партии.
Следовательно, было вполне естественно, что Пак-Хилл избрали в качестве штаб-квартиры для окончательной разработки планов и координации кампании черного неповиновения, которая должна была вскоре начаться. Однако люди, собравшиеся под крышей Маркуса, не были единой группой, потому что, хотя их ближайшая цель была одной, они очень по-разному видели будущее.
Прежде всего здесь была старая гвардия Африканского национального конгресса, возглавляемая доктором Ксумой. Это были консерваторы, желавшие продолжать переговоры с белыми чиновниками внутри жестко установленной системы.
– Вы же этим занимаетесь с тысяча девятьсот двенадцатого года, когда был создан Африканский национальный конгресс, – пристально смотрел на них Нельсон Мандела. – Пришло время перейти к противостоянию, навязать бурам нашу волю!
Нельсон Мандела был молодым адвокатом, он имел практику в Витватерсранде вместе с другим активистом, Оливером Тамбо. Они представляли собой конкурентов в борьбе за лидерство с младотурками в иерархии конгресса.
– Нам пора переходить к прямым действиям. – Нельсон Мандела наклонился на стуле вперед и посмотрел на сидящих за длинным кухонным столом. Кухня была самым большим помещением в Пак-Хилле, и все собрания проходили здесь. – Мы уже разработали программу бойкота, забастовки и гражданского неповиновения.
Мандела говорил по-английски, и Мозес Гама, сидевший почти в конце стола, бесстрастно наблюдал за ним, но в то же время его мысли обгоняли говорившего, оценивая и рассчитывая. Он, как и любой из присутствующих, осознавал подтекст. Среди них не было ни одного черного, который не лелеял бы в глубине души мечту о том, чтобы возглавить всех остальных, чтобы его провозгласили верховным вождем всей Южной Африки.
Но то, что Мандела говорил на английском, подчеркивало единственный, наиважнейший горький факт: все они были разными. Мандела происходил из племени тембу, Ксума – зулус, сам Мозес Гама – овамбо, и в этой комнате было представлено еще с полудюжины других племен.
«Было бы в сто раз проще, если бы мы, чернокожие, были одним народом», – думал Мозес, а затем невольно с беспокойством взглянул на зулусов, сидевших группой по другую сторону стола. Они составляли большинство не только в этом помещении, но и во всей стране. Что, если они каким-то образом заключат союз с белыми? Такая мысль тревожила, но Мозес решительно отогнал ее. Зулусы были самым гордым и независимым из воинственных племен. До прихода белых людей они покорили все соседние племена и держали их в подчинении. Король зулусов Чака называл воинов своими псами. Учитывая их многочисленность и воинские традиции, можно было почти наверняка предположить, что первый черный президент Южной Африки будет представителем зулусского племени или тем, кто наиболее тесно связан с зулусами. Брачные связи… Мозес далеко не в первый раз, прищурившись, подумал о такой возможности; ему ведь все равно пора было жениться. Он уже почти достиг сорока пяти лет. Найти девицу-зулуску королевской крови? Он приберег эту идею, чтобы обдумать позже, и снова сосредоточился на словах Нельсона Манделы.
Этот человек обладал харизмой и величием, он красноречиво и убедительно говорил, это был соперник – и очень опасный соперник. Мозес в очередной раз признал этот факт. Все они были соперниками. Однако основой силы Нельсона была Молодежная лига Африканского национального конгресса, горячие головы, молодые люди, рвущиеся к действию, но Мандела предлагал проявить осторожность, сдерживая свой призыв к действию оговорками.
– Не должно быть бессмысленной жестокости, – говорил он. – Никакого ущерба частной собственности, никакой опасности для человеческой жизни…
Мозес Гама, хотя и кивнул с мудрым видом, задался вопросом, насколько такой призыв повлияет на Молодежную лигу. Не предпочтут ли они кровавую и блистательную победу? Об этом тоже следовало подумать.
– Мы должны показать нашему народу путь, мы должны продемонстрировать, что мы все едины в этом предприятии, – говорил теперь Мандела, и Мозес Гама мысленно улыбнулся.
В Африканском национальном конгрессе состояло семь тысяч человек, а его тайный профсоюз шахтеров превосходил это число почти в десять раз. Было бы неплохо напомнить Манделе и остальным о подавляющей поддержке шахтерского профсоюза среди наиболее хорошо оплачиваемых и стратегически важных представителей всего чернокожего населения. Мозес слегка повернулся и посмотрел на сидевшего рядом с ним человека, невольно ощутив приступ привязанности. Хендрик Табака был рядом с ним вот так в течение двадцати лет.
Темный Хендрик был крупным мужчиной, таким же высоким, как Мозес, но шире в плечах и мощнее телом, с могучими руками и ногами. Голова у него была круглой и лысой, как пушечное ядро, и украшена шрамами после давних битв и схваток. Передние зубы отсутствовали, и Мозес помнил, как умер тот белый, который их выбил.
Хендрик был единокровным братом Мозеса, сыном того же отца, вождя овамбо, но от другой матери. Он был единственным человеком в мире, которому Мозес доверял, и это доверие было завоевано за прошедшие двадцать лет. Хендрик единственный в этой комнате не был конкурентом, наоборот, это был и товарищ, и преданный слуга. Темный Хендрик без улыбки кивнул ему, и Мозес понял, что Нельсон Мандела закончил свою речь и теперь все смотрят на него, ожидая ответа. Он медленно поднялся на ноги, осознавая производимое им впечатление, и увидел отразившееся на лицах уважение. Даже его враги в этой комнате не могли до конца скрыть благоговение, которое он внушал.
– Товарищи, – начал он. – Мои братья! Я выслушал все, что сказал мой добрый брат Нельсон Мандела, и я согласен с каждым его словом. Есть лишь несколько моментов, которые, как мне кажется, я должен добавить…
И он говорил почти час.
Сначала он предложил им подробный план серии «диких» забастовок на рудниках, где шахтеров контролировали его профсоюзы.
– Эти забастовки пройдут одновременно с кампанией неповиновения, но мы не станем призывать ко всеобщей забастовке, которая может дать бурам повод к жестоким действиям. Мы осуществим этот план только на нескольких рудниках одновременно и на недолгий срок, прежде чем вернемся к работе, лишь настолько, чтобы полностью подорвать золотодобычу и разозлить управленцев. Мы станем кусать их за пятки, как терьер, надоедающий льву, готовый отпрыгнуть в то самое мгновение, когда лев повернется. Но это станет предупреждением. Это заставит их осознать нашу силу и то, что произойдет, если мы начнем всеобщую забастовку.
Мозес видел, что его план произвел впечатление и, когда попросил проголосовать за его предложение, получил безусловную поддержку. Это была еще одна маленькая победа, еще одно дополнение к его авторитету и влиянию в этой группе.
– В дополнение к забастовкам мне хотелось бы предложить бойкотировать все предприятия, принадлежащие белым, в Витватерсранде на все время кампании неповиновения. Людям будет позволено покупать все необходимое для жизни только в магазинах, принадлежащих чернокожим.
Хендрик Табака владел более чем пятьюдесятью крупными универсальными магазинами в черных поселениях вдоль золотого рифа, и Мозес Гама был его негласным партнером. Хендрик увидел, что остальные за столом заколебались при этом предложении, а Мандела возразил:
– Это станет причиной неоправданных трудностей для нашего народа. Многие из них живут в таких местах, где есть только белые магазины.
– Значит, им придется отправиться туда, где есть магазины, принадлежащие черным, и нашему народу не повредит узнать, что борьба требует жертв от всех нас, – негромко ответил ему Мозес.
– Такой бойкот невозможно провести в жизнь, – настаивал Мандела.
На этот раз ему ответил Хендрик Табака.
– Мы используем наших «буйволов», чтобы заставить их повиноваться, – проворчал он.
Теперь наиболее консервативные члены совета выглядели определенно недовольными.
«Буйволы» были силовиками профсоюза. Ими командовал Хендрик Табака, и они славились быстрыми и безжалостными действиями. Они вполне могли бы стать частной политической армией, и это нарушало душевное спокойствие некоторых из присутствующих. Мозес Гама слегка нахмурился. Со стороны Хендрика было ошибкой вообще упоминать о «буйволах». Мозес скрыл досаду, когда голосование по поводу бойкота белым торговцам в Витватерсранде провалилось. Это было победой Манделы и его умеренных сторонников. Так что теперь счет сравнялся, но Мозес еще не закончил.
– Есть еще один вопрос, который мне хотелось бы обсудить до того, как мы разойдемся. Мне хотелось бы рассмотреть, что именно кроется за кампанией неповиновения. Что мы предпримем, если эта кампания будет прервана грубыми действиями белой полиции, за которыми последует атака на черных лидеров и принятие еще более драконовских законов доминирования? – спросил он. – Всегда ли наш ответ будет мягким и подобострастным, всегда ли мы будем снимать шапки и бормотать: «Да, мой белый баас. Нет, мой белый баас»?
Он помолчал, обводя внимательным взглядом остальных и видя ожидаемое волнение на лицах старого Ксумы и консерваторов, но он говорил не для них. На дальнем конце стола сидели два молодых человека, обоим едва за двадцать. Это были наблюдатели от Молодежной лиги Африканского национального конгресса, и Мозес знал, что оба они агрессивны и рвутся к энергичным действиям. То, что он сказал сейчас, предназначалось этим парням, и Мозес знал, что они донесут его слова до других молодых воинов. Это могло бы привести к ослаблению поддержки Нельсона Манделы среди молодежи и передаче этой поддержки лидеру, готовому дать им кровь и огонь, которых они жаждали.
– Я предлагаю создать военное крыло Национального конгресса, – сказал Мозес. – Огневую силу из подготовленных мужчин, готовых умереть ради борьбы. Давайте назовем эту армию Umkhonto we Sizwe — «Народное копье». Давайте заточим его острие как бритву, держа его скрытым, но всегда готовым нанести удар.
Теперь Мозес говорил глубоким волнующим тоном и видел, что двое молодых в конце стола уставились на него с жадностью, их лица загорелись ожиданием.
– Давайте выберем самых умных и свирепых юношей и из них сформируем полки импи, воинов, как делали наши предки. – Он помолчал, его лицо стало насмешливым. – Среди нас есть старики, и они мудры. Я уважаю их седины и их опыт. Но помните, товарищи, будущее принадлежит молодым. Есть время для возвышенных слов, и мы уже слышали их в нашем совете – часто, слишком часто. А есть и время для действия, дерзкого действия, и это мир молодых.
Когда наконец Мозес Гама снова сел, он увидел, что сильно задел всех, каждого по-своему. Старый Ксума покачивал седой головой, его губы слегка дрожали. Он знал, что его дни миновали. Нельсон Мандела и Оливер Тамбо бесстрастно наблюдали, но он видел, как ярость из их сердец просачивалась во взгляды. Линия фронта была обозначена, они узнали своего врага. Но что самое важное, он видел выражение лиц молодых людей. Это было выражение людей, нашедших для себя новую путеводную звезду.
– С каких это пор ты стала так интересоваться археологической антропологией? – спросил Шаса Кортни, расправляя страницы «Кейп таймс» и переходя от финансового раздела к спортивному в конце газеты.
– Это была одна из моих специальностей, – рассудительно ответила Тара. – Налить тебе еще кофе?
– Спасибо, дорогая. – Он отхлебнул кофе, прежде чем заговорить снова: – Как долго ты намерена отсутствовать?
– Профессор Дарт прочтет четыре лекции по вечерам, расскажет обо всех раскопках от изначального открытия таунгского черепа до нынешних дней. Он сумел классифицировать всю огромную массу материалов с помощью одного из этих новых электронных компьютеров.
Прикрываясь газетой, Шаса задумчиво улыбнулся, вспомнив Мэрили из компьютерной компании и ее IBM-701. Он ничего не имел против новой поездки в Йоханнесбург в ближайшем будущем.
– Это невероятно захватывающе! – говорила тем временем Тара. – И все это согласуется с новыми открытиями в пещерах Стеркфонтейна и Макапансгата. Похоже на то, что Южная Африка – подлинная колыбель человечества, а австралопитеки – наши прямые предки.
– Значит, тебя не будет по крайней мере четыре дня? – прервал ее Шаса. – А как насчет детей?
– Я уже переговорила с твоей матерью. Она будет рада приехать и пожить в Вельтевредене на время моего отсутствия.
– Я не смогу поехать с тобой, – напомнил Шаса. – Вот-вот начнется третье чтение Акта о новых поправках к уголовному законодательству. Я мог бы отвезти тебя на «моските», но теперь тебе придется лететь коммерческим рейсом на «виконте».
– Какая жалость, – вздохнула Тара. – Тебе бы очень понравилось. Профессор Дарт – потрясающий оратор.
– Ты, конечно, остановишься в нашем номере в «Карлтоне». Он не занят.
– Молли уже договорилась, чтобы я пожила у ее подруги в Ривонии.
– Одна из ее подруг-большевиков, полагаю. – Шаса слегка нахмурился. – Постарайся не оказаться снова арестованной.
Он давно ждал подходящего случая, чтобы поговорить о политической активности жены, и, опустив газету, задумчиво посмотрел на нее, но осознал, что момент неподходящий, и просто кивнул.
– Твои бедные детки и твой вдовец уж постараются как-нибудь справиться без тебя несколько дней.
– Не сомневаюсь, что при твоей матери и шестнадцати слугах вы сумеете выжить, – язвительно бросила Тара, на мгновение позволив раздражению проявиться.
Маркус Арчер встретил ее в аэропорту. Он был любезен и занимателен, и они по дороге в Ривонию слушали музыку Моцарта и обсуждали жизнь композитора и его сочинения. Маркус знал о музыке гораздо больше, чем Тара, но она, внимательно и с удовольствием слушая его лекцию, тем не менее ощущала его враждебность. Он хорошо скрывал это чувство, но оно вспыхивало в колючих замечаниях и острых взглядах. Маркус ни разу не упомянул имени Мозеса Гамы, и Тара тоже. Молли сказала ей, что Маркус гомосексуалист, первый, с кем Таре пришлось столкнуться, и она гадала, все ли они ненавидят женщин.
Пак-Хилл оказался очаровательным, со старой тростниковой крышей и неухоженной землей вокруг, и это было весьма не похоже на тщательно организованное великолепие Вельтевредена.
– Вы найдете его на передней веранде, – сказал Маркус, останавливая машину под голубым эвкалиптом с задней стороны дома.
Он в первый раз заговорил о Мозесе, но и тут не назвал его по имени. Маркус не спеша ушел, оставив Тару.
Тара не знала, как ей одеться в дорогу, хотя и предполагала, что Мозес не одобрит брюк. Поэтому она выбрала длинную свободную юбку из дешевой яркой ткани, которую купила в Свазиленде, и к ней – простую зеленую хлопковую блузку и сандалии. И она не знала, следует ли ей наносить макияж, поэтому ограничилась светло-розовой помадой и капелькой туши. Зайдя в дамскую комнату в аэропорту, чтобы расчесать густые каштановые локоны, она подумала, что выглядит достаточно хорошо, но вдруг ее поразила мысль, что он может счесть ее бледную кожу безжизненной и непривлекательной.
Теперь, стоя одна на солнечном свете, она снова поддалась сомнениям и ужасному чувству неполноценности. Если бы Маркус был здесь, она могла бы упросить его отвезти ее обратно в аэропорт, но он исчез, и Тара, набравшись храбрости, медленно обошла побеленный дом.
На углу она остановилась и посмотрела на длинную крытую веранду. Мозес Гама сидел за столом в дальнем конце спиной к ней. Стол был завален книгами и письменными принадлежностями. На Мозесе была повседневная белая рубашка с открытым воротом, которая контрастировала с изумительным антрацитовым цветом его кожи. Он склонил голову и что-то быстро писал на листах бумаги.
Тара робко поднялась на веранду, и, хотя двигалась она бесшумно, Мозес ощутил ее присутствие и резко обернулся, когда она была на полпути. Он не улыбнулся, но ей показалось, что она увидела удовольствие в его взгляде, когда он встал и шагнул ей навстречу. Мозес не сделал попытки обнять ее или поцеловать, и Таре это понравилось, потому что подчеркивало его непохожесть на других. Вместо этого он подвел ее ко второму стулу возле стола и усадил.
– Ты в порядке? – спросил он. – Как дети?
Это была прирожденная африканская вежливость: правила требовали всегда задавать вопросы, а потом предлагать что-нибудь освежающее.
– Позволь угостить тебя чаем.
На его столе уже стоял чайный поднос, он наполнил чашку, и Тара с удовольствием сделала глоток.
– Спасибо, что приехала, – сказал Мозес.
– Я приехала сразу, как только получила от Молли твое сообщение, как и обещала.
– Ты всегда будешь выполнять данные мне обещания?
– Всегда, – просто и искренне ответила Тара, и Мозес всмотрелся в ее лицо.
– Да, – кивнул он. – Думаю, будешь.
Она не могла долго выдерживать его взгляд, который словно опалял ее душу и обнажал ее. Тара уставилась на столешницу, на листы, исписанные его аккуратным почерком.
– Манифест, – пояснил он, проследив за ее взглядом. – Наброски на будущее.
Он выбрал с полдюжины листов и протянул ей. Тара отставила чашку и взяла записи из его руки, слегка содрогнувшись от соприкосновения их пальцев. Его кожа была прохладной – и это ей помнилось.
Она читала записи, и ее внимание становилось все более сосредоточенным по мере чтения. Когда она закончила, снова посмотрела на Гаму.
– Ты так выбираешь слова, что они звучат поэтично, и от этого правда сияет еще ярче, – прошептала она.
Они сидели на прохладной веранде, а снаружи сияло солнце высокогорного вельда, деревья отбрасывали четкие черные тени, словно вырезанные из бумаги, и знойный полдень замер, изнемогая от жары, а Гама и Тара беседовали.
Они не болтали о пустяках; все, что говорил Гама, было захватывающим и убедительным, и он, казалось, вдохновлял Тару, когда она высказывала собственные наблюдения, обдуманные и четкие, и видела, что она пробуждает стойкий интерес Мозеса. Она уже забыла о своих мелких тщеславных размышлениях о платье и косметике, значение имели только слова, которыми они обменивались, и кокон, сплетенный ими из этих слов. Внезапно Тара осознала, что день незаметно ускользнул и близятся короткие африканские сумерки. Пришел Маркус, чтобы показать ей скромно обставленную спальню.
– Через двадцать минут мы отправляемся в музей, – сказал он ей.
В лекционном зале Трансваальского музея они втроем сели в задних рядах. В аудитории, полной слушателей, находились еще около десяти чернокожих, но Маркус все же сел между Гамой и Тарой. Чернокожий мужчина рядом с белой женщиной мог возбудить любопытство и определенную враждебность. Тара поняла, что ей трудно сосредоточиться на выступлении выдающегося профессора; она лишь раз-другой посмотрела в сторону лектора, все ее мысли занимал Мозес Гама.
Вернувшись в Пак-Хилл, они уселись на огромной кухне. Маркус хлопотал у дровяной плиты, присоединяясь к их разговору, пока готовил еду, и Тара даже в своей глубокой задумчивости заметила, что здесь все так же вкусно, как то, что выходило из кухни Вельтевредена.
После полуночи Маркус внезапно встал.
– Увидимся утром, – сказал он и снова бросил на Тару взгляд, полный ненависти.
Она не понимала, чем могла его оскорбить, но вскоре это перестало иметь значение, потому что Мозес взял ее за руку.
– Пойдем, – тихо сказал он, и ей показалось, что ноги могут не выдержать ее веса.
Долго потом она лежала, прижавшись к нему, обливаясь потом и ощущая в теле неконтролируемые нервные подергивания.
– Никогда, – прошептала она, когда к ней вернулся дар речи. – Я никогда не знала никого, подобного тебе. Ты заставил меня узнать о себе такое, о чем я и не подозревала. Ты волшебник, Мозес Гама. Откуда ты так много знаешь о женщинах?
Он негромко усмехнулся:
– Ты же знаешь, что мы можем иметь много жен. Если мужчина не способен всех их делать счастливыми, его жизнь превращается в мучение. Он вынужден учиться.
– А у тебя много жен? – спросила Тара.
– Пока нет, – ответил Мозес. – Но однажды…
– Я буду ненавидеть каждую из них.
– Ты разочаровываешь меня, – сказал он. – Сексуальная ревность – глупое европейское чувство. Если бы я заметил в тебе такое, я стал бы тебя презирать.
– Пожалуйста, – чуть слышно попросила Тара, – никогда не презирай меня.
– Тогда не давай мне повода, женщина! – приказал он, и Тара поняла, что он имеет на это право.
Тара поняла, что те первые день и ночь с ним, проведенные наедине и без помех, были исключением. Она также осознала, что ему приходится специально выделять для нее время, а это было трудно, потому что имелись и другие люди, сотни других, требующих его внимания.
Он был подобен одному из древних африканских королей; он правил своим племенем на веранде старого дома. Под голубым эвкалиптом во дворе постоянно сидели мужчины и женщины, терпеливо ожидающие своей очереди поговорить с ним. Это были разные люди разных возрастов, от простых необразованных рабочих, недавно прибывших из резерваций в глуши, до умудренных опытом юристов и бизнесменов в темных деловых костюмах, приехавших в Пак-Хилл на собственных автомобилях.
Общим у них было только одно: почтение и уважение, которые они оказывали Мозесу Гаме. Некоторые хлопали в ладоши в традиционном приветствии и назвали его баба` или нкози, отец или господин, другие пожимали ему руку на европейский манер, а Мозес беседовал с каждым на собственном диалекте посетителя. «Он, должно быть, говорит на двадцати языках», – предполагала Тара.
В основном он позволял Таре молча сидеть рядом с его столом, а ее присутствие объяснял коротко:
– Она друг, можете говорить.
Однако дважды он попросил ее уйти, пока разговаривал с наиболее важными посетителями, а когда появился некий огромный черный человек, лысый, в шрамах и щербатый, приехавший на новеньком «форде-седане», Мозес извинился.
– Это Хендрик Табака, мой брат, – сказал он.
Они ушли с веранды и бок о бок направились в солнечный сад, достаточно далеко, чтобы Тара не могла их услышать.
То, что она видела в эти дни, произвело на нее огромное впечатление и укрепило ее в почтении к этому человеку. Все, что он делал, каждое произнесенное им слово отмечали его как непохожего на всех, а уважение и даже поклонение африканцев доказывали, что и они признавали за ним великое будущее.
Тара испытывала благоговейный трепет при мысли, что он именно ей уделил особое внимание, но уже грустила, зная наверняка, что ей никогда полностью не завладеть даже его частичкой. Он принадлежал своему народу, и ей следовало быть благодарной за те драгоценные крохи его времени, которые она могла урвать для себя.
Даже следующие вечера, в отличие от того первого, были полны людей и событий. Далеко за полночь они сидели у кухонного стола, иногда до двадцати человек одновременно, курили, смеялись, ели и разговаривали. Подобные разговоры, подобные идеи освещали мрачную комнату и мерцали, словно крылья ангелов над их головами. А позже, в тихие темные часы, Гама и Тара занимались любовью, и она ощущала себя так, словно ее тело уже не принадлежит ей, а он полностью завладел им и пожирал, как некий темный обожаемый хищник.
За три коротких дня и ночи Тара повидала не меньше сотни лиц; и хотя некоторые из них неясно отпечатались в памяти, не оставив особого впечатления, она словно стала членом огромной новой семьи, и благодаря покровительству Мозеса Гамы ее мгновенно приняли и одарили полным и беспрекословным доверием и черные, и белые.
В последний вечер перед ее возвращением в Вельтевреден из мира грез на кухне, кроме нее, присутствовала лишь одна гостья, к которой Тара мгновенно прониклась безоговорочной симпатией. Это была молодая женщина, лет на десять моложе Тары, ей было чуть за двадцать, но она обладала необычной для такого возраста зрелостью.
– Меня зовут Виктория Динизулу, – представилась она. – Друзья зовут меня Вики. Я знаю, что вы – миссис Кортни.
– Тара, – быстро поправила ее Тара. Никто не называл ее по фамилии мужа с тех пор, как она выехала из Кейптауна, и это прозвучало в ее ушах раздражающей нотой.
Девушка застенчиво улыбнулась, принимая поправку. У нее была безмятежная красота чернокожей мадонны, классическое лунообразное лицо высокородной зулуски с огромными миндалевидными глазами и пухлыми губами, а кожа имела цвет темного янтаря; волосы она заплела во множество затейливых косичек.
– Вы в родстве с Кортни из Зулуленда? – спросила она Тару. – С генералом Шоном Кортни и сэром Гарриком Кортни из Теунис-крааля, рядом с Ледибургом?
– Да. – Тара постаралась не выдать изумления, испытанного ею при упоминании этих имен. – Сэр Гаррик – дед моего мужа. Моих сыновей назвали в их честь Шоном и Гарриком. А почему вы спрашиваете, Вики? Вы хорошо знаете эту семью?
– О да, миссис Кортни… Тара. – Когда Вики улыбалась, ее круглое зулусское лицо словно светилось, как темная луна. – Давным-давно, в прошлом веке, мой дед сражался на стороне генерала Шона Кортни в войне зулусов против Кечвайо, отобравшего королевскую власть в Зулуленде у моей семьи. Королем должен был стать мой дед, Мбежане. А вместо того он стал слугой генерала Кортни.
– Мбежане! – воскликнула Тара. – О да. Сэр Гаррик Кортни написал о нем в своей «Истории Зулуленда». Он был преданным слугой Шона Кортни до самой смерти. Я помню, как они вместе приезжали на золотые прииски, а потом отправились в то место, что теперь называется Родезией, охотиться на слонов.
– Вы знаете обо всем этом! – радостно засмеялась Вики. – Мой отец много раз рассказывал мне эти истории, когда я была еще ребенком. Отец до сих пор живет рядом с Теунис-краалем. После смерти деда, Мбежане Динизулу, отец занял его место личного слуги старого генерала. Он даже ездил с генералом во Францию в тысяча девятьсот шестнадцатом году и работал на него до тех пор, пока генерала не убили. В завещании генерал оставил ему в пожизненное пользование часть Теунис-крааля и пенсию в тысячу фунтов в год. Они прекрасная семья, эти Кортни. Мой старый отец до сих пор плачет всякий раз, когда упоминает имя генерала… – Вики умолкла и покачала головой, внезапно смутившись и погрустнев. – Жизнь, вероятно, тогда была весьма незамысловатой, мой дед и мой отец были потомственными вождями, но они удовольствовались тем, что служили белому человеку, и, как ни странно, они любили этого человека, и он вроде бы по-своему тоже их любил. Я задаюсь вопросом иной раз, не лучшим ли оказался для них этот путь…
– Даже не думайте так! – почти зашипела на нее Тара. – Эти Кортни всегда были бессердечными грабителями, они разоряли и эксплуатировали ваш народ! Право и справедливость на стороне вашей борьбы! Никогда не позволяйте себе усомниться в этом!
– Вы правы, – решительно согласилась Вики. – Но иногда приятно думать о дружбе генерала и моего дедушки. Возможно, однажды мы сможем снова быть друзьями, равными друзьями, и обе стороны станут сильнее от этой дружбы.
– С каждым новым притеснением, с каждым новым принятым законом такая перспектива становится все мутнее, – мрачно заметила Тара. – И я все сильнее стыжусь своей расы.
– Мне не хочется сегодня грустить и переживать, Тара. Давайте поговорим о радостных вещах. Вы сказали, у вас есть сыновья, Шон и Гаррик, которых назвали в честь предков. Расскажите мне о них, прошу.
Однако мысль о детях, Шасе и Вельтевредене вызвала у Тары чувство вины и неловкости, и она сменила тему, как только смогла.
– А теперь вы расскажите мне о себе, Вики, – попросила она. – Что вы делаете в Йоханнесбурге, так далеко от Зулуленда?
– Я работаю в больнице Барагванат, – ответила девушка.
Тара знала, что это одна из крупнейших больниц в мире и определенно самая большая в Южном полушарии, на 2400 коек, там работало более двух тысяч медсестер и врачей, по большей части чернокожих, потому что сама больница предназначалась только для черных пациентов. Все больницы, как и школы, транспорт и прочие общественные структуры, были строжайше разделены по закону, в соответствии с великой концепцией апартеида.
Вики Динизулу была слишком скромна в разговоре о собственных достижениях, и Таре пришлось буквально выуживать из нее тот факт, что она квалифицированная медицинская сестра.
– Но вы так молоды! – удивилась Тара.
– Там есть и моложе меня, – засмеялась красивая зулуска.
Ее смех звучал нежно и музыкально.
«Вот действительно милое дитя, – думала Тара, улыбаясь, но тут же поправила себя: – Нет, не дитя… умная и компетентная молодая женщина».
Тара рассказала ей о своей клинике в Ньянге и о проблемах недоедания, невежества и нищеты, с которыми они там сталкивались, а Вики поделилась некоторыми случаями из своей практики и поведала о том, как удалось преодолеть ужасные трудности в заботе о физическом благополучии сельского населения, пытавшегося приспособиться к городской жизни.
– О, как мне нравится с вами разговаривать! – выпалила наконец Вики. – Даже не знаю, когда я вот так говорила с белой женщиной прежде! Все так естественно и непринужденно… – Она поколебалась. – Как со старшей сестрой или лучшей подругой.
– Лучшая подруга… Да, мне это нравится, – согласилась Тара. – А Пак-Хилл, пожалуй, одно из немногих мест во всей стране, где мы могли бы вот так встречаться и разговаривать.
Обе они невольно посмотрели в начало длинного кухонного стола. Мозес Гама пристально наблюдал за ними, и Тара почувствовала, как у нее внутри что-то трепыхнулось, как рыба на крючке. Всего несколько мгновений назад она была полностью поглощена разговором с девушкой-зулуской, но теперь ее чувства к Мозесу Гаме вернулись, как полный прилив. Она забыла о Вики, пока та не заговорила негромко:
– Он великий человек… наша надежда на будущее.
Тара покосилась на нее. Лицо Вики Динизулу осветилось благоговением перед героем, когда она застенчиво улыбнулась Мозесу Гаме. И тут же ревность ужалила Тару с такой тошнотворной силой, что на мгновение ей даже показалось, будто вот-вот ей станет физически плохо.
Ревность и страх перед неминуемой разлукой преследовали Тару даже после того, как она в ту ночь осталась с Мозесом наедине. Когда он занимался с ней любовью, ей хотелось держать его в себе целую вечность, она понимала, что это единственные мгновения, когда он по-настоящему принадлежит ей. Слишком скоро она ощутила, как великая плотина прорвалась и затопила ее, и она закричала, умоляя, чтобы это никогда не кончалось, но ее крик был бессвязным, не имеющим смысла, а потом он вышел из нее, а она ощутила опустошение.
Тара думала, что он заснул, и лежала, прислушиваясь к его тихому дыханию, не выпуская его из кольца своих рук, однако он не спал и вдруг заговорил, испугав ее.
– Ты разговаривала с Викторией Динизулу, – сказал он, и ей понадобилось усилие, чтобы мысленно вернуться к предыдущей части вечера. – Что ты о ней думаешь?
– Она чудесная молодая женщина. Умная и явно преданная своему делу. Она очень понравилась мне.
Тара старалась быть объективной, но болезненное чувство ревности затаилось в глубине ее живота.
– Это я пригласил ее, – заявил Мозес. – Мы встретились впервые.
Таре хотелось спросить: «Зачем? Зачем ты ее пригласил?» Но она промолчала, страшась ответа. Она знала, что инстинкт не обманул ее.
– Она из королевского дома зулусов, – тихо добавил Мозес.
– Да. Она сказала мне об этом, – прошептала Тара.
– Она из хорошего рода, как я уже сказал, и у ее матери много сыновей. В роду Динизулу вообще много сыновей. Она станет хорошей женой.
– Женой? – задохнулась Тара. Этого она не ожидала.
– Мне необходим союз с зулусами, это самое крупное и могущественное племя. Я немедленно начну переговоры с ее семьей. Я отправлю Хендрика в Ледибург, чтобы повидать ее отца и обо всем договориться. Это будет непросто, ее отец старомоден и категорически против межплеменных браков. Так что это должна быть свадьба, которая произведет впечатление на все племя, и Хендрик убедит старика в мудрости такого поступка.
– Но… но… – Тара заметила, что заикается. – Ты ведь ее почти не знаешь. Ты с ней и десятком слов не обменялся за весь вечер!
– Какое отношение это имеет к делу? – с искренним недоумением произнес Мозес.
Он отодвинулся немного и включил прикроватную лампу, ослепив Тару.
– Посмотри на меня! – приказал он, взяв ее за подбородок и поворачивая ее лицо к свету; всмотревшись, он отдернул руку, словно прикоснулся к чему-то омерзительному. – Я неверно тебя оценил, – тоном порицания произнес он. – Я думал, ты особенная. Настоящая революционерка, преданный друг черного народа этой страны, готовая пожертвовать чем угодно. А вместо этого я вижу слабую ревнивую женщину, одержимую буржуазными предрассудками.
Матрас перекосился под Тарой, когда Мозес встал, возвышаясь над кроватью.
– Я напрасно тратил время, – сказал он, собрал свою одежду и, все еще нагой, повернулся к двери.
Тара бросилась через комнату и прижалась к нему, преграждая путь к двери.
– Прости. Я не это имела в виду… Прости. Пожалуйста, прости меня, – умоляла она, а он стоял холодно, отстраненно, молча.
Тара заплакала, от слез ее голос зазвучал глуше, и она уже просто невнятно бормотала что-то.
Наконец она медленно сползла вниз и оказалась на коленях, обнимая его ноги.
– Прошу, – рыдала она. – Я сделаю все что угодно. Только не бросай меня. Я сделаю все, что ты мне велишь… только не прогоняй меня вот так…
– Встань, – велел он наконец и, когда она встала перед ним, словно кающаяся грешница, негромко сказал: – У тебя есть еще один шанс. Только один. Ты понимаешь?
Тара энергично закивала, все еще задыхаясь от слез, не в силах ответить. Она робко потянулась к нему и, когда он не отстранился, взяла его за руку и повела обратно к кровати.
Снова оседлав ее, он понял, что она наконец готова, полностью созрела. Она действительно сделает все, что он прикажет.
На рассвете Тара проснулась и увидела, что Мозес склонился над ней, пристально глядя ей в лицо, и мгновенно в ней ожили ночные страхи, чудовищный страх перед его презрением и отказом. Ее охватили слабость и дрожь, к глазам подступили слезы, но он безмятежно обнял ее и занялся с ней любовью с нежной заботливостью, так что Тара успокоилась и ожила. А потом Мозес тихо заговорил.
– Я намерен довериться тебе, – сказал он, и ее благодарность была так велика, что у нее перехватило дыхание. – Я хочу считать тебя одной из нас, одной из самого близкого круга.
Тара кивнула, не в силах вымолвить ни слова, и просто смотрела в его свирепые черные глаза.
– Ты знаешь, как именно мы вели борьбу до сих пор, – сказал Мозес. – Мы играем по правилам белого человека, но он установил такие правила, так сформулировал их, что нам никогда не выиграть. Петиции и делегации, комиссии по расследованию и представительства… но в итоге против нас всегда принимаются новые законы, управляющие каждой мелочью в нашей жизни, указывающие, как нам работать, где жить, куда нам позволено ездить, а также где и как есть, спать или любить… – Он издал презрительное восклицание. – Но близится время, когда мы перепишем свод правил. Сначала начнется кампания неповиновения, когда мы станем намеренно нарушать всю ту массу законов, что связывают нас, а потом… – На его лице отразилась ярость. – А потом борьба продолжится и превратится в великую битву.
Тара молча лежала рядом с ним, изучая его лицо.
– Я верю, что придет время, когда человек, столкнувшийся с великим злом, должен будет взять копье и превратиться в воина. Он должен восстать и сразить это зло наповал.
Мозес наблюдал за Тарой, ожидая ответа.
– Да, – кивнула она. – Ты прав.
– Это все слова, идеи, Тара, – сказал он. – А как насчет действий? Ты готова к действию?
Она кивнула:
– Готова.
– Кровь, Тара, а не слова. Убивать, калечить и сжигать. Разрушать и крушить. Ты можешь выдержать это, Тара?
Она была потрясена, наконец-то представив себе реальность, а не просто головокружительные рассуждения. Она вообразила языки пламени, с ревом вырывающиеся из-под высокой крыши Вельтевредена, и кровь, брызжущую на стены и влажно блестящую на солнце, в то время как во дворе лежали изуродованные тела детей, ее собственных детей, и она уже готова была отказаться от такой картины, когда Мозес снова заговорил:
– Разрушая зло, Тара, мы сможем выстроить доброе и справедливое общество.
Теперь он говорил низким неотразимым голосом, который разливался по венам Тары, словно наркотик, и жестокие картины погасли, она заглянула через них в рай, земной рай, который они могут создать вместе.
– Я готова, – сказала она, и на этот раз в ее голосе не слышалось и следа колебаний.
Оставался час до того, как Маркус должен был отвезти ее в аэропорт, чтобы посадить на самолет «виконт» на обратный рейс в Кейптаун. Они с Мозесом сели за его стол на веранде, только вдвоем, и Мозес подробно объяснил ей, что необходимо сделать.
– Umkhonto we Sizwe, – сказал он ей. – «Народное копье».
Это название замерцало и зазвенело в ее мозгу, как полированная сталь.
– Прежде всего ты должна отказаться от всей открытой либеральной деятельности. Ты должна уйти из клиники…
– Моя клиника! – воскликнула Тара. – О Мозес, а как же мои бедные малыши, что им делать…
Она умолкла, увидев выражение его лица.
– Ты заботишься о физических нуждах сотни людей, – сказал он. – А меня заботит благополучие двадцати миллионов. Скажи мне, что важнее?
– Ты прав, – прошептала Тара. – Прости.
– Ты воспользуешься предлогом кампании неповиновения, чтобы заявить о своем разочаровании в освободительном движении и сообщить, что уходишь из «Черных шарфов».
– О боже, что скажет Молли?
– Молли знает, – заверил ее Гама. – Молли знает, почему ты это делаешь. Она тебе поможет во всем. Конечно, особый отдел полиции будет еще какое-то время держать тебя под наблюдением, но, когда ты перестанешь давать им повод, они потеряют интерес к тебе.
Тара кивнула:
– Понимаю.
– Ты должна больше интересоваться политической деятельностью своего мужа, общаться с его парламентскими коллегами. Твой отец – заместитель лидера оппозиции, имеющий доступ к министрам. Ты должна стать нашими глазами и ушами.
– Да, это я могу.
– Позже для тебя будут и другие задачи. Многие из них трудные, а некоторые даже опасные. Готова ли ты рискнуть жизнью ради борьбы, Тара?
– Ради тебя, Мозес Гама, я готова и на большее. Я бы охотно отдала за тебя жизнь, – ответила она.
Увидев, что она говорит серьезно, он кивнул с глубоким удовлетворением.
– Мы будем встречаться, когда сможем, – пообещал ей он. – Когда это будет безопасно. – Затем он издал клич, который должен был стать призывом к кампании неповиновения: – Mayibuye! Afrika!
И Тара ответила:
– Mayibuye! Afrika! Африка, пусть будет так!
«Я прелюбодейка, – думала Тара каждое утро за завтраком в течение всех недель, что прошли после ее возвращения из Йоханнесбурга. – Я прелюбодейка».
Ей казалось, что это должно быть видно, как клеймо на лбу, напоказ всему миру. Но Шаса весело приветствовал ее по возвращении, извинился, что прислал за ней в аэропорт шофера, а не приехал сам, и спросил, понравилась ли ей недозволенная интрижка с австралопитеком.
– Я подумал, что ты могла бы выбрать кого-нибудь помоложе. Я имею в виду, миллион лет – это довольно старые персоны, а?
Их взаимоотношения продолжились как ни в чем не бывало.
Дети, за исключением Майкла, казалось бы, совсем по ней не скучали. Сантэн в отсутствие Тары управляла хозяйством, как обычно, железной рукой в перчатке со сладким ароматом, и дети, поприветствовав Тару почтительными, но небрежными поцелуями, только и говорили о том, что сделала или сказала бабуля, и Тара с болью осознала, что забыла привезти им подарки.
Только Майкл вел себя иначе. Первые несколько дней он вообще не спускал с нее глаз, везде таскался за ней по пятам, даже настоял на том, чтобы провести с ней в клинике свой драгоценный субботний день, тогда как его братья отправились с Шасой на регби в Ньюленд, чтобы посмотреть, как «Западная провинция» играет с командой «Только черные» из Новой Зеландии.
Компания Майкла немного помогала смягчить боль первых приготовлений к закрытию клиники. Таре пришлось попросить трех ее чернокожих медсестер начать искать другую работу.
– Конечно, вы будете получать жалованье, пока не трудоустроитесь, и я помогу вам всем, чем смогу…
Но она страдала, видя в их глазах упрек.
Теперь, почти месяц спустя, воскресным утром она сидела в Вельтевредене за накрытым к завтраку столом в пестрой тени под виноградными лозами, вьющимися по решетке террасы, а слуги в накрахмаленной белой форме суетились вокруг них. Шаса читал вслух отрывки из статей «Санди таймс», хотя никто его не слушал; Шон и Гаррик язвительно спорили, выясняя, кто лучший в мире полузащитник, а Изабелла всячески шумела, требуя внимания папочки. Майкл подробно рассказывал Таре о сюжете книги, которую сейчас читал, а она чувствовала себя самозванкой, актрисой, играющей роль, к которой совершенно не подготовилась.
Шаса наконец скомкал газету и уронил на пол, откликнувшись на просьбу Изабеллы: «Посади меня на колени, папочка!» – и, не обращая внимания на ритуальные протесты Тары, заявил:
– Итак, все! Необходимо обсудить серьезный вопрос: что мы собираемся делать в это воскресенье.
В результате едва не возник бунт, фон которому создавала Изабелла, пронзительно выкрикивавшая: «Пикник! Пикник!» Наконец решение было принято в пользу пикника, после того как Шаса отдал свой голос в поддержку дочери.
Тара попыталась уклониться, но Майкл был так близок к слезам, что она уступила, и они все вместе поехали верхом, а слуги и корзины с угощением следовали за ними в маленькой двухколесной коляске. Конечно, они могли поехать и на машине, но верховая езда составляла половину удовольствия.
Шаса давно уже выложил кирпичом пруд под небольшим водопадом, превратив его в естественный бассейн для плавания, а на берегу соорудил летний домик под тростниковой крышей. Главной забавой здесь стал длинный пологий спуск к бассейну по красной резиновой трубе вдоль отполированной водопадом скалы, из которой предстояло упасть прямо в зеленую заводь внизу. Это было никогда не надоедавшее развлечение, и детям хватило его на все утро.
Шаса и Тара, в купальных костюмах, устроились на поросшем травой берегу, греясь в жарких солнечных лучах. Они часто приходили сюда в первые дни их брака, задолго до того, как заводь превратили в бассейн и построили летний домик. Вообще-то, Тара была уверена, что далеко не один из их детей был зачат именно на этом травянистом берегу. Некое теплое чувство до сих пор сохранилось с тех дней. Шаса открыл бутылку рислинга, и они оба почувствовали себя куда более раскованными и дружелюбно настроенными друг к другу, чем за все последние годы.
Шаса воспользовался шансом; достав бутылку из ведерка со льдом и наполнив бокал Тары, он заговорил:
– Дорогая, мне нужно кое-что тебе сказать, кое-что важное для нас обоих и способное существенно изменить нашу жизнь.
«Он нашел другую женщину», – подумала Тара, отчасти со страхом, отчасти с облегчением, так что сначала даже не поняла, о чем именно он говорит. А потом чудовищность сказанного обрушилась на нее. Шаса намеревался присоединиться к врагу, он хотел перейти к бурам. Он связывал свою судьбу с бандой наиболее злобных людей, которых когда-либо порождала Африка. Тех главных архитекторов, что создали нищету, страдания и угнетение.
– Я уверен, что мне представляется возможность использовать мои таланты и финансовый дар на благо этой страны и ее народа, – говорил Шаса.
Тара вертела в пальцах ножку бокала и смотрела в светлую золотистую жидкость, не осмеливаясь поднять глаза и посмотреть на него из страха, что по ее взгляду муж поймет ее мысли.
– Я рассмотрел это предложение со всех сторон и обсудил с матушкой. Полагаю, у меня есть долг перед страной, перед семьей и перед самим собой. Я уверен, что должен это сделать, Тара.
Ужасно было чувствовать, как последние чахлые плоды ее любви к нему высыхают и опадают, а потом внезапно Тара ощутила себя свободной и легкой, бремя исчезло, и на его месте взорвалось противоположное чувство. Оно нахлынуло на нее с такой силой, что Тара не сразу нашла для него название, но потом поняла, что это ненависть.
Тара удивлялась, что когда-либо чувствовала себя виноватой по отношению к нему, удивлялась, как вообще могла когда-то его полюбить. Его голос продолжал гудеть, Шаса объяснял, пытался оправдать непростительное, а Тара понимала, что все еще не может посмотреть на него, чтобы он не прочел все в ее глазах. Она испытывала почти неодолимое желание закричать: «Ты такой же бессердечный, эгоистичный, злобный, как все они!» – и буквально наброситься на него, выцарапать ногтями его единственный глаз, и ей понадобилась вся сила воли, чтобы сидеть спокойно и молча. Она помнила, что говорил ей Мозес, и ухватилась за его слова. Они казались единственным разумным элементом во всем этом безумии.
Шаса закончил объяснения, которые так старательно подготовил для нее, и теперь ждал ответа. Тара сидела на коврике, подобрав под себя ноги, глядя на бокал в своих руках, а Шаса смотрел на нее так, как не смотрел уже годы, и видел, что она все еще прекрасна. Ее гладкое тело покрылось легким загаром, волосы сверкали на солнце рубиновыми отсветами, а большая грудь, всегда очаровывавшая его, как будто снова переполнилась жизнью. Шаса ощутил влечение и возбудился, чего не случалось уже очень давно, и, протянув руку, легонько коснулся щеки Тары.
– Поговори со мной, – попросил он. – Скажи, что ты об этом думаешь.
Она подняла голову и посмотрела на него. На мгновение Шаса похолодел от ее взгляда, потому что он был таким же непроницаемым и безжалостным, как взгляд львицы, но потом Тара сдержанно улыбнулась и пожала плечами, и Шаса подумал, что ошибся, в ее глазах вовсе не было ненависти.
– Ты ведь уже принял решение, Шаса. Зачем тебе мое одобрение? Я никогда прежде не могла помешать тебе делать то, чего тебе хотелось. Так зачем мне пытаться сейчас?
Он был изумлен и испытал облегчение, ведь он ожидал ожесточенной битвы.
– Мне хотелось, чтобы ты знала почему, – сказал он. – Я хочу, чтобы ты понимала, что мы оба желаем одного и того же: процветания и уважения для всех в этой стране. Что мы просто стараемся достичь этого разными способами, но я уверен, что мой путь более эффективен.
– Повторяю, зачем тебе мое одобрение?
– Мне нужно твое сотрудничество, – поправил ее Шаса. – Потому что в некотором роде эта возможность зависит от тебя.
– Каким образом? – спросила Тара и отвернулась от него, чтобы посмотреть на плескавшихся в воде детей.
Но Гаррика в воде не было. Шон несколько раз окунул его с головой, и теперь он сидел, дрожа, на краю бассейна. Его худенькое тело посинело от холода. Он дышал с трудом, ребра выпирали под кожей, когда он кашлял и чихал.
– Гарри! – резко окликнула его Тара. – С тебя довольно! Вытрись и оденься!
– О ма! – протестующее выдохнул он, но она одарила его яростным взглядом:
– Сию же минуту!
И когда он неохотно направился к летнему домику, Тара снова повернулась к Шасе:
– Тебе нужно мое сотрудничество? – Она уже полностью овладела собой. Она не позволит ему понять, что она чувствует по отношению к нему и его чудовищному намерению. – Так скажи, чего ты от меня хочешь?
– Тебя ведь не удивит, если я скажу, что отдел государственной безопасности имеет весьма обширное досье на тебя.
– Учитывая тот факт, что они трижды меня арестовывали, – Тара опять улыбнулась, но это была натянутая безрадостная гримаса, – ты прав, я не удивлена.
– Ну так вот, дорогая, все сводится к тому, что я не смогу попасть в кабинет министров, пока ты продолжаешь пробуждать недовольство и сеять беспорядки вместе с твоими сестрицами из «Черных шарфов».
– Ты хочешь, чтобы я отказалась от политической деятельности? А как насчет моего, так сказать, послужного списка? Я имею в виду, я ведь закоренелая преступница, ты же знаешь.
– К счастью, полиция безопасности относится к тебе с некоторой насмешливой снисходительностью. Я видел копию твоего досье. Тебя оценивают как дилетантку, наивную и впечатлительную, легко поддающуюся влиянию своих более опасных подружек.
Такое оскорбление трудно было вынести. Тара вскочила и ушла к краю бассейна, а там схватила Изабеллу за руку и потащила прочь от воды.
– Тебе тоже довольно, юная леди.
Она не обращала внимания на протестующие вопли Изабеллы и силой стянула с нее купальный костюм.
– Мне больно! – скулила девочка, когда Тара вытирала ее мокрые волосы грубым полотенцем, а потом закутывала ее в него.
Изабелла побежала к отцу, продолжая хныкать и спотыкаясь о края полотенца.
– Мамуля не разрешает мне плавать! – Она забралась на колени отца.
– Жизнь полна несправедливости.
Шаса обнял ее, и она в последний раз судорожно всхлипнула, прижавшись влажными кудрями к его плечу.
– Отлично, я никчемный дилетант. – Тара снова плюхнулась на коврик. Она уже совладала с собой и села напротив мужа, скрестив ноги. – Но что, если я откажусь сдаться? Что, если я продолжу следовать велению моей совести?
– Тара, не старайся вызвать меня на конфронтацию, – мягко откликнулся Шаса.
– Ты всегда получаешь то, чего хочешь, не так ли, Шаса? – Она подначивала его, но он покачал головой, отказываясь принять вызов.
– Я хочу обсудить все логично и спокойно, – сказал он.
Но Тара не собиралась подчиняться, оскорбление слишком задело ее.
– Я могу забрать детей, ты должен это понимать, твои мудрые адвокаты должны были тебя предупредить.
– Черт побери, Тара, ты же знаешь, что я не об этом говорю, – холодно произнес Шаса, но крепче прижал к себе ребенка, и Изабелла протянула ручку и погладила его по подбородку.
– Ты такой колючий, – радостно пробормотала она, не замечая напряжения. – Но я все равно тебя люблю, папочка.
– Да, мой ангел, и я тоже тебя люблю, – ответил он, а затем снова обратился к Таре: – Я не угрожал тебе.
– Пока нет, – уточнила она. – Но это впереди, если я знаю тебя… а я должна знать.
– Не можем ли мы поговорить рассудительно?
– Нет необходимости, – внезапно сдалась Тара. – Я уже все решила. Я уже убедилась в бесплодности наших маленьких протестов. Некоторое время назад я поняла, что напрасно трачу жизнь. Я знаю, что пренебрегала детьми, и во время той поездки в Йоханнесбург решила, что мне следует снова заняться учебой и оставить политику профессионалам. Я уже решила уйти из «Черных шарфов» и закрыть клинику или передать ее кому-нибудь.
Шаса изумленно уставился на нее. Он не верил в такую легкую победу.
– А чего ты хочешь взамен? – спросил он.
– Я хочу вернуться в университет и получить степень по археологии, – решительно заявила Тара. – И я хочу полной свободы, чтобы путешествовать ради учебы.
– Договорились, – с готовностью согласился Шаса, даже не пытаясь скрыть облегчение. – Ты не суешь нос в политику и можешь ехать куда угодно и когда угодно.
Тут вопреки его воле глаза Шасы снова устремились к ее груди. Он был прав, грудь жены наполнилась красотой, она буквально выпирала из шелковых чашечек ее бикини. И в Шасе вспыхнуло жаркое желание.
Она поняла это по его лицу. Она так хорошо все это знала и внутренне взбунтовалась. После того, что он только что ей сказал, после его небрежных оскорблений, после его предательства всего того, что она считала дорогим и священным, она понимала, что никогда больше не сможет снова принять его.
Она сбросила верхнюю часть бикини и потянулась к халату.
Шаса был в восторге от их сделки, и, хотя он редко пил больше одного бокала вина, в этот день он прикончил остатки рислинга, пока они с мальчиками готовили обед над ямой для барбекю.
Шон очень серьезно отнесся к обязанностям помощника шеф-повара. Всего один или два куска мяса упали в золу, но Шон тут же заявил братьям:
– Это ваши; и если вы проглотите их не жуя, вы и не почувствуете ничего.
За столом в летнем домике Изабелла помогала Таре готовить салат, попутно обильно поливая и себя заправкой из уксуса и растительного масла, а когда все сели за стол, Шаса смешил детей до слез, рассказывая разные истории. Лишь Тара сидела равнодушно, не участвуя в общем веселье.
Когда детям разрешили выйти из-за стола со строгим приказом не лезть в воду в течение часа после еды, Тара тихо спросила мужа:
– Ты во сколько завтра уезжаешь?
– Рано, – ответил он. – Я должен быть в Йоханнесбурге еще до обеда. Лорд Литлтон прилетает из Лондона на «Комете». Я хочу встретиться с ним.
– Надолго ты в этот раз?
– После запуска проекта мы с Дэвидом отправимся в поездку.
Шаса еще недавно хотел, чтобы Тара присутствовала на приеме в честь открытия подписных листов на акции нового рудника на Серебряной реке. Она нашла повод отказаться, но обратила внимание, что теперь Шаса не повторил приглашения.
– Значит, примерно десять дней?
Каждый квартал Шаса и Дэвид совершали поездку по всем разработкам компании: от новой химической фабрики у Чака-Бей и целлюлозно-бумажных фабрик в Восточном Трансваале до алмазного рудника Ха’ани в пустыне Калахари, главного предприятия компании.
– Может, и немного дольше, – ответил Шаса. – В Йоханнесбурге я задержусь не меньше чем на четыре дня…
И он с удовольствием подумал о Мэрили из компьютерной компании и о ее IBM-701.
Дэвид Абрахамс убедил Шасу доверить рекламу открытия новых разработок на Серебряной реке одной из компаний по общественным связям, возникших недавно, но на которые Шаса смотрел с подозрением. Однако вопреки первоначальным сомнениям теперь он с неохотой готов был признать, что идея оказалась не такой уж плохой, как он предполагал, пусть даже это обошлось больше чем в пять тысяч фунтов.
Они привезли редакторов лондонских «Файнэншел таймс» и «Уолл-стрит джорнал» с женами, а потом предполагали пригласить их в национальный парк Крюгера, оплачивая все расходы. Были приглашены и представители всей местной прессы и радиожурналисты, а в качестве неожиданного бонуса прибыла телевизионная команда из Нью-Йорка, чтобы сделать серию репортажей под названием «Внимание, Африка!» для Североамериканской вещательной компании, и они тоже приняли приглашение на прием с ужином.
В вестибюле здания компании Кортни установили действующую модель буровой вышки высотой двадцать пять футов – такая должна была подняться над разработками на Серебряной реке – и окружили модель кустами дикой протеи; эту дендрокомпозицию выполнила та самая команда, которая выиграла золотую медаль на цветочной выставке в Челси в Лондоне годом ранее. Учитывая, что журналисты во время работы всегда испытывают жажду, Дэвид выставил сотню стальных бочонков «Моэт и Шандон», но Шаса категорически отверг идею винтажных вин.
– Не винтажные тоже чертовски хороши для них! – Шаса был не слишком высокого мнения о профессии журналиста.
Дэвид также нанял группу девушек из «Ройял Свази Спа» для выступления среди публики. Обещание зрелища обнаженных грудей должно было стать почти такой же приманкой, как шампанское; для южноафриканских блюстителей нравов женская грудь выглядела такой же опасной, как «Манифест Коммунистической партии» Карла Маркса.
Каждому гостю по прибытии вручали подарочный набор, состоявший из глянцевой цветной брошюры, сертификата на получение именной акции новой компании стоимостью один фунт и миниатюрный брусок южноафриканского золота в двадцать два карата с логотипом компании. Дэвид добился разрешения Резервного банка изготовить эти бруски на монетном дворе, обошлись они почти в тридцать долларов каждый и стали главной частью расходов на рекламу, но радостное волнение, созданное ими, и последующая слава вполне оправдывали их стоимость.
Шаса выступил с официальной речью до того, как «Моэт и Шандон» успело замутнить разум гостей или пока их не отвлекло шоу на танцполе. Публичные выступления всегда доставляли Шасе удовольствие. Ни канонада вспышек фотокамер, ни знойное сияние дуговых ламп, которые установили телевизионщики, не мешали ему наслаждаться этим вечером.
Серебряная река была на сегодняшний день главным достижением в его карьере. Ведь только он увидел вероятность того, что золотая жила могла дать ответвление от основной в Оранжевом Свободном государстве, и он лично договорился о дополнительном бурении. Только когда алмазные сверла на глубине почти в полторы мили под засушливой равниной натолкнулись на узкую черную полосу золотоносной породы, решение Шасы получило подтверждение. Результат даже превзошел все его ожидания: на тонну породы приходилось более двадцати шести пеннивейтов чистого золота.
Сегодня был вечер Шасы. Его особый дар помогал ему извлекать максимум из всего, что он делал, и теперь он стоял в свете дуговых ламп, высокий и жизнерадостный, в идеально сшитом вечернем костюме, повязка на глазу придавала ему вид щегольской и опасный, и он с такой очевидной легкостью владел собой и управлял своей компанией, что ему не стоило усилий увлекать всех за собой.
Гости смеялись и аплодировали в нужных местах и с зачарованным вниманием слушали, когда он говорил о размерах необходимых инвестиций и объяснял, как это поможет укрепить узы дружбы, что связывали Южную Африку с Англией и британское Содружество наций, и установит новые дружеские связи с инвесторами Соединенных Штатов Америки, откуда он надеялся получить почти тридцать процентов необходимого для проекта капитала.
Когда он закончил под продолжительные аплодисменты, лорд Литлтон, как глава банка-гаранта, встал, чтобы ответить на речь Шасы. Лорд был худощав и седовлас, в костюме с легким налетом старомодности, с широкими манжетами на брюках, словно подчеркивающими его аристократическое презрение к моде. Он объяснил гостям, что его банк давно имеет тесные связи с компанией Кортни и что в лондонском Сити возник серьезный интерес к этой новой компании.
– С самого начала мы в банке «Литлтон» были чертовски уверены, что с легкостью получим прибыль от наших вложений. Мы знали, что едва ли останется хоть какое-то количество невыкупленных акций. И мне доставляет большое удовольствие стоять здесь перед вами сегодня вечером и говорить: «Я же вам говорил».
Раздался гул комментариев и предположений, и банкир поднял руку, призывая к тишине.
– Я намерен сообщить вам кое-что, – продолжал он, – чего не знает еще даже мистер Шаса Кортни и о чем я сам узнал всего час назад.
Он достал из кармана листок сообщения по телексу и помахал им:
– Как вам известно, подписной лист на акции разработок на Серебряной реке открылся сегодня утром в десять часов по лондонскому времени, на два часа позже южноафриканского времени. Когда мой банк закрылся несколько часов назад, они прислали мне этот телекс. – Он водрузил на нос очки в золотой оправе. – Цитирую: «Просим передать поздравления мистеру Кортни и „Компании Кортни по разработкам месторождений и финансированию“ как промоутерам „Разработки Серебряной реки Ко.“. Точка. К четырем часам дня по лондонскому времени сегодня подписка превысила начальную в четыре раза. Конец. Банк Литлтон».
Дэвид Абрахамс сжал руку Шасы, первым поздравив его. Под гром аплодисментов они радостно усмехнулись друг другу, потом Шаса спрыгнул с возвышения.
Сантэн Кортни-Малкомс, сидящая в первом ряду, восторженно вскочила ему навстречу. Она надела облегающее платье из золотой парчи и полный комплект бриллиантов, каждый из которых был тщательно отобран из продукции рудника Ха’ани в течение тридцати лет. Стройная, сверкающая и очаровательная, она шагнула к сыну.
– Теперь мы получили все, матушка, – шепнул он, обнимая ее.
– Нет, chéri, всего мы никогда не получим, – прошептала она в ответ. – Это было бы скучно. Всегда есть к чему стремиться.
Блэйн Малкомс ждал своей очереди, чтобы поздравить Шасу, и тот повернулся к нему, все еще обнимая Сантэн за талию.
– Важный вечер, Шаса. – Блэйн пожал ему руку. – Ты заслуживаешь этого.
– Спасибо, сэр.
– Как жаль, что Тара не смогла приехать, – продолжил Блэйн.
– Я очень хотел, чтобы она была здесь. – Шаса тут же перешел в оборону. – Но, как вы знаете, она решила, что не может снова оставить детей так скоро.
Их уже окружила толпа, они смеялись и отвечали на поздравления, но Шаса заметил, что позади всех стоит директор компании по связям с общественностью, и протиснулся к ней сквозь толпу.
– Что ж, миссис Энсти, вашей работой следует гордиться.
Шаса улыбнулся ей со всем своим обаянием. Женщина была высокой и довольно худой, но с шелковистыми светлыми волосами, падавшими густой завесой на ее обнаженные плечи.
– Я всегда стараюсь полностью удовлетворить клиента.
Джилл Энсти чуть прикрыла глаза и надула губки, придавая своим словам двусмысленный оттенок. Они поддразнивали друг друга с момента знакомства накануне днем.
– Но, боюсь, у меня есть для вас еще кое-какая работа, мистер Кортни. Можете еще разок меня вытерпеть?
– Столько раз, сколько вам захочется, миссис Энсти, – поддержал игру Шаса.
Положив ладонь на его локоть, она повела его в сторону, сжимая его руку чуть сильнее необходимого.
– Телевизионщики из Национальной компании хотят взять у вас пятиминутное интервью, чтобы включить в программу «Внимание, Африка!». Это может стать прекрасным шансом обратиться напрямую к пятидесяти миллионам африканцев.
Команда ТВ расположила свое оборудование в зале заседаний директоров; лампы и камеры установили в дальнем конце длинной комнаты, где на обшитой деревянными панелями стене висел портрет Сантэн кисти Аннигони. У камер стояли трое мужчин, все молодые и небрежно одетые, но явно отличные профессионалы; с ними была какая-то девочка.
– Кто проведет интервью? – спросил Шаса, с любопытством оглядываясь по сторонам.
– Режиссер, – пояснила Джилл Энсти. – Она и поговорит с вами.
Шаса не сразу понял, что Джилл говорит о девочке, потом заметил, что та почти незаметно руководит группой, словом или жестом указывая на требуемый ракурс камеры или изменение освещения.
– Да это же просто ребенок! – запротестовал Шаса.
– Ей двадцать пять, и она сообразительнее целой стаи обезьян, – предостерегла его Джилл Энсти. – Не позволяйте ее детской внешности одурачить вас. Она профессионал, очень решительна и имеет большое число зрителей в Штатах. Она сняла целые серии невероятных интервью с Джомо Кеньяттой и террористом Мау-Мау, не говоря уже об истории перевала Разбитых сердец в Корее. Говорят, она получит за нее премию «Эмми».
В Южной Африке еще не было телевидения, но Шаса видел «Перевал Разбитых сердец» по каналу Би-би-си во время своей последней поездки в Лондон. Это был суровый, полностью захватывающий рассказ о корейской войне, и Шасе трудно было поверить, что снял его вот этот ребенок. А девушка между тем повернулась и направилась прямо к нему, протягивая руку, открыто и дружески, и выглядела она как милая инженю.
– Приветствую, мистер Кортни, я Китти Годольфин.
Она говорила с чарующим южным акцентом, ее щеки и маленький дерзкий нос усыпали золотистые веснушки, но теперь Шаса заметил, что у нее очень красиво очерчены голова и скулы, что заставляло предположить хорошую фотогеничность.
– Мистер Кортни, – продолжила она, – вы так хорошо говорили, что я не смогла устоять, и мне захотелось увидеть вас и в фильме. Надеюсь, я не причинила вам больших неудобств.
Она улыбнулась нежной, обаятельной улыбкой, но Шаса увидел за этим глаза такие же твердые, как любой из алмазов с рудника Ха’ани, глаза, светившиеся острым циничным умом и безжалостными амбициями. Это оказалось неожиданным и интригующим.
«Вот представление, за которое стоит заплатить», – подумал он и посмотрел вниз.
Груди девушки были маленькими, меньше, чем он обычно выбирал, но бюстгальтера на ней не оказалось, и Шаса мог видеть их очертания под блузкой. Они выглядели восхитительно.
Режиссер подвела Шасу к кожаным креслам, поставленным лицом друг к другу под прожекторами.
– Если вы сядете с этой стороны, мы сразу приступим к делу. Вступление я сниму позже. Я не хочу задерживать вас дольше необходимого.
– Насколько вам захочется.
– О, я знаю, у вас там полный зал важных гостей.
Она оглянулась на свою команду, и один из парней показал ей поднятый большой палец. Она снова посмотрела на Шасу.
– Американская общественность мало знает о Южной Африке, – пояснила она. – Я пытаюсь сделать поперечный разрез вашего общества и разобраться, как здесь все устроено. Я представлю вас как политика, промышленного магната и финансиста и расскажу зрителям об этом вашем сказочном новом золотом руднике. Потом мы все смонтируем. Хорошо?
– Хорошо. – Он непринужденно улыбнулся. – Давайте.
Перед лицом Шасы щелкнула хлопушка, кто-то спросил: «Звук?», кто-то ответил: «Включен», а потом: «Мотор!»
– Мистер Шаса Кортни, вы только что рассказали собранию ваших акционеров о новом золотом руднике, который, возможно, войдет в пятерку самых богатых в Южной Африке, что делает его одним из богатейших в мире. Можете ли вы сообщить нашим зрителям, какая часть этого сказочного богатства вернется к людям, у которых оно было изначально украдено? – спросила Китти с ошеломляющей прямотой. – И я, конечно, подразумеваю те чернокожие племена, которые прежде владели этой землей.
Шаса лишь на мгновение был выведен из равновесия, но тут же сообразил, что его втягивают в схватку. И ответил без запинки:
– Чернокожие племена, некогда владевшие землями, на которых теперь расположен рудник Серебряной реки, были вырезаны вплоть до последних мужчины, женщины и ребенка еще в тысяча восемьсот двадцатых годах воинами-импи королей Чаки и Мзиликази, тех двух великодушных зулусских монархов, которые вместе сумели сократить население Южной Африки вдвое, на пять миллионов человек. Когда белые поселенцы двинулись на север, они нашли эти земли полностью лишенными жизни, человеческой жизни. Земля, которую они застолбили, оставалась открытой, они ни у кого ее не отбирали и не крали. Я купил права на разработки земных недр у людей, имевших на нее неоспоримое право.
Он заметил, как в глазах Китти мелькнуло уважение, но она была так же стремительна, как и он. Да, она потеряла точку опоры, но была готова перейти к следующей.
– Конечно, исторические факты интересны, но давайте вернемся к настоящему. Скажите, если бы вы были цветным, мистер Кортни, скажем, чернокожим или азиатским бизнесменом, вам было бы позволено приобрести концессию на Серебряной реке?
– Это гипотетический вопрос, мисс Годольфин.
– Я так не думаю… – Она отрезала ему путь к бегству. – Ошибаюсь ли я, полагая, что закон о групповых территориях, недавно принятый парламентом, членом которого вы являетесь, запрещает небелым частным лицам и компаниям, принадлежащим чернокожим, приобретать земли или права на разработки где-либо на их собственной земле?
– Я голосовал против этого законопроекта, – хмуро произнес Шаса. – Но да, закон о групповых территориях воспрепятствовал бы цветному человеку приобрести права на рудники Серебряной реки, – признал он.
Слишком умная для того, чтобы задерживаться на уже отработанном, девушка быстро двинулась дальше.
– Сколько чернокожих работает на всех предприятиях «Компании Кортни по разработкам месторождений и финансированию» в целом? – спросила она с той же милой открытой улыбкой.
– В целом через восемнадцать дочерних компаний мы обеспечиваем работой примерно две тысячи белых и тридцать тысяч чернокожих.
– Прекрасное достижение, и, должно быть, вы этим гордитесь, мистер Кортни. – Девушка выглядела на изумление по-детски. – А сколько чернокожих заседает в советах директоров этих восемнадцати компаний?
Снова Шаса попался, поэтому ушел от вопроса:
– Мы считаем своим долгом платить за работу больше среднего и предоставляем нашим рабочим дополнительные льготы…
Китти радостно кивнула, позволяя ему закончить, вполне довольная тем, что сможет просто вырезать все эти отступления, но в тот момент, когда Шаса сделал паузу, она вернулась к теме:
– Значит, в компаниях Кортни черных директоров нет. А можете ли вы сказать, сколько у вас чернокожих управляющих?
Однажды, давным-давно, охотясь на буйволов в лесах вдоль реки Замбези, Шаса подвергся нападению обезумевших от жары больших черных африканских пчел. От них не было никакой защиты, и в конце концов ему удалось спастись, только нырнув в кишащую крокодилами реку Замбези. Сейчас он чувствовал такую же гневную беспомощность, как будто девушка гудела вокруг его головы, не обращая внимания на попытки отмахнуться от нее и бросаясь вперед, чтобы болезненно ужалить его, когда ей вздумается.
– На вас работают тридцать тысяч чернокожих, и среди них ни одного директора или управляющего! – по-детски изумилась она. – Можете ли вы предположить, почему это так?
– В нашей стране преимущественно сельское племенное чернокожее общество, люди приезжают в города неквалифицированными и необученными…
– О, а разве у вас нет обучающих программ?
Шаса воспользовался предложенной лазейкой.
– В группе компаний Кортни есть обширная программа обучения. Только в прошлом году мы потратили два с половиной миллиона фунтов на обучение людей и подготовку их к работе.
– Как давно действует эта программа, мистер Кортни?
– Семь лет, с тех пор, как я стал председателем.
– И за семь лет, после того как на обучение потрачены такие деньги, ни один из многих тысяч чернокожих не продвинулся до уровня менеджера? Это потому, что вы не нашли ни одного достаточно одаренного чернокожего, или потому, что вы поддерживаете политику разделения прав и ваш строгий барьер не допускает любого чернокожего, как бы хорош он ни был…
Шасу неумолимо загоняли в сеть, пока в гневе он не перешел в наступление.
– Если вы ищете расовую дискриминацию, почему вы не остались в Америке? – спросил он с ледяной улыбкой. – Уверен, ваш собственный Мартин Лютер Кинг смог бы помочь вам в этом больше, чем я.
– Да, в нашей стране есть нетерпимость, – кивнула мисс Годольфин. – Мы это осознаем, и мы стараемся это изменить, образовываем наших людей и объявляем вне закона подобную практику. Но, судя по тому, что я видела, вы внушаете вашим детям эту политику, которую вы называете апартеидом, и закрепляете ее монументальным сводом законов, таких как ваш закон о групповых территориях и закон о регистрации населения, направленных на классификацию всех людей исключительно по цвету их кожи.
– Мы делаем различие, – признал Шаса. – Но это не означает дискриминацию.
– Это броский лозунг, мистер Кортни, но не оригинальный. Я уже слышала его от вашего министра по делам банту, доктора Хендрика Френса Фервурда. Однако я полагаю, что это именно дискриминация. Если человеку отказано в праве голосовать или владеть землей только потому, что у него темная кожа, это, на мой взгляд, и есть дискриминация.
И прежде чем Шаса успел ответить, она снова поменяла тему.
– А сколько чернокожих среди ваших личных друзей? – спросила она с любопытством, и этот вопрос мгновенно перенес Шасу в далекое прошлое.
Он вспомнил, как еще подростком отрабатывал свою первую смену на руднике Ха’ани, и человека, бывшего его другом. Молодой чернокожий бригадир, отвечавший за сушилки, где только что добытая голубая руда лежала, просыхая до того, как становилась ломкой и ее можно было отправить в дробилку.
Шаса не думал об этом человеке много лет, но все же без усилий вспомнил его имя – Мозес Гама – и мысленно увидел его, высокого и широкоплечего, красивого, как молодой фараон, с кожей, светившейся на солнце, как старый янтарь, когда они работали бок о бок. Он вспомнил их долгие разговоры обо всем на свете, как они вместе читали и спорили, как их влекло друг к другу некими необычными духовными узами. Шаса дал ему почитать «Историю Англии» Маколея; и когда Мозеса Гаму уволили с рудника по настоянию Сантэн Кортни вследствие неприемлемой дружбы между ними, Шаса попросил его оставить книгу себе. Теперь он снова ощутил слабый отголосок чувства потери, которое испытал во время их вынужденного расставания.
– У меня всего несколько личных друзей, – сказал он девушке. – Десять тысяч знакомых, но всего несколько друзей… – Он показал пальцы правой руки. – Не более этого, и никто из них не черный. Хотя когда-то у меня был чернокожий друг, и я горевал, когда наши пути разошлись.
Обладая безошибочным чутьем, который делал ее непревзойденной в своем ремесле, Китти Годольфин поняла, что он дал ей идеальную зацепку, на которой можно подвесить все интервью.
– «Когда-то у меня был чернокожий друг… – тихо повторила она. – И я горевал, когда наши пути разошлись…» Спасибо, мистер Кортни. – Она повернулась к оператору. – Отлично, Хэнк, закончено, отправляй в студию, чтобы сегодня же обработать.
Она быстро встала, и Шаса поднялся следом, возвышаясь над ней.
– Это было великолепно. Масса материала, который мы сможем использовать, – с энтузиазмом заявила она. – Я искренне благодарна вам за сотрудничество.
Вежливо улыбаясь, Шаса наклонился к ней поближе.
– Вы коварная маленькая сучка, не так ли? – негромко произнес он. – Личико ангела и сердце дьявола. Вы знаете, что все не так, как вам хочется подать, но вам плевать на это. Как только вы получаете хорошую историю, вас ничуть не тревожит, правда это или нет и кому это может причинить боль, да?
Шаса отвернулся от нее и широкими шагами вышел из зала совета директоров. Уже началось представление среди публики, и он направился к столу, за которым сидели Сантэн и Блэйн Малкомс, но вечер уже был для него испорчен.
Он сидел и сердито смотрел на танцовщиц, не замечая их стройных обнаженных ног и прекрасных тел, а вместо этого думая о Китти Годольфин. Опасность возбуждала его, именно поэтому он охотился на львов и буйволов, летал на собственном «моските» и играл в поло. Китти Годольфин была опасна. Его всегда привлекали умные и компетентные женщины с сильным характером, а эта была потрясающе компетентна и сотворена из чистого шелка и стали.
Шаса думал о ее милом невинном личике, детской улыбке и жестком блеске ее глаз, и ярость в нем усугублялась желанием подчинить ее эмоционально и физически, а тот факт, что он понимал, насколько трудно это окажется осуществить, делал это желание все более навязчивым. Шаса заметил, что возбудился физически, и от этого его гнев разгорелся сильнее.
Внезапно он поднял глаза и заметил, что с другого конца зала за ним наблюдает Джилл Энсти, директор по связям с общественностью. Разноцветные отсветы играли на славянских чертах ее лица и поблескивали в платиновой завесе ее волос. Она чуть прищурилась и провела кончиком языка по нижней губе.
«Отлично, – подумал Шаса. – Я должен выместить все на ком-нибудь, и это будешь ты». Он слегка наклонил голову, Джилл Энсти кивнула и выскользнула за дверь, что находилась позади нее. Шаса невнятно извинился перед Сантэн, встал и направился сквозь грохочущую музыку и полумрак к той двери, за которой исчезла Джилл Энсти.
В отель «Карлтон» Шаса вернулся в девять часов утра. Все еще в смокинге и при черном галстуке, он не вошел в вестибюль, а поднялся по задней лестнице из подземного гаража. Сантэн и Блэйн располагались в принадлежавшем их компании номере, а Шаса – в небольшом номере через коридор. Он боялся наткнуться на кого-либо из них в такой одежде рано утром, но ему повезло, и он проскочил к себе незамеченным.
Кто-то подсунул под его дверь конверт, и Шаса поднял его без особого интереса, но потом заметил на нем штамп киностудии «Килларни». Китти Годольфин работала именно в этой студии, и Шаса усмехнулся, вскрывая конверт ногтем большого пальца.
Дорогой мистер Кортни!
Предварительный монтаж великолепен, вы в фильме выглядите лучше Эррола Флинна. Если хотите взглянуть, позвоните мне в студию.
Китти Годольфин
Гнев Шасы остыл, и его позабавила дерзость девицы; и хотя весь этот день у него был занят – сперва планировался обед с лордом Литлтоном, затем разные встречи, – он позвонил.
– Вы едва меня застали, – сказала ему Китти. – Я как раз собралась уходить. Хотите посмотреть монтаж? Отлично, можете приехать сюда в шесть вечера?
Она улыбалась все той же милой детской улыбкой и дразнила Шасу злым огоньком в зеленых глазах, когда встретила его у стойки администратора студии, пожала ему руку и отвела в проекторную.
– Я знала, что могу положиться на ваше мужское тщеславие, чтобы завлечь сюда, – заверила она его.
Ее съемочная группа развалилась в первом ряду в проекторной, куря «Кэмел» и попивая кока-колу, но Хэнк, оператор, уже подготовил клип к показу, и они посмотрели его молча.
Когда снова зажегся свет, Шаса повернулся к Китти и признал:
– Вы хороши… вы заставили меня почти все время выглядеть настоящим придурком. И конечно, вы в монтажной вырезали все те части, где я остаюсь самим собой.
– Вам не нравится? – Китти усмехнулась, наморщив маленький нос так, что веснушки на нем блеснули, как крохотные золотые монетки.
– Вы настоящий партизан, стреляете из укрытия, пока я подставляю вам спину.
– Если вы обвиняете меня в фальсификации, – не без вызова заявила она, – как насчет того, чтобы показать мне на месте, как все обстоит на самом деле? Покажите мне рудники и фабрики Кортни и позвольте снять фильм о них!
Так вот зачем она позвала его. Шаса улыбнулся себе под нос, но спросил:
– Найдете десять дней?
– Найду столько, сколько понадобится! – заверила она его.
– Хорошо, начнем с сегодняшнего ужина.
– Великолепно! – обрадовалась она и повернулась к съемочной группе. – Ребята, мистер Кортни угощает нас ужином!
– Вообще-то, я не совсем это имел в виду, – пробормотал он.
– Разве? – Она бросила на него невинный, детский взгляд.
Китти Годольфин оказалась отличной компаньонкой. Ее интерес ко всему, что он говорил или показывал, был трепетным и неподдельным. Она наблюдала за его глазами или губами, когда он говорил, и частенько наклонялась так близко к нему, что Шаса ощущал ее дыхание на своем лице, но она ни разу не прикоснулась к нему.
Для Шасы ее привлекательность усиливалась ее личной чистоплотностью. Все те дни, что они проводили вместе, жаркие дни в пустыне на дальнем западе или в восточных лесах, бродя между дробилками или по производящим удобрения фабрикам, наблюдая за бульдозерами, разгребающими угольные завалы в клубящихся облаках пыли, или поджариваясь в глубине огромного рудника Ха’ани, Китти всегда выглядела свежей и опрятной. Даже среди пыли ее глаза оставались ясными, а маленькие ровные зубы сверкали. Когда и где она находила возможность постирать одежду, Шаса так и не смог догадаться, но все на ней всегда было чистым, а ее дыхание, когда она наклонялась близко к нему, всегда оставалось приятным.
Да, она была профессионалом. Это тоже производило впечатление на Шасу. Она пошла бы на все, чтобы получить нужные ей кадры, не обращая внимания на усталость или опасность. Шаса запретил ей спускаться на главном лифте шахты Ха’ани снаружи, стоя на раме, чтобы снять сам спуск в глубины, но она вернулась позже, когда Шаса встречался с главным управляющим, и сделала то, что хотела, а потом с улыбкой отмахнулась от его ярости, когда он узнал об этом. Ее команда относилась к ней с двойственностью, забавлявшей Шасу. Парни явно были нежно к ней привязаны и изо всех сил защищали ее, словно старшие братья, и при этом не скрывали гордости за ее достижения. Однако в то же время они благоговели перед ее безжалостным стремлением к совершенству, ради которого, как они прекрасно знали, Китти пожертвует ими и всем остальным, что встанет у нее на пути. Ее характер, хотя и проявлявшийся нечасто, был беспощадным и язвительным; и когда она отдавала приказ – как бы тихо она ни говорила и какой бы нежной улыбкой его ни сопровождала, – они бросались исполнять его.
Шасу также тронули глубокие чувства, которые Китти питала к Африке, ее земле и людям.
– Я думала, Америка – прекраснейшая в мире страна, – тихо сказала она однажды вечером, когда они наблюдали, как солнце садится за огромные безлюдные горы Западной пустыни. – Но когда я вижу все это, я начинаю сомневаться.
Любопытство привело Китти даже в поселки, где жили рабочие, и она часами беседовала с ними и их женами, снимая все это на кинокамеру: свои вопросы и ответы черных шахтеров, белых мастеров и начальников смен, их дома и пищу, отдых и религиозные обряды. В конце концов Шаса спросил ее:
– Итак, вам нравится, как я угнетаю их?
– Они живут хорошо, – признала Китти.
– И они счастливы, – заметил Шаса. – Признайте и это. Я ничего от вас не скрывал. Они счастливы.
– Они счастливы как дети, – согласилась Китти. – Пока они смотрят на вас снизу вверх, как на большого папочку. Но как долго, по-вашему, вы сможете продолжать их дурачить? Сколько времени пройдет, прежде чем они посмотрят на вас в вашем прекрасном самолете, уносящем вас обратно в парламент, чтобы принять еще несколько законов, вынуждающих их повиноваться, и скажут себе: «Эй, приятель! Я тоже хочу такое попробовать!»
– За три сотни лет под белым правлением люди этой земли создали некую социальную ткань, что удерживает всех нас вместе. Это работает, и мне бы не хотелось видеть, как ее разрывают на части, не зная, что ее заменит.
– А как насчет демократии для начала? – предложила Китти. – Это неплохая штука, чтобы ею заменить то, что есть. Вы же знаете, воля большинства должна восторжествовать!
– Вы упустили основной момент, – тут же ответил он. – Интересы меньшинства должны быть защищены. В Африке это не работает. Африканцы знают и понимают один принцип: победитель получает все – и пусть меньшинство провалится к чертям! Вот что произойдет с белыми поселенцами в Кении, если британцы капитулируют перед убийцами Мау-Мау.
Так они спорили и ругались все долгие часы полета, одолевая бесконечные пространства африканского континента. От одного пункта к следующему Шаса и Китти улетали вперед на «моските», а шлем и кислородная маска, слишком большие для нее, заставляли девушку выглядеть еще моложе и совсем по-детски. Дэвид Абрахамс вел более медлительный и вместительный самолет компании «Де Хэвиленд», «Дав», перевозя съемочное оборудование и всю команду; и хотя основную часть времени на земле Шаса проводил, встречаясь с управляющими и персоналом администрации, все же у него оставалось достаточно часов, которые он мог посвятить соблазнению Китти Годольфин.
Шаса не привык к столь длительному сопротивлению какой-либо женщины, удостоившейся его внимания. Дамы могли символически убегать, но всегда жеманно оглядываясь через плечо, и обычно предпочитали спрятаться от него в ближайшей спальне, по рассеянности забывая повернуть ключ в замке, и он ожидал того же самого от Китти Годольфин.
Заглянуть в ее синие джинсы было его первоочередной задачей; убедить ее в том, что Африка отличается от Америки и что они здесь делают все как можно лучше, было делом второстепенным. К концу десятидневной поездки он не преуспел ни в том ни в другом. И политические убеждения Китти, и ее добродетель остались нетронутыми.
Интерес Китти к нему, хотя и весьма откровенный и сильный, оказался полностью объективным и профессиональным, и она оказывала точно такое же внимание какому-нибудь колдуну из племени овамбо, демонстрирующему, как он исцеляет рак брюшной полости с помощью припарок из помета дикобраза, или мускулистому и татуированному белому начальнику смены, который объяснял ей, что чернокожего рабочего никогда нельзя бить в живот, потому что их селезенка всегда увеличена от малярии и может легко разорваться, а вот по голове бить можно, потому что у африканцев очень крепкий череп и так вы не причините им серьезного вреда.
– Святая Мария! – выдыхала Китти. – Да одно это стоило всего путешествия!
И вот на одиннадцатый день их одиссеи они вылетели из бескрайних просторов пустыни Калахари, от далекого алмазного рудника Ха’ани, расположенного на мистической и задумчивой гряде холмов, в Виндхук, столицу старой немецкой колонии в Юго-Западной Африке, переданную Южной Африке по Версальскому договору. Это был своеобразный маленький город, и немецкое влияние до сих пор отражалось в архитектуре и образе жизни его обитателей. Город стоял на холмистом плоскогорье над приморскими землями, климат здесь был приятным, а отель «Кайзерхоф», где у Шасы имелся еще один постоянный номер, предлагал удобства, которых им не хватало в течение предыдущих десяти дней.
Шаса и Дэвид провели день со своими руководителями местного офиса компании Кортни – здешняя контора до перевода руководства в Йоханнесбург была главной, но по-прежнему отвечала за логистику для рудника Ха’ани. Китти и ее команда, не теряя ни минуты, снимали немецкие колониальные здания и монументы, фотографировали на улицах женщин гереро. В 1904 году это племя воинов втянуло немецкую администрацию в худшую из колониальных войн, и в результате восемьдесят тысяч из стотысячного племени гереро умерли от голода или погибли в сражениях. Это были высокие, величественные люди, их женщины носили длинные викторианские юбки самых ярких расцветок и высокие тюрбаны той же раскраски. Китти пришла от них в восторг и ближе к вечеру в тот день вернулась в отель в приподнятом настроении.
Шаса тщательно все спланировал и оставил Дэвида в офисе компании, чтобы тот завершил собрание. Он предполагал пригласить Китти и всю группу в сад отеля, где традиционный оркестр ум-па-па в коротких кожаных штанах и альпийских шляпах исполнял попурри из немецких застольных песен. Местное пиво «Ганза Пильзнер» было ничуть не хуже оригинального мюнхенского, оно обладало чистым золотистым цветом и густой кремовой пеной. Шаса заказал самые большие кружки, и Китти пила наравне со своими парнями.
Настроение царило праздничное, пока Шаса не отвел Китти в сторонку и под шум оркестра не сказал ей тихо:
– Не знаю, как и сообщить это вам, Китти, но сегодня наш последний вечер вместе. Я велел секретарю заказать вам билеты на коммерческий рейс, и вы с парнями завтра утром возвращаетесь в Йоханнесбург.
Китти ошеломленно уставилась на него:
– Не понимаю… Я думала, мы теперь полетим на вашу концессию в Sperrgebiet… – Она произнесла это как «Спиэрбит» – «Удар копья», со своим очаровательным акцентом. – Это же должно было стать главным моментом!
– Sperrgebiet означает «запретная территория», – с грустью пояснил Шаса. – И это в буквальном смысле запретные места, Китти. Никто не может попасть туда без разрешения правительственной инспекции шахт.
– Но я думала, вы добыли нам разрешение! – возразила Китти.
– Я пытался. Я отправил в местное отделение телекс с запросом. Но мне отказано. Боюсь, правительство не желает, чтобы вы оказались там.
– Но почему нет?
– Должно быть, там происходит нечто такое, чего вам не следует видеть или снимать. – Шаса пожал плечами.
Китти молчала, но Шаса видел, как на ее невинном личике отражаются яростные эмоции, как ее глаза пылают зеленым огнем гнева и решимости. Он уже успел узнать, что это безошибочно означает одно: запрет для Китти Годольфин делает что угодно неудержимо привлекательным. И понимал, что теперь она готова солгать, смошенничать или продать душу ради того, чтобы попасть в Sperrgebiet.
– Вы могли бы тайком провезти нас туда, – предположила она.
Шаса покачал головой:
– Не стоит рисковать. Мы можем выйти сухими из воды, конечно; но если меня поймают, это будет означать штраф в сто тысяч фунтов или пять лет в тюрьме.
Китти положила пальцы на его руку, впервые намеренно прикоснувшись к нему:
– Пожалуйста, Шаса! Я так хочу это заснять!
Он снова грустно покачал головой:
– Мне жаль, Китти, но, боюсь, это невозможно. – Он встал. – Мне нужно подняться к себе и переодеться к ужину. Можете сообщить о ситуации своим ребятам, пока меня не будет. Ваш рейс в Йоханнесбург – завтра в десять утра.
За ужином стало ясно, что она не предупредила съемочную группу об изменении планов, потому что парни по-прежнему были веселы и словоохотливы после немецкого пива.
На этот раз Китти не принимала участия в разговоре и угрюмо сидела в конце стола, без всякого интереса ковыряясь в обильных тевтонских блюдах и время от времени бросая на Шасу мрачный взгляд. Дэвид отказался от кофе, чтобы пойти и совершить ежевечерний телефонный звонок Мэтти и детям, а Хэнку и его команде рассказали о местном ночном заведении с горячей музыкой и еще более горячими подругами.
– Десять дней без женской компании, если не считать босса, – пожаловался Хэнк. – Мои нервы нуждаются в утешении.
– Не забывай, где находишься, – предостерег его Шаса. – В этой стране черный бархат – опасная игра.
– Некоторые из путан, что я видел сегодня, стоили бы пяти лет каторжного труда, – ухмыльнулся Хэнк.
– А ты знаешь, что у нас есть своя, южноафриканская версия русской рулетки? – спросил его Шаса. – Ты вызываешь цветную девицу в телефонную будку, а потом звонишь в полицейский отряд быстрого реагирования и смотришь, кто появится первым.
Не засмеялась только Китти, и Шаса встал:
– Мне нужно просмотреть кое-какие бумаги. Прибережем прощание до завтрака.
В своем номере он быстро побрился и принял душ, потом надел шелковый халат. Когда он подошел к бару, чтобы проверить, есть ли там лед, в дверь номера тихонько постучали.
На пороге с трагическим видом стояла Китти.
– Я вам не помешала?
– Нет, конечно. – Он придержал дверь, и Китти пересекла гостиную и встала, уставившись в окно.
– Могу я предложить вам выпить на ночь? – спросил Шаса.
– А что вы пьете? – спросила она.
– «Ржавый гвоздь».
– Пожалуй, глотну… чем бы это ни было.
Когда Шаса смешивал ликер «Драмбьию» с односолодовым виски, Китти сказала:
– Я пришла поблагодарить вас за все, что вы сделали для меня за эти десять дней. Трудно будет прощаться.
Шаса подошел с бокалами к ней, но Китти забрала у него оба бокала и поставила на кофейный столик. А потом приподнялась на цыпочки, обвила руками его шею и подставила лицо для поцелуя.
Губы у нее были мягкими и сладкими, как теплый шоколад, и она медленно просунула язычок в его рот. Когда наконец их рты разомкнулись с тихим влажным посасывающим звуком, Шаса наклонился, подхватил ее под колени и поднял, прижимая к груди. Она прильнула к нему, прижимаясь лицом к шее, пока он нес ее в спальню.
У Китти были узкие бедра и плоский мальчишеский живот, а ее ягодицы были белыми, круглыми и твердыми, как пара страусиных яиц. Тело, как и лицо, казалось детским и незрелым, кроме тугих маленьких, похожих на персики грудей и удивительно густых темных волос в нижней части живота, но когда Шаса прикоснулся к ним, то с удивлением обнаружил, что они тонкие, как шелк, и легкие, как дым.
Любовью она занималась искусно и как будто совершенно естественно и непринужденно. И комментировала то, что он с ней делал, в самых грубых выражениях, и непристойности, слетавшие с этих мягких, невинно выглядящих губ, оказались потрясающе эротичными. Китти вознесла его до таких высот, до каких он редко добирался прежде, и оставила полностью удовлетворенным.
В лучах рассвета она прижалась к Шасе и прошептала:
– Не знаю, как смогу вынести разлуку с тобой после этого.
Шаса видел ее лицо в настенном зеркале на другом конце комнаты, хотя она и не замечала его пристального взгляда.
– Черт побери… я не могу тебя отпустить, – прошептал он в ответ. – Мне плевать, чего это будет стоить, я возьму тебя с собой в Sperrgebiet.
В зеркале он наблюдал за ее самодовольной улыбочкой. Он не ошибся, Китти Годольфин использовала свою сексуальную благосклонность как козырную карту в бридже.
В аэропорту съемочная группа укладывала снаряжение в «Дав» под присмотром Дэвида Абрахамса, когда Шаса и Китти приехали во второй машине компании, и Китти выскочила из нее и направилась к Дэвиду.
– Как вы это устроите, Дэвид? – спросила она, и Дэвид ответил недоуменным взглядом.
– Не понял вопроса.
– У вас ведь есть фальшивый план полета, да? – настаивала Китти.
Ничего не понимая, Дэвид посмотрел на Шасу. Тот пожал плечами, и Китти разозлилась:
– Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Как вы скроете тот факт, что мы отправляемся в Srerrgebiet без разрешения?
– Без разрешения? – повторил Дэвид и вытащил из кармана кожаной летной куртки пачку бумаг. – Вот все разрешения. Они получены неделю назад – все законные и правильные.
Китти резко развернулась и, онемев, уставилась на Шасу, но он ушел от ее взгляда и направился к «москиту».
Они не разговаривали друг с другом, пока Шаса не поднял самолет на двадцать тысяч футов, ведя его прямо и уверенно, и лишь тогда Китти сказала ему в наушники:
– Ты сукин сын.
Ее голос дрожал от ярости.
– Китти, милая. – Он повернулся к ней и улыбнулся поверх кислородной маски; его единственный глаз весело блестел. – Мы оба получили то, что хотели, и здорово повеселились заодно. Так из-за чего ты злишься?
Она отвернулась и стала смотреть вниз, на великолепные желтовато-коричневые горы Хохланд в Каме. Шаса предоставил ей дуться. Несколько минут спустя он услышал в наушниках необычный звук, нахмурился и наклонился вперед, чтобы настроить радиоприемник. Потом краем глаза он заметил, что Китти съежилась в своем кресле и неудержимо дрожит, и этот дребезжащий звук исходит от нее.
Он коснулся ее плеча, и она повернулась к нему; ее лицо распухло и покраснело от сдавленного смеха и веселых слез, скопившихся в уголках ее глаз. Она не могла больше сдерживаться и громко фыркнула.
– Ты просто хитрый негодяй, – пробормотала она. – Коварное чудовище…
Дальше она уже не могла говорить – хохот одолел ее.
Долгое время спустя Китти вытерла слезы.
– Мы с тобой явно можем хорошо поладить, – заявила она. – Мыслим мы одинаково.
– Да и наши тела ничего не имеют против, – напомнил он, и Китти сняла кислородную маску и наклонилась к нему, снова подставляя губы. Ее язык был гибким и скользким, как угорь.
Их совместное пребывание в пустыне пролетело слишком быстро для Шасы, потому что с того момента, как они стали любовниками, он постоянно радовался, находясь рядом с Китти. Ее быстрый и любознательный ум подстегнул его собственный, и ее внимательными глазами он по-новому увидел давно знакомые вещи.
Они вместе наблюдали и снимали на видеокамеры гигантские желтые гусеничные тракторы, вскапывающие террасы, некогда бывшие дном океана. Шаса объяснял Китти, как в те времена, когда земная кора была мягкой и расплавленная магма все еще прорывалась на поверхность, алмазы, зародившиеся на огромных глубинах, при высокой температуре и давлении, выходили наверх вместе с сернистыми потоками.
Под бесконечными дождями тех древних времен огромные реки на своем пути к морю размывали землю, унося с собой алмазы, и те скапливались в карманах и искривлениях морского побережья вблизи от речного устья. Когда возникающий континент постепенно поднимался, прежнее морское дно оказывалось на поверхности. Реки давно пересохли или повернули в другую сторону, и террасы покрылись осадочными породами, скрыв скопления алмазов. Понадобился гений Твентимен-Джонса, чтобы вычислить старые речные русла. С помощью аэрофотосъемки и прирожденного шестого чувства он обнаружил древние террасы.
Китти и ее команда засняли, как лезвия бульдозеров ворочали песок и гальку, как все это просеивалось, а потом сушилось и продувалось огромными вентиляторами со множеством лопастей, пока не оставались лишь драгоценные камни – один на десятки тонн руды.
В барачном поселке, где не было кондиционеров, ночная жара мешала спать. Шаса соорудил из одеял гнездо среди дюн, и они, вдыхая легкий перечный аромат пустыни, занимались любовью в сиянии звезд.
В последний день Шаса взял один из джипов компании, и они поехали к красным дюнам, самым высоким в мире, созданным непрерывными ветрами со стороны холодного Бенгельского течения; их украшали гребни, как у рептилий, и они, изгибаясь, высоко поднимались в бледное пустынное небо.
Шаса показал Китти стадо сернобыков – каждая антилопа была крупной, как пони, но с изумительно раскрашенной черно-белой маской на морде и белыми рогами, прямыми и длинными, как у мифических единорогов. Это были прекрасные создания, настолько приспособленные к суровой жизни, что им даже не приходилось пить воду, а выживать они могли только за счет влаги, которую получали из серебристой, обожженной солнцем травы. Шаса и Китти наблюдали, как антилопы таинственным образом растворяются в жарком мираже, сначала превращаясь в черные точки на горизонте, а потом исчезают окончательно.
– Я родился здесь. Где-то в этой пустыне, – сказал Шаса, когда они с Китти стояли рука об руку на гребне одной из дюн и смотрели далеко вниз, туда, где между песчаными горами они оставили свой джип.
Он рассказал ей, как Сантэн носила его в своей утробе по этим страшным землям, заблудившаяся и покинутая, и лишь два маленьких бушмена были ее спутниками и проводниками, и как бушменка, именем которой назван рудник Ха’ани, взяла на себя роль акушерки, когда он рождался, и нарекла его Шаса – «Хорошая Вода» – в честь главной драгоценности ее мира.
Красота и величие окружающего повлияло на них обоих, они прижались друг к другу в этом уединении, и к концу того дня Шаса был уверен, что действительно любит ее и хочет провести с ней весь остаток жизни.
Вместе они наблюдали, как солнце опускается за красные дюны, а небо превращается в завесу горячей бронзы, кое-где отмеченной пятнышками синих облаков, похожих на вмятины от молота небесного кузнеца. По мере того как небо остывало, оно, как хамелеон, меняло цвета на багровый и оранжевый, потом на благородный пурпурный, но наконец солнце скрылось – и в то же мгновение случилось чудо.
Оба они задохнулись от изумления, когда в полной тишине все небеса вспыхнули электрическим зеленым светом. Он сиял всего несколько мгновений, но в это время небо стало зеленым, как океанские глубины или лед в расщелинах высокогорных ледников. Затем все погасло, сменившись тусклой серостью сумерек, и Китти повернулась к Шасе с безмолвным вопросом в глазах.
– Мы видели это вместе, – тихо произнес он. – Бушмены называют это Зеленым Питоном. Можно всю жизнь прожить в пустыне, так и не увидев такого. Я и сам не видел до этого момента.
– Что это значит? – спросила Китти.
– Бушмены говорят, что это самое великое из всех добрых предзнаменований. – Шаса взял Китти за руку. – Они говорят, что те, кто видел Зеленого Питона, получат особое благословение… а мы видели его вместе.
В угасающем свете они спустились по сыпучему склону дюны к машине. Они почти по колено проваливались в пушистый теплый песок и хохотали, цепляясь друг за друга.
Когда они добрались до джипа, Шаса сжал плечи Китти, повернул девушку лицом к себе и сказал:
– Я не хочу, чтобы это заканчивалось, Китти. Поедем со мной. Выходи за меня замуж. Я дам тебе все, что только может предложить жизнь.
Она запрокинула голову и рассмеялась ему в лицо.
– Не валяй дурака, Шаса Кортни! То, чего я хочу от жизни, ты не можешь мне дать, – ответила она. – Да, нам было весело, но это не настоящее. Мы можем быть хорошими друзьями так долго, как тебе захочется, но наши пути расходятся, мы идем в разных направлениях.
На следующий день, когда они приземлились в аэропорту Виндхука, Китти ждала телеграмма, приколотая к доске в комнате экипажа. Китти быстро прочитала ее. Когда она подняла взгляд, она уже не видела Шасу.
– Еще одна сенсация, – сказала она. – Надо ехать.
– Когда я снова тебя увижу? – спросил Шаса, и она посмотрела на него как на абсолютно незнакомого человека.
– Не знаю.
Спустя час она вместе со съемочной группой села на коммерческий рейс и улетела в Йоханнесбург.
Шаса был разгневан и унижен. Он никогда не предлагал развестись с Тарой ради другой женщины – даже не помышлял об этом, – а Китти посмеялась над ним. Существовало несколько испытанных способов, которые, как он знал, помогали исцелиться от гнева; одним из них была охота. Для Шасы переставал существовать весь мир, когда его кровь кипела охотничьей страстью, когда самец буйвола, огромный, как гора, и черный, как ад, с грохотом несся на него, и кровавая слюна капала с его морды, а полированные концы изогнутых рогов блестели, и в маленьких свиных глазках горела жажда убийства. Однако стоял дождливый сезон, и охотничьи земли на севере должны были стать мокрыми и малярийными, а трава уже выросла там выше человеческого роста. Он не мог сейчас поохотиться, поэтому обратился в другой проверенной панацее – гонке за богатством.
Деньги имели для Шасы бесконечное очарование. Без этой маниакальной тяги он не смог бы собрать их такое множество, потому что это требовало рвения и преданности, какими обладали немногие. А те, кому их не хватало, утешали себя старыми банальностями вроде того, что счастье не купишь и что деньги – корень всего зла. Однако Шаса, как эксперт, знал, что деньги не являются ни добром, ни злом, что они просто вне морали. Он знал, что у денег нет совести, но что они содержат в себе самый могучий потенциал как для добра, так и для зла. Именно человек, владеющий ими, мог сделать окончательный выбор между тем и другим, и этот выбор назывался властью.
Даже тогда, когда Шаса был уверен, что полностью поглощен Китти Годольфин, его инстинкты бодрствовали. Он почти бессознательно отмечал крохотные белые пятнышки на зелени Бенгельского течения. Китти Годольфин всего час назад исчезла из его жизни, а он уже ворвался в офис «Компании Кортни по разработкам месторождений и финансированию» на главной улице Виндхука и стал требовать предоставить ему цифры и документы, звонить по телефону, вызывая юристов и бухгалтеров, связываться с людьми из правительства, отправляя служащих на поиски в архивах бюро регистраций и местных газет, накапливая данные о торговле, факты, цифры, а потом радостно погружаясь во все это, как курильщик опиума проваливается в грезы.
Еще через пять дней он уже был готов свести все воедино и окончательно взвесить. Он постоянно держал рядом Дэвида Абрахамса, потому что Дэвид был прекрасным «отражателем», и в подобных ситуациях Шасе нравилось бросать ему идеи и ловить ответы.
– Итак, вот как это выглядит, – начал подводить итоги Шаса.
В зале совета директоров собрались пять человек, они сидели под великолепными фресками Якобуса Хендрика Пирнифа, приобретенными Сантэн, когда талант художника достиг расцвета, – Шаса и Дэвид, местный управляющий и секретарь компании, а также немецкий юрист из Виндхука, которому Шаса платил постоянный гонорар.
– Похоже на то, что мы спим на ходу. В последние три года некая индустрия расцвела прямо у нас под носом, прибыль которой только за последний год возросла на двадцать миллионов фунтов, что в четыре раза выше доходов от рудника Ха’ани, и мы это допустили.
Он сверкнул глазом циклопа на местного управляющего, ожидая объяснений.
– Мы знали о возрождении рыбного дела в заливе Уолфиш, – попытался найти оправдания неудачливый джентльмен. – Сообщение о лицензиях на вылов сардины было опубликовано в правительственном бюллетене, но я не думал, что рыбная ловля может сочетаться с другими видами нашей деятельности.
– При всем уважении, Фрэнк, такого рода решения я предпочитаю принимать сам. А твоя работа – сообщать мне всю информацию любого характера.
Это было сказано негромко, но трое местных служащих не поддались иллюзии относительно суровости выговора и склонились над своими блокнотами. Десять секунд царило молчание, пока Шаса заставлял их терзаться.
– Ладно, Фрэнк, – приказал наконец Шаса, – доложи, что ты должен был сказать еще четыре или пять лет назад.
– Хорошо, мистер Кортни, рыболовная индустрия в заливе Уолфиш началась в начале тридцатых годов, и, хотя поначалу она была успешной, Великая депрессия ее погубила, поскольку с примитивными способами ловли с траулеров она не смогла выжить. Фабрики закрылись и стояли заброшенные.
Пока Фрэнк говорил, мысли Шасы вернулись к его детству. Он помнил свою первую поездку к заливу Уолфиш и даже моргнул, осознав, что это было уже двадцать лет назад. Они с Сантэн поехали в ее желтом, как нарцисс, «Даймлере», чтобы востребовать ссуду, которую она дала рыболовной компании де ла Рея, и закрыть его фабрику. Это были отчаянные годы Великой депрессии, когда компания Кортни сама едва выжила, и то лишь благодаря мужеству и решительности его матери – и ее безжалостности.
Он помнил, как Лотар де ла Рей, отец Манфреда, умолял мать Шасы отсрочить выплату ссуды. И как траулеры де ла Рея стояли у причала, нагруженные до планшира серебристыми сардинами, и как судебный исполнитель по приказу Сантэн опечатал двери фабрики.
В тот день он впервые встретился с Манфредом де ла Реем. Манфред был босоногим парнем с коротко остриженной головой, крупнее и сильнее Шасы, дочерна загоревшим на солнце, одетым в синий рыбацкий свитер и шорты цвета хаки, облепленные сохнущей рыбьей чешуей, а Шаса носил сшитые на заказ серые просторные брюки, белую рубашку с открытым воротом и джемпер колледжа, на ногах начищенные черные ботинки.
Мальчики из разных миров, они столкнулись на главном причале, и между ними мгновенно вспыхнула враждебность, они взъерошились, как псы, и через несколько минут насмешки и оскорбления переросли в драку, они яростно набросились друг на друга, молотя кулаками и катаясь по причалу, а цветные рыбаки весело подзадоривали их. Светлые бешеные глаза Манфреда де ла Рея впивались в глаза Шасы, когда они оба рухнули с причала прямо в скользкую вонючую гору сардин, и Шаса снова испытал то же ужасающее унижение, когда Манфред сунул его голову в трясину холодной мертвой рыбы, и он начал тонуть в их болоте.
Шаса заставил себя вернуться мыслями к настоящему как раз вовремя, чтобы услышать, как его менеджер говорит:
– Итак, сейчас положение дел таково, что правительство выдало четыре лицензии на ловлю и обработку сардины в заливе Уолфиш. Рыболовный департамент дает определенную ежегодную квоту на вылов каждому из держателей лицензии, и в настоящий момент это двести тысяч тонн.
Шаса прикинул, какова может быть потенциальная прибыль от вылова такого количества рыбы. Согласно опубликованным отчетам, каждая из четырех таких фабрик получила в среднем два миллиона фунтов прибыли за последний год. Шаса знал, что мог бы увеличить эту сумму, возможно, даже удвоить, но, похоже, он не получит подобного шанса.
– Обращения как в рыболовный департамент, так и в более высокие инстанции… – продолжал менеджер.
Шаса уже успел пригласить на ужин администратора территории.
– …позволили выяснить тот факт, что новых лицензий выдано не будет. И единственный способ войти в это дело – выкупить одну из уже проданных лицензий.
Шаса сардонически улыбнулся, потому что уже успел встретиться с владельцами двух из четырех компаний. Первый в весьма выразительных терминах предложил Шасе совершить противоестественный половой акт с самим собой, а второй просто озвучил сумму, за которую он мог бы продать свое дело, – она заканчивалась цепочкой нулей, тянувшихся до горизонта. Несмотря на мрачное выражение лица Шасы, это была одна из тех ситуаций, с виду безнадежных, которыми он наслаждался, ведь она обещала гигантское вознаграждение, если бы он сумел найти способ обойти препятствия.
– Мне нужен подробный отчет о финансовом положении всех четырех компаний, – приказал он. – Кто-нибудь знаком с директором рыболовного департамента?
– Да, но к нему не подобраться, – предупредил его Фрэнк, знавший, как работает ум Шасы. – Он упрям, а если мы попытаемся подкупить его каким-нибудь подарочком, он поднимет такую вонь, что ее почуют в Высшем суде в Блумфонтейне.
– Кроме того, выдача этих лицензий находится вне его юрисдикции, – согласился с ним секретарь компании. – Их выдает исключительно министерство в Претории, и новых не будет. Четыре – это предел. Так решил сам министр.
Шаса еще пять дней оставался в Виндхуке, изучая все возможности и шансы с полным вниманием к деталям, что и было одной из его сильных сторон. Но в итоге оказался не ближе к обладанию одной из лицензий на вылов и переработку рыбы в заливе Уолфиш, чем в тот момент, когда он впервые заметил маленькие белые траулеры в зеленом океане. Единственное, чего он достиг, так это полное забвение десяти дней, проведенных со злобным эльфом Китти Годольфин.
Однако, когда он наконец признался себе, что больше ничего не добьется, оставаясь в Виндхуке, и забрался в кресло пилота «москита», воспоминания о Китти Годольфин вновь начали дразнить его с пустого места рядом. Повинуясь импульсу, вместо того чтобы лететь прямиком в Кейптаун, он повернул на запад, к побережью залива Уолфиш, решив еще раз взглянуть на те места, прежде чем окончательно отказаться от идеи.
Было кое-что еще, кроме воспоминаний о Китти, что беспокоило его, когда «москит» снижался. Это были сомнения, какое-то тревожное ощущение, что он в своих исследованиях упустил нечто важное.
Шаса увидел впереди океан, украшенный завитками тумана там, где холодное течение задевало сушу. Высокие дюны сплетались, как гнездо медно-желтых гадюк с острыми как бритвы спинами, и он направил самолет вдоль бесконечных пляжей, на которые белой линией набегал прибой; наконец Шаса увидел мыс, выдававшийся в беспокойный океан, и маяк Пеликан-Пойнт, подмигивавший пилоту сквозь туман.
Он сбросил скорость и пошел вниз, минуя полосы тумана, и наконец увидел рыболовный флот. Суда находились недалеко от берега, на краю широкого течения. На некоторых траулерах сети были уже полны, и Шаса увидел серебристое сокровище, поблескивающее сквозь воду, когда рыбаки медленно тянули их к поверхности, в то время как над ними кружило огромное количество морских птиц, жаждущих пира.
Потом, в миле отсюда, Шаса заметил еще одно судно – оно вздымало пенные арабески, гонясь за другим косяком сардин.
Шаса выпустил закрылки и резко повернул «москит» к траулеру, чтобы взглянуть, какова его добыча. Он увидел сардин, темную тень, как будто в зеленые воды вылили тысячу галлонов чернил, и был изумлен размерами косяка, сотней акров отличной рыбы, каждая особь не длиннее его ладони, но перед их множеством Левиафан показался бы карликом.
– Миллионы тонн в одном косяке, – прошептал Шаса.
Когда он перевел это в цифры, страстная жажда обладания снова вспыхнула в нем. Он понаблюдал, как траулер под ним бросает сеть вокруг крохотной частицы гигантского косяка, а потом, выровнявшись, поднялся на сотню футов и, огибая туманный берег, устремился в глубину залива.
Там стояли четыре фабричных здания, у самой воды, каждое со своим причалом, выдающимся в мелкие воды, а над трубами клубился черный дым печей.
«Какая же из них принадлежала старому де ла Рею?» – гадал Шаса.
Где та самая, возле которой он схватился с Манфредом и закончил тем, что его нос и рот оказались забиты рыбьей слизью? Шаса невесело усмехнулся при этом воспоминании.
«Она наверняка севернее, – озадаченно думал он, пытаясь мысленно вернуться на двадцать лет назад. – Она не стояла так близко к изгибу залива».
Он снова развернулся и полетел обратно параллельно пляжу, и вот в миле перед собой увидел сгнившие и почерневшие сваи, неровной линией уходящие в воду, а на берегу – руины старой фабрики с провалившейся крышей.
– Она все еще здесь…
Тут же по коже Шасы от возбуждения побежали мурашки.
«Она все еще здесь, брошенная и забытая на все эти годы…»
Теперь он понял, что именно упустил из вида.
Шаса сделал два круга, так низко, что его пропеллеры поднимали миниатюрные песчаные бури на вершинах дюн. На обращенной к морю стене заброшенной фабрики, железную обшивку которой покрывали красные полосы ржавчины, до сих пор можно было различить поблекшую надпись: «ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ РЫБОЛОВСТВА И КОНСЕРВИРОВАНИЯ, ЛТД».
Шаса плавно повернул нос «москита» вверх и направил самолет в пологий вираж, а затем вывел его из поворота курсом на Виндхук. Кейптаун и его обещание сыновьям и Изабелле вернуться домой к выходным были забыты. Дэвид Абрахамс этим утром улетел на «Даве» в Йоханнесбург, за несколько минут до Шасы, так что в Виндхуке не осталось никого, кому Шаса мог бы доверить поиски. Он сам отправился в бюро регистраций актов и за час до того, как бюро закрылось на выходные, нашел то, что искал.
Лицензия на ловлю и переработку сардины и прочей морской рыбы была датирована 20 сентября 1929 года и подписана администратором территории. Она была выдана на имя Лотара де ла Рея из Виндхука и не имела срока действия. Она была действительна и сейчас, и вечно.
Шаса погладил шуршащий пожелтевший документ, нежно расправляя складки бумаги, любуясь алыми государственными печатями и поблекшей подписью администратора. Здесь, в этих пыльных ящиках, лицензия пролежала около двадцати лет – и Шаса попытался оценить стоимость этого клочка бумаги. Миллион фунтов наверняка – а возможно, и пять миллионов. Он торжествующе усмехнулся и отнес документ клерку, чтобы сделать нотариально заверенную копию.
– Это обойдется вам недешево, сэр, – фыркнул клерк. – Десять шиллингов и шесть пенсов за копию и два фунта за засвидетельствование документа.
– Дороговато, – согласился Шаса. – Но я могу себе это позволить.
Лотар де ла Рей прыгал по влажным черным камням, как горный козел, босой, одетый лишь в черные шерстяные плавки. В одной руке он нес легкую рыболовную удочку, в другой держал леску, на конце которой трепыхалась маленькая серебристая рыбешка.
– Я поймал одну, папа! – взволнованно закричал он, и Манфред де ла Рей встрепенулся.
Мужчина полностью ушел в свои мысли; даже сейчас, в один из его редких выходных, его ум был все так же сосредоточен на министерских делах.
– Неплохо, Лоти!
Он встал и поднял тяжелое бамбуковое удилище, что лежало рядом с ним. И наблюдал за сыном, пока тот осторожно снимал с крючка рыбку для наживки и протягивал ее отцу. Манфред взял рыбешку. Она была холодной, плотной и скользкой, а когда он проткнул острым концом большого крючка ее плоть, крошечный спинной плавник вздыбился, и рыбка отчаянно забилась.
– Что ж, ни один старый коб перед такой не устоит. – Манфред поднял живую наживку, чтобы сын полюбовался. – Выглядит так аппетитно, что я и сам бы ее съел.
Он взялся за тяжелое удилище.
С минуту он наблюдал, как прибой разбивается о камни под ними, а потом, выбрав подходящий момент, подбежал к краю воды, двигаясь удивительно легко для такого крупного человека. Пена охватила его лодыжки, когда он надежно встал и широко взмахнул удилищем. Живая наживка сверкнула, промчавшись по параболе под солнцем, и тут же ударилась о зеленую воду в сотне ярдов от рыбака, за первой линией бурунов.
Манфред отступил, когда следующая волна ринулась на него. Держа удилище на плече, пока леска продолжала разматываться с большой катушки «Скарборо», он выбрался из сердитого белого прибоя и вернулся на свое место высоко на камнях.
Он воткнул удилище в щель между камнями и прижал свою старую, покрытую пятнами шляпу к катушке, чтобы остановить ее. А потом уселся на подушке, прислонившись спиной к скале, а сын пристроился рядом с ним.
– Хорошая вода для кобов, – проворчал Манфред.
Море было бесцветным и мутноватым, как домашнее имбирное пиво, – идеальные условия для той добычи, которую они искали.
– Я обещал маме, что мы принесем ей рыбу для маринада, – сообщил Лотар.
– Никогда не считай своих кобов, пока они не окажутся в бочке с уксусом, – посоветовал Манфред, и мальчик засмеялся.
Манфред никогда не прикасался к сыну на глазах у других, даже перед его матерью и сестрами, но он помнил огромное удовольствие, которое чувствовал в возрасте Лотара при отцовских объятиях, поэтому в такие моменты, когда они оставались наедине, он позволял проявиться своим истинным чувствам. Он неторопливо протянул руку и опустил ее на плечи сына, и Лотар застыл от радости, с минуту даже боясь дышать. Потом он медленно придвинулся к отцу, и они молча наблюдали за концом длинного удилища, кивавшего в ритме океана.
– Так что, Лоти, ты уже решил, чем хочешь заняться, когда окончишь школу Пола Рооса?
Это была лучшая средняя школа в Капской провинции, чем-то вроде Итона или Харроу для африканеров.
– Па, я тут подумал, – серьезно заговорил Лотар. – Я не хочу быть юристом, как ты, а медицина кажется мне слишком трудной.
Манфред уступчиво кивнул. Он уже смирился с мыслью, что Лотар не блещет в учебе, а просто хороший средний ученик. Но он преуспевал во многом другом. Уже было ясно, что его сила заключается в умении быть лидером, в решительности и храбрости, и он обладал исключительными спортивными талантами.
– Я хочу пойти в полицию, – неуверенно произнес мальчик. – Когда я окончу школу, мне хочется поступить в полицейскую академию в Претории.
Манфред сидел молча, стараясь скрыть свое удивление. О таком он сам, пожалуй, подумал бы в последнюю очередь.
Наконец он сказал:
– Ja, почему бы и нет? Ты будешь там хорошо учиться. – Он кивнул. – Это хорошая жизнь, посвященная служению твоей стране и твоему народу.
Чем больше Манфред думал об этом, тем сильнее осознавал, что Лотар сделал блестящий выбор, – и, конечно, тот факт, что его отец министр полиции, совсем не повредит карьере мальчика. Он надеялся, что сын не передумает.
– Ja, – повторил он. – Мне это нравится.
– Па, я хотел спросить… – начал Лотар, но тут конец удочки резко дернулся, потом выпрямился, а затем сильно изогнулся.
Старая шляпа Манфреда слетела с катушки спиннинга, когда леска стала с шипением разматываться.
Отец и сын вскочили, а Манфред схватил бамбуковое удилище и отклонился назад, натягивая леску.
– Да это чудище! – воскликнул он, почувствовав вес рыбины.
Катушка продолжала разматываться, хотя Манфред уже прижимал ее рукой в старой кожаной перчатке. Через несколько секунд от перчатки стал подниматься голубой дымок.
Когда казалось, что на веретене катушки осталось всего несколько витков лески, рыба остановилась, и в двухстах ярдах где-то там, под мутноватой серой водой, начала трясти головой так, что толстый конец удилища заколотил в живот Манфреда.
Лотар подпрыгивал рядом, подбадривая отца криками и советами, а Манфред начал вываживать рыбу, понемногу наматывая леску на катушку, пока та почти не заполнилась снова, и он уже ожидал увидеть бьющуюся добычу в прибое за камнями. Потом рыба внезапно снова рванулась прочь, и ему пришлось заново начать напряженно и кропотливо сматывать леску.
Наконец они увидели ее глубоко в воде под камнями – бок рыбины блестел, как огромное зеркало, когда на него падал солнечный свет. Удилище сгибалось, словно большой лук, когда Манфред тянул рыбу вверх, пока та тяжеловесно не заколыхалась, раскачиваясь взад-вперед под напором волн, сверкая радужными оттенками розового и жемчужного, и ее огромные челюсти не начали судорожно разеваться от утомления.
– Острога! – закричал Манфред. – Скорее, Лоти, скорей!
Мальчик спрыгнул к краю воды с длинным шестом в руках и вонзил острие остроги в бок рыбы, сразу за жабрами. Пятно крови окрасило воду, и тут же Манфред бросил удилище и поспешил помочь Лотару управиться с острогой.
Вдвоем они вытащили рыбину, бьющуюся и дергающуюся, на камни над высокой линией прибоя.
– Да она весит сотню фунтов, не меньше! – восторгался Лотар. – Мама и девочки будут ее мариновать до полуночи!
Лотар понес удочки и ящик с рыболовными принадлежностями, а Манфред перекинул рыбину через плечо, пропустив через ее жабры короткую веревку, и они направились обратно по изгибу белого пляжа. На камнях следующего мыса Манфред опустил рыбу на землю, чтобы несколько минут передохнуть. Когда-то он был олимпийским чемпионом среди боксеров в полутяжелом весе, но с тех пор слегка раздобрел, его живот стал мягким и выпуклым, а дыхание – коротким.
«Слишком много времени провожу за письменным столом», – уныло подумал он, садясь на черный валун. Вытирая с лица пот, он огляделся по сторонам.
Это место всегда доставляло ему удовольствие. И его огорчало, что в своей напряженной жизни он мог выкроить так мало времени, чтобы приезжать сюда. В давние студенческие дни они с Рольфом Стандером, его лучшим другом, ловили рыбу и охотились на этом диком нетронутом участке побережья. Оно принадлежало семье Рольфа уже в течение ста лет, и Рольф никогда не продал бы ни кусочка этой земли никому, кроме Манфреда.
В конце концов он продал Манфреду сто акров за один фунт.
– Я не хочу богатеть за счет старого друга, – засмеялся он, когда Манфред предложил ему тысячу. – Давай только внесем в договор купли-продажи условие, что я имею преимущественное право выкупить эту землю обратно за ту же цену в случае твоей смерти или когда ты захочешь ее продать.
За мысом, на котором только что сидели отец и сын, стоял коттедж, построенный им с Хейди, с белыми оштукатуренными стенами и тростниковой крышей, – единственный признак человеческого присутствия. А принадлежавший Рольфу домик для отдыха прятался за следующим мысом, но туда легко можно было дойти пешком, чтобы собраться всем вместе, когда обе семьи могли отдохнуть одновременно.
Здесь таилось так много воспоминаний! Манфред посмотрел на море. Именно здесь поднялась на поверхность немецкая подводная лодка, когда привезла его сюда в начале войны. Рольф ждал его на пляже и вышел в море на гребной шлюпке, чтобы доставить Манфреда и его снаряжение на берег. Это были безумно волнующие дни, дни опасности и сражений, когда они старались поднять африканеров на восстание против любителя англичан Яна Кристиана Смэтса, надеясь провозгласить Южную Африку республикой под протекторатом нацистской Германии… и ведь они были так близки к успеху!
Манфред улыбнулся, и его глаза засветились при этих воспоминаниях. Ему хотелось бы рассказать обо всем сыну. Лоти понял бы его. Несмотря на юный возраст, он понял бы мечту африканеров о республике и гордился бы ею. Однако эта история должна была навсегда остаться в тайне. Попытка Манфреда убить Яна Смэтса и тем самым дать сигнал к восстанию провалилась. Манфред был вынужден бежать из страны и до завершения войны томиться в безделье в дальних краях, в то время как Рольфа и других патриотов заклеймили как предателей и бросили в концлагеря, униженных и оскорбленных, и они оставались там, пока война не закончилась.
Как все изменилось с тех пор! Теперь они хозяева этой земли, хотя никто, кроме самого узкого круга, не знал о той роли, которую Манфред де ла Рей сыграл в те опасные годы. Они были хозяевами, и мечта о республике снова ярко разгорелась, как пламя на алтаре стремлений африканеров.
Мысли Манфреда прервал рев низко летящего самолета, и он поднял голову. Это была элегантная серебристо-голубая машина, которая резко разворачивалась к аэродрому, находившемуся сразу за первой грядой холмов. Этот аэродром был построен департаментом общественных работ, когда Манфред получил министерское кресло. Было очень важно, чтобы Манфред всегда оставался доступным для своего министерства, а с этого поля самолет мог забрать его за несколько часов, если бы вдруг срочно понадобилось его присутствие.
Манфред узнал этот самолет и знал, кто его ведет, но с досадой нахмурился, вставая и снова поднимая огромную тушу рыбы. Он ценил уединенность этих мест и яростно сопротивлялся любым нежданным вторжениям. Они с Лотаром начали последний длинный переход к их коттеджу.
Хейди и девочки увидели их издали и побежали по дюнам им навстречу, а затем окружили Манфреда, смеясь и выкрикивая поздравления. Он тяжело шагал по мягкому песку, а девочки вприпрыжку бежали рядом, и наконец он повесил рыбу на деревянную стойку у кухонной двери. Пока Хейди ходила в дом за своей камерой «Кодак», Манфред снял рубашку, перепачканную рыбьей кровью, и наклонился к крану цистерны с дождевой водой, чтобы смыть кровь с рук и соль с лица.
Когда он снова выпрямился, вода капала с его волос и стекала с обнаженной груди – и тут он внезапно заметил присутствие постороннего.
– Дай полотенце, Руда, – рыкнул он.
Старшая дочь помчалась исполнять его приказ.
– Я вас не ожидал. – Манфред сердито уставился на Шасу Кортни. – Мы с семьей предпочитаем находиться здесь одни.
– Простите. Я понимаю, что вторгся некстати. – Ботинки Шасы были покрыты пылью. Посадочная полоса располагалась в целой миле от коттеджа. – Уверен, вы поймете, когда я объясню, что мое дело безотлагательное и личное.
Манфред вытер лицо полотенцем, стараясь скрыть раздражение, а потом, когда Хейди вышла с фотоаппаратом в руке, неохотно представил ее.
За несколько минут Шаса очаровал и Хейди, и девочек, они заулыбались, но Лотар стоял за спиной отца и лишь неохотно вышел вперед, чтобы пожать руку нежданному гостю. Он научился у отца с подозрением относиться к англичанам.
– Какой потрясающий коб! – восхитился Шаса рыбой на стойке. – Я за много лет такого огромного не видел! Да они и дорастают до таких размеров редко. Где вы его поймали?
Шаса настоял на том, чтобы сфотографировать всю семью рядом с рыбиной. Манфред все еще не надел рубашку, и Шаса заметил старый синеватый сморщенный шрам сбоку на его груди. Шрам походил на след от огнестрельного ранения, но ведь была война, так что многие мужчины теперь носили шрамы. Подумав о военных ранах, Шаса бессознательно поправил повязку на собственном глазу, возвращая фотоаппарат Хейди.
– Вы останетесь на обед, минхеер? – сдержанно спросила она.
– Мне не хотелось бы досаждать вам.
– Мы рады вам.
Хейди была красивой женщиной с большой высокой грудью и широкими полными бедрами. У нее были густые золотисто-русые волосы, и она заплетала их в толстую косу, свисавшую почти до талии… но тут Шаса заметил выражение лица Манфреда де ла Рея и быстро сосредоточил внимание на нем.
– Моя жена права. Добро пожаловать. – Прирожденное гостеприимство африканера не оставило Манфреду выбора. – Идемте, посидим на передней веранде, пока женщины не позовут нас к столу.
Манфред достал из ящика со льдом две бутылки пива, и они рядом уселись в шезлонгах, глядя поверх дюн на колеблемую ветром синеву Индийского океана.
– Вы ведь помните, где мы с вами впервые встретились? – нарушил молчание Шаса.
– Ja, – кивнул Манфред. – Отлично помню.
– Я побывал там два дня назад.
– Залив Уолфиш?
– Да. У той рыбной фабрики и причала, где мы подрались… – Шаса слегка замялся. – И где вы поколотили меня и сунули головой в гору дохлой рыбы.
Манфред удовлетворенно усмехнулся при этом воспоминании:
– Ja, я помню.
Шаса старательно держал себя в руках. Те события до сих пор мучили его, а самодовольство этого человека выводило из себя, но зато воспоминание о детской победе смягчило настроение Манфреда, как и рассчитывал Шаса.
– Странно, что тогда мы были врагами, а теперь стали союзниками, – продолжил Шаса и позволил Манфреду немножко подумать об этом, прежде чем снова заговорил. – Я самым тщательным образом обдумал ваше предложение. Хотя нелегко поменять сторону и многие люди начнут строить худшие предположения о моих мотивах, теперь я вижу, что мой долг перед страной – сделать то, что вы предлагаете, и применить мой талант на благо нации.
– Значит, вы примете предложение премьер-министра?
– Да, вы можете сказать ему, что я войду в правительство, но в свое время и своим путем. Я не стану просто менять место в парламенте, но, когда парламент будет распущен в связи с предстоящими выборами, я откажусь от членства в своей партии и буду баллотироваться от Национальной.
– Хорошо, – кивнул Манфред. – Благородный путь.
Ничего благородного в этом пути не было, и Шаса прекрасно это понимал, так что снова немного помолчал.
– Я благодарен вам за участие в этом деле, минхеер. Я знаю, что вы немало посодействовали в том, чтобы я получил эту возможность. Учитывая то, что произошло между нашими семьями, это необычайный жест.
– В моем решении не было ничего личного. – Манфред покачал головой. – Это просто возможность получить наилучшего человека для определенной работы. Я не забыл, что ваша семья сделала с моей… и никогда не забуду.
– Я тоже не забуду, – тихо произнес Шаса. – Я унаследовал чувство вины… справедливо это или нет, – я никогда не буду знать точно. Однако мне хотелось бы предложить вашему отцу некоторое возмещение.
– Как бы вы это сделали, минхеер? – напряженно и сухо спросил Манфред. – Как бы вы могли компенсировать человеку потерю руки и годы, проведенные в тюрьме? Как бы вы заплатили человеку за искалеченную этой тюрьмой душу?
– Этого мне никогда не компенсировать полностью, – согласился Шаса. – Однако я внезапно и совершенно неожиданно получил возможность вернуть вашему отцу бо`льшую часть того, что было отобрано у него.
– Продолжайте, – предложил Манфред. – Я слушаю.
– Ваш отец получил рыболовную лицензию в двадцать девятом году. Я поискал ее в бюро регистраций. Она до сих пор действительна.
– Что теперь делать с этой лицензией старому человеку? Вы не понимаете – он и физически, и душевно искалечен.
– Рыболовная индустрия в заливе Уолфиш сейчас ожила и процветает. А количество лицензий строго ограниченно. Лицензия вашего отца стоит больших денег.
Он заметил, как что-то мелькнуло в глазах Манфреда, маленькая искра интереса, тут же спрятанная.
– Вы думаете, отцу следует ее продать? – сухо спросил он. – А вы, случайно, не заинтересованы в том, чтобы ее купить? – Он саркастически улыбнулся.
Шаса кивнул:
– Да, конечно, мне хотелось бы ее купить, но, возможно, это не стало бы наилучшим вариантом для вашего отца.
Улыбка Манфреда погасла, он такого не ожидал.
– А что еще он мог бы с ней сделать?
– Мы могли бы снова открыть фабрику и работать по этой лицензии вместе, как партнеры. Ваш отец вкладывает лицензию, а я вкладываю капитал и мои деловые навыки. Через год или два доля вашего отца почти наверняка будет стоить миллион фунтов.
Шаса, говоря это, внимательно наблюдал за Манфредом. Это было больше, гораздо больше, чем деловое предложение. Это было проверкой. Шаса хотел пробиться сквозь гранитную броню этого человека, эту монументальную кольчугу пуританской праведности. Он хотел нащупать слабые места, найти несколько ненадежных звеньев, которые он мог бы использовать позже.
– Миллион фунтов, – повторил он. – Возможно, даже намного больше.
И он снова заметил в светло-огненных глазах этого человека искры, вспыхнувшие всего на мгновение, маленькие желтые искорки жадности. В конце концов этот мужчина оказался просто человеком.
«Теперь я смогу с ним договориться», – подумал Шаса и, чтобы спрятать облегчение, поднял стоявший рядом с ним на полу портфель и открыл его у себя на коленях.
– Я составил примерное соглашение. – Он достал пачку печатных листов. – Вы могли бы показать его отцу, обсудить все с ним.
Манфред взял листы.
– Ja, я с ним повидаюсь, когда вернусь домой на следующей неделе.
– Тут есть одна небольшая проблема, – признался Шаса. – Лицензия была выдана очень давно. Правительственный департамент может ее не признать. Их политика – позволить всего четыре лицензии…
Манфред поднял взгляд от документов.
– С этим проблем не будет, – сказал он.
Шаса поднес к губам кружку с пивом, скрывая улыбку.
Они только что разделили их первый секрет. Манфред де ла Рей собирался использовать свое влияние в личных целях. Как и при потере девственности, в следующий раз будет легче.
Шаса с самого начала осознавал, что будет в кабинете националистов-африканеров аутсайдером. Он отчаянно нуждался в надежном союзнике среди них, а если этот союзник будет связан с ним финансово и еще какими-нибудь нечистыми тайнами, то это закрепит его лояльность и обеспечит Шасе безопасность. Только что Шаса этого достиг, и он пообещал себе добиться огромной прибыли, чтобы подсластить сделку. «Хорошая работа для одного дня», – подумал он, со щелчком закрывая замочек портфеля.
– Очень хорошо, минхеер. Я благодарен вам за то, что уделили мне время. А теперь оставлю вас наслаждаться без помех остатками выходных.
Манфред поднял голову:
– Минхеер, моя жена готовит для нас обед. Она расстроится, если вы уйдете так скоро. – На этот раз его улыбка была дружелюбной. – А вечером я жду в гости хороших друзей на браавлейс, барбекю. У нас много свободных спален. Оставайтесь на ночь. Вы можете улететь завтра, рано утром.
– Вы очень добры.
Шаса откинулся на спинку шезлонга. Между ними что-то изменилось, но интуиция предостерегала Шасу, что в их отношениях остаются тайные глубины, до которых еще предстоит докопаться; и когда он улыбнулся, глядя в топазовые глаза Манфреда де ла Рея, он вдруг ощутил легкий холодок, леденящий порыв ветра сквозь щель воспоминаний. Эти глаза преследовали его. Он пытался что-то вспомнить. Нечто, остающееся затуманенным, но каким-то странно угрожающим. Он гадал, могло ли это исходить из их детской драки. Но нет, он так не думал. Это было нечто другое, ближе по времени и более опасное. Он уже почти поймал это, но тут Манфред снова уставился в контракт, как будто ощутив, что именно ищет в памяти Шаса, и тень ускользнула прежде, чем Шаса успел ее ухватить.
Хейди де ла Рей вышла на веранду в фартуке, но она сменила поблекшую старую юбку и уложила косу на макушке головы.
– Обед готов – и я очень надеюсь, минхеер Кортни, что вы едите рыбу.
За обедом Шаса постарался очаровать всю семью. С Хейди и девочками это было легко. А вот юный Лотар был другим, подозрительным и замкнутым. Однако у Шасы имелись трое собственных сыновей, так что он принялся рассказывать истории о полетах и охоте на крупную дичь, пока наконец глаза мальчика не засияли любопытством и восхищением вопреки его собственной воле.
Когда они встали из-за стола, Манфред нехотя кивнул:
– Ja, минхеер, я должен помнить, что вас никогда нельзя недооценивать.
Этим вечером небольшая компания, состоявшая из мужчины, женщины и четверых детей, пришла через дюны с юга, и дети Манфреда бросились им навстречу и повели на веранду.
Шаса держался в сторонке во время шумной встречи двух семей. Они явно находились в давних близких отношениях друг с другом.
Конечно, Шаса узнал главу второй семьи. Это был крупный мужчина, даже более мощно сложенный, чем Манфред де ла Рей. Он тоже был членом команды боксеров на берлинских Олимпийских играх 1936 года. Потом он работал преподавателем права с университете Стелленбоса, но недавно ушел в отставку, чтобы превратиться в младшего партнера фирмы «Ван Шур, де ла Рей и Стандер», в которой Манфред де ла Рей стал старшим партнером после смерти старого ван Шура несколько лет назад.
Кроме юридической практики, Рольф Стандер выступал главным организатором партии Манфреда и руководил предвыборной кампанией Манфреда в 1948 году. Хотя он сам не был членом парламента, он представлял важную фигуру в Национальной партии, и Шаса знал, что он почти наверняка был и членом Брудербонда, Братства, тайного общества элиты африканеров.
Когда Манфред де ла Рей начал представлять их друг другу, Шаса увидел, что Рольф Стандер узнал его и слегка растерялся.
– Надеюсь, вы не начнете снова забрасывать меня яйцами, минхеер Стандер, – поддразнил его Шаса, и Рольф усмехнулся:
– Только если вы произнесете еще одну дурную речь, минхеер Кортни.
В ходе выборов 1948 года, когда Шаса проиграл Манфреду де ла Рею, этот человек организовал настоящую банду хулиганов, которые срывали встречи Шасы с избирателями. И хотя сейчас Шаса улыбался, он ощущал столь же сильное негодование, как в то время. Но это было стандартной тактикой националистов – срывать митинги оппонентов.
Манфред де ла Рей почувствовал враждебность между ними.
– Скоро мы окажемся на одной стороне, – сказал он, умиротворяюще вставая между ними и кладя руки им на плечи. – Давайте-ка я найду для вас пиво, и мы все выпьем за то, чтобы прошлое оставить в прошлом.
Мужчины отвернулись друг от друга, и Шаса быстро окинул взглядом жену Рольфа Стандера. Она была худой, почти изможденной, и в ней ощущались смирение и усталость, и даже наметанному взгляду Шасы не сразу удалось увидеть, какой хорошенькой она, вероятно, была прежде и какой привлекательной осталась до сих пор. Женщина ответила ему таким же внимательным взглядом, но тут же опустила глаза.
Хейди де ла Рей не упустила этого обмена и теперь взяла женщину за руку и подтолкнула вперед.
– Минхеер Кортни, это моя дорогая подруга Сара Стандер.
– Aangename kennis. – Шаса слегка поклонился. – Приятно познакомиться, мефроу[8].
– Как поживаете, командир эскадрильи? – тихо откликнулась женщина, и Шаса моргнул.
Он не пользовался этим званием со времени войны. Просто из скромности.
– Мы уже встречались? – спросил он, слегка растерявшись, но женщина быстро покачала головой и повернулась к Хейди, чтобы заговорить о детях.
Шаса не смог продолжить разговор с ней, потому что в этот момент Манфред протянул ему пиво, и мужчины с кружками спустились с веранды, чтобы посмотреть, как Лотар и старший сын Стандера, Якобус, разводят огонь для барбекю. Хотя мужской разговор был содержательным, а идеи собеседников интересными – и Манфред, и Рольф были людьми хорошо образованными и высокоинтеллектуальными, – Шаса поймал себя на том, что его мысли то и дело возвращаются к худенькой бледной женщине, знавшей его воинскую должность. Ему хотелось найти возможность поговорить с ней наедине, но он понял, что это едва ли возможно и к тому же опасно. Он прекрасно знал, как оберегают и ревнуют своих женщин африканеры и как легко все могло бы обернуться безобразным инцидентом. Поэтому он держался подальше от Сары Стандер, но весь вечер внимательно наблюдал за ней и постепенно начал замечать скрытые течения в отношениях двух семей. Мужчины, похоже, были очень близки, и не вызывало сомнения, что дружат они очень давно, но вот с женщинами дело обстояло иначе. Они держались друг с другом мило и предупредительно, высоко ценили друг друга… а это было явным признаком глубокого, скрытого женского антагонизма. Шаса приберег для себя то, что он обнаружил, потому что человеческие страсти и слабости были весьма существенным инструментом в его деле, но позже в тот же вечер он сделал еще два важных открытия.
Он перехватил неосторожный взгляд, брошенный Сарой Стандер на Манфреда де ла Рея, когда тот смеялся вместе с ее мужем, и Шаса мгновенно распознал в нем ненависть, именно ту разъедающую ненависть, которую испытывает женщина к некогда любимому человеку. Эта ненависть объяснила Шасе усталость и смирение, почти погубившие красоту Сары Стандер. Это объясняло также и неприязнь, испытываемую женщинами друг к другу. Хейди де ла Рей, должно быть, узнала, что Сара в прошлом любила ее мужа и, возможно, продолжала любить, несмотря на ненависть. Игра чувств и эмоций зачаровывала Шасу, он узнал так много ценного и столько достиг за этот единственный день, что был вполне удовлетворен к тому времени, когда Рольф Стандер созвал свою семью:
– Уже почти полночь, давайте все сюда! Нам еще до дома добираться.
У каждого из них был при себе фонарь, и, пока девочки и женщины шумно обменивались поцелуями, сначала Рольф Стандер, а затем его старший сын Якобус подошли к Шасе, чтобы пожать ему руку.
– До свидания, – сказал Якобус с той естественной вежливостью и уважением к старшим, что прививались каждому ребенку-африканеру с раннего возраста. – Мне бы тоже хотелось когда-нибудь поохотиться на черногривого льва.
Мальчик был высоким, хорошо сложенным, на два или три года старше Лотара; его, как и Лотара, зачаровали охотничьи истории Шасы, но в нем было нечто знакомое, что не давало Шасе покоя весь вечер. Лотар сейчас стоял рядом с другом, вежливо улыбаясь, и внезапно Шасу осенило.
У мальчиков были одинаковые глаза, бледные кошачьи глаза де ла Рея. На мгновение он затруднился это объяснить, но потом все встало на свои места. Ненависть Сары Стандер получила объяснение. Манфред де ла Рей был отцом ее сына.
Шаса стоял рядом с Манфредом на верхней ступени лестницы веранды, и они оба провожали взглядами семью Стандеров, шагавшую через дюны, – лучи их фонарей метались в разные стороны, пронзительные детские голоса постепенно затихали в ночи, – и Шаса задавался вопросом, сможет ли он когда-либо сложить вместе все кусочки головоломки, собранные им за этот вечер, и в полной мере выяснить уязвимость Манфреда де ла Рея. Однажды это может оказаться жизненно важным.
Не представило бы особого труда тайком поискать записи о дате регистрации брака Сары Стандер и сравнить их с датой рождения ее старшего сына, но как выудить у нее истинное значение того, что она упомянула его воинскую должность? Она назвала его командиром эскадрильи. Она его знала, сомневаться не приходилось, но откуда? Шаса улыбнулся. Он наслаждался хорошей загадкой, Агата Кристи была одним из его любимых авторов. Он поработает над этим…
Шаса проснулся, когда серый рассвет едва просочился сквозь полог над его кроватью, а пара сорокопутов пронзительно пела один из своих сложных дуэтов в кустах на дюнах. Он снял пижаму, которую дал ему Манфред, и надел халат, прежде чем тихо выскользнуть из безмолвного коттеджа и спуститься к пляжу.
Он плавал обнаженным, разрезая холодную зеленую воду взмахами рук, ныряя под очередную пенную волну прибоя, пока не освежился как следует; потом он медленно поплыл параллельно берегу в пяти сотнях ярдов от него. Шанс нападения акул был невелик, но такая возможность лишь обостряла наслаждение. Потом, поймав волну, он вместе с ней докатился до берега и выбрался на сушу, смеясь от возбуждения и радости жизни.
На крыльцо веранды он поднимался тихо, не желая побеспокоить семью, но какое-то движение в дальнем конце веранды остановило его. Манфред сидел в одном из шезлонгов с книгой в руках. Он уже побрился и оделся.
– С добрым утром, минхеер, – приветствовал его Шаса. – Вы сегодня снова собираетесь рыбачить?
– Сегодня воскресенье, – напомнил ему Манфред. – Я не ловлю рыбу по воскресеньям.
– Ах да.
Шаса удивился тому, что вдруг почувствовал себя виноватым из-за наслаждения купанием, а потом узнал древнюю черную книгу в кожаном переплете.
– Библия, – заметил он, и Манфред кивнул:
– Ja, я читаю по несколько страниц перед началом каждого дня, но в воскресенье или когда мне предстоят сложные дела – мне нравится прочитывать целую главу.
«Хотелось бы знать, сколько глав ты прочитал перед тем, как соблазнить жену лучшего друга», – подумал Шаса, однако вслух сказал:
– Да, эта книга приносит большое утешение.
Но он попытался не поддаваться ханжеству, когда шел одеваться.
Хейди приготовила гигантский завтрак, от бифштексов до маринованный рыбы, но Шаса съел лишь яблоко и выпил чашку кофе, прежде чем извиниться и встать из-за стола.
– Прогноз по радио обещает сегодня дождь, попозже. Я хочу вернуться в Кейптаун до того, как испортится погода.
– Я провожу вас до аэродрома. – Манфред быстро поднялся.
Никто из них не проронил ни слова, пока они не добрались до гребня холмов, и тогда Манфред внезапно спросил:
– Ваша матушка – как она поживает?
– С ней все хорошо. Она всегда хорошо себя чувствует и, похоже, даже не думает стареть. – Наблюдая за выражением лица Манфреда, Шаса продолжил: – Вы всегда спрашиваете о ней. А когда вы с ней встречались в последний раз?
– Она удивительная женщина, – невозмутимо произнес Манфред, уклоняясь от ответа.
– Я пытался как-то исправить те беды, что она причинила вашей семье, – не отступал Шаса, но Манфред словно и не слышал.
Он остановился на тропе, словно для того, чтобы полюбоваться пейзажем, но его дыхание стало неровным. Шаса взял слишком высокий темп при подъеме.
«А он далеко не в блестящем состоянии», – позлорадствовал Шаса. Его собственное дыхание не сбилось, а его тело было стройным и крепким.
– Это прекрасно, – сказал Манфред, и, лишь когда он широким жестом обвел горизонт, Шаса понял, что он говорит о стране.
Шаса посмотрел в ту же сторону и увидел, что вдали за океаном поднимаются голубые хребты Лангеберга, и это действительно было прекрасно.
– «И сказал ему Господь: „Вот та земля, о которой Я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: «Семени твоему дам ее»“»… – тихо процитировал Манфред. – Господь даровал ее нам, и наш священный долг – сохранить ее для наших детей. Ничто другое не важно по сравнению с этим долгом.
Шаса молчал. Он не собирался это оспаривать, хотя ему это казалось слишком театральным.
– Нам даровали рай. Мы должны ценой жизни противостоять всем усилиям разрушить его или изменить, – продолжил Манфред. – А очень многие попытаются это сделать. Они уже объединяются против нас. И в грядущие дни нам понадобятся сильные люди.
Шаса снова промолчал, но теперь молчание окрасилось скептицизмом. Манфред повернулся к нему.
– Я вижу вашу улыбку, – серьезно произнес он. – Вы не видите угроз тому, что мы построили здесь, на оконечности Африки?
– Как вы и сказали, эта земля – действительно рай. Кому бы захотелось ее изменить? – спросил Шаса.
– Сколько африканцев у вас работает, минхеер? – Манфред, казалось, хотел сменить тему.
– В целом почти тридцать тысяч, – недоуменно нахмурился Шаса.
– Тогда вы скоро поймете всю серьезность моего предостережения, – проворчал Манфред. – Среди коренного населения подрастает новое поколение бунтарей. Это носители тьмы. Они не уважают старые порядки, которые так тщательно создавали наши предки и которые до сих пор надежно нам служили. Нет, они хотят все разрушить. Как марксистские монстры уничтожили общественный строй в России, так и они хотят уничтожить все, что построил в Африке белый человек.
Когда Шаса ему ответил, в его тоне звучало пренебрежение:
– Огромное количество наших чернокожих счастливы и законопослушны. Они дисциплинированы, послушны властям, их собственные племенные законы точно так же строги и так же их ограничивают, как наши законы. Сколько среди них агитаторов и велико ли их влияние? Не много и не велико, я бы так предположил.
– Мир за короткое время после войны изменился сильнее, чем когда-либо за сотню лет прежде. – Манфред уже отдышался и заговорил горячо и выразительно на своем родном языке. – Племенные законы, которые управляли нашим чернокожим народом, теряют силу, когда люди покидают сельские районы и стекаются в города в поисках лучшей жизни. Там они учатся всем порокам белого человека и созревают для ереси носителей тьмы. Уважение, которое они питали к белому человеку и его правительству, может легко превратиться в презрение, особенно если они заметят в нас хоть какую-то слабость. Черный человек уважает силу и презирает слабость, и их новые черные агитаторы намерены изучить наши слабости и выставить их напоказ.
– Откуда вы знаете? – спросил Шаса и тут же разозлился на себя. Обычно он не задавал банальных вопросов, но Манфред ответил совершенно серьезно:
– Мы имеем среди чернокожих всеобъемлющую сеть информаторов, это единственный способ, с помощью которого полиция может эффективно выполнять свою работу. Мы знаем, что они задумали масштабную кампанию неповиновения закону, особенно тем законам, которые были приняты за последние несколько лет, – Акту о групповых территориях, Акту о регистрации населения и закону о пропусках, – иначе говоря, законам, необходимым для защиты нашего сложного населения от зла расового смешения.
– В каком виде они начнут эту кампанию?
– Преднамеренное неповиновение, попрание закона, бойкот предприятий, принадлежащих белым, и массовые забастовки на рудниках.
Шаса нахмурился, производя подсчеты. Такая кампания напрямую угрожала его предприятиям.
– Саботаж? – спросил он. – Уничтожение собственности – они и это планируют?
Манфред покачал головой:
– Похоже, что нет. Тут агитаторы разделились. Среди них, кстати, есть и белые, некоторые старые товарищи из коммунистической партии. Есть несколько человек, которые выступают за насильственные действия и саботаж, но большинство явно готово ограничиться мирным протестом – на данный момент.
Шаса облегченно вздохнул, а Манфред снова покачал головой:
– Не стоит слишком расслабляться, минхеер. Если мы не сумеем это предотвратить, если мы сейчас проявим слабость, это лишь обострит ситуацию, притом не в нашу пользу. Посмотрите, что происходит в Кении и Малайе.
– Почему бы вам просто не арестовать зачинщиков сейчас, пока все не началось?
– У нас нет таких полномочий, – напомнил ему Манфред.
– Тогда вам следовало бы получить их, черт побери!
– Ja, нам нужны такие полномочия, чтобы делать свою работу, и скоро они у нас будут. А пока мы должны позволить змее высунуть голову из норы, а уже потом отрубить ее.
– Когда все это начнется? – требовательно спросил Шаса. – Я должен принять меры, чтобы подготовиться к забастовкам и беспорядкам…
– Это как раз то, в чем мы не уверены, и мы не думаем, что Африканский национальный конгресс уже принял решение…
– Африканский национальный конгресс! – перебил его Шаса. – Но разве они не за нас? Они существуют уже лет сорок или около того, и они всегда предпочитают мирные переговоры. Их лидеры – достойные люди.
– Были такими, – поправил его Манфред. – Но старых руководителей сменили молодые, более опасные фигуры. Люди вроде Манделы и Тамбо и прочие, еще более злонамеренные. Как я уже говорил, времена меняются, и мы должны меняться вместе с ними.
– Я и не представлял, что угроза настолько реальна.
– Мало кто представляет, – согласился Манфред. – Но уверяю вас, минхеер, в нашем маленьком раю подрастает змеиное гнездо.
Какое-то время они шли молча к глиняной посадочной полосе, где стоял голубой с серебром «москит» Шасы. Пока Шаса забирался в кабину и готовил машины к полету, Манфред стоял у крыла и наблюдал за ним. Когда Шаса закончил проверку, он вернулся к Манфреду.
– Есть один верный способ победить этого врага, – сказал Шаса. – Этот новый воинственный Африканский конгресс.
– Какой же, минхеер?
– Опередить их. Отнять у черных людей причины жаловаться, – сказал Шаса.
Манфред молчал, глядя на Шасу своими неумолимыми желтыми глазами. А потом спросил, тщательно подбирая слова:
– Вы предлагаете дать туземцам политические права, минхеер? Вы думаете, что мы должны уступить попугайскому крику «Один человек – один голос»? Вы этому верите, минхеер?
От ответа Шасы зависели все планы Манфреда. Он гадал, мог ли он настолько ошибиться в своем выборе. Любой человек, верящий в подобное, никогда не смог бы стать членом Национальной партии, не говоря уже о том, чтобы нести ответственность в ранге члена кабинета министров. Он испытал огромное облегчение, когда Шаса презрительно отверг эту идею:
– Боже милостивый, нет! Это стало бы нашим концом и концом белой цивилизации на этой земле. Черным незачем голосовать, им нужен кусок пирога. Мы должны поощрять развитие чернокожего среднего класса, он станет буфером между нами и революционерами. Я еще никогда не видел человека с полным животом и набитым бумажником, которому захотелось бы что-то менять.
Манфред усмехнулся:
– Это хорошо, мне нравится. Вы правы, минхеер. Нам нужно огромное богатство, чтобы заплатить за нашу концепцию апартеида. Это обойдется дорого, мы признаем. Вот почему мы выбрали вас. И рассчитываем, что вы поможете найти деньги, чтобы оплатить наше будущее.
Шаса протянул руку, и Манфред пожал ее.
– Теперь о личном, минхеер: я рад слышать, что ваша жена приняла к сведению ваши предупреждения. Донесения моего специального отдела говорят, что она вышла из этой ее либеральной левой ассоциации и больше не принимает никакого участия в политических протестах.
– Я убедил ее, что все это бессмысленно, – улыбнулся Шаса. – Она решила заняться археологией вместо большевизма.
Они рассмеялись, и Шаса снова поднялся в кабину. Моторы завелись с прерывистым ревом, и голубой дымок вырвался из выхлопных отверстий, быстро тая. Шаса вскинул руку в салюте и закрыл фонарь кабины.
Манфред провожал его взглядом, пока самолет катил к концу взлетной полосы, потом с ревом возвратился обратно и взмыл ввысь вспышкой серебра и голубизны. Манфред прикрыл ладонью глаза, наблюдая за удалявшимся на юг «москитом», и снова ощутил странную, почти мистическую связь крови и судьбы с этим человеком под плексигласовым куполом кабины, когда Шаса покачал крыльями, прощаясь. Хотя они сражались и ненавидели друг друга, их народы были связаны схожими узами и в то же время разделены религией, языком и политическими убеждениями.
«Мы братья, ты и я, – подумал Манфред. – И за ненавистью кроется потребность выживания. Если ты присоединишься к нам, за тобой могут последовать и другие англичане, ведь все равно никто из нас не сможет выжить в одиночку. Африканеры и англичане, мы связаны так крепко, что если упадет один, то мы оба утонем в черном океане».
– Гаррик должен носить очки, – сказала Тара, наливая свежего кофе в чашку Шасы.
– Очки? – Он оторвался от газеты. – Что ты имеешь в виду, какие очки?
– Я имею в виду стекла для глаз – очки. Я сводила его к окулисту, пока тебя не было. У него близорукость.
– Но никто в нашей семье никогда не носил очков!
Шаса через стол посмотрел на сына, и Гаррик виновато опустил голову. До этого момента он не осознавал, что опозорил всю семью. Он думал, что унижение, связанное с очками, касается только его одного.
– Очки. – Шаса не скрывал презрения. – Когда ему подберут очки, ты можешь заодно попросить их приладить пробку к его свистку, чтобы он перестал еще и мочиться в постель.
Шон весело хохотнул и ткнул брата локтем в ребра, а Гаррик вспыхнул, защищаясь.
– Но, папа, я не мочился в постель с прошлой Пасхи! – яростно заявил он, покраснев от смущения и стараясь не допустить слез.
Шон сложил пальцы кольцами и сквозь них посмотрел на брата.
– Нам придется звать тебя Сова – Мокрая Простынка, – предположил он.
Майкл, как всегда, бросился на защиту брата.
– Совы очень мудрые, – рассудительно напомнил он. – Поэтому Гарри и вышел на первое место по успеваемости в классе. А ты на каком, Шон?
Шон молча уставился на него. Майкл всегда умел возразить мягко, но язвительно.
– Ладно, джентльмены. – Шаса вернулся к газете. – Никаких кровопролитий за завтраком, будьте любезны.
Изабелла решила, что слишком долго оставалась без внимания и пора снова стать центром семейной вселенной. Отец пока что уделял больше внимания ее братьям, и она еще не получила должного. Отец вернулся домой накануне поздно вечером, когда она уже давно лежала в постели, и традиционный ритуал возвращения домой не разыгрался как следует. Конечно, он поцеловал ее, обнял и сказал, какая она красавица, но один жизненно важный аспект был упущен, и хотя Изабелла знала, что спрашивать об этом – дурной тон, она уже слишком долго сдерживалась.
– А ты йазве не пйивез мне подайок? – пропищала она, и Шаса опять опустил газету.
– Подайок? Что еще за подайок?
– Не будь таким глупышкой, папочка! Ты и сам знаешь!
– Белла, ты же знаешь, что не должна выпрашивать подарки! – выбранила дочь Тара.
– А если я не скажу, папа может просто забыть! – вполне разумно возразила девочка и состроила Шасе ангельское личико.
– Боже милостивый! – Шаса щелкнул пальцами. – Я действительно чуть не забыл!
Изабелла принялась взволнованно подскакивать на своем высоком стуле.
– У тебя есть! У тебя есть что-то для меня!
– Сначала доешь свою овсянку, – потребовала Тара, и ложка Изабеллы тут же застучала по фарфору, когда девочка стремительно доедала кашу и подчищала тарелку.
Потом все отправились из комнаты для завтраков в кабинет Шасы.
– Я самая симпатичная! Мне первой!
Изабелла на ходу изобретала для себя правила жизни.
– Ладно, симпатичная. Встань первой в очереди, пожалуйста.
С предельно сосредоточенным выражением лица Изабелла сняла обертку со своего подарка.
– Кукла! – пискнула она и осыпала поцелуями обаятельное фарфоровое личико. – Ее зовут Олеанда, и я уже люблю ее!
Изабелла обладала, наверное, едва ли не лучшей в мире коллекцией кукол, но все прибавления к ней встречались с восторгом.
Когда Шон и Гарри получили свои длинные пакеты, они благоговейно затихли. Они знали, что это такое, – они оба давно и красноречиво просили об этом и теперь, когда это появилось, боялись даже прикоснуться к подаркам из опасения, что они исчезнут в клубах дыма. А Майкл храбро скрыл свое разочарование; он надеялся на книгу, поэтому втайне встал на сторону матери, когда та раздраженно воскликнула:
– О Шаса, ты ведь не привез им ружья?
Все три винтовки были одинаковыми. Магазинные винчестеры двадцать второго калибра, достаточно легкие, чтобы мальчики могли с ними справиться.
– Это лучшее из всего, что мне когда-либо дарили! – Шон достал винтовку из картонной коробки и нежно погладил ореховый приклад.
– Мне тоже. – Гаррик все еще не мог заставить себя взять оружие. Он опустился на колени перед открытой коробкой, стоявшей посреди кабинета, восторженно глядя на свою мечту.
– Просто супер, папа! – сказал Майкл, неловко держа винтовку, но его улыбка выглядела неубедительно.
– Не произноси это слово! – прикрикнула на него Тара. – Оно слишком американское и вульгарное!
Но злилась она на Шасу, а не на Майкла.
– Смотрите. – Гарри наконец дотронулся до винтовки. – На ней мое имя… она получила мое имя! – Он кончиками пальцев погладил гравировку на стволе, а потом посмотрел на отца с близоруким обожанием.
– Жаль, что ты не привез им ничего, кроме оружия, – выпалила Тара. – Я просила тебя этого не делать, Шаса! Я ненавижу его!
– Ну, дорогая, они должны иметь винтовки, если собираются отправиться со мной на сафари.
– Сафари! – ликующе воскликнул Шон. – Когда?
– Вам пора многое узнать о буше и зверях. – Шаса обнял Шона за плечи. – Нельзя жить в Африке, не зная разницы между панголином и медвежьим павианом.
Гарри схватил свою новую винтовку и подошел как можно ближе к отцу, чтобы Шаса мог обнять его другой рукой – если бы захотел. Однако Шаса разговаривал с Шоном.
– Мы отправимся на юго-запад в июньские каникулы, возьмем пару грузовиков на руднике Ха’ани и поедем через пустыню, пока не доберемся до болот Окаванго.
– Шаса, я не понимаю, как ты можешь учить собственных детей убивать этих прекрасных животных. Я действительно этого не понимаю, – с горечью произнесла Тара.
– Охота – мужское занятие, – согласился Шаса. – Тебе необязательно понимать – тебе даже смотреть необязательно.
– А я могу поехать, папа? – робко спросил Гарри, и Шаса взглянул на него.
– Тебе придется отполировать свои новые очки, чтобы рассмотреть, во что стреляешь. – Но он тут же смягчился. – Конечно, и ты поедешь, Гарри.
Потом он посмотрел на Майкла, стоявшего рядом с матерью.
– А как насчет тебя, Майки? Тебе это интересно?
Прежде чем ответить, Майкл виновато посмотрел на мать, потом тихо произнес:
– Да, спасибо, па. Это, должно быть, весело.
– Ваш энтузиазм весьма трогателен, – усмехнулся сыновьям Шаса. – Отлично, джентльмены, все винтовки заприте в оружейной комнате, будьте любезны. Никто до них не дотрагивается без моего разрешения и вне моего присутствия. Первый урок стрельбы проведем сегодня вечером, когда я вернусь домой.
Шаса действительно вернулся в Вельтевреден, имея в запасе два часа светлого времени, и повел мальчиков на стрельбище, которое устроил с расчетом на собственное охотничье оружие. Оно находилось за виноградниками, достаточно далеко от конюшен, чтобы не потревожить лошадей или другую домашнюю живность.
Шон, обладающий координацией настоящего атлета, был прирожденным стрелком. Легкая винтовка сразу же стала продолжением его тела, и через несколько минут он научился контролировать дыхание и без напряжения спускать курок. Майкл был почти так же хорош, но его это дело не слишком интересовало, и он быстро терял сосредоточение.
Гарри так старался, что дрожал, а лицо кривилось от усилий. Очки в роговой оправе, которые этим утром Тара получила для него у окулиста, постоянно сползали на кончик носа и запотевали, когда он целился, и ему понадобилось десять выстрелов, прежде чем он попал в цель.
– Тебе незачем нажимать на курок с такой силой, Гарри! – с покорностью судьбе твердил ему Шаса. – Уверяю тебя, это не заставит пулю лететь дальше или быстрее.
Уже почти стемнело, когда все четверо вернулись домой, и Шаса отвел сыновей в оружейную и показал, как вычистить оружие, прежде чем запереть его.
– Шон и Майки готовы стрелять по голубям, – заявил Шаса, когда все гурьбой направлялись наверх, чтобы переодеться к ужину. – Гарри, тебе нужно еще немного потренироваться, иначе у голубя больше шансов умереть от старости, а не от твоей пули.
Шон взорвался хохотом:
– Убей их старостью, Гарри!
Майкл не присоединился к разговору. Он представлял одного из тех милых сизых голубей, что устроили гнездо на карнизе за окном его спальни, как он умирает в вихре вырванных перьев, роняя алые капли на пути к земле. Это вызвало у него настоящую тошноту, но он знал, что отец этого и ожидал от него.
В тот вечер дети, как обычно, подошли по очереди к Шасе, чтобы пожелать спокойной ночи, когда он завязывал черный галстук-бабочку. Изабелла была первой.
– Я и на минутку не засну, пока ты не вернешься домой, папочка! – предупредила она его. – Я буду просто лежать в темноте, и все!
Следующим был Шон.
– Ты лучший папа в мире! – сообщил он, когда они с Шасой пожимали друг другу руки. Поцелуи были для неженок и малышей.
– Дашь мне письменное заверение в этом? – торжественно спросил Шаса.
А вот отвечать Майклу всегда было труднее всего.
– Па, а зверям и птицам очень больно, когда ты в них стреляешь?
– Нет, если ты научишься стрелять как следует, – заверил его Шаса. – Но, Майки, у тебя слишком богатое воображение. Ты не сможешь всю жизнь постоянно тревожиться за животных и других людей.
– Почему нет, папа? – тихо спросил Майкл, и Шаса посмотрел на наручные часы, чтобы скрыть раздражение.
– Мы должны к восьми часам быть в Кельвин-Гроув. Ты не против, если мы поговорим об этом как-нибудь потом, Майки?
Гаррик подошел последним. Он робко стоял в дверях гардеробной Шасы, но его голос прозвучал решительно, когда он заявил:
– Я научусь быть хорошим стрелком, как Шон. Ты еще будешь гордиться мной, папа. Обещаю.
Уйдя из крыла родителей, Гаррик отправился в детскую. Няня остановила ее у двери комнаты Изабеллы:
– Она уже спит, мастер Гарри.
В комнате Майкла они обсудили обещанное сафари, но внимание Майкла то и дело возвращалось к книге, которую он держал в руках, и Гарри оставил его в покое.
Он осторожно заглянул к Шону, готовый удрать в любую секунду, если старший брат проявит хоть какие-то признаки игривости. Одно из любимых выражений братской привязанности Шона называлось «каштан» и состояло в том, что Шон болезненно тыкал в выступающие ребра Гарри. Однако этим вечером Шон развалился на кровати, упираясь пятками в стену, а затылком почти касаясь пола, и держал перед лицом комикс – историю Супермена.
– Спокойной ночи, Шон, – сказал Гарри.
– Вот это история! – откликнулся Шон, не опуская комикса.
Гаррик благодарно удалился в свою спальню и запер дверь. Потом он встал перед зеркалом и стал изучать в отражении свои новые очки.
– Я ненавижу их! – с горечью прошептал он, а когда он снял очки, они оставили красные вмятины на его переносице.
Опустившись на колени, Гаррик выдвинул плинтус под встроенным гардеробом и сунул руку в потайную нишу за ним. Никто, даже Шон, не обнаружил этого тайника.
Гарри осторожно достал драгоценный сверток. Он восемь недель копил карманные деньги, но это стоило каждого пенни. Посылка пришла в простой бумажной упаковке с личным письмом от самого мистера Чарльза Атласа. «Дорогой Гаррик», – начиналось письмо, и Гаррика переполнял восторг, что такой великий человек снизошел до него.
Он положил руководство на кровать и разделся до пижамных штанов, просматривая уроки.
– Динамическое напряжение, – прошептал он вслух, а потом встал перед зеркалом в нужную позу. Начав серию упражнений, Гаррик негромко напевал в такт: – Больше и больше во всех отношениях, я становлюсь лучше с каждым днем.
Закончив, он весь обливался потом, но напряг руку и внимательно к ней присмотрелся.
– Точно, они больше. – Гарри постарался отогнать сомнения, тыча пальцем в маленькие мускулы бицепсов. – Они действительно стали больше!
Он спрятал курс упражнений в свой тайник и вернул на место выдвижной плинтус. Потом достал из гардероба дождевик и расстелил его на досках пола.
Гаррик с восхищением читал о том, как Фредерик Селус, знаменитый африканский охотник, в детстве закалялся, зимой ложась спать на полу без одеяла. Гаррик выключил свет и улегся на плащ. Да, ночь предстояла длинная и неудобная, он уже знал это по опыту, доски пола были твердыми, как железо, но дождевик помогал скрыть от Шона ночные мочеиспускания, когда тот являлся с утренней проверкой, и Гаррик был уверен, что и астма у него слегка ослабела с тех пор, как он перестал спать на мягком матрасе под одеялом из гагачьего пуха.
– Мне становится лучше с каждым днем, – прошептал он, закрывая глаза и приказывая себе не обращать внимания на холод и твердость пола. – И однажды папа станет гордиться мной – точно так же, как он гордится Шоном.
– Думаю, твоя речь этим вечером была очень хороша, даже для тебя, – сказала Тара, и Шаса удивленно посмотрел на нее. Он уже давно не слышал от нее комплиментов.
– Спасибо, дорогая.
– Я иногда забываю, насколько ты одаренный человек, – продолжила она. – Просто у тебя все выглядит таким легким и естественным.
Шаса был так тронут, что мог бы потянуться к ней и погладить, но она отодвинулась от него, а «роллс-ройс» был слишком широк.
– Должен сказать, ты сегодня выглядишь абсолютно ошеломительно, – вместо этого ответил он комплиментом, но, как он и ожидал, Тара лишь скривилась в ответ.
– Ты действительно хочешь взять мальчиков на сафари?
– Дорогая, мы должны позволить им самим составить мнение о жизни. Шону это понравится, но насчет Майки я не уверен, – ответил Шаса, и Тара отметила, что он даже не упомянул Гаррика.
– Что ж, если ты так решил, я воспользуюсь их отсутствием. Мне предложили участвовать в археологических раскопках у карстовых пещер.
– Но у тебя нет опыта, – удивился Шаса. – А это очень важное место. Зачем им тебя приглашать?
– Затем, что я предложила вложить в раскопки две тысячи фунтов, вот зачем.
– Вижу, это откровенный шантаж. – Шаса язвительно усмехнулся, поняв причину ее лести. – Хорошо, договорились. Завтра я выпишу тебе чек. Надолго ты туда отправляешься?
– Пока не знаю.
Но при этом она подумала: «Столько, сколько я смогу быть рядом с Мозесом Гамой».
Раскопки в карстовых пещерах находились всего в часе езды на машине от дома в Ривонии. Тара сунула руку под меховую накидку и коснулась своего живота. Вскоре это станет заметно – ей нужно найти повод исчезнуть с глаз своей семьи. Ее отец и Шаса ничего бы не заметили, она не сомневалась в этом, но Сантэн де Тири-Кортни-Малкомс обладала ястребиным взглядом.
– Полагаю, моя матушка согласится позаботиться об Изабелле, пока тебя не будет, – говорил тем временем Шаса, и Тара кивала, а ее сердце пело.
«Мозес, я возвращаюсь к тебе; мы оба к тебе возвращаемся, мой дорогой».
Всякий раз, когда Мозес Гама приезжал в Дрейкс-фарм, это было подобно возвращению короля в собственные владения после успешного крестового похода. Уже через несколько минут после его прибытия весть об этом почти телепатически разносилась по всему обширному черному поселению, и над ним повисало чувство ожидания, такое же ощутимое, как дым от десяти тысяч костров.
Мозес обычно приезжал вместе со своим единокровным братом, Хендриком Табакой, в фургоне мясника. Хендрик владел сетью из дюжины мясных лавок в черных поселениях по всему Витватерсранду, так что надпись на бортах фургона соответствовала действительности. Небесно-голубыми и алыми буквами она сообщала:
PHUZA MUHLE BUTCHERY
ЛУЧШЕЕ МЯСО ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ
На местном диалекте «phuza muhle» означало «Ешь хорошо», а фургон предоставлял идеальное прикрытие для Хендрика Табаки, куда бы он ни направлялся. Независимо от того, действительно ли он доставлял туши животных в свои мясные лавки или товары в свои универсальные магазины, или занимался менее традиционным бизнесом вроде развозки незаконно сваренного спиртного, прославленного скокиаана — «городского динамита», – или доставлял девушек к их рабочим местам рядом с поселениями, где жили чернокожие рабочие золотых рудников, чтобы красотки могли быстренько облегчить монашеское житие шахтеров, или же он ездил по делам Африканского профсоюза шахтеров, этого сплоченного и могучего братства, чье существование белое правительство отказывалось признавать, – голубой с красным фургон оказывался самым подходящим экипажем. Садясь за руль, Хендрик надевал шоферскую кепку с козырьком и куртку цвета хаки с дешевыми медными пуговицами. Вел он машину степенно и с полным вниманием ко всем дорожным правилам, так что за двадцать лет его ни разу не остановила полиция.
Когда он привел фургон в Дрейкс-фарм, а Мозес сидел рядом с ним на пассажирском сиденье, они вступили на территорию собственной крепости. Именно здесь они упрочили свою репутацию, приехав двадцать лет назад из глубин Калахари. Хотя они были сыновьями одного отца, они отличались друг от друга почти во всем. Мозес был молод, высок и невероятно красив, а Хендрик – на много лет старше, огромный, как бык, с лысой головой, покрытой шрамами, и выбитыми и сломанными зубами.
Мозес был умен и стремителен, учился сам, набираясь больших знаний, обладал харизмой и умел увлечь за собой людей, а Хендрик был его преданным лейтенантом, признающим авторитет младшего брата и исполняющим его приказы быстро и безжалостно. Хотя идея создания собственной империи пришла в голову Мозесу Гаме, осуществил эту мечту именно Хендрик. Как только ему показали, что нужно делать, Хендрик Табака ухватился за дело с цепкостью бульдога.
Для Хендрика то, что они построили, – торговые предприятия, законные и незаконные, профсоюз и его личная армия силовиков-исполнителей, которую знали как «буйволов» и боялись во всех поселениях шахтеров и черных незаконных городков, – все это и было конечной целью само по себе. Но для Мозеса Гамы дело обстояло иначе. То, чего он уже достиг, было лишь первой ступенью в его стремлении к чему-то куда более великому, и хотя он много раз объяснял это Хендрику, брат не мог по-настоящему осмыслить грандиозность замысла Мозеса Гамы.
За двадцать лет, прошедших с тех пор, как они приехали сюда, Дрейкс-фарм полностью изменился. В те давние дни это было небольшое незаконное поселение, прилепившееся, словно какой-нибудь паразит, к телу огромного комплекса золотых рудников, образовывавших центральный Витватерсранд. Оно представляло собой скопище убогих хижин, сооруженных в открытом вельде из обломков мебели и плетней, ржавых листов жести, расплющенных канистр из-под керосина и просмоленного картона, с открытыми сточными канавами и выгребными ямами, там не было чистой воды и электричества, не было школ, больниц и полиции, а градоначальники Йоханнесбурга вообще не признавали его за человеческое местообитание.
Только после войны административный совет Трансвааля решил трезво взглянуть на реальность и отобрать землю у отсутствующих владельцев. Все три тысячи акров были объявлены официальным городским поселением, отведенным для проживания чернокожих жителей по Акту о групповых территориях. Городку оставили его изначальное название, Дрейкс-фарм, потому что это подразумевало его связь со старым Йоханнесбургом, в отличие от более приземленного наименования соседнего Соуэто, или Юзго, что было простым сокращением от «юго-западных городов». В Юзго уже проживало более полумиллиона черных, в то время как Дрейкс-фарм не насчитывал и половины этого числа.
Власти обнесли оградой новый городок и застроили бо`льшую его часть скучными рядами маленьких трехкомнатных коттеджей, совершенно одинаковых, не считая номеров, нанесенных по трафарету на фасады из бетонных блоков. Домики стояли близко друг к другу, их разделяли узкие пыльные проулки, а плоские крыши из рифленого оцинкованного железа сияли на солнце высокогорного вельда, как десять тысяч зеркал.
В центре городка стояли административные здания, где под надзором горстки белых муниципальных инспекторов черные служащие собирали ренту и занимались основными услугами вроде очистки воды и удаления мусора. За этой достойной Оруэлла картиной унылого и бездушного порядка скрывалась изначальная часть Дрейкс-фарм с его лачугами, питейными заведениями и борделями – и именно здесь по-прежнему жил Хендрик Табака.
Когда он медленно вел свой фургон через новый район городка, люди выходили из коттеджей, чтобы проводить его взглядом. В основном это были женщины и дети, потому что мужчины уходили каждый день рано утром, отправляясь на работу в город, и возвращались лишь с наступлением темноты. Узнав Мозеса, женщины хлопали в ладоши и пронзительно кричали, приветствуя его как вождя племени, а дети бежали за фургоном, пританцовывая и смеясь от волнения, что находятся так близко к великому человеку.
Фургон медленно проехал мимо кладбища, где неаккуратные могилы выглядели похожими на входы в большие кротовьи норы. На некоторых могилах стояли грубо сколоченные кресты, над другими развевались на ветру потрепанные флажки, а для умиротворения духов здесь же размещались подношения в виде еды, поломанной домашней утвари и причудливо вырезанных из дерева тотемов, – христианские символы соседствовали с символами тех, кто почитал животных или колдовские силы. Фургон проследовал дальше, в старый городок, в беспорядочно проложенные улочки, где лотки знахарей стояли рядом с теми, на которых продавались еда, ткани, ношеная одежда и краденые радиоприемники. Здесь куры и свиньи копались в грязных колеях дороги, голые малыши с одной лишь ниткой бус на толстых маленьких животиках садились облегчиться между лотками, юные шлюхи откровенно предлагали себя и царили невероятные вонь и шум.
Это был мир, в который никогда не ступала нога белого человека и куда даже чернокожая муниципальная полиция являлась только по вызову и по молчаливому согласию. Это был мир Хендрика Табаки, здесь его жены присматривали за его девятью домами в самом центре старого квартала. Это были прочные, хорошо построенные дома из обожженного кирпича, но снаружи они намеренно оставались ободранными и неухоженными, чтобы сливаться с окружающим убожеством. Хендрик давно научился не привлекать внимания к себе и своему имуществу. У каждой из его девяти жен имелся собственный дом, они стояли вокруг чуть более внушительного дома Хендрика, и он не ограничивал себя женщинами своего племени овамбо. Его женами были пондо и коса, финго и басуто, но не зулу. Хендрик никогда не допустил бы зулуску в свою постель.
Все они вышли приветствовать его и его прославленного брата, как только Хендрик остановил фургон у пристройки за собственным домом. Поклоны женщин и их негромкое уважительное хлопанье в ладоши провожали мужчин в гостиную дома Хендрика, где в дальнем конце стояли, словно троны, два плюшевых кресла, покрытые леопардовыми шкурами. Когда братья уселись, две младшие жены принесли кувшины со свежим просяным пивом, густым, как кашица, терпким, шипучим и холодным благодаря работавшему на керосине холодильнику; и когда братья освежились, явились сыновья Хендрика, чтобы поприветствовать отца и выразить почтение дяде.
Сыновей было много, потому что Хендрик Табака был здоровым и крепким мужчиной и регулярно, каждый год, оплодотворял своих жен. Однако сегодня присутствовали не все старшие сыновья. Те, которых Хендрик счел нестоящими, были отосланы в деревню, чтобы пасти стада коров и коз, которые тоже являлись частью богатства Хендрика. Наиболее многообещающие юноши работали в мясных лавках, универсальных магазинах или питейных заведениях, а двое, особенно одаренные умом, учились на юридическом факультете в университете Форт-Хэйр, учебном заведении для чернокожих в маленьком городке Элис на востоке от Кейптауна.
Поэтому сейчас присутствовали только младшие сыновья, почтительно преклонившие колени, и среди них были двое, на которых Мозес Гама смотрел с особенным удовольствием. Это были сыновья-близнецы одной из жен Хендрика из племени коса, женщины необычных достоинств. Кроме того, что она являла собой преданную жену и рожала много сыновей, она слыла отличной танцовщицей и певицей, замечательной рассказчицей, особой, отличающейся острой прозорливостью и умом, а еще она была сангома, оккультной целительницей, проявлявшей иногда сверхъестественную силу предвидения и прорицания. Ее двойняшки унаследовали бо`льшую часть ее дарований вместе с крепким телосложением отца и кое-что от красоты Мозеса.
Когда они родились, Хендрик попросил Мозеса дать им имена, и он выбрал эти имена из своей драгоценной «Истории Англии» Маколея. Из всех его племянников именно эти были его любимчиками, и теперь он улыбнулся, когда они встали перед ним на колени. Мозес прикинул, что им уже почти тринадцать лет.
– Вижу тебя, Веллингтон Табака, – поздоровался он сначала с одним, потом с другим. – Вижу тебя, Роли Табака.
Они не были однояйцевыми близнецами. Веллингтон был повыше, сложен тоньше, с более светлой кожей, цвета ириски, по сравнению с шелковично-черной кожей Роли. Черты лица Веллингтона имели тот же египетский оттенок, что и у Мозеса, а Роли выглядел скорее африканцем, с курносым носом и толстыми губами, и тело его было шире и приземистее.
– Какие книги вы прочитали со времени нашей последней встречи? – Мозес перешел на английский, вынуждая мальчиков отвечать на том же языке. «Слова – это копья, они – оружие, с помощью которого можно защищаться и нападать на наших врагов. Английские слова имеют самые острые лезвия, без них вы станете безоружными воинами», – объяснял он им прежде, а теперь внимательно слушал, как они, запинаясь, отвечают по-английски.
Однако он заметил, что они уже лучше владеют языком, и обратил на это внимание:
– Вы все еще говорите недостаточно хорошо, но научитесь говорить лучше в Уотерфорде.
Мальчики слегка смутились. Мозес организовал для них сдачу вступительных экзаменов в эту элитную межрасовую школу за границей, в независимом черном королевстве Свазиленд, и их приняли, и теперь они страшились дня, когда им придется покинуть их уютный знакомый мир и отправиться в неведомое. В Южной Африке все образование строго разделялось по расовому признаку, и министр по делам банту доктор Хендрик Фервурд провозгласил политику, согласно которой чернокожим детям не следует давать полноценного законченного образования, чтобы не порождать недовольства. Он вполне откровенно заявил парламенту, что образование черных не должно противоречить правительственной политике апартеида и, соответственно, не должно отвечать высоким стандартам, чтобы не вызывать у чернокожих учеников ожидания и стремления, которые никогда не будут реализованы. Ежегодная плата за каждого белого школьника составляла шестьдесят фунтов, а за черного – девять. Те чернокожие родители, которые могли себе это позволить, вожди и мелкие бизнесмены, посылали детей за пределы страны, и Уотерфорд был их излюбленным местом.
Близнецы с облегчением сбежали от устрашающего присутствия отца и дяди, но во дворе рядом с фургоном их уже ждала мать, которая резким кивком головы приказала пройти в ее собственную гостиную.
Эта комната представляла собой настоящую берлогу колдуньи, куда близнецам обычно вход был закрыт, и теперь они вошли туда с еще большим трепетом, чем в дом отца. У дальней стены выстроились боги и богини их матери, вырезанные из африканских деревьев и разодетые в перья, шкуры и бусы, с глазами из слоновой кости и перламутра и оскаленными зубами собаки и бабуина. Они выглядели устрашающим сборищем, и мальчики содрогались, не смея прямо посмотреть на них.
Перед семейными идолами были разложены подношения в виде еды и мелких монет, а на другой стене висели ужасные принадлежности ремесла их матери: тыквенные и глиняные сосуды с маслами и мазями, связки сушеных трав, змеиные шкуры и мумифицированные игуаны, кости и черепа бабуинов, стеклянные банки с жиром бегемота и льва, мускус крокодила и прочие безымянные субстанции, гнившие, пузырившиеся и вонявшие так сильно, что у мальчиков начинали болеть зубы.
– Вы носите обереги, что я дала вам? – спросила Кузава, их мать.
Она выглядела неуместно красивой среди ее нечестивых и омерзительных инструментов и лекарств – круглолицая, с гладкой кожей, очень белыми зубами и влажными глазами газели. Руки и ноги у нее были длинными и блестели от тайных колдовских мазей, а груди под множеством ожерелий из бус и амулетов из слоновой кости были большими и крепкими, как дикие дыни Калахари.
В ответ на ее вопрос близнецы энергично закивали, слишком подавленные, чтобы говорить, и расстегнули рубашки. Амулеты висели у них на шеях, каждый на длинном кожаном шнурке. Это были рога маленькой серой антилопы-дукера, их открытые концы были запечатаны гуммиарабиком, и Кузава все двенадцать лет их жизни копила магическое зелье, которым их наполнила. Оно было приготовлено из частиц всех выделений тела Хендрика Табаки, отца близнецов, его фекалий и мочи, его слюны и соплей, пота и спермы, серы из ушей и крови из вен, его слез и рвоты. Все это Кузава смешала с сухой кожей с его подошв, обрезками его ногтей, щетиной с подбородка, волосками с головы и низа живота, с ресницами, которые выдергивала, когда он спал, и коростой и гноем с его ран. Потом она добавила травы и жиры великой силы, прочитала над ними слова могущества и, наконец, чтобы сделать чары нерушимыми, заплатила огромные деньги одному из грабителей могил, который специализировался на таких поручениях, чтобы он принес ей печень младенца, утопленного после рождения его собственной матерью.
Все эти ингредиенты она запечатала в двух маленьких рогах, и близнецам не позволялось теперь представать перед отцом без этих амулетов. Теперь Кузава сняла с сыновей обереги. Они были слишком ценны, чтобы оставлять их во владении детей. Кузава улыбнулась, взвесив их на гладких розовых ладонях изящных рук. Да, они стоили всех затрат, терпения и тщательного применения всего ее искусства.
– Ваш отец улыбнулся, когда увидел вас? – спросила она.
– Он улыбался, как восходящее солнце! – ответил Роли, и Кузава радостно кивнула.
– А были ли его слова добры, расспрашивал ли он вас с любовью? – не отставала она.
– Когда он говорил с нами, он мурлыкал, как лев над куском мяса, – прошептал Веллингтон, все еще напуганный окружающим. – И он спросил, как мы успеваем в школе, и похвалил, когда мы ответили.
– Это обереги принесли его благожелательность. – Кузава довольно улыбнулась. – Пока вы носите их, ваш отец будет отдавать вам предпочтение перед всеми остальными своими детьми.
Она взяла маленькие рога и отошла, чтобы опуститься на колени перед центральной резной фигурой в ряду идолов, – это было нечто пугающее, с львиной гривой на голове; в этой фигуре пребывал дух ее покойного деда.
– Охраняй их хорошо, о досточтимый предок! – прошептала Кузава, вешая амулеты на шею фигуры. – Поддерживай их силы, пока они не понадобятся снова.
Здесь амулеты находились в куда большей безопасности, чем в самом глубоком из хранилищ какого-нибудь банка белых людей. Ни одно человеческое существо, кроме самых могущественных из темных сил, не могло отважиться оспорить у духа ее деда право на обладание этими оберегами, потому что он был изначальным стражем.
Потом она снова повернулась к двойняшкам, взяла их за руки и вывела из своей берлоги в семейную кухню, сбросив с себя облик колдуньи и превратившись в любящую мать, как только дверь берлоги закрылась за ней.
Она накормила сыновей, наполнив их миски пышной белой маисовой кашей с фасолью и тушеным мясом, утопавшими в нежном жире; такая еда приличествовала семье богатого и могущественного человека. А пока они ели, Кузава нежно ухаживала за ними, расспрашивала и подшучивала, накладывала им добавки, и ее темные глаза сияли гордостью; и наконец неохотно отпустила их.
Мальчики, горя возбуждением, сбежали от нее в узкие вонючие проулки старого квартала. Здесь они чувствовали себя совершенно непринужденно. Мужчины и женщины улыбались им и приветствовали, когда они проходили мимо, и с удовольствием смеялись их шуткам, потому что все их любили и их отцом был Хендрик Табака.
Старая мама Нгинга, толстая и седовласая, сидевшая перед дверью питейного заведения, которым управляла по поручению Хендрика, окликнула мальчиков:
– Куда это вы направляетесь, мои малыши?
– По тайному делу, о котором не можем говорить! – крикнул ей Веллингтон, а Роли добавил:
– На следующий год наше тайное дело станет твоим, старая мама! Мы будем пить твой скокиаан и трахать всех твоих девчонок!
Мама Нгинга затряслась от восторга, а сидевшие у окон девушки визгливо засмеялись.
– Он точно настоящий львенок, этот парнишка! – говорили они друг другу.
Спеша по проулкам, мальчики призывно кричали, и из лачуг старого квартала и из новых кирпичных коттеджей, построенных белым правительством, выбегали их друзья, пока наконец к братьям не присоединились пятьдесят парнишек того же возраста или даже более. Кое-кто из них нес длинные свертки, тщательно перевязанные полосами сыромятной кожи.
В дальнем конце поселения в высокой изгороди имелась дыра, скрытая от посторонних глаз зарослями кустарника. Мальчики пролезли в дыру на плантацию голубых эвкалиптов, собрались там шумной толпой и сняли с себя потрепанную европейскую одежду. Все они были не обрезаны, их пенисы, только начинавшие развиваться, все еще были окружены маленькими морщинистыми шапочками кожи. Через несколько лет им предстояло пройти через инициацию и выдержать суровое испытание изоляцией, трудностями и болью. Это даже сильнее, чем племенная кровь, связывало их; на всю жизнь они должны были стать товарищами ножа обрезания.
Мальчики аккуратно сложили одежду – потеряй они хоть что-то, им придется вытерпеть родительский гнев, – а потом, обнаженные, собрались вокруг драгоценных свертков и нетерпеливо наблюдали, как их раскрывают признанные капитаны Веллингтон и Роли Табака. В каждом свертке прятались принадлежности воина коса – не подлинные регалии, ибо коровьи хвосты, трещотки гремучей змеи и головные уборы могли носить только настоящие воины-амадода, уже подвергшиеся обрезанию. Это было просто детское подражание, шкурки бездомных городских собак и кошек, но мальчики надевали их с такой гордостью, словно все это было настоящим, обвязывая предплечья, бедра и лбы полосками меха, а потом взялись за оружие.
И конечно, это тоже были не настоящие ассагаи с длинными лезвиями, а просто традиционные палки для драк. Однако даже в руках этих детей длинные гибкие шесты становились грозным оружием. Держа в каждой руке по палке, мальчики мгновенно превращались в визжащих демонов. Они размахивали палками и вращали их, используя уже натренированные запястья, и палки шипели, свистели и пели; мальчишки стучали палками о чужие палки, перекрещивая их, создавая защиту от ударов напарника, подпрыгивали вверх и в стороны, пританцовывали, нанося друг другу удары, пока наконец Роли Табака не дунул в роговой свисток, тогда все сразу выстроились за ним в плотную организованную колонну.
Роли повел их вперед. Особой рысцой враскачку, высоко держа палки, напевая боевые мелодии их племени, мальчики оставили плантацию эвкалиптов и выбрались в открытый холмистый вельд. Здесь росла коричневая трава высотой по колено, а на открытых местах проглядывала красновато-шоколадная почва. Земля плавно спускалась к неширокой реке; ее каменистое русло окружали крутые берега, поднимаясь навстречу бледному сапфировому небу высокогорного вельда.
Когда отряд начал спускаться по склону, дальняя чистая линия берега изменилась, над ней появился ряд колышащихся головных уборов и возник другой отряд мальчишек, тоже в кожаных набедренных повязках, с обнаженными ногами, руками и торсами. Высоко подняв палки, они остановились над камнями, а заметив друг друга, обе группы замерли, как охотничьи псы, почуявшие след.
– Зулусские шакалы! – взвыл Роли Табака, и его ненависть вспыхнула с такой силой, что на лбу у него выступили маленькие капли пота.
Настолько, насколько хватало памяти его племени, зулусы были врагами; ненависть жила в его крови, глубокая и атавистическая. История не уточняла, как часто повторялась подобная сцена, сколько тысяч раз на протяжении веков вооруженные воины-импи племен коса и зулусов сталкивались таким образом лицом к лицу; помнились только жар битвы, кровь и ненависть.
Роли Табака подпрыгнул так высоко, что почти поравнялся с плечом стоявшего рядом брата, и пронзительно закричал, а под конец его голос сорвался, перейдя почти в девчоночий визг:
– Я умираю от жажды! Дайте мне зулусской крови, чтобы напиться!
Его воины тоже подпрыгнули и закричали:
– Дайте нам зулусской крови!
Угрозы и оскорбления полетели к ним с противоположного гребня, подхваченные ветром. А потом внезапно оба отряда импи начали спускаться, распевая и подпрыгивая, в неглубокую низину, пока наконец они не оказались лицом к лицу по разные стороны узкого потока, и их капитаны шагнули вперед, чтобы обменяться новыми оскорблениями.
Предводителем-индуной зулусов был парнишка тех же лет, что и близнецы. Он учился в том же классе государственной средней школы, что и они. Звали его Джозеф Динизулу, и он был высок, как Веллингтон, и широк в груди, как Роли. Его имя и надменный вид напоминали всему миру, что он принадлежит к зулусскому королевскому дому.
– Эй вы, пожиратели дерьма гиены! – крикнул он. – Мы учуяли вас за тысячу шагов против ветра! От вони коса тошнит даже стервятников!
Роли высоко подпрыгнул, развернувшись в воздухе и приподняв края набедренной повязки, чтобы обнажить ягодицы.
– Я очищу воздух от зулусской вони хорошим чистым пердежом! – выкрикнул он. – Понюхайте, любители шакалов!
И он издал стыдный звук такой громкий и продолжительный, что зулусы зверски зашипели и загремели своими боевыми палками.
– Вашими отцами были женщины, вашими матерями были мартышки! – заорал Джозеф Динизулу, почесывая подмышки. – А вашими дедами были бабуины! – Он изобразил обезьяньи прыжки. – А вашими бабками были…
Роли прервал повествование о своей родословной, резко свистнув в рог и спрыгнул с берега в поток. Он приземлился на ноги легко, как кошка, и в один шаг пересек речку. На другой берег он выскочил так быстро, что Джозеф Динизулу, ожидавший продолжения обмена любезностями, отступил перед его натиском.
С десяток других коса откликнулись на свист и вслед за Роли перескочили через речку, и яростная атака Роли дала им преимущество на другом берегу. Они встали за ним, со свистом размахивая палками, и врезались в центр противостоящих импи. Роли Табаку охватила жажда битвы. Он был непобедим, его руки не знали усталости, его запястья вращались так искусно, что казалось, его палки обрели собственную жизнь, находя слабые места в обороне противников. Палки колотили по плоти, стучали по костям, разрезая открытую кожу так, что вскоре стали мокрыми от крови, и маленькие красные капли взлетали в солнечном свете.
Казалось, ничто не могло коснуться его самого, пока внезапно что-то не врезалось в его ребра чуть ниже поднятой правой руки, и он задохнулся от боли, внезапно осознав собственную уязвимость. За минуту до этого он был богом войны, а тут превратился в маленького мальчика, почти на исходе сил, испытывающего сильную боль и настолько уставшего, что он даже не смог испустить новый боевой крик, когда перед ним пританцовывал Джозеф Динизулу, который словно вырос на несколько дюймов за несколько секунд. Снова боевая палка просвистела в воздухе, метя в голову Роли, и лишь от отчаяния он сумел отбить удар. Роли отступил на шаг и огляделся.
Ему следовало подумать, прежде чем так дерзко нападать на зулусов. Они были самыми коварными и хитроумными из всех противников, и их главным приемом всегда было окружение врага. Чака Зулу, бешеный пес, породивший это волчье племя, называл этот маневр «рога быка». Рога обхватывали врага, а грудь давила их насмерть.
Джозеф Динизулу отступил вовсе не от страха или неожиданности, это была его инстинктивная хитрость, и Роли привел десяток своих храбрецов в ловушку. Теперь они остались одни, никто из остальных не поспешил за ними через речку. За головами окруживших его зулусов Роли видел их на дальнем берегу, и Веллингтон Табака, его брат-близнец, стоял во главе, молчаливый и неподвижный.
– Веллингтон! – закричал Роли срывающимся от усталости и страха голосом. – Помоги нам! Мы возьмем этих зулусских псов за яйца! Иди сюда, ударь его в грудь!
Ничего другого он не успел. Джозеф Динизулу уже снова напал на него, и каждый его удар казался сильнее предыдущего. Грудь Роли разрывалась от боли, и вот новый удар пробил его защиту и достал плечо, парализовав правую руку до кончиков пальцев, и палка вылетела из нее.
– Веллингтон! – снова закричал он. – Помоги нам!
А вокруг него отступали товарищи; одних сбили с ног, другие просто бросили палки и съежились в пыли, моля о пощаде, в то время как зулусы продолжали взмахивать палками, нанося удары по мягкой плоти, и боевой зулусский клич звучал победоносным хором, как вой гончих, рвущих в клочья зайцев.
– Веллингтон!
Он успел еще раз взглянуть на брата, стоящего над рекой, и тут удар в лоб, прямо над глазом, разорвал кожу, и Роли почувствовал, как теплая кровь потекла по его лицу. Как раз перед тем, как она ослепила его, он снова увидел лицо Джозефа Динизулу, искаженное жаждой убийства, а потом его ноги подогнулись, и он упал лицом в грязь, в то время как удары продолжали сыпаться на его спину и плечи.
Видимо, он на мгновение потерял сознание, потому что, когда он перекатился на бок и вытер с глаз кровь тыльной стороной ладони, он увидел, что зулусы в боевом строю перешли реку, а остатки его импи убегают в дикой панике к плантации голубых эвкалиптов, преследуемые людьми Динизулу.
Он попытался подняться, но перед ним все кружилось, голову наполняла тьма, и он снова упал. А когда опять пришел в себя, его окружали зулусы, насмехаясь и осыпая оскорблениями. На этот раз он сумел сесть, и тут суматоха вокруг него затихла, сменившись выжидательной тишиной. Роли поднял голову и понял, что это Джозеф Динизулу протиснулся сквозь ряды своих импи и с издевкой смотрит на него.
– Полай, пес коса! – приказал он. – Дай нам услышать твой лай, поскули, прося пощады.
Плохо соображая, Роли тем не менее с вызовом покачал головой, и от этого движения череп чуть не лопнул от боли.
Джозеф Динизулу поставил босую ногу ему на грудь и сильно толкнул. Роли был слишком слаб, чтобы сопротивляться, и опрокинулся на спину. Джозеф Динизулу встал над ним и приподнял переднюю часть своей набедренной повязки. Другой рукой он взялся за свой пенис и направил в лицо Роли шипящую струю.
– Выпей это, пес коса! – захохотал он.
Моча была горячей, воняла аммиаком и обжигала открытую рану на голове Роли, как кислота, – и ярость, унижение и ненависть заполнили всю его душу.
– Брат мой, я очень редко пытаюсь отговорить тебя от чего-то, что ты задумал. – Хендрик Табака сидел на своем стуле, обтянутом леопардовой шкурой, что покрывала его стул, и наклонялся вперед, опираясь локтями о колени. – Дело не в самой женитьбе; ты знаешь, что я всегда побуждал тебя обзавестись женой, многими женами, произвести сыновей… нет, я не саму идею женитьбы не одобряю, тут дело в зулусах, именно это заставляет меня лежать без сна по ночам. В этой стране есть десять миллионов других привлекательных молодых женщин… почему ты должен выбрать какую-то зулуску? Я бы предпочел, чтобы ты уложил в свою постель черную мамбу.
Мозес Гама тихонько хмыкнул:
– Твоя забота обо мне доказывает твою любовь. – Тут он посерьезнел. – Зулусы – самое большое племя в Южной Африке. Одно лишь количество уже делает их важными, но добавь к этому их агрессивность и воинственный дух, и ты увидишь, что в этой стране ничего не изменится без зулусов. Если я сумею создать союз с этим племенем, то все, о чем я мечтаю, не окажется тщетным.
Хендрик вздохнул, что-то проворчал и покачал головой.
– Да ладно, Хендрик, ты же разговаривал с ними. Разве не так? – настойчиво спросил Мозес, и Хендрик неохотно кивнул.
– Я четыре дня просидел в краале Сангане Динизулу, сына Мбежане, что был сыном Джуби, сына Дингаана, а тот был братом самого Чаки. Он считает себя принцем зулусов и очень старается подчеркивать значение этого имени – «Рай», а живет он на широкую ногу на земле, которую его старый хозяин, генерал Шон Кортни, оставил ему на холмах над Ледибургом, и там он содержит множество жен и три сотни голов жирного скота.
– Все это я знаю, брат мой, – прервал его Мозес. – Расскажи мне о девушке.
Хендрик нахмурился. Ему нравилось начинать историю с самого начала и вести рассказ постепенно, не упуская деталей, пока он не добирался до конца.
– Девушка, – повторил он. – Этот старый зулусский плут ноет, что она луна его ночи и солнце его дня, что ни одну дочь никогда не любили так, как он любит ее, и что он никогда не позволит ей выйти замуж ни за кого, кроме вождя зулусов. – Хендрик вздохнул. – День за днем я слушал, как этот шакал перечислял добродетели девушки, расписывая, как та прекрасна и талантлива, что она работает в государственной больнице, что она происходит от длинной линии женщин, рожающих сыновей… – Хендрик умолк и с отвращением сплюнул. – Понадобилось три дня, прежде чем он наконец упомянул о том, что с самого начала было у него на уме, – о лобола, выкупе за невесту. – И Хендрик развел руками в жесте раздражения. – Все зулусы – просто воры и пожиратели навоза.
– Сколько? – с улыбкой спросил Мозес. – Сколько ему нужно, чтобы компенсировать брак вне племени?
– Пять сотен голов первоклассного скота, только беременные самки, и не старше трех лет. – Хендрик нахмурился от возмущения. – Все зулусы – воры, а раз он объявляет себя принцем, то он – принц воров.
– Ты, само собой, согласился на первую цену? – спросил Мозес.
– Я, само собой, торговался еще два дня.
– Какова окончательная цена?
– Две сотни голов. – Хендрик вздохнул. – Прости меня, брат мой, я старался, но этот старый зулусский пес стоял как скала. Это наименьшая цена за луну его ночей.
Мозес Гама откинулся назад на стуле и задумался об этом. Цена была чудовищной. Отборный скот стоил по пятьдесят фунтов за голову, но, в отличие от брата, Мозес Гама не испытывал тяги к деньгам самим по себе, кроме как в качестве средства достижения цели.
– Десять тысяч фунтов? – тихо спросил он. – У нас есть столько?
– Это будет больно. Я целый год буду страдать, как будто меня высекли хлыстом из кожи носорога, – проворчал Хендрик. – Ты понимаешь, сколько всего может купить человек на десять тысяч фунтов, брат мой? Я бы мог достать тебе не меньше десятка девственниц коса, хорошеньких, как сахарные медоносы, и пухленьких, как цесарки, и девственность каждой была бы проверена самой надежной повивальной бабкой…
– Десять девиц-коса не дадут мне возможности дотянуться до племени зулусов, – перебил его Мозес. – Мне нужна Виктория Динизулу.
– Но лобола – это еще не вся цена, – сообщил Хендрик. – Есть и еще кое-что.
– Что именно?
– Эта девушка – христианка. Если ты берешь ее, других быть не должно. Она будет твоей единственной женой, брат мой, а теперь выслушай человека, который заплатил за мудрость тяжелой монетой опыта. Три жены – это самое меньшее, что нужно мужчине для удовлетворения. Три жены так соревнуются друг с другом за благосклонность мужа, что мужчина может расслабиться. Две жены лучше, чем одна. А вот единственная жена, одна-единственная, заставит пищу прокиснуть в твоем животе и заморозит твои волосы сединой. Пусть эта зулусская девица отправится к тому, кто ее заслуживает, к другому зулусу.
– Скажи ее отцу, что мы заплатим нужную ему цену и что мы согласны на его условия. Скажи ему также, что если он принц, то мы ожидаем от него свадебного пира, достойного принцессы. Мы ожидаем свадьбы, о которой будут говорить по всему Зулуленду, от Драконовых гор до океана. Я хочу, чтобы там были каждый вождь и старейшина племени, они должны увидеть мою свадьбу; я хочу, чтобы явились все советники и индуны; я хочу, чтобы пришел сам король зулусов; а когда они все соберутся, я буду говорить с ними.
– Ты можешь с таким же успехом говорить со стаей бабуинов. Зулусы слишком горды и слишком полны ненависти, чтобы прислушаться к голосу разума.
– Ты ошибаешься, Хендрик Табака. – Мозес положил руку на плечо брата. – Мы недостаточно горды и недостаточно ненавидим. Та гордость, что у нас есть, и та малая толика ненависти, которой мы обладаем, растрачиваются не по назначению. Мы расходуем все это друг на друга, на других чернокожих людей. А если все племена этой страны соберут вместе всю свою гордость и всю свою ненависть и обратят их против белого угнетателя – разве он сможет сопротивляться нам? Вот о чем я буду говорить на своем свадебном пиру. Вот чему я должен научить людей. Именно для этого мы выковываем «Народное копье».
Они какое-то время помолчали. Глубина видения брата, пугающая сила его целеустремленности всегда вызывали в Хендрике благоговение.
– Будет так, как ты хочешь, – согласился он наконец. – А когда ты желаешь устроить свадьбу?
– В полнолуние в середине зимы. – Мозес не колебался. – Это будет за неделю до того, как начнется наша кампания неповиновения.
Они снова замолчали; потом Мозес встрепенулся:
– Значит, договорились. Есть ли что-нибудь еще, что нам нужно обсудить перед ужином?
– Нет, ничего. – Хендрик поднялся на ноги и уже собрался позвать женщин, чтобы они подавали еду, но тут вспомнил. – А! Есть еще одна вещь. Та белая женщина, что была с тобой в Ривонии… ты ведь ее знаешь?
Мозес кивнул:
– Да, это женщина Кортни.
– Да, та самая. Она прислала сообщение. Хочет снова тебя увидеть.
– Где она?
– Недалеко, в местечке, что называется Сунди-Кэйвз. Там пещеры. Она оставила для тебя номер телефона. Говорит, важное дело.
Мозес Гама не скрывал раздражения.
– Я же говорил ей, чтобы она не пыталась связаться со мной, – сказал он. – Я предупреждал ее об опасности.
Он встал и принялся расхаживать по комнате.
– Пока она не научится дисциплине и самоконтролю, в ней не будет пользы для нашей борьбы. Белые женщины все такие: испорченные и непослушные, вечно потакают своим желаниям. Ее нужно воспитать…
Мозес умолк и подошел к окну. Что-то во дворе привлекло его внимание, и он резко крикнул:
– Веллингтон! Роли! Идите сюда, оба!
Через несколько секунд мальчики застенчиво вошли в комнату и остановились возле двери, с виноватым видом опустив головы.
– Роли, что с тобой случилось? – сердито спросил Хендрик.
Мальчики уже сменили свои набедренные повязки на повседневную одежду, но рана на лбу Роли все еще кровоточила сквозь повязку из какой-то тряпки. На его рубашке виднелись пятна крови, а один глаз опух и закрылся.
– Отец! – начал объяснять Веллингтон. – Мы не виноваты! На нас напали зулусы…
Роли бросил на него презрительный взгляд и заговорил сам:
– Мы схватились с ними группа на группу. Все шло хорошо, пока некоторые из нас не сбежали и не бросили остальных. – Роли поднес руку к раненой голове. – Трусы есть даже среди коса, – сказал он и снова посмотрел на близнеца.
Веллингтон стоял молча.
– В следующий раз деритесь лучше и проявите больше хитрости. – Хендрик Табака отпустил мальчиков, а когда они поспешно выскочили из комнаты, повернулся к Мозесу. – Вот видишь, брат мой? Даже дети… Как ты надеешься это изменить?
– Надежда как раз на детей, – ответил Мозес. – Ты можешь научить их чему угодно, как обезьян. А вот старых изменить трудно.
Тара Кортни остановила потрепанный старый «паккард» на обочине горной дороги и несколько секунд смотрела на раскинувшийся под ней Кейптаун. Сильный юго-восточный ветер взбивал в пену воды Столовой бухты.
Она оставила машину и медленно направилась вдоль дороги, притворяясь, что любуется дикими цветами, украсившими каменистый склон над ней. В верхней части склона серый скалистый бастион горы отвесно вздымался к небесам, и Тара остановилась и запрокинула голову, чтобы посмотреть на него. Над вершиной плыли облака, создавая иллюзию падения каменной стены.
Потом она снова бросила взгляд вдоль дороги, по которой приехала. Дорога по-прежнему была пуста. За Тарой никто не следовал. Полиция, должно быть, окончательно потеряла к ней интерес. Прошли уже недели с тех пор, как она в последний раз заметила наблюдение.
Ее поведение изменилось; она вернулась к «паккарду» и достала из багажника маленькую корзинку для пикника, а потом быстро направилась назад, к бетонному зданию, где находилась нижняя станция канатной дороги. Она взбежала по ступеням и заплатила за билет в оба конца как раз в тот момент, когда служитель открыл дверь в конце комнаты ожидания и маленькая группа пассажиров села в кабину подъемника.
Темно-красная кабина рывком тронулась с места, и они стали быстро подниматься, вися под серебристой нитью каната. Другие пассажиры издавали восторженные восклицания, когда под ними открывалась панорама скал, океана и города, а Тара украдкой осмотрела их. Через несколько минут она убедилась, что ни один из пассажиров не является сыщиком особого отдела в штатском, расслабилась и тоже сосредоточила внимание на великолепной картине.
Кабина поднималась круто, почти вертикально по склону утеса. Камни обтесало ветрами и временем почти до геометрических форм, и они казались древними блоками гигантского замка. Кабина миновала компанию скалолазов, медленно поднимавшихся в связке по отвесной стене. Тара представила там и себя: как она цепляется за скалу, а под ее ногами зияет пропасть; и у нее тут же закружилась голова. Ей пришлось ухватиться за поручень, а когда кабина остановилась у верхней станции на краю пропасти глубиной в тысячу футов, она с радостным облегчением вышла из нее.
В маленькой чайной, построенной в стиле альпийских шале, Молли ждала ее за одним из столиков и сразу вскочила, увидев подругу.
Тара бросилась к ней и обняла:
– О Молли, дорогая, дорогая Молли! Я так по тебе скучала!
Через несколько секунд они разомкнули объятия, слегка смущенные взрывом собственных чувств и улыбками других посетителей чайной.
– Я не хочу здесь сидеть, – сказала Тара. – Меня просто распирает от волнения. Пойдем прогуляемся. Я прихватила несколько сэндвичей и термос.
Они вышли из чайной и побрели по тропе вдоль обрыва. В середине недели наверху было немного любителей пеших прогулок, и не успели подруги пройти и ста ярдов, как оказались одни.
– Расскажи мне о моих старых подругах из «Черных шарфов», – велела Тара. – Я хочу знать обо всем, что вы делали. Как поживает Дерек и как дела у детей? Кто теперь управляет моей клиникой? Ты там бывала в последнее время? О, я так скучаю по нашим делам, по всем вам!
– Не спеши! – засмеялась Молли. – По одному вопросу зараз…
И она начала выкладывать Таре все новости. Это заняло некоторое время, а пока они болтали, нашлось и подходящее место для пикника, и они уселись, свесив ноги с обрыва, пили горячий чай из термоса, бросали крошки хлеба маленьким пушистым даманам, скальным кроликам, которые выползли из щелей и трещин в камнях.
Наконец поток новостей и сплетен иссяк, и подруги немного посидели в молчании. Нарушила его Тара:
– Молли, у меня будет еще один ребенок.
– Ах-ха! – хихикнула Молли. – Так вот чем ты была так занята! – Она посмотрела на живот Тары. – Пока незаметно. Ты уверена?
– Ради всего святого, Молли! Я же не жеманная девственница! Как-никак четверых уже имею. Конечно я уверена.
– Когда это должно произойти?
– В январе следующего года.
– Шаса будет счастлив. Он души не чает в детях. Вообще-то, это единственное, кроме денег, к чему Шаса Кортни неравнодушен. Ты уже сказала ему?
Тара покачала головой:
– Нет. Пока что ты единственная, кто узнал.
– Я польщена. Желаю вам обоим счастья.
Тут она замолчала, заметив выражение лица Тары, и уже серьезно присмотрелась к ней.
– Боюсь, Шаса не слишком этому порадуется, – тихо произнесла Тара. – Это не его ребенок.
– Боже правый, Тара! Вот уж не думала… – Молли умолкла и немножко поразмышляла. – Я собираюсь задать еще один глупый вопрос, Тара, милая, но откуда ты знаешь, что это не результат усилий Шасы?
– Мы с Шасой… мы не… ну, понимаешь… мы не жили как супруги с тех пор, как… о, целую вечность!
– Понимаю… – Несмотря на всю ее привязанность и дружбу, глаза Молли вспыхнули любопытством. Ее это заинтриговало. – Но, Тара, милая, это же не конец света! Поспеши домой и стяни с Шасы брюки. Мужчины такие болваны, даты для них не имеют особого значения, а если он начнет считать, ты всегда можешь подкупить врача, чтобы тот сказал, что это преждевременные роды.
– Нет, Молли, послушай… Если он просто увидит младенца, он все поймет.
– А я не понимаю.
– Молли, я ношу ребенка Мозеса Гамы.
– Святой Христос! – выдохнула Молли.
Сила реакции Молли донесла до Тары всю тяжесть положения, в котором она оказалась.
Молли была воинствующей либералкой, такой же слепой в отношении цвета кожи, как и сама Тара, но даже ее ошеломила мысль о том, что белая женщина понесла от чернокожего мужчины. В этой стране смешение рас было преступлением, караемым тюрьмой, но и это выглядело ерундой по сравнению с гневом общества, которое должно было последовать. Тара должна была стать парией, изгнанницей.
– О милая… – Молли постаралась сдержаться. – Черт, черт побери! Бедная моя Тара, во что же ты влипла! А Мозес знает?
– Пока нет, но я надеюсь вскоре его увидеть и все сказать.
– Тебе, конечно, придется от этого избавиться. У меня есть адресок в Лоренсу-Маркише. Там живет один португальский врач. Мы посылали к нему одну из наших девушек из приюта. Он стоит дорого, но аккуратен и опытен, не то что какая-нибудь грязная старая карга, что сидит в задних комнатах с вязальной спицей.
– Молли, да как ты могла такое подумать обо мне? Как ты могла подумать, что я убью собственное дитя?
– Ты что, хочешь его сохранить? – разинула рот Молли.
– Конечно.
– Но, дорогая, это будет…
– Да, цветной, – закончила за нее Тара. – Да, я понимаю, возможно, цвета кофе с молоком и с черными кудряшками, и я буду любить его всем сердцем. Так же, как люблю его отца.
– Я не понимаю, как…
– Вот поэтому я и обратилась к тебе.
– Я сделаю все, чего ты хочешь… только объясни, что именно?
– Я хочу, чтобы ты нашла для меня цветную пару. Хороших, достойных людей, предпочтительно уже с детьми, чтобы они позаботились для меня о младенце до тех пор, пока я не сумею все устроить и забрать его. Конечно, они получат столько денег, сколько им нужно, и даже больше…
Ее голос затих, и она умоляюще посмотрела на Молли.
Молли с минуту размышляла.
– Думаю, я знаю подходящую пару. Они оба школьные учителя, и у них четверо своих детей, все девочки. Они сделают это для меня… но, Тара, как ты собираешься все скрыть? Скоро уже будет заметно, ты же помнишь свой огромный живот, когда носила Изабеллу. Шаса может и не заметить, он слишком занят своими счетными книгами, но твоя свекровь настоящая мегера! От нее ничего не скроешь.
– Я уже придумала, как это скрыть. Я убедила Шасу, что загорелась интересом к археологии вместо политики и что меня взяли на раскопки в карстовых пещерах, там работает американский археолог, профессор Мэрион Херст, ты знаешь.
– Да, я прочла две ее книги.
– Я сказала Шасе, что уеду всего на два месяца, но как только скроюсь с его глаз, я просто буду откладывать возвращение. За детьми присмотрит Сантэн, об этом я тоже договорилась, ей это нравится, и, видит Бог, детям это пойдет на пользу. Она куда лучше умеет воспитывать, чем я. Они станут настоящими образцами поведения, когда моя любимая свекровь позанимается с ними.
– Ты будешь по ним скучать, – уверенно произнесла Молли.
Тара кивнула:
– Да, конечно, я буду скучать, но это ведь всего на шесть месяцев.
– А где ты будешь рожать? – не отставала Молли.
– Не знаю. Я не могу обратиться в известную больницу или к акушеркам. О боже, можешь ли ты представить, какая поднимется суматоха, если я произведу на их чистеньких простынках «только для белых» в их обожаемом чистеньком госпитале «только для белых» коричневый живой комочек? В любом случае есть еще достаточно времени, чтобы все это уладить позже. Первым делом я должна уехать в Сунди-Кэйвз, подальше от недоброжелательных глаз Сантэн Кортни-Малкомс.
– А почему именно Сунди, Тара? Что заставило тебя выбрать Сунди?
– Потому что я буду рядом с Мозесом.
– Неужели это так важно? – Молли бесцеремонно уставилась на Тару. – Ты действительно испытываешь к нему такие чувства? Это не было просто маленьким экспериментом, просто небольшим эксцентричным развлечением, чтобы выяснить, каково это – быть с одним из них?
Тара покачала головой.
– Ты уверена, Тара? Я имею в виду, что иногда у меня тоже возникало подобное желание. Полагаю, это естественное любопытство, но меня оно никогда не захватывало слишком сильно.
– Молли, я люблю его. Если он попросит меня, я без колебаний отдам за него жизнь.
– Бедная моя милая Тара… – На глаза Молли навернулись слезы, и она протянула к подруге руки. Они отчаянно обнялись, и Молли прошептала: – Тебе до него не дотянуться, милая моя. Он никогда, никогда не станет твоим.
– Если мне достанется маленькая его частичка, хотя бы ненадолго… Этого мне будет достаточно.
Мозес Гама остановил красно-синий фургон мясника на одной из стоянок для посетителей и выключил мотор. На лужайках перед ним единственный маленький разбрызгиватель пытался компенсировать холод и сухость зимы высокогорного вельда, но трава кикуйю все равно высохла и увяла. За лужайкой стояло длинное двухэтажное здание медицинских сестер Барагваната.
Небольшая группа чернокожих медсестер шла по дорожке от главного корпуса больницы. Каждая в накрахмаленной белой форме, они выглядели опрятно и деловито, но, поравнявшись с фургоном и увидев за рулем Мозеса, они захихикали, прикрывая рты ладонями в инстинктивном жесте подобострастия перед мужчиной.
– Молодая женщина, я хочу с тобой поговорить. – Мозес свесился из окна фургона. – Да, с тобой!
Избранная им медсестра с трудом одолевала смущение. Подруги поддразнивали ее, когда она подошла к Мозесу и робко остановилась в пяти шагах от него.
– Ты знаешь сестру Викторию Динизулу?
– Eh he! – подтвердила медработница.
– Где она?
– Она сейчас придет. Она в одной смене со мной. – Девушка огляделась вокруг, ища пути к бегству, но вместо того заметила Викторию, шедшую по дорожке вместе со второй группой белых фигур. – Вон она! Виктория! Иди скорее сюда! – крикнула она и тут же умчалась по лестнице сестринского дома, перепрыгивая через ступеньку.
Виктория узнала Мозеса и, перекинувшись парой слов с подругами, оставила их и по сухой траве лужайки направилась прямиком к нему. Мозес вышел из фургона, и она посмотрела на него снизу вверх:
– Извините. Произошла ужасная катастрофа с автобусом, мы были заняты очень долго. Я заставила вас ждать.
Мозес кивнул:
– Не важно. У нас еще много времени.
– Мне потребуется всего несколько минут, чтобы переодеться, – улыбнулась Виктория. Зубы у нее были безупречными, такими белыми, что казались почти прозрачными, а кожа сияла здоровьем и юностью. – Я так рада снова вас видеть… но мне нужно обсудить с вами очень важный вопрос.
Они говорили по-английски, и, хотя в ее речи звучал акцент, она, казалось, говорила уверенно, легко подбирая слова, что соответствовало его собственному беглому владению языком.
– Хорошо, – серьезно сказал Мозес и улыбнулся. – Надеюсь, мне попозже удастся на ваш очень важный вопрос отыскать не менее важный ответ.
Она рассмеялась милым гортанным смехом:
– Не уходите, я быстро.
Она повернулась и ушла в дом медсестер, а Мозес с удовольствием наблюдал за ней, пока она поднималась по ступеням. Тонкая талия Виктории подчеркивала пышность бедер под формой. И хотя грудь девушки была невелика, Виктория тем не менее обладала широким тазом и пышными ягодицами; она могла с легкостью выносить ребенка. Именно такие тела представляли собой образец красоты женщин нгуни[9], и Мозес живо припомнил виденные им фотографии Венеры Милосской. Виктория держалась гордо, шея у нее была длинной и прямой, ее бедра при ходьбе покачивались, словно она танцевала под далекую музыку, а голова и плечи почти не двигались. Было очевидно, что в детстве она вместе с другими девочками носила на голове полные до краев кувшины с водой от колодца, не проливая ни капли. Именно так зулусские девушки приобретали столь изумительную царственную осанку.
С ее круглым лицом мадонны и огромными темными глазами Виктория была одной из самых привлекательных женщин, которых приходилось видеть Мозесу, и он, ожидая у капота фургона, размышлял о том, что у каждой расы есть свой идеал женской красоты и насколько сильно они различаются. Это навело его на мысль о Таре Кортни, с ее большими круглыми грудями и узкими мальчишескими бедрами, длинными каштановыми волосами и мягкой, безжизненной белой кожей. Мозес поморщился, испытывая легкую неприязнь к этому образу, и все же обе женщины были важны для его амбициозных планов, и его чувственный отклик на них – влечение или отвращение – к делу никак не относился. Имела значение лишь их полезность.
Десять минут спустя Виктория вышла. Она надела яркое малиновое платье. Такие краски шли ей, подчеркивая гладкую темную кожу. Девушка скользнула на пассажирское сиденье фургона рядом с Мозесом и посмотрела на дешевые позолоченные часы у себя на запястье.
– Одиннадцать минут шестнадцать секунд. Вам не на что жаловаться, – заявила она.
Мозес улыбнулся и включил мотор.
– А теперь изложите ваш вопрос, важный и большой, как динозавр, – предложил он.
– Тираннозавр рекс, – поправила его Виктория. – Это самый свирепый из динозавров. Но лучше мы обсудим его попозже, как вы и предлагали.
Ее подшучивание позабавило Мозеса. Для него было в новинку, что незамужняя чернокожая девушка вела себя так открыто и уверенно. Потом он вспомнил о ее обучении и жизни здесь, в одной из самых больших и шумных больниц мира. Это была не маленькая деревенская девчонка, пустоголовая и хихикающая, и, словно подчеркивая это, Виктория пустилась в непринужденную дискуссию о перспективах генерала Дуайта Эйзенхауэра на выборах в Белый дом и о том, как это может повлиять на борьбу за гражданские права в Америке – и в конечном счете на их собственную борьбу здесь, в Африке.
Пока они разговаривали, солнце начало опускаться, и город со всеми его прекрасными зданиями и парками остался позади, а они вдруг оказались в совсем другом мире – в городке Соуэто, комплексе поселений, где жили полмиллиона чернокожих. Сумерки сгустились от дыма костров, на которых готовили пищу, придавая закату дьявольски красный оттенок, цвет крови и апельсинов. Узкие немощеные проулки заполняли толпы чернокожих жителей пригорода, каждый нес сверток или пакет из магазина, все спешили в одном направлении, возвращаясь домой после долгого дня, который начинался еще до рассвета мучительным путешествием в автобусе или поезде к месту их работы в другом мире, а теперь этот день заканчивался в темноте обратной поездкой, и усталость делала дорогу еще длиннее и утомительнее.
Когда фургон замедлил ход, потому что людей вокруг стало еще больше, кое-кто узнал Мозеса, и люди побежали перед машиной, расчищая дорогу:
– Мозес Гама! Это Мозес Гама! Пропустите его!
Многие выкрикивали приветствия:
– Вижу тебя, нкози!
– Вижу тебя, отец!
Они называли Мозеса отцом и господином.
Когда Мозес со спутницей добрались до местного клуба, примыкавшего к зданию администрации, огромный зал был уже переполнен, люди столпились вокруг, и приехавшим пришлось оставить фургон и последнюю сотню ярдов пройти пешком.
Однако их ждали «буйволы», – для сопровождения. Силовики Хендрика Табаки пробились сквозь плотную массу людей, смягчая демонстрацию силы улыбками и шутками, так что толпа расступалась без негодования.
– Это Мозес Гама, дайте ему пройти!
Виктория цеплялась за его руку и смеялась от возбуждения.
Когда они подошли к центральному входу в зал, Виктория посмотрела вверх и увидела надпись: «Общинный зал Х. Ф. Фервурда».
У правительства националистов быстро вошло в обычай называть все государственные здания, аэропорты, плотины и прочие общественные сооружения в честь политических светил и посредственностей, но в данном случае присутствовала особенная ирония: общественный зал самого крупного чернокожего поселения назвали именем белого создателя законов, протестовать против которых люди собрались здесь. Хендрик Френc Фервурд был министром по делам банту и главным родителем апартеида.
В зале стоял оглушительный шум. Администрация поселения не дала бы разрешения использовать зал для проведения политического митинга, поэтому официально собрание было названо рок-н-ролльным концертом группы, прославившейся под названием «Шоколадные мамбы».
Они находились теперь на сцене под вспышками цветных огней – четверо в облегающих костюмах с блестками. Усилители громыхали над толпой, как воздушная бомбардировка, а танцоры вскрикивали, раскачиваясь и извиваясь в ритме музыки, словно единый чудовищный организм.
«Буйволы» проложили дорогу через танцевальную площадку, и танцоры узнали Мозеса и громко приветствовали его, стараясь к нему прикоснуться, когда он проходил мимо. Затем и музыканты заметили его присутствие и, прервавшись на середине танца, загудели в трубу, загрохотали в барабаны.
Десятки рук с готовностью помогли Мозесу подняться на эстраду, а Виктория осталась внизу, ее голова очутилась на уровне коленей Мозеса, и ее зажали между собой тела, двинувшиеся вперед, чтобы увидеть и услышать Мозеса Гаму. Лидер группы попытался представить его, но даже вся сила электронных динамиков не помогла его голосу пробиться сквозь гром приветствий Мозесу. Из четырех тысяч глоток вырвался дикий непрерывный рев, который продолжался и продолжался, не ослабевая. Он налетал на Мозеса Гаму, словно бурное море во время зимнего шторма, а он стоял неподвижно, как скала.
Затем он поднял руки – и шум быстро затих, над огромным скопищем людей повисло напряженное молчание, и в этой тишине Мозес Гама выкрикнул:
– Amandla! Сила!
Толпа в один голос ответила ему:
– Amandla!
Он снова закричал, и его глубокий волнующий голос отражался от стропил и проникал прямо в глубину их сердец.
– Mayibuye!
Толпа ответила:
– Африка! Да будет Африка!
Опять все затихли в ожидании, волнении и напряжении, и Мозес Гама начал.
– Давайте поговорим об Африке, – произнес он. – Давайте поговорим о богатой и плодородной земле с крошечными бесплодными участками, на которых вынужден жить наш народ. Давайте поговорим о детях, оставшихся без школ, и матерях, лишенных надежды. Давайте поговорим о налогах и пропусках. Давайте поговорим о бедствиях и болезнях. Давайте поговорим о тех, кто трудится под палящим солнцем и в глубинах темной земли. Давайте поговорим о тех, кто живет в огороженных лагерях вдали от своих семей. Давайте поговорим о голоде, слезах и жестоких законах буров.
Целый час он держал их в своих руках, и люди слушали в тишине, разве что иногда стонали и невольно задыхались от тоски или рычали от гнева, и под конец Виктория обнаружила, что плачет. Слезы безудержно и бесстыдно текли по ее прекрасному луноподобному лицу.
Когда Мозес умолк, он уронил руки и опустил подбородок на грудь, измученный и потрясенный собственной страстью, и на зал опустилось глубокое молчание. Люди были слишком тронуты, чтобы кричать или аплодировать.
В этой тишине Виктория внезапно вскочила на эстраду и повернулась лицом к людям.
– Nkosi Sikelel’ iAfrika! – запела она. – Боже, храни Африку!
Музыканты тут же подхватили припев, и над залом хором взлетели великолепные африканские голоса. Мозес Гама подошел к Виктории и взял ее за руку, и их голоса слились.
В конце концов им понадобилось почти двадцать минут, чтобы выбраться из зала; путь им преграждали тысячи желающих прикоснуться к ним, услышать их голоса, присоединиться к их борьбе.
За один этот короткий вечер прекрасная зулусская девушка в огненном платье стала частью почти мистической легенды, окружавшей Мозеса Гаму. Те, кому посчастливилось оказаться в тот вечер в зале, рассказывали невезучим, что она выглядела как королева, когда стояла и пела перед ними, королева, достойная высокого черного императора, стоявшего рядом с ней.
– Я никогда не испытывала ничего подобного, – призналась Виктория Мозесу, когда они наконец снова остались одни и маленький красно-синий фургон повез их обратно по шоссе к Йоханнесбургу. – Их любовь к тебе так велика… – Она запнулась. – Я просто не в силах ее описать.
– Иногда это пугает меня, – согласился Мозес. – Они возлагают на меня такую тяжелую ответственность…
– Не верю, что тебе ведом страх, – возразила Виктория.
– Ведом. – Мозес покачал головой. – Я знаю его лучше, чем кто-либо другой. – И тут же он сменил тему: – Который час? Нам нужно найти что-нибудь поесть до комендантского часа.
– Сейчас только девять часов! – Виктория явно удивилась, когда повернула свои часы к свету уличного фонаря. – Я думала, уже гораздо позже. Я словно прожила целую жизнь за один вечер.
