Бегство от волшебника бесплатное чтение
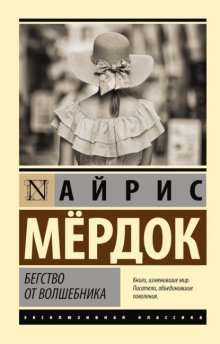
Iris Murdoch
The Flight from the Enchanter
Печатается с разрешения Curtis Brown UK и The Van Lear Agency.
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
© Iris Murdoch, 1956
© Перевод. И. Трудолюбова, 2023
© Издание на русском языке AST Publishers, 2023
Глава 1
Была пятница, время приближалось к трем часам дня. И тут-то Анетта окончательно решила бросить школу. Урок итальянской литературы шел своим чередом. Громким, пронзительным голосом преподавательница читала двенадцатую песнь «Ада». Она как раз подошла к строкам о Минотавре. «Ад» Анетта не любила. Эта книга казалась ей жестокой и неприятной. Особенно строчки о Минотавре. За что бедняга Минотавр должен мучиться в пекле? Он ли виноват, что родился чудовищем? Тут Бог виноват. Минотавр метался от боли, описывает Данте, как бык, смертельно раненный секирой. «Посторонись, скот!» – угрожающе продекламировала преподавательница. Эта англичанка в молодости побывала во Флоренции и прослушала там курс итальянской культуры. Ну вот, Вергилий принялся оскорблять Минотавра. И терпение Анетты лопнуло. В этой школе учат одним глупостям, подумала она. Буду учиться самостоятельно. Вступлю в Школу Жизни. Анетта аккуратной стопкой сложила учебники и встала. Потом прошла через класс и важно кивнула преподавательнице, которая, прервав чтение, неодобрительно смотрела на ученицу. Анетта вышла и тихо закрыла за собой дверь. И вот она уже снаружи, в устланном коврами коридоре. Ну до чего же все просто! Давно бы решиться. От радостного удивления Анетта просто рассмеялась. Она вприпрыжку пробежала по коридору, потревожив стоящую на подставке элегантную цветочную вазу, и спустилась в гардеробную. Как раз пробило три.
Колледж Рингхолл, дорогостоящее высшее учебное заведение в районе Кенсингтона, брался обучать юных девиц тем наукам, которые им были необходимы для того, чтобы поймать мужа в один, ну, в худшем случае, два светских сезона. Дальновидные мамаши из слоев общества, откуда Рингхолл набирал своих учениц, были совсем не так богаты, как показывали на людях, и поэтому желали быстрых результатов. Школа бралась за дело со всей серьезностью, как за военную операцию. Анетта поступила в Рингхолл месяцев шесть назад. Ее отец, дипломат, хотел, чтобы дочь «дебютировала» в лондонском свете, и считал, что краткое пребывание в заведении вроде Рингхолла поможет воспитать в его «бродяге без роду и племени», как он называл дочь, манеры английской леди. Это время должно было, по мнению Анеттиного отца, стать необходимой, а может быть, и завершающей частью ее воспитания. Самому Эндрю Кокейну, покинувшему Англию в возрасте двадцати трех лет, лондонская жизнь казалась, хотя в этом он ни в коем случае не признался бы, утомительной и скучной. Тем не менее он позаботился определить своего сына именно в ту привилегированную частную лондонскую школу, которую сам в свое время окончил. Образование дочери считалось вопросом менее важным; училась она un peu partout[1] и успела изучить четыре языка и кое-что еще; но, с отцовской точки зрения, своего «пика» учение Анетты должно было достигнуть не где-нибудь, а именно в Лондоне. Мать Анетты, по национальности швейцарка, лишь руками развела и со всем согласилась; а если у нее и были какие-то сомнения, то она их оставила при себе.
Анетте вскоре должно было исполниться девятнадцать. В отношении Рингхолла она не сомневалась ни минуты: невзлюбила его сразу. К соученицам относилась сочувственно-презрительно, а к учителям – исключительно презрительно. Директрису, мисс Уолпол, ненавидела всей душой и без всякого повода, хотя мисс Уолпол ничего плохого ей не сделала и вообще, кажется, ее не замечала. Такого чувства беспричинной ненависти Анетта прежде ни к кому не испытывала и поэтому даже начала им гордиться как неким, как она считала, признаком зрелости. Против того, чему ее в Рингхолле пытались научить, она боролась с неизменным упорством, дав клятву самой себе, что ни одна из рингхолльских благоглупостей не найдет даже временного пристанища в ее уме и памяти. При первой возможности она в классе или углублялась в интересную книжку, или начинала писать письмо. А если такой возможности не было, погружалась в приятные мечты или в не менее приятное оцепенение. Чтобы его достичь, требовалось прежде приоткрыть рот и сосредоточить все внимание на каком-нибудь предмете, находящемся вблизи. Смотреть пристально, до полного остекленения глаз, до абсолютной пустоты в мозгу. Но вскоре от этого развлечения Анетта решила отказаться. Она начала опасаться, но не того, что преподаватели, наблюдая за ней, в конце концов сочтут ее слабоумной (о, это как раз было бы забавно!). Нет, она боялась, что под влиянием самовнушения однажды действительно заснет на уроке, а это уж ей было ни к чему.
Анетта надела пальто и уже собралась выйти на улицу. Но здесь, у двери, она вдруг остановилась. Повернулась и оглядела коридор. Вроде все на своих местах: вазы с цветами, акварельные репродукции знаменитых картин на стенах, обожаемый завиток беломраморной лестницы. Анетта старательно всматривалась в эти предметы. Такие, как прежде, и вместе с тем… появилось во всем что-то новое. Она чувствовала себя так, будто прошла сквозь зеркало. И ей вдруг стало ясно – она свободна! Размышляя, почти с трепетом, над той легкостью, с которой была достигнута эта свобода, Анетта поняла, что Рингхолл наконец преподал ей важнейший свой урок. Она пошла по коридору назад, по пути заглядывая в пустые помещения, касаясь пальцами предметов, и ей верилось, что за знакомыми дверьми могут оказаться совсем незнакомые комнаты. Занимательное странствие привело ее в библиотеку.
Туда она вошла почти на цыпочках и обнаружила, что эта комната, как всегда, пуста. Вокруг было тихо. И, глядя на стеллажи, Анетта постепенно начала воображать, что это не просто библиотека, а книгохранилище в разбомбленном городе. И книги теперь никому не нужны. Никто за ними не явится. Пройдет время, стены окончательно разрушатся. И под струями дождя книги начнут погибать. Так почему бы не взять одну или даже две в виде сувенира? Тома в библиотеке колледжа стояли как попало, на них не было даже штампов. Анетта обследовала несколько полок. Пусть книги никто не позаботился упорядочить, зато они были как новенькие: чтение в Рингхолле среди популярных развлечений не числилось. Остановив свой выбор на оправленных в солидную кожу «Избранных поэмах» Браунинга, Анетта с томом под мышкой покинула библиотеку. Она чувствовала себя настолько счастливой, что готова была запеть. И запела бы, если бы не боялась разрушить то хрупкое очарование, которое словно магическим покровом окутало сейчас все вокруг и приказывало хранить молчание. С видом победителя Анетта огляделась по сторонам. Рингхолл теперь в ее власти!
Было два поступка, которые Анетта задумала совершить в тот самый день, когда оказалась в стенах школы. Первый – нацарапать собственное имя на бюсте Гринлинга Гиббонса[2], стоящем в общей комнате. Деревянный Гринлинг взирал на окружающих так важно, так напыщенно, что у Анетты просто руки чесались провести по нему ножиком… Податливое дерево так к себе и манило. Но когда дошло до дела, ей пришлось распрощаться со своим замыслом. И не потому, что уважение к славному имени вдруг проснулось в ней, нет, причина была иная – перочинный ножик куда-то запропастился. И второе – ей всегда хотелось покачаться на люстре, висящей в столовой. Анетта тут же направилась в столовую. Столы и стулья влачили там свое одинокое существование и, когда она ворвалась, встретили ее осуждающим молчанием. Анетта задрала голову – и сердце в груди у нее подпрыгнуло, как мячик. Люстра казалась огромной и висела как будто в поднебесье. Все это Анетта успела отметить раньше, когда внимательно изучала этот предмет. Учла она и наличие толстой металлической перекладины посреди люстры, за которую вполне можно ухватиться руками. Перекладина со всех сторон была обвешана крохотными хрустальными капельками; в каждой из них горела искорка чистого света, словно резвая волна расплескалась на бегу и брызги полетели вверх, да так и замерли навсегда под лучами солнца. Анетта предвкушала, что если удастся раскачать люстру, то музыка, скрытая в хрустальных подвесках, оживет, зазвенит колокольчиками. Мечты мечтами, но теперь она видела, что план осуществить будет не так-то просто.
В своих фантазиях Анетта всегда достигала люстры великолепным подскоком с Большого Стола[3], но теперь поняла, что так вряд ли получится. Исполненная решимости, она вцепилась в один из столов и потащила его на середину комнаты. Потом водрузила на него стул. После чего начала взбираться. Но даже еще не поднявшись на стул, а только на стол, Анетта почувствовала, что земля как-то неприятно отдалилась. Она ведь страдала боязнью высоты. И все же, внутренне сосредоточившись, Анетта встала на стул. И вот здесь, поднявшись на цыпочки, она и ухватилась за перекладину. Затем, замерев на мгновенье, решительным движением ноги отбросила стул и повисла, вытянувшись между небом и землей. Еще несколько секунд с тревогой ждала характерного звука отрывающейся от потолка цепи, но, к счастью, цепь оказалась крепкой, да и Анетта была легкой как перышко.
Скомандовав самой себе: «пятки вместе, носки врозь», она движением от бедра начала раскачиваться, неторопливо, задумчиво, туда-сюда, туда-сюда. И люстра действительно зазвенела, но не оглушительно, как ожидала Анетта, а очень высоким и нежным перезвоном; и ничего удивительного: какого же звучания можно ожидать от морской волны, остановленной и превращенной в стекло? Именно такого хрупкого, похожего на тончайшую смесь звука и воздуха. Анетта была просто заворожена и этим перезвоном, и ритмом собственного движения. Постепенно она погрузилась в некий транс и, раскачиваясь, принялась воображать, как останется здесь до самого обеда, до того часа, когда обитательницы Рингхолла потянутся гуськом в столовую; вот они входят, чинно рассаживаются вокруг стола, вокруг ее болтающихся ног, обращая на нее внимания не больше, чем на какой-нибудь предмет обстановки…
В эту минуту дверь отворилась и вошла мисс Уолпол. Анетта от неожиданности разжала руки и, минуя стол, грохнулась прямо к ногам директрисы. Мисс Уолпол глядела на свою воспитанницу, слегка нахмурившись. Эта дама никак не могла решить для себя один вопрос: кто ей больше не по душе – созревающие девицы или маленькие дети. От последних, несомненно, шума куда больше, но верно и то, что справиться с ними зачастую куда легче.
– Встаньте, мисс Кокейн, – с усталым вздохом обратилась она к Анетте. Она всегда вздыхала, когда говорила, словно собеседник ее утомлял. Мисс Уолпол никогда ни о чем особо не заботилась, потому ее, в сущности, ничто не могло удивить. И вот это спокойное равнодушие как раз и обеспечило ей репутацию уважаемой директрисы.
Анетта встала, потирая ушибленное место. Ударилась она довольно чувствительно, но все же повернулась, поправила стол, подняла валяющийся набоку стул. Потом, взяв в руки пальто, портфель и том Браунинга, посмотрела на мисс Уолпол.
– Что вы здесь делали, мисс Кокейн? – со вздохом спросила мисс Уолпол.
– Раскачивалась на люстре, – ответила Анетта. Она нисколько не оробела перед директрисой, чьи притязания на моральное и интеллектуальное превосходство давным-давно считала тщетными.
– Зачем? – вновь спросила мисс Уолпол.
Анетта не знала, как ответить на этот вопрос, и поэтому прибегла к надежнейшему способу сокращения любого неприятного разговора – с готовностью произнесла:
– Я чрезвычайно сожалею о своем поступке. – И добавила: – Я решила оставить колледж.
– Позволено ли мне будет опять поинтересоваться: почему? – спросила директриса.
Она отличалась чрезвычайно высоким ростом, что, возможно, было косвенной причиной ее успешной карьеры; и хотя Анетта тоже была далеко не коротышкой, ей, чтобы взглянуть мисс Уолпол в глаза, пришлось бы запрокинуть голову. Желая выглядеть достойно, Анетта начала потихоньку отступать, чтобы сделать линию между ее глазами и глазами мисс Уолпол горизонтальной. Но в то время как она отступала, директриса, словно толкаемая сзади невидимой силой, приближалась, так что волей-неволей Анетте все же пришлось смотреть снизу вверх.
– Все, что я могла здесь узнать, я уже узнала, – сказала Анетта. – Теперь я буду учиться самостоятельно. Вступлю в Школу Жизни.
– Что касается вашего мнения, что вы здесь изучили все, то это чистейшее заблуждение, – возразила мисс Уолпол. – Стиль ваших развлечений определенно континентальный, и, как я уже имела возможность на днях заметить, по лестнице вы поднимаетесь по-прежнему совершенно неправильно.
– Я хотела сказать: всему, что я считаю важным для себя, я уже научилась, – пояснила Анетта.
– Кто внушил вам мысль, что в школе можно научиться чему-либо важному? – снова вздохнула мисс Уолпол. – Я полагаю, вы понимаете, – продолжила она, – что ваши родители внесли плату за обучение и стол до конца учебного года и о возврате этой суммы не может быть и речи?
– Ничего страшного, – ответила Анетта.
– Завидую легкости, с которой вы делаете подобные заявления, – сказала мисс Уолпол. – Что касается того института, который вы назвали Школой Жизни, то, если позволите мне такую дерзость, достаточно ли вы опытны, чтобы черпать из нее знания? Кстати, а это что такое? – и она указала на том Браунинга, который Анетта как раз засовывала в портфель.
– Это книга, которую я хотела бы оставить в дар библиотеке колледжа, – без запинки произнесла Анетта и протянула том директрисе. Та взяла его с некоторым сомнением.
– Красивый экземпляр, – сказала мисс Уолпол. – Мы вам благодарны.
– Я бы хотела, чтобы на книге появилась памятная надпись «Дар Анетты Кокейн». А теперь прощайте, мисс Уолпол.
– Всего хорошего, мисс Кокейн, – ответила директриса. – И помните: секрет всякого образования заключается в терпении; и любопытство – это не то же самое, что жажда знаний. Помните и то, что я всегда здесь.
Тут же решив все сказанное изгладить из памяти, Анетта попятилась к двери. Вихрем промчалась по лестнице и выскочила на улицу.
А там уж сразу же пустилась бегом. Но не потому, что хотела как можно быстрее удалиться от колледжа, а потому что всякий раз, когда чувствовала радость и волнение, просто не могла устоять на месте. Ее частенько видели устремленной вперед, едва касающейся земли, в кружении одежд, подобно богине Нике. Она носила две или три нижних юбки; и сейчас апрельский ветер подхватил их, и стройные ноги Анетты замелькали в этом калейдоскопе цветов. Дважды она уронила книжки и вынуждена была за ними вернуться. Трижды встречала что-то любопытное и шла задом наперед, пока оно не исчезало из виду. Возможности оглянуться Анетта не упускала никогда. Отец называл эту привычку ребячеством, а мисс Уолпол – отсутствием достоинства. Но ее брат Николас, которого она обожала больше всех на свете, говорил так: «Кто не оглядывается, тот упускает самое интересное». Ничего так не страшились Николас и Анетта, как пропустить это «самое» интересное. Отец смеялся и упоминал Орфея и Лотову жену. «Я бы на их месте тоже оглянулась, – отвечала Анетта. – Самое важное происходит у нас за спиной». «Беда в том, – возражал отец, – что ты хочешь быть сразу во всех местах. В один прекрасный день ты просто разлетишься на кусочки».
Начал накрапывать дождь. Пятясь, Анетта показалась из-за угла Квин-Гейт, по которой вдаль уходил какой-то чернокожий человек. Потом развернулась и побежала по Кенсингтон-Хай-стрит. Ей хотелось как можно скорее попасть домой, переодеться и оглушить новостью Розу.
– Теперь я сама себе хозяйка, – пробегая мимо «Баркера»[4], вслух произнесла Анетта. Да так громко, что две проходившие мимо дамы даже поглядели на нее с удивлением. Глаза Анетты были широко распахнуты, рот открыт, нижние юбки вращались, как карусель. Попытавшись по-жеребячьи брыкнуть ногой, она чуть не зарылась носом в землю.
Глава 2
Внизу с силой хлопнули дверью.
– У моей сестры дурные манеры, – сказал Хантер Кип.
Кальвина Блика сестра Хантера не интересовала. Она была уже далеко не юна, к тому же полновата. А Кальвина если и привлекали женщины, то исключительно длинноногие, бледные, изящные, с крохотными ступнями. Он присел на краешек стола, раскачивая ногами.
Хантера такая бесцеремонность разозлила.
– Обязательно сидеть на столе?
– Но где же еще здесь можно усесться? – с некоторым недоумением спросил Блик. И его вопрос был понятен. В комнате имелся всего лишь один стул, и тот был занят Хантером.
– На полу! – ответил Хантер.
Что ж, в этом тоже была доля правды. Кальвин опустился на пол и вытянулся там в позе каменного этруска, покоящегося на собственной могиле. Блик был долговязый, с бледными глазами, цвет которых вряд ли кому-либо удавалось запомнить.
– Непременно нужно лежать? – снова вспылил Хантер. Кальвин, растянувшийся на полу, раздражал его не меньше прежнего.
– На вас не угодишь, мистер Кип, – заметил тот. – Куда прикажете деваться?
– Можете прислониться к стене, – придумал Хантер. Кальвин сел и прислонился к стене.
– Грязновато у вас здесь, – поморщился он. – Смотрите, брюки все в пыли!
– У меня нет средств на уборщицу, – сказал Кип, – а Роза здесь не убирает. И вообще, она слишком занята на фабрике.
– Где? – удивился Кальвин.
– На фабрике, – повторил Хантер. – А вы не знали? И все оттого, что ее назвали в честь Розы Люксембург. Поэтому жизнь у нее так и сложилась, – произнес он с горечью.
– О, не стоит так обобщать, – возразил Кальвин. – Возьмем, к примеру, меня. Несмотря на имя, у меня все складывается недурно.
– Жалкая, крохотная фабричка, – вздохнул Хантер. – Выпускает какие-то валики и распылители для краски. Как все это скучно.
– Зато полезно, – заметил Блик. – В наши дни мы все оказываемся втянутыми в процесс производства, как заметил Сен-Симон. Но почему ваша сестра решила поступить на фабрику?
– Хочет быть поближе к народу и сделать свою жизнь максимально бесцветной, – хмуро пояснил Хантер.
– Относительно бесцветности жизни замечу, что большинство из нас добивается этого без особых хлопот, – сказал Кальвин. Ему хотелось вернуть разговор к тому пункту, от которого Кип ускользал: – Скажите, издательство помещается именно здесь?
– Да, – ответил Хантер, – тут у нас офис.
– Тогда ничего удивительного, что у вас такой ничтожный тираж. Плохи ваши дела.
– У нас все в порядке.
– Да вы почти банкрот, – возразил Кальвин. – И я просто не понимаю, почему вы так упорно отвергаете мое предложение. Кроме меня, вашим убыточным изданьицем вряд ли кто заинтересуется.
Кальвин не знал, что и подумать. На всем протяжении разговора Хантер не то чтобы стоял на своем, а просто не проявлял интереса. И все время косил глазами, как лошадь, куда-то вбок. Самое интересное, что Блик знал наверняка: его визави человек слабохарактерный. Кальвин никак не ожидал такого упорства. И теперь страстно хотел узнать, откуда что взялось.
– Я не желаю продавать то, что вы назвали «моим убыточным изданьицем», ни вам, ни кому-либо другому, вот и все, – произнес Хантер, отбросив назад свои длинные блондинистые волосы.
Ему исполнилось двадцать семь лет. И он относился к тому типу молодых людей, которых иногда именуют «хорошенькими мальчиками»: гладенькое личико и улыбка, то ли дерзкая, то ли жалобная. Он был миловиден и неряшлив и напоминал одновременно и студента, и маленького мальчика; последнего, пожалуй, больше. Хантер пошел в светловолосого отца, художника. А Роза – в темноволосую мать, которая была фабианкой.
– Она ведь даже не ваша, – сказал Кальвин, – «Артемида» эта. Формально и юридически журнал принадлежит вашей сестре, не так ли?
– О, юридически газета принадлежит целой толпе старых леди, которые в начале этого века боролись за права женщин. Именно они были первоначальными держателями акций. Многие из них до сих пор здравствуют и вовсе не собираются покидать этот мир. Когда наша матушка умерла, ее акции перешли к Розе. Да будет вам известно, что мужчины акциями «Артемиды» владеть не имеют права. Так записано в уставе. Но у Розы нет никаких особых прав. Она – рядовой акционер.
– Выходит, именно акционеры решают судьбу журнала? – тут же спросил Блик.
– Ничего они не решают, – возразил Хантер. – Потому что давным-давно позабыли о самом существовании «Артемиды». Долгие годы акции ничего не стоили. В положенный срок я давал объявление о собрании акционеров, готовил доклад и финансовый отчет, но никто не являлся. К тому же за последние двадцать лет характер «Артемиды» изменился настолько, что эти пожилые дамы вряд ли узнали бы в нем то давнее суфражистское издание. Теперь я один все решаю. «Артемида» – это я.
– А как же сестра? – поинтересовался Кальвин.
– Розе наплевать, – с досадой ответил Кип.
– Значит, не исключено, что акционерши были бы совсем не против продажи? – развивая мысль, сказал Кальвин. – В конце концов, они получили бы некую компенсацию за свои абсолютно бесполезные бумажки.
– Может быть, – пробормотал Хантер.
– Получается, вы один против сделки, – наседал Кальвин, – и я не могу понять почему. Процесс издания вам в тягость. Прибыли вы не получаете… и, судя по запущенности этого офиса, скоро вообще все рухнет в тартарары.
– Никаких сделок, – заносчиво произнес Хантер. – Запомните, никаких. Я не собираюсь продавать «Артемиду» и свое решение не изменю. А теперь прошу вас удалиться.
Кальвин поднялся с пола и мрачным взглядом окинул Хантера. Он не собирался сдаваться и решил, что не уйдет отсюда, пока не выяснит, что же творится в голове у Кипа. Он проведет здесь весь день, если понадобится. Блик принялся ходить туда-сюда по комнате, на ходу пиная картонные коробки и кучи старых и новых выпусков «Артемиды», которыми был устлан пол.
– Прекратите, – поморщился Хантер, – пыль ведь столбом.
– Хотите, покажу вам фото своей матери? – спросил Кальвин. Это был его старый трюк.
– Не хочу, – ответил Хантер.
Но Кальвин все же извлек из нагрудного кармана пачку фотографий, отделил верхнюю и пододвинул Хантеру. На снимке виднелась стройная девица в черных чулках и туфлях на шпильках.
– Недурна, – промямлил Хантер.
– А здесь она осветлила волосы, – продолжил Кальвин.
На следующей фотографии блондинка вылезала из ванны.
– Хватит, – прекратил просмотр Хантер. – Интересно, откуда вы их берете?
Ходили слухи, что Кальвин Блик сам и мастерит эти снимки.
– Из семейного альбома, откуда же еще, – скромно сказал Блик. Ловким движением длинных веснушчатых пальцев Кальвин мгновенно сложил снимки, словно колоду карт. На пальцах у него красовались кольца. Он обожал эти украшения и часто их менял. Хантер взглянул на кольца с неодобрением. У него самого ладони были грязные и ногти подстрижены кое-как. В общем, собеседники с презрением смотрели друг другу на руки.
– Вы поймите, – вернулся к прежней теме Кальвин, – что помимо денег за акции, которые будут выплачены вашей сестре, определенную компенсацию получите и вы. И в определении суммы мы, я вас уверяю, будем открыты любым разумным предложениям. Мы возместим вам утрату издательских прав. Вы же получили образование, мистер Кип, вы социально защищены, не то что я…
– Не думаю, что вы так уж беззащитны, – язвительно возразил Хантер. Он всячески держался за возможность продемонстрировать свою непреклонность. Теперь он обратил внимание на брюки Кальвина, сшитые из эластика, и еще больше запрезирал его. В то же время у Хантера было немало причин опасаться этого человека. Ему хотелось, чтобы Блик ушел, и как можно скорее.
– Любопытно, сознаете ли вы, что скрежещете зубами, и довольно громко? – поинтересовался Кальвин. – Я знавал человека, страдавшего от такой же привычки. Так он, знаете ли, в конце концов стер свои зубы до корней. Безусловно, это симптом невроза. Фрейд в одной из работ пишет…
– Слушайте, Блик, – не выдержал Хантер, – ваш босс уже владеет тремя газетами, кучей периодических изданий и всеми теми безобразиями, которыми полон издательский рынок. Зачем ему понадобилась еще и эта несчастная «Артемида»? Почему бы не оставить нас в покое?
– Ему просто хочется владеть этим изданием, – объяснил Кальвин. – Хочется, и все.
– Ах, если ему хочется, то пусть придет сюда, – дрожащим голосом произнес Хантер. – Сам придет, а не посылает слугу.
– А! – вперившись в Хантера взглядом, воскликнул Кальвин Блик. – Ага!
Он что-то начинал понимать.
В этот миг дверь распахнулась и в комнату, как маленький ураган, влетела Анетта. В один присест она одолела расстояние от двери до стола, вспорхнула на него, прикрыв кипы бумаг своими разноцветными юбками, и уселась, подобрав под себя ноги, словно беженец на скале.
– А я бросила Рингхолл! К чертовой бабушке! – сообщила она Хантеру.
– Анетта! Ну сколько раз я тебя просил не входить в контору без стука! – укорил ее Кип. – У меня сейчас важный разговор, так что, пожалуйста, уходи!
Анетта только сейчас заметила постороннего. И тут же слезла со стола. Но было уже поздно. Приосанившись, Кальвин обратился к Анетте:
– Постойте, ведь нас еще друг другу не представили. – Он с огромным интересом рассматривал ее.
А Хантер, кажется, был взбешен.
– Анетта Кокейн, – сквозь зубы процедил он. – А это Кальвин Блик.
Анетта сделала грациозный книксен и протянула Кальвину руку. Его имя ей ни о чем не говорило. Но все же широкая, радостная улыбка расцвела на ее лице, обнаруживая все больше и больше маленьких беленьких зубчиков.
– Enchantée[5], – сказала Анетта.
– Несомненно, – отвечая на какую-то свою мысль, произнес Кальвин. – Ошибки быть не может. Вы похожи на свою мать как две капли воды.
– А вы с ней знакомы? – нисколько не удивившись, поинтересовалась Анетта. В Европе знакомых матери можно было встретить везде.
– Имел честь встречаться, – сказал Кальвин. Небрежность с него как рукой сняло. Аккуратнейшим образом сдвинув каблуки, он предупредительно склонился перед Анеттой, и, по всей видимости, ловил каждое ее слово.
– Уходите! – закричал Хантер.
– Можно ли мне узнать, ваша матушка сейчас в Лондоне? – не обращая внимания на крик, поинтересовался Кальвин.
– Нет. Они с Эндрю все еще гостят в Турции, – ответила Анетта, с младенчества привыкшая называть родителей по именам.
– А вы долго пробудете в Лондоне, Анетта? – спросил Кальвин. – Позволено ли мне к вам так обращаться?
– Блик, когда вы наконец уберетесь! – снова вскипел Хантер.
– Не злись, Хантер, – произнесла Анетта. – Что с тобой? Предполагалось, что я пробуду в Лондоне весь этот год. Я учусь в колледже. То есть училась до трех часов дня.
– А где вы живете? – продолжал спрашивать Кальвин.
Хантер с тихим мычанием начал сгребать в кучу бумаги.
– Я живу здесь, – ответила Анетта. – С Хантером и Розой. А вы и Розу знаете?
– Удостоился такой чести, – сказал Кальвин. – Теперь я понимаю, вы скрыли от меня все, что можно было скрыть! – злобно бросил он Кипу. И тут же улыбнулся Анетте неожиданно веселой улыбкой, осветившей его бесцветное лицо и разом обнаружившей в нем множество новых деталей. – Расскажите о вашей школе, – попросил он. – История с уходом особенно занимательна.
– Да, прекрасная история. Я просто взяла и ушла!
– Но почему вы сделали это? – спросил Кальвин.
Он говорил и в то же время внимательнейшим образом рассматривал Анетту. С удовольствием отметил узкое, длинное тело, бледность лица, кремовую гладкость оголенных ног. Румяных Кальвин не любил. Он считал, что женщина должна быть равномерно светлокожей.
– Потому что ничему бы там не научилась, – заметила Анетта. – Вот я и решила учиться самостоятельно. Собираюсь вступить в Школу Жизни.
– Приветствую ваше решение! – рассмеялся Кальвин. – Надеюсь, во время ваших занятий мы будем время от времени встречаться?
– Уходите, Блик! – вскочил со стола Хантер.
– Успокойся, Хантер, – сказала Анетта. – Где Роза?
– Пошла навестить доктора Сейуарда, – ответил Хантер, – а потом на фабрику.
– Когда же она вернется? – поинтересовалась Анетта. – Интересно, успею ли я навестить Нину.
– Роза пообещала не задерживаться, – сообщил Хантер.
– Ну тогда я пойду к Нине завтра утром, – решила Анетта. – Мне очень хочется поговорить с Розой.
– Нина? Портниха? – тут же вмешался Кальвин. Глаза у него засверкали, как пара отшлифованных морем ракушек.
– Да, – посмотрела на него Анетта. – А вы…
– Убирайтесь! Убирайтесь! Убирайтесь! – закричал Хантер и начал бросать в воздух бумаги. Пыльное облако окутало всех троих. Анетта чихнула.
– Убирайтесь! – в четвертый раз крикнул Хантер и принялся толкать Кальвина к двери. Тот охотно, со смехом, покинул комнату, и долго еще было слышно, как он хохочет и чихает, спускаясь вниз по лестнице.
Хантер вернулся и с досадой посмотрел на Анетту. Он тепло относился к ней, но еще в самом начале, когда Роза только предложила поселить у них в доме Анетту, заметил, что девица может доставить им массу хлопот. И вот теперь его опасения, кажется, начали оправдываться. Да и новость, что Анетта бросила школу, вовсе его не обрадовала. «Вот оно, начинается!» – подумал Хантер, уныло глядя на хрупкое дитя.
– Думаешь, Роза похвалит тебя за то, что ты бросила Рингхолл? – спросил он.
– Да ей все равно! – дерзко ответила Анетта.
Этого-то Хантер и боялся – Розиной уступчивости.
– Теперь уходи, – пробормотал он. – Мне надо работать.
– А почему этот господин сказал, что ты от него все скрываешь? – напоследок поинтересовалась Анетта.
– Понятия не имею, – бросил Хантер. – Прошу тебя, уходи. Уходи!
Дверь закрылась.
– Начинается, – снова пробормотал Хантер, – да, начинается…
Глава 3
Питер Сейуард работал за обширным столом, заваленным книгами, фотографиями и печатными простынями иероглифических надписей. Поверхности стола попросту не было видно. Местами книги лежали одна на другой, в три, в четыре слоя. Ими был устлан даже пол. В комнате находилось приблизительно три тысячи томов, из которых сотня, не меньше, была раскрыта. Некоторые из них лежали горизонтально, другие были поставлены под углом сорок пять градусов; часть – вертикально, отворенные на нужной иллюстрации; иные, наивно укрепленные обрывками веревки, стоймя стояли на полках, которые в большинстве своем достигали потолка. Оставшееся пространство было усыпано фотоснимками статуй и репродукциями картин, скрепленными одна с другой.
Комната была большая, со створными окнами, выходящими в окруженный высокими стенами сад, главной достопримечательностью которого являлся раскидистый платан. Из-за него в помещении всегда было сумрачно, а поскольку пятую часть поверхности занимали различного рода изображения, комната напоминала богато украшенную наскальными рисунками пещеру. Только потолку удалось отстоять свою чистоту, да и то лишь потому, что у Питера не хватило технических приспособлений, не то быть бы и потолку увешанным картинами и прочими полезными объектами. Но и на его бледной поверхности с течением времени стали появляться трещинки и неровности, сначала еле заметные, позднее разросшиеся в отчетливо видимые бугры, шишки и наросты всех сортов и видов, будто потолок глубоко сочувствовал полу и стенам и не хотел от них отставать. На каминной полке, с которой постоянно падали на пол кипы бумаг, курительные трубки и коробки спичек, стояли песочные часы, заботливо переворачиваемые в положенное время Питером, а также фото его сестры, умершей в возрасте девятнадцати лет. С тех пор прошли годы. Над каминной полкой висел портрет Моммзена[6], а у двери на стене – портрет Эдварда Майерса[7]. В углу произрастало, то пропадая за горами бумаг, то вновь появляясь, безымянное растение, таинственной витальности которого еще хватило, чтобы здесь, в темной и сухой комнате, зазеленеть, но не расцвести.
Сейчас был день. Питер Сейуард обычно делил свой рабочий день на четыре этапа. Утром, тихий и восприимчивый, он записывал, почти в полудреме, те идеи, которые у него возникали. Он вставал рано и тут же начинал работать, откладывая завтрак до половины одиннадцатого. Среди утренних записей встречались и планы будущих трудов, и мысли о насущных исследованиях, и вещи странные – видения прошлого, знание которого принадлежит ночи; и все же крохотные частицы его уловимы и при свете дня, просто надо торопиться, а то они так и норовят умчаться по тропам сна, и где-то там, вдали, слиться в единое целое с призраками желаний и тревог. Питер считал эти прозрения чрезвычайно важными; и одно время, прежде чем доктор строго-настрого запретил ему это делать, даже отодвигал эту утреннюю часть своих занятий поглубже, действительно в ночь; кладя рядом с постелью блокнот, он непрерывно записывал свои мысли и бросал листочки на пол, так что, просыпаясь, находил вокруг множество на скорую руку сделанных записей, подчас неразборчивых и не поддающихся расшифровке. Из-за болезни ему пришлось отказаться от попытки ежедневно трудиться двадцать четыре часа в сутки, но бессонные ночи случались и ныне.
После десяти тридцати, позавтракав здесь же, за письменным столом, он начинал работу, которая длилась до четырех дня. В это время он иногда делал заметки, иногда писал статью или какую-то часть книги, над которой трудился уже десять лет. Вечером он читал первоисточники, проверял сноски, делал необходимые записи, просматривал и критически оценивал блокнот «догадок», а также готовил материалы для следующего рабочего дня. После этого наступало время тьмы, предваряемое размышлением, своего рода молитвой – скликались мысли, которые предстояло вверить заботам ночи, мысли, на которые сон должен был дать ответ. Обычно так проходил каждый день, и распорядок если и нарушался, то лишь редкими вечерними визитами друзей. Питер Сейуард был историком, занимавшимся империями, которые возникли и пали еще до Вавилона.
Но с некоторых пор Питер стал жертвой, как он сам это определил, абсурдной страсти. Он загорелся стремлением расшифровать кастанский шрифт, образцы которого теперь покрывали его стол. Прежде Питер исповедовал мнение, что от дешифровки древних текстов историкам лучше держаться подальше. Он мог привести великое множество примеров того, с какой легкостью это увлечение переходит в маниакальную страсть; и вот уже ученый, славившийся здравомыслием и уравновешенностью, становится рабом своей идеи; полностью утрачивая чувство меры, он тратит годы в попытках сформулировать теорию, способную, по его мнению, раскрыть содержание текста. «Кто не желает попусту тратить время, – слышал Питер собственный голос, доносящийся из прошлого, – тот расшифровкой древних записей заниматься не станет ни в коем случае. Познания в области истории в данном случае становятся даже помехой. Спрашивая себя, какой народ мог оставить такого рода записи? на каком языке они сделаны? – спрашивая себя об этом, нам, историкам, лучше отодвинуть подальше свои знания, истинные или мнимые, и взглянуть на надписи как на чистый шифр, то есть как на явление сугубо филологическое. Исторические догадки так часто бывают ошибочны. И, начав с ошибки, вы долгие годы можете идти в ложном направлении, что выяснится лишь в конце. Жизнь слишком коротка. Не стоит попусту тратить время».
И вот теперь сумасшествие, от которого он предостерегал своих коллег, постигло его самого. Кастанские письмена явились на свет в середине XIX века, когда множество таблиц было обнаружено во время раскопок в Сирии. В последующие годы неизменно появлялись то таблицы, то надгробия, то печати, то посуда, и во всех этих находках обнаруживались общие черты; что касается языка, то он сопротивлялся всем попыткам расшифровки. Питер обдумал эту проблему много лет назад и в то время отложил ее в сторону, туда, где хранились нерешенные вопросы древней истории; оставалось терпеливо ждать новых археологических находок, особенно находок памятников с надписями на двух языках, известном и искомом; и только после этого могла появиться реальная возможность раскрыть тайну. Иначе работа над текстами превратилась бы в поиски в абсолютном мраке, так как никто еще не мог сказать, какой народ писал на этом языке, ради чего были сделаны записи, и даже тип языка оставался неизвестен.
Однако около двух лет назад кастанские письмена вновь попали в поле зрения Питера – из-за двух событий, внешне как будто никак между собой не связанных: во-первых, отыскали большое количество табличек с письменами на месте древнего города поблизости от Босфора, области, к которой Сейуард питал чрезвычайный интерес; во-вторых, появилось, опять же в Сирии, некоторое число клинописных таблиц, заполненных значками, но не вавилонской клинописи, а какой-то неведомой. И тут же (по причине с точки зрения науки совершенно абсурдной, он давал себе в этом отчет) Питер вдруг поверил, что неведомая клинопись и босфорские таблицы состоят друг с другом в теснейшем родстве. Далее им овладела идея, сопротивляющаяся любой критике, что расшифровка табличек, которых теперь появилось довольно много, приведет его к решению ряда проблем, которые он в течение долгих лет тщетно пытался разрешить. И с этой минуты он, что называется, пропал.
Питер отлично осознавал, что, погрузившись в эти исследования, стал как две капли воды похож на тех обманывающихся и запутывающихся коллег, над беспощадными усилиями которых он ранее так скорбел. И только когда он сам начал серьезно трудиться над этой задачей, с беспощадной ясностью увидел, как трудно на столь зыбкой почве, состоящей из одних домыслов и фантазий, не ухватиться отчаянно за любую мало-мальски правдоподобную догадку; как легко позволить любой гипотезе, имеющей хоть какое-то сходство с истиной и к тому же не имеющей соперничающих гипотез, становиться все больше и больше похожей на правду. Он понял, с какой легкостью рождается привязанность к этой гипотезе, по причине полного отсутствия какой бы то ни было отправной точки, с которой можно было бы сверяться. В том, что касалось работы, Питер Сейуард всегда был фанатиком порядка и последовательности. Хотя он знал, как заклинать тьму, тем не менее в критике своих «прозрений» был неколебим, и все, что не соответствовало схеме его работы или нарушало ее, отбрасывалось без всякого сожаления. Но в процессе расшифровки письмен весь вопрос заключался именно в этом – как достичь порядка и последовательности. Одно, по крайней мере, не вызывало сомнений – текст изобиловал знаками, значит, алфавитное письмо исключалось. Это могло быть силлабическое письмо, или идеографическое, или смесь того и другого. Нельзя было четко ответить на вопрос: индоевропейский ли это язык? а может, какой-то иной? Все было возможно. Питер попробовал использовать два метода: выбрать имена богов и царей, которые могли бы упоминаться в надписи, и попытаться каким-то образом отождествить хотя бы несколько знаков с этими именами; и второй путь – изучить сами знаки, постараться сгруппировать их и классифицировать, и посредством этих действий определить структуру данного языка. Какое-то указание он надеялся найти – хотя как искать, он и сам еще не знал – при изучении клинописных табличек. О, как счастлив был бы Питер, если бы методы оказались абсолютно тупиковыми. Тогда он попросту вычеркнул бы их как пройденный этап. Увы, хотя методы эти и не дали результатов, достойных серьезного обсуждения, они все же привели к ряду намеков, указали на ряд возможностей, которые, как представлялось, имеет смысл испробовать, но при этом было ясно, что ничего решающего ждать не приходится. Кляня самого себя, Питер тем не менее продолжал исследование, и вот оно уже стало поглощать большую половину его рабочего дня, а сны стали наполняться танцем кошмарных иероглифов.
Зимой и летом в комнате, где работал Питер, топилась печь, за которой следила экономка Сейуарда, мисс Глэшн. Она же приносила еду и делала уборку. Со временем эта женщина стала своего рода виртуозом – она наловчилась тщательно сметать каждую пылинку, но при этом предметы не сдвигались ни на миллиметр. Она сновала по комнате молча, с кошачьей ловкостью, и пыль исчезала на глазах, словно мисс Глэшн ее слизывала. Экономка была немногословна, зато часто улыбалась. Как и большинство знавших Питера Сейуарда, она благоговела перед ним за его подвижнический образ жизни; но у мисс Глэшн была и своя личная причина с особым трепетом относиться к этому ученому человеку – болезнь одолевала его. Мисс Глэшн, которая в жизни ничем серьезно не болела, относилась к людям, страдающим каким-либо заболеванием, со смесью преклонения и ужаса, такие же чувства она испытывала и к смерти. У Питера Сейуарда, которому исполнилось сорок пять лет, был достаточно развившийся, хотя и затихший, туберкулез. Мисс Глэшн взволнованно рассказывала своим приятельницам, что «у него всего одно легкое». Болезнь была выявлена вовремя, доктора приговорили Питера к полному отсутствию волнений и напряжения. С этого времени он начал полнеть. Некогда стройная фигура расплылась, и лишь профиль напоминал о прежней юношеской красоте. Друзья отмечали, что в последнее время в нем появилась какая-то странная веселость: очень часто, когда собиралась компания, он вытягивал свои длинные ноги, забрасывал голову и разражался смехом, настолько громким, что мисс Глэшн в кухне шептала озабоченно, обращаясь к товаркам: «Слышите, смеется-то как, сердечный!»
Питер смотрел на иероглифы. Но поскольку вот уже несколько минут думал о чем-то другом, знаки сделались для него невидимы, и он отложил текст в сторону, ожидая прихода Розы. Питер не выносил ничем не заполненных временных промежутков, поэтому непременно читал за едой, читал даже когда брился, и это приводило к плачевным результатам: он был весь в порезах, как сицилийский разбойник. У него был ряд занятий, которые он специально оставлял на то время, когда его могут побеспокоить. Пока мисс Глэшн убирала в комнате, он работал над библиографическими списками, сортировал, индексировал бесчисленные клочки бумаги, на которых делал сноски к книгам и статьям. Но и это занятие оказалось слишком серьезным для тех минут, в которые он ждал Розу. После нескольких опытов он понял, что в это время не может заниматься ничем, разве что разрезать страницы. Раньше он осуждал себя за такое неразумное и упорно возвращающееся волнение, но постепенно сопротивление в нем затихло. Сложив листы иероглифов, он потянулся к стопке книг, приготовленной специально на этот случай. Мягкий свист ножа для разрезания страниц стал аккомпанементом его мыслей.
Раздался стук в дверь. Сейуард жил на первом этаже, и поскольку парадная дверь всегда была открыта, посетители имели возможность проходить прямо к его комнате. Питер положил нож и откликнулся. Но это была не Роза.
Гостя звали Джоном Рейнбери. Он был старинным приятелем Питера, хотя теперь редко его навещал. Питер сделал все возможное, чтобы не обнаружить перед вошедшим своего разочарования, и это ему удалось.
– Вот так неожиданность. Рад тебя видеть, Джон, – сказал он. – Присаживайся.
– Благодарю, – произнес гость. – Надеюсь, я не очень тебя побеспокоил? Шел на службу и по пути решил заглянуть.
Джон Рейнбери занимал какой-то важный пост в Особом европейском комитете по иммиграции рабочей силы, больше известном как ОЕКИРС, – организации, явившейся на свет как благотворительный орган, существовавший главным образом при поддержке американских жертвователей, но теперь начавший получать некоторую финансовую помощь и от британского правительства.
Рейнбери слыл человеком очень умным, но при этом те, которые о нем так отзывались, непременно добавляли: «Безусловно, он еще не нашел своего поприща».
Хотя Рейнбери был на несколько лет моложе Питера, выглядел старше. Он успел облысеть до самой макушки, и теперь у него было как бы два лба: нижний – прорезанный глубокими морщинами, и верхний – гладкий и блестящий. Джон все время делал какие-то суетливые жесты, и в его карих глазах таилось беспокойство. Он стеснялся своей лысины и жгуче завидовал Питеру, буйная русая шевелюра которого не обнаруживала, как ни рассматривай, никаких признаков поредения. Хотя Сейуард хорошо относился к приятелю, в этот момент с радостью послал бы его ко всем чертям.
Гость втиснулся в кресло.
– Как работа? – спросил он.
– На мертвой точке, – ответил Питер.
– М-да, лингвистические штуки, – вздохнул Рейнбери. – Кстати, вчера в «Таймс» я прочел, что отыскали какой-то двуязычный памятник.
– Громко сказано, – сказал Питер. – Нашли всего-навсего печатку с единственным именем, да еще чем-то, что может оказаться, а может и не оказаться одним из моих иероглифов.
– Не понимаю, зачем на все это тратить время, – проговорил Джон.
– Открытие памятника с надписями на двух языках может произойти и на следующей неделе, а может не произойти вообще, – чуть раздраженно ответил Питер. Его задело, что Рейнбери вслух высказал те сомнения, которые много раз и его самого посещали.
Рейнбери подвинулся вперед и нервно застучал пальцами по краю кресла. С некоторых пор он перестал считать Питера своим учителем, способным преподать какие-то важные истины. Но при этом в душе постоянно пенял ему за свое былое согласие на ученичество. Рейнбери уважал ученость Питера, преклонялся перед его познаниями, простирающимися далеко за пределы Древнего мира. И в то же время морщился и недоумевал, видя, как незатейливо живет Питер. И еще он завидовал умению Питера концентрировать все возможности своего разума и затем направлять их на решение единой задачи. Этой способности Джон был лишен начисто: все, за что он ни брался, через какое-то время заканчивалось ничем. Некоторое облегчение Рейнбери черпал из размышлений такого рода: а имеют ли вообще смысл ученые изыскания Питера? Ну какой толк, спрашивал он себя, в изучении расцвета и падения империй, само существование которых ничем не доказано, если не считать кучки безгласных камней и смутного упоминания в Книге Царств? Целые династии правителей с варварски звучащими именами, целые пантеоны богов, дерзко отождествляемые с более известными и почитаемыми божествами, – все это держалось, кажется, лишь силой страстной фантазии Питера Сейуарда и его коллег. Даже если бы Питер начал, потихоньку сходя с ума, рождать на свет божий какой-то явный бред, все равно прошли бы годы, прежде чем это раскрылось; даже его коллеги-историки наверняка не сразу бы разобрались – а впрочем, какая разница!
Тревожила Рейнбери и перемена в характере Питера, которая произошла с тех самых пор, как он заболел, перемена, ускользающая от понимания. Побывав на пороге смерти, Питер стал шутником. Но Рейнбери не покидало чувство, что на самом деле в душе у приятеля поселилась безмерная печаль, которая именно в таких приступах неудержимого веселья находит свой выход. Питер, в каком-то глубочайшем смысле этого слова, смягчился душой, утратил категоричность. Но тот глубокий разлом, который Рейнбери в нем подозревал, сделал его не слабее, а напротив – крепче, что очень огорчало Рейнбери. Ведь нынешний Питер стал для него менее проницаем, чем прежний. Слушая смех Питера, он постоянно задавал себе один и тот же вопрос: «Почему, когда он смеется, меня не покидает чувство горечи?» И только иногда в речах Питера проскальзывало то, что, как полагал Рейнбери, и было правдой; так однажды зимним вечером прозвучала фраза: «Когда наступают холода, я часто думаю о тех, кто спит под открытым небом». И только минуту спустя Джон понял, что Питер говорит о мертвых.
– Фактически, я сделал пусть и небольшой, но все же шаг вперед, – сказал Питер. – Теперь я почти уверен, что некоторые из знаков – это грамматические суффиксы.
Рейнбери, который раньше только из вежливости задал вопрос о работе, сейчас поторопился сменить тему:
– У меня для тебя новость, Питер. Миша Фокс в Англии.
– Я знаю, – ответил Сейуард.
– Знаешь? – не сумел скрыть разочарования Рейнбери. – Но откуда?
– Он звонил мне на прошлой неделе.
– К тебе благоволят, – с явной обидой произнес Джон. – Мне он не соизволил позвонить. Я догадался, что он где-то здесь, когда встретил этого немыслимого Кальвина Блика на Оксфорд-стрит. Пришлось перейти на другую сторону, чтобы с ним не столкнуться. Потом мне на глаза попалось сообщение в «Ивнинг ньюс». Зная, что ты газет не читаешь, я думал обрадовать тебя этой новостью.
Питер что-то пробормотал, и прядь волос упала ему на глаза.
– Странно, что Миша мне не позвонил, – продолжил Рейнбери, – ведь я слыву его другом, и сотни людей сейчас начнут названивать мне с просьбой устроить встречу. Во время визитов Миши Фокса я тоже становлюсь чертовски популярен. Он упоминал обо мне?
– Нет, – ответил Питер.
Джон замолчал, нахмурившись, так что нижняя половина его обширного лба покрылась бороздами морщин. Он заявлял искренне, и даже с некоторой гордостью, что Миша Фокс – один из его лучших друзей; но теперь в душе у него зашевелилось опасение перед этим человеком, чем-то даже напоминающее ненависть. Всякий раз, когда Миша приезжал в Англию, Рейнбери начинал чувствовать себя как на иголках.
– Я жду Розу, – как бы между прочим сообщил Питер. – Останься до ее прихода и поздоровайся.
Это был вежливый, но недвусмысленный намек на то, что после появления Розы Рейнбери придется удалиться.
– Роза? О, прекрасно! – воскликнул Рейнбери, и глаза его засветились радостью, к которой примешивалось еще какое-то чувство. Джон познакомился с Розой раньше Сейуарда, и в том, что касалось этой женщины, чувствовал некоторую обиду. Ему понравилась бы роль безнадежно влюбленного, но Сейуард перехватил у него эту роль. Именно он влюбился в Розу, страстно и безответно. Возможно, именно невознагражденная влюбленность Сейуарда и заставила Рейнбери заметить привлекательность Розы. Но поскольку Питер уже стал жертвой тщетной любви, пополнять число жертв собственной персоной Джон счел абсурдом.
Изобразить напрасного воздыхателя Рейнбери был бы не прочь. Эта роль и в самом деле его вполне устраивала. Но во все эти томительные перипетии он согласился бы погрузиться только в том случае, если бы ему гарантировали вознаграждение – преклонение окружающих и предмета любви перед его подвигом. Рейнбери нашел бы преимущества в этой несбывшейся любви. Он бы томился и страдал, но на безопасном расстоянии. Таковы для него были теперь идеальные отношения с женщиной. Ему и в голову не приходило, что в один прекрасный день Роза могла бы ответить на его любовь и на любовь Питера – тоже. С некоторых пор Джон питал убеждение, что Роза, которая была несколько старше его, вряд ли когда-нибудь выйдет замуж. Ситуация таила в себе ряд чудесных возможностей, но неожиданно вспыхнувшая и никак не желающая гаснуть влюбленность Питера все испортила. Нет, товарищем Питера по истинной влюбленности Рейнбери быть не желал. В такой роли ему чудилось что-то клоунское. Именно поэтому он и не был влюблен в Розу. Хотя, надо признаться, и питал некоторую склонность к ней. Он восхищался тем качеством ее характера, которое про себя окрестил аскетизмом; ему нравился мрачный пессимизм Розы, ее ироничность. Даже ее грубоватость он считал восхитительной, а уж невероятно длинные черные волосы – и подавно.
– Она видела Мишу? – спросил Рейнбери. – Она знает, что он в Англии?
– Не могу сказать, – ответил Питер. – Вот уже десять дней, как она не заходила.
– А о ней Фокс вспоминал? – снова задал вопрос Рейнбери.
– Нет.
– Тогда о чем же, черт побери, вы говорили? Ну хорошо, можешь не отвечать. Просто меня интересует, упоминать ли при ней, что Фокс здесь?
– Я не сомневаюсь, что она и так узнает, – произнес Питер.
– Каким же образом? – всколыхнулся Рейнбери. – Сообщение в газетах она вполне могла пропустить, а небеса не становятся алыми, когда Миша Фокс появляется, и кометы не падают, что бы там некоторые ни плели.
– Она узнает, – повторил Сейуард. – Нам лучше промолчать.
– Младший братец по-прежнему упрекает сестру за то, что она отвергла Мишу, – заметил Рейнбери.
– Да, – согласился Питер. – Он очень любил Мишу. В те времена Хантер ведь был совсем ребенком.
– Любопытно узнать иное, – внимательно глядя на приятеля, проговорил Рейнбери, – не упрекает ли она по-прежнему саму себя?
Питер хотел, кажется, что-то сказать, но, наверное, передумал. Он отодвинул в сторону книги и стал рассеянно вертеть в руках нож.
– Хорошо, что она не вышла за него, – продолжал Рейнбери. – Этот человек способен на любую жестокость.
Сейуард и на этот раз промолчал. Все так же разглядывая нож, он неопределенно покачивал головой и под столом переплетал свои длинные ноги.
– Как дела на службе, Джон? – наконец как бы через силу спросил Питер.
Рейнбери посмотрел на него со смесью боли и раздражения. Ну почему же он такой уязвимый? Мужчина не имеет права быть таким. Рейнбери сел поглубже в кресло. В мужчине вполне оправданна некоторая брутальность, некоторая толстокожесть. Без этого пришлось бы склоняться перед всеми. Но Сейуард отказался от своих прав, а может, никогда и не знал, что обладает ими. Его личность не имела границ, ограждающих обычно внутреннее пространство. Он не распределял, кому на каком расстоянии от него следует находиться. Он не защищался. Джону такое отношение к жизни казалось просто скандальным. Хорошо, мысленно согласился Рейнбери, поговорим о другом.
– Дела из рук вон плохи. Контора парализована скукой и бездеятельностью. При этом срочных дел масса, и начать надо вот с чего – срочно избавиться от половины служащих. Но, с одной стороны, ни у кого нет реальной власти, чтобы сделать решительный шаг; а с другой, нам всем так уютно на наших хорошо оплачиваемых местах, что никто не решается начать раскачивать лодку из-за боязни, как бы самому из нее не выпасть.
– Ну а сам ты чего ждешь? – поинтересовался Питер.
– Полагаю, – криво усмехнулся Джон, – жду, пока мое собственное место станет настолько уютным, что я смогу подкладывать поленца под других, не опасаясь ответных действий.
– Но в деньгах ты не нуждаешься. Значит, цель в ином?
– Ты прав, – согласился Рейнбери. – Речь идет не о деньгах, а о деле. Я хочу действовать, а для этого нужна дерзость, нужно сознавать, что многие тебя возненавидят. Сидеть и ждать, пока все само собой исправится, конечно, гораздо легче и приятней.
– Ты надеешься стать во главе, после того как сэр Эдвард уйдет на пенсию?
– Да, – тут же признался Рейнбери. Он всегда в разговорах с Питером ловил себя на такого вот рода поспешных признаниях; и никак не мог понять, что же его понукает их делать: то ли манера Питера задавать вопросы? то ли его собственное желание представать перед Сейуардом совершенно искренним?
Вошла Роза. Она постучала и вошла одновременно. Рейнбери вскочил, сделал шаг назад и споткнулся о стопку книг. На лице Розы мелькнуло удивление и легкая досада. «Джон», – произнесла она без интонации, словно отметила его присутствие, не более. Не обратив внимания на Питера, она села на стул у двери. Сейуард не взглянул на нее, но еще ниже склонил голову.
– Меня здесь нет, – бросила Роза. – Продолжайте ваш разговор.
Отодвигая книги вправо и влево, Рейнбери возвратился к своему креслу.
– Что за нелепость, Роза! – воскликнул он. – Ты же не пустое место!
– Конечно, я не пустое место, – отозвалась Роза, – но вы продолжайте говорить, о чем говорили.
Она повернула стул к книжным полкам и занялась рассматриванием книг. Наконец выбрала какую-то и, положив полную руку на спинку стула, углубилась в чтение.
– От чего ты не в духе, Роза? – спросил Рейнбери. Роза повернулась таким образом, что стал виден ее профиль.
– Этот человек, Кальвин Блик, сейчас с визитом у Хантера, – произнесла она.
– И зачем же он явился? – не сдержал своего любопытства Джон.
– Чтобы купить «Артемиду» для Миши Фокса, вот зачем.
– Невероятно! – воскликнул Рейнбери. – Какую же интригу задумал Миша на этот раз?
– А ему непременно нужны интриги? – удивилась Роза.
– Я считаю, что непременно, – сказал Рейнбери. – Неужели ты иного мнения?
Роза пожала плечами.
– Мне неприятен этот Кальвин Блик, – ответила она. – И бедный Хантер от него в ужасе.
– Блик – это темная половина сознания Миши Фокса, – изрек Рейнбери. – Он совершает на деле то, о чем Миша еще и думать не думает. Именно сравнивая Кальвина Блика с Мишей, понимаешь, насколько последний невинен.
Роза сделала презрительный жест. Потом небрежно положила книгу, которую только что читала, на пол.
– Подними, – попросил Питер, – и поставь на прежнее место, иначе я ее больше никогда не найду.
Роза вернула книгу на полку.
– Но бога ради, объясните, зачем Мише «Артемида»? – вскричал Рейнбери. Он был крайне взволнован.
– И в самом деле, зачем? – язвительно подхватила Роза. – Какой в этой жалкой «Артемиде» толк?
– Я вовсе не собирался оскорбить «Артемиду», и ты это прекрасно знаешь, – укоризненно сказал Рейнбери. – Но все же – почему именно она?
– «Артемида», – начала пояснять Роза, – это маленькое, но независимое издание. Очень маленькое, но обходящееся своими средствами. Таких, совершенно независимых, изданий в наши дни осталось считаные единицы. Возможно, у Миши нюх на эти вещи. Охотничий инстинкт, как у рыбака или охотника за мотыльками. Ведь радостно же ощутить, как нечто, еще миг назад свободное, бьется у тебя в кулаке.
Роза вытянула руку и медленно сжала пальцы.
– Роза, – произнес Питер. Не произнес даже, а пробормотал, как магическое заклинание, необходимое, чтобы защитить, но не себя, а ее.
– И все же, это так странно… – проговорил Рейнбери. – Хантер не продаст, я уверен.
– Я не знаю, что сделает Хантер, – заявила Роза. – Я к этому не имею никакого отношения.
– Нет, Роза, имеешь, – возразил Рейнбери. – Тебе известно, что Хантер сделает именно так, как ты скажешь.
– Вот поэтому я и решила молчать.
– Я только хочу надеяться, что у Хантера достанет дерзости, – продолжил Рейнбери, – сразиться с Кальвином Бликом – такую возможность никак нельзя упустить.
– Не понимаю, почему брат должен противиться продаже, если ему захочется продать? – возвысив голос, спросила Роза. Завитки волос, как облако мрачных мыслей, нависали у нее надо лбом, а сзади были скручены в длинный тяжелый узел. Повернувшись в профиль к обоим мужчинам, она глядела на уставленную книжными полками противоположную стену. – Ему будет предложена хорошая цена за акции и компенсация за утрату работы, которую он ненавидит, – вновь заговорила Роза. – Не понимаю, почему он должен отказываться. Неужели только из-за того, что кому-то хочется преподать Кальвину Блику некий урок?
– Хантер не пойдет на такую сделку. Он слишком горд, – воскликнул Рейнбери.
– Что значит «слишком горд»? – с нескрываемым раздражением спросила Роза.
– Ну… – замялся Джон. – Я хотел сказать… я думал, что «Артемида» для вас – это нечто дорогое, традиции и тому подобное.
– Если бы ты хоть немного понимал, что значит быть владельцем издания, то не молол бы чуши о «традициях», – резко ответила Роза. – «Артемида» давно иссохла, она с трудом бредет от выпуска к выпуску. Просто слезы на глаза наворачиваются. Если Фоксу удастся вытащить ее из нищеты, то это будет прекрасно. Если он сделает из нее журнальчик в глянцевой обложке, приносящий прибыль, то ему и карты в руки.
– Я просто поражен, Роза, – произнес Рейнбери. Постепенно его охватывал самый настоящий гнев. – На твоем месте я лучше уничтожил бы «Артемиду», только бы она не досталась Мише Фоксу… А что скажут акционеры?
– Они согласятся с мнением Хантера, – заметила Роза.
– Если весь вопрос упирается в необходимость вложения определенной суммы денег, – принялся размышлять Рейнбери, – то почему бы вам не обратиться к учредительницам со своего рода воззванием. Среди этих старых перечниц есть несколько очень богатых. Камилла Уингфилд, например. Из нее деньги просто сыплются. Ей ничего не стоит помочь «Артемиде». Вы об этом когда-нибудь думали?
– Нет, – покачала головой Роза. – Не думали. Кстати, старая дама, о которой ты упомянул, абсолютно сумасшедшая.
– Отнюдь не сумасшедшая, – возразил Рейнбери. – Да, согласен, у нее навязчивая идея, что она довела до смерти своего супруга. Но кто мы такие, чтобы уличать ее в заблуждении? Как бы там ни было, я считаю, что вы должны дать бой Мише Фоксу.
– Боже правый, под какими знаменами? – вполголоса произнесла Роза. Она прикасалась ладонью к глазам, рассеянно проводила пальцами по волосам, словно мыслями была где-то в ином месте. – Пусть Хантер решает.
– Тогда почему же ты так огорчена? – спросил Рейнбери.
– Всякий раз, когда Кальвин Блик появляется у нас в доме, мне становится плохо, – ответила Роза. – Мерзкая личность.
– Не знаю… – сказал до сих пор молчавший Питер Сейуард. – Улыбка у него приятная.
– В своем добросердечии, Питер, ты иногда доходишь до грани здравого смысла, – заметила Роза. – В общем, плох Кальвин или хорош, но я не хочу, чтобы он пронюхал об Анетте.
– Анетта? Дочь Марсии Кокейн? – уточнил Рейнбери.
– Да, – кивнула Роза. – Марсия просила оберегать Анетту от Миши. Он не знает, что девочка в Англии. Возможно, и не узнает… если Блик не пронюхает.
– Я не имел чести встречаться с легендарной Марсией, – произнес Рейнбери, – а вот Анетту и ее необыкновенного братца видеть довелось. Анетте тогда было лет четырнадцать. Совершенно фантастическое дитя. В свое время Марсия, кажется, была близкой приятельницей Миши Фокса. Они поссорились?
– Вовсе нет, – возразила Роза. – Просто Миша в роли провожатого Анетты по Лондону ее не очень устраивает.
– И еще до меня доходили слухи, – продолжил Джон, – что Мишу считают не более не менее как отцом Анетты. Ты этим разговорам веришь?
– Сплетни, – ответила Роза. – Анетте было семь лет, когда Марсия познакомилась с Мишей. – Роза повернулась к Рейнбери и, отбросив волосы со лба, посмотрела ему прямо в глаза. Раздражение покинуло ее. Теперь она была спокойна и серьезна. – К тому же, – добавила она, – для отца Анетты Миша слишком молод.
– Трудно сказать, – пробормотал Рейнбери. – Ведь никто не знает подлинного Мишиного возраста. Гадать – и то бесполезно. В этом есть что-то зловещее. Ему может быть и тридцать, а может – и сорок пять. Вы встречали хоть раз человека, который знал бы наверняка? Я уверен, что даже Кальвин Блик и тот не в курсе. Никто не знает, сколько Фоксу лет. Никто не знает, откуда он родом. Где он родился? Что за кровь течет в его жилах? Никто не знает. А как только ты начинаешь фантазировать, тебя тут же будто парализует. То же самое с его глазами. Они всегда будто чем-то прикрыты. Вы смотрите на глаза Миши, а не в глаза. Трудно сказать, что случится, если заглянуть под поверхность.
Роза нарочито громко зевнула.
– Джон, ты не обидишься, если я попрошу тебя уйти? – обратилась она к Рейнбери. – Мне надо поговорить с Питером.
– Ты просто сводишь меня с ума, Роза! – в ярости вскочил Рейнбери. Потом, взяв шляпу, добавил уже более сдержанно: – Ну что ж, мне все равно пора на службу.
– А мне к четырем на фабрику, – тут же заявила Роза.
– Как же так? – растерянно спросил Питер. В течение всего разговора он сидел, созерцая профиль Розы и не особо вслушиваясь в то, о чем говорили. – Значит, у нас было всего сорок пять минут?
– Совершенно верно, – кивнула Роза, – и Рейнбери двадцать из них забрал себе.
– Хорошо, хорошо, уже ухожу! – вскричал Рейнбери, продвигаясь к двери. Все так же глядя перед собой, Роза протянула Рейнбери руку. Он сжал ее и рассмеялся: – Ты сводишь меня с ума! – повторил он.
Дверь закрылась. Роза какое-то время сидела на стуле, рассеянно потирая ладонью лицо и глаза. Питер не двигался, упорно рассматривая нож для разрезания страниц. Потом он услышал, как она встала и принялась путешествовать по комнате. Такая у нее была привычка. Шаги складывались в некий танец. Питеру казалось, что комната замерла в ожидании. Стены чутко ловили каждый звук. Потолок дрожал. Пространство взметнулось рыболовной сетью и повисло в воздухе, поддерживаемое невидимыми опорами значительных пунктов. Роза двигалась неустанно. Касалась зеленого растения, проводила пальцами по оконной раме, наступала на книги, дышала на картины. Питеру чудилось: она парит в воздухе, тень ее падает на него сверху. Он терпеливо ждал. Кружась, Роза подходила к Питеру, все ближе и ближе. И вот наконец он почувствовал, как пальцы ее коснулись его волос. Сначала робко, будто крылом птицы, побоявшейся приземлиться. Но потом осмелели и глубоко погрузились в волосы. Сжав его виски в своих ладонях, она запрокинула ему голову. Роза стояла над ним. За все время визита они впервые глянули друг другу в глаза. Несколько минут всматривались друг в друга, но не с нежностью, а с каким-то изумленным, вопрошающим напряжением. «Гм!» – произнесла наконец Роза и отбросила его голову, как мяч. Потом вновь стала удаляться, но Питер успел поймать ее запястье.
Сейуард хорошо понимал, что вера в способность любви пробуждать ответные чувства – это не более чем иллюзия, которой страстно влюбленные тешат себя. Но при этом ему жалко было расставаться с надеждой, что его любовь все же как-то влияет на Розу. Было ли так на самом деле или только казалось Сейуарду, но в последнее время Роза как будто начала с большим вниманием относиться к нему; впрочем, это могло оказаться всего лишь состраданием к больному, а не нежностью к мужчине. Питер понимал, что сомнение в чувствах Розы будет мучить его до конца дней. Иногда в нем пробуждалась вера, что ей нравится его упорство в работе, что оно помогает и ей как-то преодолеть внутреннее беспокойство. Всякий раз, когда она, по своему обыкновению, выражала недовольство его привязанностью к разгадке тайны кастанских иероглифов, он успокаивал себя следующим объяснением: в ее раздражении отражается мое собственное недовольство; значит, она чувствует, что творится у меня в душе, а чувствовать так тонко способны только любящие. Но приходили минуты, когда он склонялся к иной мысли. На самом деле раздражают ее не иероглифы, а он сам, и вся эта глубочайшая привязанность к нему не более чем плод его воспаленного воображения.
Сейуард вздохнул и попытался взглянуть на нее, но Роза отошла к нему за спину и, протянув руку над его плечом, подтащила поближе одну из покрытых иероглифами простыней. Минуту они вместе смотрели на иероглифы.
– О чем здесь говорится, Питер? – спросила она.
– Мне бы тоже хотелось знать, – отозвался он. – Может, это какая-то великая поэма.
Роза всегда задавала этот вопрос, и Питер всегда отвечал одинаково, хотя на самом деле глубоко сомневался, что там поэма.
– Больше похоже на перечень сданного в стирку белья, – заметила Роза.
– Перечень белья не вырезают на боках гигантских каменных львов, – возразил Питер.
– Ну, тогда это похвала мрачным подвигам какого-нибудь царя, – выдвинула иное предположение Роза: – «Множество городов разрушил, тысячи врагов обратил в прах». О, как я хочу, чтобы, наконец, открылось хоть что-нибудь! А вдруг тебя постигнет озарение?
В такие минуты, когда Роза, стоя сзади, заглядывала ему через плечо, он действительно чувствовал, что озарение возможно. И все же отрицательно покачал головой:
– Это не просто расшифровка кода. Разобравшись в основных элементах, я тут же встану перед новой задачей – построить словарь, а это потребует времени. Я не имею права спешить. Но обо всем этом я говорил тебе сотни раз.
– Ты говоришь, а я не понимаю, – откликнулась Роза. – Я пытаюсь вслушиваться, но мне становится скучно, до смерти скучно. О, как я ненавижу всю эту пыль! Я ее ненавижу, Питер! Объясни, почему я ее ненавижу?
Питер Сейуард не знал, что сказать. Вместо ответа он со вздохом прижал ее ладонь, лежавшую у него на плече.
– Роза… – произнес он.
– Смотри, ты опять порезался, когда брился, – перебила его Роза, потому что знала, какие слова последуют дальше. – У тебя все лицо в крови.
Всякий раз, когда Питер готов был произнести нечто важное, она тут же начинала говорить о пустяках; этот маневр она освоила просто блестяще.
– Роза, я люблю тебя, – сказал Питер.
Свободной рукой машинально взъерошив ему волосы, Роза ответила:
– Требую всякий раз после произнесения этой фразы платить мне по пенсу.
Питер, который и к этим словам давно привык, произнес устало:
– Хватит прятаться у меня за спиной. Я хочу тебя видеть.
Пробравшись между книгами, Роза обогнула стол.
– Через пять минут я должна идти на фабрику, – жизнерадостным голосом сообщила она.
– Мне не нравится, что ты забегаешь всего на минуту, Роза, – сказал Питер. – Ты не представляешь, как эти мимолетные появления расстраивают меня. Я трачу на ожидание часы, в которые мог бы работать. Ты заглядываешь и тут же исчезаешь. А мне остается лишь чувство бесконечной горечи.
Теперь между ее и его глазами не было никакой преграды. Роза наконец явила ему всю энергию своего лица, осветившегося вдруг весельем и восторгом. Любовь Питера Сейуарда была единственной роскошью ее жизни.
Она неустанно подталкивала его к признаниям, она снова и снова заставляла его расстилать перед ней драгоценный покров любви, а сама при этом пряталась, предусмотрительно возведя ограду из шуток и смеха.
– Неужели! – вскричала она. – Лицезреть меня, пусть всего полчаса – разве это не ценно? За полчаса столько можно увидеть! Подумай! Вот я чихнула, вот я открыла и закрыла глаза, я села, я встала, я прошлась по комнате, я что-то сказала! Пусть и десять часов ожидания! Разве ты не отдал бы их все только за то, чтобы полчаса видеть меня?
– Отдал бы, конечно, отдал! – с готовностью откликнулся Питер. Роза протянула ему обе руки. Пламя ее улыбки перебежало к нему.
– А десять минут? Разве мало? – вдохновенно продолжила Роза. – Только подумай, за десять минут столько можно пережить! Дней не хватит, чтобы осмыслить!
– И десять минут бесценны, Роза! – подтвердил Питер.
– А секунда? На секунду согласен? Представь, что видел меня всего секунду, когда я закрывала дверь. Миг – и пропала. Словно щелкнули фотоаппаратом. Стоил бы этот миг десяти часов работы?
Ее улыбка сменилась взглядом, наполненным восторженной нежностью, и этот взгляд пронзил его, как стрела.
– Стоил бы, Роза! И десяти часов! и сотни! и тысячи!
Глава 4
Роза бежала по дороге к фабрике. Большое квадратное здание с такими же квадратными окнами росло и росло, пока не нависло над ней. Из высокой трубы поднимался столб белого дыма, стелясь над тремя окрестными улицами и ширью Темзы. Мысли Розы поспевали за ее шагами. Ее преследовало чувство, что вся жизнь превратилась в сплошной источник отчаянной тревоги. Господи, словно прежних забот было мало! И будущее Хантера, и болезненный вопрос с «Артемидой»!.. Узел волос постепенно развязывался, она слышала, как шпильки одна за другой падают на тротуар… И то, что она вынуждена лгать Питеру, говорить с ним намеками, обиняками. Безусловно, ей и раньше случалось его обманывать. Но он знал ее так хорошо, что, как ей казалось, всегда мог угадать, когда она говорит неправду, так что волноваться было не о чем… Смена началась в четыре, значит, опаздывает… Жизнь в беспорядке. Волосы в беспорядке. Завязать носовым платком? Удержит ли? Не хватало еще, чтобы закрутило в машину! Да, закрутило в машину… Мало того, что вместе с Анеттой в их доме поселилась постоянная смутная тревога, словно где-то рядом ждал своего часа заряд взрывчатки. Так нет же, ко всему этому еще и Миша Фокс! Миша редко наезжал в Англию. Но его визиты всегда, даже когда встречи не происходило, беспокоили ее. И еще братья Лисевичи, а это хуже всего. Они будут ждать ее сегодня вечером, они ждут ее сейчас. Еще одна шпилька упала. Последняя. Да, не было печали, так подай.
Роза отбила время на проходной. Узел волос каждую секунду готов был рассыпаться по спине. Поддерживая волосы одной рукой, Роза принялась разыскивать, чем бы их подвязать. Наконец, подняв узел наверх, она надежно связала его косынкой, после чего поспешила в цех. Стоило ей отворить дверь, и ритмический грохот тут же обрушился на нее. «Опаздываете, мисс Кип», – сквозь шум раздались голоса, а может, послышалось, что раздались. Она побежала по проходу мимо стальных машин. Они двигались без остановки день и ночь. Если работник опаздывал, то его товарищ с предыдущей смены не имел права уходить, пока не передаст механизм в руки сменщика. Поэтому к опозданиям относилось с неодобрением не только начальство, но и сами рабочие. От спешки Роза начала задыхаться. Цех составлял в длину не меньше сотни ярдов, а ее станок находился в самом дальнем конце. Она бежала по мягкому ковру из бумаги и стальной стружки.
Когда показался ее станок, она замедлила шаг. Напарник Розы уже ушел, доверив свое место Яну Лисевичу, который и работал, и одновременно высматривал Розу. Увидев ее, он помахал рукой. Это был знак, что можно не торопиться. Ослепительная улыбка осветила лицо Яна. Кроме этой улыбки, Роза ничего вокруг не видела. Все еще тяжело дыша, она подошла к станку.
– А? Торопилась? – спросил Ян. – Жди. Еще нет. Сиди, – односложно сказал он. Как правило, он изъяснялся именно так. Исключение составляли спокойные моменты, когда у него появлялось время подумать и составить фразу. Грохот заглушил его слова, но Роза догадывалась, о чем он говорит. Роза села на скамью, а Ян продолжал улыбаться ей, одновременно левой рукой направляя механизм.
– Я сейчас приму у тебя! – крикнула Роза. – Спасибо, Ян!
– Не стоит спасибо! – произнес в ответ Ян.
– Надо говорить: «не стоит благодарности»! – поправила Роза.
– Что?
Роза энергично покачала головой. Они рассмеялись, глядя друг на друга. Ян левой рукой по-прежнему держался за рычаг; Роза положила ладонь на его руку и несколько секунд чувствовала, как там, внизу, пульсирует стальной механизм. Потом его ладонь выскользнула из-под ее ладони, и он повернулся к ней.
– Ну как? – прокричал он ей в ухо. – Сегодня вечером, да?
Роза энергично кивнула, и какое-то слово прозвучало у нее в голове. Она полагала, что это слово «да». С веселой улыбкой, размахивая руками, Ян стал отдаляться по проходу между станками. А Роза припала к машине, наполнив ее ритмом свое тело.
Она прозвала станок «Китти», потому что он издавал непрерывный ритмичный стук, который Розе слышался как фраза: «Китти, Китти, банг, клик! Китти, Китти, банг, клик!» «Китти» была, можно сказать, высокорослой и довольно значительно возвышалась над Розиной головой, когда та усаживалась рядом. Роза сидела, вглядываясь в просветы между частями механизма. Она часто ловила себя на стремлении отыскать лицо «Китти». Но никак не могла решить, на что похоже это лицо. Иногда ей казалось, что «Китти» и есть одно сплошное лицо: большие предохранительные щиты – это ее глаза; а движущийся то вперед, то назад лоток – это ее ненасытные челюсти. А бывало, внимание Розы сосредоточивалось на движении стальных рукояток, расположенных над лотком; и тогда «Китти» превращалась в какое-то искривленное многорукое существо, с находящейся почти у пола, в сумасшедшем темпе вращающейся головкой. Но стоило по-иному сопоставить детали, и облик «Китти» тут же становился другим. Что никогда не менялось, так это ее голос. Чтобы внести в него хоть какую-то новую ноту, Роза иногда запускала всасывающую трубу, отчего в слоях опилок поднимался легкий переполох: но к этому средству она прибегала нечасто, боясь перегрузить механизм. Существовал и другой способ отвлечься от набивших оскомину «Киттиных» речей – прислушиваться к общему гулу станков и пробовать уловить ритм. Но в этом оглушающем хаосе звуков Роза, как ни старалась, не могла различить ни гармонии, ни повторяющейся мелодии; однако чувствовала – все это там есть; и если бы ей удалось на какое-то время сохранить в памяти эту звуковую картину, если бы удалось в правильном ключе прослушать, музыка возникла бы непременно. Но музыка не рождалась, и единственным плодом такого рода развлечений было то, что она делала погрешности в управлении «Китти».
Сегодня, однако, Розе было не до «Киттиной» музыки, не до ее глаз. Подрагивая вместе с машиной, она глядела вслед удаляющемуся Яну. Он был строен, свеж… и быстр, как пропущенный через кольцо шелковый платок. У него была несказанно белая кожа и глаза ярко-синие, как летнее небо, как вода кристально-чистой лагуны, к чьей синеве, одинаковой сверху донизу, не примешиваются никакие оттенки, никакие туманные облачка. Блестящие темно-коричневые волосы опускались на шею, выделяясь на фоне ее белизны, как только что проклюнувшийся из кожуры молодой каштан.
Ян был чрезвычайно похож на своего брата Стефана, работавшего на этой же фабрике. Братья Лисевичи, по образованию инженеры, прибыли в Англию недавно с помощью ОЕКИРСа и здесь приобрели квалификацию. Хотя Яна со Стефаном перепутать было трудновато – у последнего черты не отличались столь идеальной правильностью, – сходство между ними, по общему мнению, было просто сверхъестественным. Казалось, что лицо Стефана – это лицо его брата, отразившееся в воде, то есть более мягкое, с несколько размытыми контурами. Работницы фабрики, их насчитывалось около сотни, разделились на «янсенисток» и «стефанисток». Первые боготворили безупречно вылепленное лицо младшего, вторые воспевали смягченную красоту старшего. Но оба лагеря сходились во мнении: кто из двоих прекрасней – сказать трудно. Братья хорошо разбирались в работе и вскоре перешли из нижнего разряда станочников, среди которых все еще прозябала Роза, в относительно свободный технический персонал.
Роза видела, как, пройдя пятьдесят ярдов, Ян повернул за угол и исчез. И тут ее словно током ударило – его лицо вновь возникло перед ней, совсем близко. Это был Стефан.
– Ну. Пришла. Да? – спросил он. – Сегодня вечером, да?
Роза кивнула и что-то ответила. Стефан сверкнул улыбкой и взглядом обласкал Розу. Он вплотную приблизился к «Китти», и налаженный ритм лотка на мгновение соединил обнаженную руку Розы с его рукой. А потом Стефан удалился со смехом, звук которого утонул в грохоте станков.
– Ох, Китти, – сказала Роза. – Китти! Китти!
Китти, Китти, банг, клик, ответила «Китти», словно была разумным существом, повторяющим собственное имя.
Братья Лисевичи были Розиной тайной. Они появились в ее жизни, когда около двух лет назад, вскоре после прибытия в Англию, поступили на фабрику. Пара растерянных, беспомощных, совсем молодых парней. Видя, что судьбой Лисевичей никто не интересуется, Роза из чувства долга, как немалую тяжесть, взвалила на себя заботу о них. В то время братья казались угнетенными и потухшими, как издыхающие животные; без Розы они и шагу не могли ступить. Тогда они, по сути дела, еще не знали английского языка и, сидя рядком на скамье, немо смотрели на Розу синими глазами, полными смущения и печали. Потом начинали быстро говорить о чем-то друг с другом на польском. После чего один из братьев, обычно это был Стефан, делал попытку обратиться к Розе по-английски. На одно с трудом произнесенное Стефаном слово приходился вихрь жестов и поток польских слов со стороны Яна. Роза никогда прежде не догадывалась, что язык может так напоминать орудие пытки.
Она защищала их, вела, снабжала деньгами и учила английскому. Каждый день встречалась с братьями на фабрике, почти каждый вечер занималась с ними языком и большую часть выходных тратила на то, чтобы познакомить их с Лондоном. Они стали ее детьми и ее секретом. Сначала она и в Хантере, который был чуть старше Стефана, пыталась пробудить интерес к братьям. Но ей не удалось. Хантер почему-то невзлюбил Лисевичей. Через какое-то время Роза с удивлением обнаружила, что братья стали для нее чем-то вроде тайного сокровища. Раньше она постоянно рассказывала о них своим друзьям, но с некоторых пор перестала это делать. Когда ей задавали вопрос: «Ну как там поживают эти угрюмые поляки, которых ты опекала?», она отвечала: «Думаю, у них все в порядке. Они устроились. Я их давно не видела». На самом деле она виделась с братьями так же часто, как и раньше, но скрывала это даже от Хантера.
За это время братья Лисевичи достигли немалых успехов. Они еще раньше, у себя на родине, изучали инженерию и в Англии обнаружили замечательную одаренность в области механики. Освоили английский язык и во всю щеголяли им, хотя словарь их был еще беден, слова подчас употреблялись невпопад и к тому же проявлялось неискоренимое презрение к определенному артиклю. И внешность Лисевичей изменилась к лучшему. Волосы, прежде тусклыми прядями свисавшие на воротник, ожили, как напоенные щедрой влагой растения, и запылали каштановым огнем; чрезвычайная бледность их кожи теперь напоминала стороннему наблюдателю скорее о греческом мраморе, нежели об истощении и анемии. Синие глаза наполнились бесшабашной радостью, рты – смехом. Их красота, их неуклюжий английский, который они вскоре превратили в инструмент соблазна, наконец, их замечательное сходство друг с другом – всем этим они вскоре снискали к себе интерес работниц, очарованных и их внешней беспомощностью, которая из жалкой уже успела стать привлекательной, и тайной кровного родства. А мужчины, видя, какие это смекалистые парни, как охотно они осваивают ремесло, махнули рукой и простили Лисевичам их успех у женщин. В общем, братья обретали популярность.
Роза наблюдала за их успехами сначала с интересом и радостью, позднее сменившимися грустью. Несомненно, с появлением Лисевичей фабрика обрела для нее иной смысл. Роза работала здесь около двух лет. До этого она была журналисткой. А до журналистики преподавала историю в школе для девочек. Она разочаровала свою мать, так и не став фанатичной идеалисткой; она разуверилась в самой себе, так и не став хорошей преподавательницей. В журналистике Роза достигла даже большего, чем ожидала, большего, чем хотела, но все же ей не удалось излечиться от того уныния и цинизма, с которым она вошла в профессию. На фабрику ее привело скрытое стремление к аскетизму. Сфера, в которой она прежде вращалась, с некоторых пор стала вызывать у нее лишь отвращение; она чувствовала, что все там пропитано тайным честолюбием и горечью неосуществленных желаний: она своими глазами видела эту гонку за успехом, эту власть сплетен. И ей захотелось наконец отыскать что-то прямо противоположное – незамысловатое, здоровое, четко организованное, лишенное претензий, монотонное. Что до последнего, то фабричный труд и в самом деле оказался смертельно-монотонным. Роза сначала воспринимала фабрику просто как промежуточную станцию на своем пути, но постепенно начала свыкаться с мыслью, что вся ее жизнь и есть не что иное, как ряд промежуточных станций.
Были времена, когда в ее жизни одно необыкновенное событие следовало за другим. Но с приходом на фабрику сразу наступила абсолютная тишина. Словно тот дух, которого она своим, как определили ее друзья, разрушительным и негативным решением вызвала к жизни, поймал ее на слове. Жизнь и в самом деле стала простой, но в этой простоте не было ни красоты, ни добра, а лишь одна серая скука. Что касается красоты и добра, то тут Роза с самого начала никаких особых иллюзий не питала, в отличие от своей матери, которая свято верила, что в самом общении с народом уже есть красота и благородство. Но в глубине души, пряча эти устремления от окружающих, Роза все же надеялась хоть как-то сблизиться с фабричными работницами; надеялась даже каким-то образом помогать им. Но этому не суждено было сбыться. Она была в ровных отношениях со всеми, и с мужчинами и с женщинами, но при этом расстояние между ней и прочими не сокращалось, и Роза по-прежнему оставалась в их глазах странной, одинокой, дай бог чтобы не подозрительной особой. И все это Розу не удивляло, а разве что чуть разочаровывало. Жизнь стала безликой и механической, что ей даже нравилось, потому что таким образом удовлетворялась глубокая, возможно и отчаянная, жажда покоя.
Роза никогда не стремилась к особому сближению с другими людьми. Связанность с самым близким ей человеком, Хантером, и та временами вызывала в ней нечто похожее на ужас. Это была связь, тесная почти до неприличия. Нос к носу, щека к щеке. Взаимные претензии и условности, обычно разделяющие людей, Розу и Хантера, наоборот, замкнули в одной скорлупе. Привязанность одного человека к другому, размышляла Роза, скрашивается тем обстоятельством, что каждому из них вольно изменяться, и, таким образом, в союзе жизнь каждого не прекращается. Но в их с Хантером скорлупе жизнь иссякала неуклонно, и это вселяло в Розу такую неприязнь к любому сближению, что на ее фоне возрастающее одиночество все больше начинало казаться благом. Новую жизнь, как бы лишенную прежних свойств, она, наверное, приняла бы целиком, если бы не скука, подчас становящаяся невыносимой. Итак, время шло, не неся с собой никаких событий, никаких, кроме появления братьев Лисевичей.
Поначалу братья относились к Розе с немым почтением, напоминающим религиозное поклонение. Они были похожи на двух жалких дикарей, повстречавших прекрасную белую госпожу. Для них она была «английской леди»; и уже потом они рассказывали ей, как гордились тем, что сразу разглядели в ней «леди, не такую, как все остальные, а именно леди». И с большим трудом Розе удалось уговорить братьев называть ее по имени.
Они во всем полагались на нее, трепетали перед ней. Такая власть над людьми стала даже немного беспокоить Розу. Прежде чем совершить любое, даже самое пустяковое дело, Лисевичи просили у нее разрешения; выбор делали, узнав ее мнение: они были ее рабами. Роза страшилась этой силы, но и наслаждалась ею. Случались минуты, когда, наблюдая за сильными, грациозными движениями своих питомцев, Роза чувствовала себя владелицей пары молодых леопардов. Невозможно было не восхищаться ими, невозможно было не радоваться власти над ними.
Братья снимали дешевое жилье в районе Пимлико. Комната Г-образной формы была завалена рухлядью, принадлежавшей какому-то мебельному торговцу, умершему много лет назад; с тех пор никто так и не удосужился выбросить весь этот хлам. Братья, в которых проявилось, когда они вышли из состояния первоначального отупения, такое качество, как невероятная бережливость, страшно обрадовались этой ветхой комнатушке, стоившей им всего восемь шиллингов в месяц и подарившей им кучу старья, в котором они вскоре разобрались и каждой вещи нашли свое место, каждую пустили в дело.
Лисевичи привезли с собой и свою дряхлую, прикованную к постели мать. Старуха помещалась в нише, на матраце, расстеленном прямо на полу. Братья спали на другом матраце, лежавшем в главной части комнаты. Да и вся здешняя жизнь разворачивалась в основном на уровне пола; стулья, все как один, были ветхие, а от кровати, довольно просторной, осталась лишь рама. Эта широкая кроватная рама была главной достопримечательностью жилища. Ржавые перекладины просто вросли в изголовье и спинку, и наверняка понадобилась бы немалая сила, чтобы эту конструкцию разобрать. Но братья тут же решили, что и в таком виде кровать может принести пользу. Это железное чудище сделалось для них неиссякаемым источником шуток. Так как кровать полностью перегораживала комнату, приходилось по пути переступать через одну перекладину, потом через вторую. В то же время на перекладинах можно было сидеть, а на спинке сушить вещи. В общем, кровать была помилована. Туалет, довольно грязный, и кран с водой находились на втором этаже. Братья пользовались этими удобствами наряду с прочими, чрезвычайно загадочными обитателями дома.
К поиску квартиры Роза никакого отношения не имела. Как Лисевичи отыскали это жилище, для нее так и осталось тайной. Но они очень гордились своей находкой и то и дело повторяли: «Мы одиночно это сделали», что означало в те дни: мы сделали это самостоятельно, без Розы. Она испытала потрясение, когда, вскоре после знакомства с братьями, впервые навестила их в Пимлико. Ужасающая ветхость обстановки в сочетании с безупречной чистотой (братьям даже удалось изгнать из комнаты ту особую вонь, которой был пропитан весь дом) произвели на Розу неизгладимое впечатление. Вымытый до желтизны пол, вся эта опрятность только еще больше выпячивали всеобщую скошенность и искривленность.
Но больше всего поразила Розу старуха мать. Ни Розе, ни вообще кому-либо на фабрике Ян и Стефан о своей матери ничего не рассказывали; и Роза склонилась к мысли, что не от незнания, как по-английски будет «мать», братья умолчали о ней, а намеренно, из желания сохранить тайну. Старуха не понимала ни слова по-английски, и Роза засомневалась, а знает ли она вообще, где очутилась и что вокруг происходит. Случалось, Роза часами беседовала с братьями, и все это время старая женщина лежала с закрытыми глазами. Но выпадали минуты, когда Роза ловила на себе ее пристальный, изумленный взгляд; кто знает, может, старуха принимала ее за кого-то другого, за какую-нибудь родственницу или приятельницу, чье имя давно изгладилось у нее из памяти. Но могло быть и совсем по-другому – она, возможно, отлично все понимала. Поближе узнав братьев, Роза решилась задать им этот вопрос, но ответ был короток: «Она думает, что мы еще в Польше. Она никогда не поймет». Так сказал Ян.
«Никогда», – повторил Стефан. Оба встали и повернулись к матери. Казалось, что зрелище лежащей на матраце старухи наполняет их нежностью, смешанной с раздражением и яростью. Когда Роза, обескураженная тем, что немощная женщина в сущности лежит на голом полу, предложила как-то поудобней устроить ее, братья отвергли это предложение почти с гневом. Они не позволили Розе даже приблизиться к матрацу. «Она наша мать, – сказал Стефан. – И не надо беспокойства».
Узнав, что при братьях находится их мать, Роза почувствовала волнение, чем-то похожее на ревность. Сначала ей показалось, что с мнением старой дамы придется считаться, ее надо будет улещать, как-то ей потакать, задабривать. Но прошло какое-то время, и, по-прежнему испытывая перед старухой какой-то благоговейный страх, Роза вместе с тем стала уделять ей внимания не больше, чем какой-нибудь детали обстановки. Выпадали минуты, когда Роза оставалась с ней вдвоем в комнате; и тогда, держась на расстоянии, она без всякого смущения принималась изучать это лицо, похожее на маску древнего идола.
Ей и в самом деле казалось, что она находится рядом с каким-то туземным божеством, отсутствие веры в которое не исключает трепета перед ним. У матери Лисевичей была желтая, пергаментная кожа. Лицо и шея покрыты глубокими темными бороздами, настолько густыми, что за ними невозможно было рассмотреть черты лица. Провалы щек чернели, как щели в разбившемся и плохо склеенном кувшине. Только пышные седые волосы казались живыми, а глаза – большие, темные и влажные – поблескивали в запавших глазницах, как пара медуз, своей влажностью еще больше подчеркивая безжизненную иссушенность кожи. Она всегда лежала, откинувшись на три подушки. Так было днем и, как догадывалась Роза, ночью. Она редко что-то говорила, но когда обращалась по-польски к кому-нибудь из сыновей, голос ее звучал на удивление сильно. Раз или два, оставшись со старухой наедине, Роза попробовала обратиться к ней по-английски, но та не ответила, а лишь продолжала смотреть на Розу своими большими влажными глазами. Вот так они и проводили время: Роза смотрела на старуху, а старуха на Розу, но взаимопонимания между ними не было никакого, словно они попали в эту комнату из двух разных исторических эпох.
Роза с удивлением обнаружила, что не испытывает никакой жалости к болящей. Тут, несомненно, сказалось влияние братьев, которые почти всегда относились к матери как к пустому месту. В присутствии Розы они очень редко обращались к ней. Но временами в Лисевичах пробуждалось какое-то странное лихорадочное возбуждение. Они вставали и обращали изумленные взгляды в сторону матери. Роза научилась распознавать это настроение, начинавшееся с напряжения и дрожи и быстро достигающее оргиастического пика, выражавшегося в чем-то похожем на первобытный ритуал.
– Она – земля, земля, – обращаясь к Розе, торжественно произносил Стефан. – Она наша земля.
– Она наша земля, – вторил Ян. – Иногда мы танцуем на ней, мы танцуем на ней, мы танцуем на нашей земле. О, старуха! – кричал он и поддевал лежащую ногой. А мать при этом продолжала глядеть и улыбаться открытым беззубым ртом.
– Она внутри трухлявая, – подхватывал Стефан. – Вся трухлявая. Я не могу объяснить. Скоро ты почувствуешь запах.
– Однажды мы сожжем ее, – кричал Ян. – Если бы мы ее застраховали, то давно бы сожгли. Она внутри сухая, как солома, запылает в момент. Пламя до небес – и конец.
– Мы сожжем тебя, да, старая, мы подожжем твои волосы! – орал Стефан, а дряхлая мать по-прежнему улыбалась, и глаза ее горели лихорадочным блеском, когда она смотрела на своих рослых сыновей.
– Ты, куча мусора! Ты, старая торба! – кричал Ян. – Мы скоро убьем тебя, мы упрячем тебя под пол, и там ты будешь смердеть не хуже, чем здесь! Мы убьем тебя! Мы убьем тебя!
Танцуя и что-то выкрикивая на польском, Стефан и Ян начинали двигаться по комнате, а их мать приподнималась на своих подушках, словно и ей хотелось встать и присоединиться к танцу.
Затем возбуждение спадало так же внезапно, как и приходило, и тогда братья присаживались на перекладину кровати и сидели, утирая пот. Эти представления сильно пугали Розу, но со временем она привыкла.
– Сколько лет вашей матери? – спросила она однажды после очередного танца.
– Сто, – ответил Ян.
– Он хочет сказать, что очень старая, – пояснил Стефан. – Очень, очень старая. Скоро она совсем забудет польский. Она забудет все. Когда становишься таким старым, то прошлое превращается в пыль и будущее – в пыль. Только настоящее остается, вот такой величины, – тут он приблизил ладонь к ладони почти вплотную.
– Да, это так, – кивнул Ян. И оба тяжело вздохнули. После прыжков и выкриков глубокая тоска обычно охватывала братьев, и тогда, обнявшись, они начинали петь скорбными голосами на польском языке, завершая неизменно Gaudeamus igitur[8], который у них звучал как траурный гимн, протяжный, сопровождаемый мрачным раскачиванием из стороны в сторону.
– Это студенческая песня, – всегда комментировал Ян. – В Польше мы изучали технику, но не хватило времени стать докторантами.
– А теперь мы выпьем, – продолжал Стефан. Бутылка шерри извлекалась из буфета, после чего пили, провозглашая тосты, из чайных чашек.
– За нашу маму! – говорил Ян.
– Знаешь, мы ведь патриоты нашей новой родины, – откликался Стефан. – И поэтому мы пьем ее ужасные вина!
За этим обычно следовал громкий хохот, к которому Розе полагалось присоединиться.
В первое время знакомства братья относились к Розе с такой невероятной почтительностью, что ей просто становилось неловко. Она хотела с ними подружиться, а они смотрели на нее то ли как на владелицу замка, то ли как на социального работника. И вот наконец, краснея, запинаясь, посмеиваясь над собственной неуклюжестью, они впервые назвали ее по имени. Роза помогала братьям чем могла. Их уважительное отношение, беспомощность, их робость – все это пробуждало в Розе горячее стремление оберегать. Ей казалось, что она возвращает к жизни пару маленьких птичек, израненных, полузамерзших. Каждый день приносил с собой новое достижение, новое торжество, нечто неожиданное. В то время братья Лисевичи и в самом деле были ее счастьем.
Ей доставляло особенную радость обучать их английскому языку. Сначала они объяснялись главным образом с помощью жестов, потому что словарный запас был у братьев чрезвычайно мал. Постепенно, но все же с возрастающей скоростью, область общения расширялась, разговоры становились богаче, сложнее; и у Розы появился повод похвалить себя за чутье, подтолкнувшее ее к заботе об этих странных и беспомощных детях. Она чувствовала себя принцессой, которая с помощью своей пылкой веры в чудеса пробудила принцев от колдовского сна или помогла им сбросить звериный облик. Чем полнее пробуждались ее королевичи в царстве английского языка, чем свободнее могли выражать свои мысли, тем большие запасы интеллигентности, юмора и веселья она находила в них, открывая все то, о чем раньше могла лишь догадываться. Но и сейчас случались минуты, когда ей – как принцессе, со странной тоской вспоминающей о покрытой шерстью морде и диких глазах, – хотелось какие-то особенно трогательные мгновения метаморфозы пережить заново. Действительно, если бы это было в ее силах, она замедлила бы процесс преображения, настолько восхитительным он ей казался.
Занятия проходили в комнате, в Пимлико, где все трое сидели, скрестив ноги, на полу, внутри железной кроватной рамы. Посередине лежали словари и учебники. На первых уроках братья в основном переговаривались друг с другом по-польски, и Роза с большим трудом заставляла их произносить фразы из упражнений. Прошло немного времени, и они освоили простейшие английские обращения. Роза строго-настрого запретила им говорить на польском языке, после чего братья стали с азартом демонстрировать друг другу свои познания в английском и подкалывать по поводу ошибок.
– Ты же как деревенщина! – говорил Стефан Яну. – Только они в Англии так разговаривают!
– А ты еще хуже деревенщины! – отвечал Ян. – Роза тебя вообще не понимает. Я говорю как деревенщина, ну а ты как свинья!
Иногда им удавалось так развеселить Розу, что от смеха у нее начинали струиться по щекам слезы; а потом она вдруг понимала, что ей не хочется их сдерживать; пусть текут, пусть льются, пока не станет легче боль, настолько глубокая, что до нее не добраться обычному утешению. Братья открыли в ней какой-то глубоко лежащий пласт уязвимости и печали. В их присутствии у Розы всегда перехватывало дыхание, словно она каждый раз оказывалась в неведомой, прекрасной стране, путешествие по которой наполняло ее несказанным восторгом, а восторг и слезы всегда находятся рядом. Видя, что она плачет, Лисевичи смолкали и заботливо, без всяких вопросов, протягивали ей чистый носовой платок.
И вот однажды случилось то, что Роза смутно предвидела; вернее сказать, ее посещали такого рода мысли, но она тут же их гнала от себя. Вдвоем со Стефаном они возвращались с фабрики. Был туманный ноябрьский вечер. Ян, который отработал на предыдущей смене, ждал их дома с разогретым ужином. Фабрика находилась в Ламбете. Нужно было всего лишь перейти по мосту через реку – и вот уже Пимлико. Роза торопилась. Было холодно и сыро, да еще и очень темно, так что Стефан держал ее под руку. Они приблизились к реке. И тут вдруг с каким-то стоном Стефан остановился. Роза подумала, что ему стало плохо.
– Что с тобой? – спросила она и повернулась к нему лицом. Но тут же все поняла, и ужас сбывающегося пророчества пронизал ее. Минуту они стояли неподвижно, пристально глядя друг на друга. Потом Стефан схватил ее, прижал к стене и начал целовать с каким-то ожесточением. Потом всем телом навалился на нее. Когда Роза почувствовала на себе его тяжесть, воля покинула ее. Она молча обняла Стефана.
Наконец, чуть отодвинувшись, Стефан взглянул на нее. «Роза, – произнес он имя, которому она обучила его, и нежно провел пальцем по ее щеке, – ты хочешь этого, правда?» Роза лишь молча кивнула. Больше ничего не могла сделать.
Остаток пути в Пимлико был похож на кошмар. Обдумывая это позднее, Роза вспоминала, что она с трудом шла, и Стефану пришлось поддерживать ее, почти нести на руках. Все это происходило в полном молчании. Но когда они, взобравшись по лестнице, оказались в комнате, Стефан вновь стал прежним, будто ничего и не было. Они съели ужин, приготовленный Яном, потом позанимались английским, вечер прошел как обычно. Правда, раз или два Ян как-то странно посмотрел на Розу, а может, это ей только показалось.
На следующий день была суббота, и Роза собиралась вечером встретиться с какими-то своими друзьями. А утром она мельком увидела на фабрике обоих братьев. И тот и другой были, по всей видимости, в прекрасном настроении: напевали, посвистывали, всех веселили. А у Розы весь этот день сердце сжималось от печали. Ей казалось, что она видит, как братья отдаляются от нее, будто стоят на какой-то движущейся лестнице. Та безмолвная связь, которая помогла всем троим на какой-то миг подняться над миром, оказалась нарушена. Она вдруг увидела их со стороны, двух очень молодых людей, почти на двадцать лет моложе себя. И все же в мыслях ее не было ясности, она не могла определить, чего боится и что намеревается делать дальше.
По воскресеньям, к пяти вечера она обычно приходила в Пимлико и проводила с Лисевичами вечер. Для нее это были лучшие часы недели. На этот раз она тоже явилась без опоздания, с сильно бьющимся сердцем. Ян куда-то исчез. Ее встретил только Стефан. Когда она вошла, он стоял в центре пустого пространства между перекладинами, уперев руки в бока, торжествующе глядя на нее. «Роза!» – произнес он так, как прежде никогда не произносил.
– Где Ян? – коротко спросила Роза.
– Ушел в гости, – ответил Стефан. – Просил его извинить.
Неожиданный уход Яна не мог не вызвать удивления, и они оба это понимали; но Роза удержалась от комментариев. Как обычно, они выпили и поужинали. Старуха, моргая, глядела в их сторону. В присутствии Розы братья никогда не давали ей пищу. Закончив ужин, оба молча закурили.
Они сидели внутри рамы, друг против друга, опершись на железные перекладины. Роза затушила сигарету. Стефан пристально смотрел на нее. Тогда и она в упор взглянула на него. И тут же ощутила какую-то странную гамму чувств. Горечь, поднимавшаяся из глубины, соединялась с сильным возбуждением – отзвуком взгляда, которым Стефан встретил ее; а к этому добавлялось еще и почти физическое чувство оцепенения, словно все мысли разом куда-то улетели. Она понимала, что пробудила к себе влечение, против которого у нее нет защиты.
– Иди, Роза, сядь здесь, – уже не торжествующе, а внимательно и серьезно глядя на нее, позвал Стефан.
Передвинувшись, она упала на колени рядом с ним и посмотрела ему в лицо. Он сжал ее за плечи и рывком притянул к себе. Роза лежала в его объятиях. И тут она глянула прямо в глаза старухе, наблюдавшей за ними без всякого выражения.
– Сейчас мы займемся любовью, Роза. Настало время, – сказал Стефан так просто, словно о чем-то само собой разумеющемся.
– Это невозможно, – ответила Роза, тоже как о чем-то само собой разумеющемся. – Из-за Яна.
Последняя фраза возникла в ее сознании случайно. Больше она ничего не могла придумать.
– Ян ни при чем, – возразил Стефан. – Сейчас я, а не он. Пошли.
Он встал на ноги и потянул Розу за собой.
– Но мать здесь! – воскликнула Роза.
– Она глухая и слепая, – ответил Стефан.
Роза невольно отступила, чтобы не видеть перед собой старухиных глаз, но Стефан поймал ее и повалил на матрац. Некоторое время они лежали, тяжело дыша. А потом он яростно овладел ею.
На следующий день Роза задумалась, что же ей теперь делать. Первое потрясение прошло. Она примеривала все пути выхода. Уволиться с фабрики и уехать из Лондона? Выбрать одного из братьев? Нет, не получится: для нее они – единое существо. Так что же, она их потеряет? Нет, это будет еще большая мука. Надо придумать что-нибудь помягче, не такое болезненное. Разделить братьев невозможно, но и уйти от них нельзя. Чтобы прийти к разумному решению, надо бы сначала понять и проанализировать ситуацию в целом, а сейчас это вряд ли удастся. Она не могла разобраться в случившемся, она потеряла самое себя. Ей оставалось одно – ждать. В глубине души она надеялась на братьев: они возьмут все на себя и что необходимо решить, сами и решат.
Этим вечером ее, как обычно, ждали в Пимлико. Роза привыкла, что в этот день после смены они втроем по мосту переходят на ту сторону реки. Смена закончилась, она стала искать Лисевичей, но не смогла найти. Роза отправилась одна; и когда шла, слезы текли у нее по щекам под зимним ветром, медленно, неудержимо, нескончаемо. Слезы жгучие, мучительные, не приносящие утешения, оставляющие нетронутым безымянное горе. Так плакать ей вряд ли еще раз доведется в жизни.
Она поднялась по лестнице и вошла в комнату. Там был Ян. Он сидел на перекладине, делая вид, что читает книжку. Стефана не было. Ян встал, подошел к ней и воскликнул: «О, Роза!»
– Где Стефан?
– Ушел к друзьям, – ответил Ян. И с улыбкой добавил: – Просил его извинить.
– А, понятно, – произнесла Роза.
Они молча съели ужин. Потом закурили, сидя внутри кроватной рамы, друг против друга. Роза смотрела на Яна, и ей казалось, что видит она его сквозь густое облако печали, не столько видит, сколько догадывается, что он где-то там, внутри. А Ян глядел на нее не просто суровым, а беспощадным взглядом.
– Теперь, Роза!.. – сказал он и встал.
– Теперь что? – резко спросила она.
– Теперь мы займемся любовью, – пояснил Ян.
– О господи! – вскричала Роза. – Ян, это невозможно!
Но Ян посмотрел на нее непонимающе:
– Почему невозможно? Да! Вставай.
Роза поднялась с пола. Они стояли почти рядом. Ян не двигался; лицо у него было каменное. А Роза колебалась между гневом и отчаянием.
– Ты знаешь про Стефана? – спросила она.
– Конечно, знаю, – отозвался Ян. – Сейчас мой черед. Пошли.
Колени у Розы подогнулись, и она рухнула на матрац.
После случившегося Роза ощутила себя в полном замешательстве. Ее тайное желание осуществилось: инициатива перешла к братьям. Вскоре она поняла – все было продумано ими заранее. Это открытие она сделала с чувством облегчения, ужаса и нелепой радости. Как и прежде, она навещала братьев и была благодарна за тот такт, с которым они определили новый для нее уклад жизни. Все так же шли уроки английского языка, а затем устраивался поздний ужин, который они съедали втроем; но теперь иногда после ужина один из братьев поднимался и, потягиваясь, сообщал, что ему хочется прогуляться, глотнуть свежего воздуха. Исчезал он часа на два, потом возвращался, после чего Лисевичи провожали Розу до остановки.
Роза удивлялась той скорости, с которой она привыкала к новой ситуации. Как только она поняла, что разлуки с братьями удалось избежать (а поняла она в тот же миг, когда осознала их тайный сговор), острая боль покинула ее, сменившись туманным фатализмом, в сфере которого отвращение и отчаяние дремали бок о бок тревожным сном. Братья все решили, ей же оставалось одно – покориться. Единственное, что ее беспокоило, это присутствие матери в комнате во время любовных актов, что ужасало и пугало Розу. С этими чувствами она ничего не могла поделать; ей казалось, что она всякий раз совершает какое-то ужасное преступление. Но помимо фатализма и неловкости Роза постепенно начала ощущать куда более глубокую тревогу. Она потеряла уверенность. Сила и власть переходили к братьям. Внешне они, как и раньше, относились к Розе мягко и предупредительно, вот только выражение глаз изменилось. В них появилась непреклонность завоевателей. И в глубине души Роза чувствовала негодование. А со временем она начала бояться братьев.
Глава 5
Анетта лежала на постели, подняв вверх ноги, любуясь чрезвычайной стройностью своих лодыжек. И лодыжки, и запястья у нее были узкими, почти, как выражался Николас, до карикатурности; но Анетте они нравились. Наблюдая, как тонкие косточки перемещаются под кожей, она и все свое тело начинала воспринимать как некий изысканный механизм. Она медленно покачала ногой туда и сюда, следя, как напрягается белая кожа. Потом плавно опустила ноги и положила руки на бедра, ощущая упругость мышц живота. Она лежала расслабленно, позволяя губам дышать и в то же время улыбаться. Глаза у нее были открыты, и ей казалось, что сейчас она похожа на прекрасный труп. Тело было длинное, гибкое, талия тонкая, головка маленькая, аккуратная, как у кошечки. Глаза – лучистые, карие, и очень узенький нос, слегка retroussé[9]. «У Анетты нос – как листочек бумаги, – говаривал Николас. – Сквозь него смотреть можно».
Анетта ждала возвращения Розы. Анетта, которая всегда сомневалась в своем умении предугадать реакцию Розы на то или иное известие, не знала, как рассказать о последних событиях. Но пока длилось ожидание, она сохраняла спокойствие. Давным-давно Николас сказал ей:
«Живи в настоящем, сестренка. И помни – именно ты решаешь, сколько это настоящее будет продолжаться». И Анетта, которая очень ценила советы брата, с радостью обнаружила, что в ее характере есть все необходимое, чтобы слова Николаса воплотить в жизнь. Поэтому она и лежала теперь ни о чем не думая, в сладостном полусне, наслаждаясь тишиной и ощущением стройности своего тела.
Анеттина жизнь всегда была наполнена шумом и гамом: звуками автомобильных моторов, танцевальных оркестров и badinage[10] на четырех языках. Если она пересекала континент, то всегда на максимальной скорости, возможной в эту эпоху; если шла по дороге, то непременно в компании нескольких человек, обычно распевающих песни. Подолгу на одном месте она редко когда задерживалась. «Не огорчайся, мы скоро уедем!» – так говорил отец, чтобы успокоить ее, когда Анетта в детстве пугалась чего-то – сердитой горничной или неожиданного ночного шума. Но ее тревожило именно это – тайна вещей, которую она не успевала раскрыть. Ей запомнилось, как много лет назад, в Бретани, она увидала в саду бутон розы и сказала своей няне, что не пойдет спать, пока не увидит, как цветок расцветет. Няня уговаривала ее не быть глупенькой, а отец рассмеялся и сказал: когда цветок расцветет, ты будешь уже в трехстах милях отсюда. «У таких, как мы, нет нормального детства, – заявил Николас, когда ей было десять, а ему двенадцать. – И нас это достанет лет в сорок пять!»
Анетта всегда чувствовала, что перемещается со скоростью, которую не она сама избирает. Иногда поезд, везущий ее от родителей или к родителям, замедлял свой ход и останавливался между станциями. И тогда мгновенно становилась слышна тишина гор. В такие минуты Анетта смотрела из окошка на траву, растущую у железнодорожных путей, видела, как травинки чуть колышутся под ветром. Тишина словно помогала им приблизиться к Анетте, и она с волнением осознавала, что трава существует на самом деле, что до нее можно дотронуться, можно выйти и лечь на этот зеленый ковер, а поезд пусть себе уезжает. А бывало, вечером огни загорались в окнах; и Анетта замечала из окна вагона какого-нибудь велосипедиста, сосредоточенно ждущего около шлагбаума; и думала: вот переезд откроется и велосипедист поедет дальше, и пока доедет до дома, она уже будет пересекать противоположную границу. Но еще ни разу она не покинула свое место в поезде ради тишины и травы, еще ни разу не решилась выйти во время неожиданной остановки, чтобы оказаться на крохотном полустанке, названия которого даже нет в перечне станций, чтобы направиться потом к маленькому отелю с яркой вывеской, приветливо распахивающему двери навстречу гостье. Она не в силах была разрушить заклинание, переступить барьер, отделяющий ее от мира, который в такие минуты будто звал ее. Она оставалась в вагоне, доезжала до большого вокзала, а там шофер относил ее вещи в машину, и Николас торопился ей навстречу, а ей было и грустно и весело, как всегда в конце путешествия. Но мир горничной, велосипедиста, маленького отеля – этот мир продолжал существовать, очаровывая и увлекая мечтой о чем-то тихом и неспешном, от чего ее всегда уносило прочь.
Анетта всегда считала, что взрослой сможет считать себя не раньше, чем ей будет дано право существовать в избранном ею темпе. Но первым повзрослел Николас и, став провожатым Анетты, вовлек ее в свой круг. Брат и сестра были еще совсем маленькими, когда их родители, прозванные Николасом «олимпийцами», решили, что их детям следует быть независимыми; иными словами, они должны сформироваться как можно скорее, после чего интеллигентно войти в мир взрослых, потому что мир, в котором они живут, в сущности и есть мир взрослых. Николас, который свою привилегированную школу любил не больше, чем Анетта Рингхолл, вскоре решил, что Париж, где он сейчас завершал свое образование в Сорбонне, и есть его духовная родина. Анетта провела множество вечеров в обществе брата и его друзей, прислушиваясь к бесконечным дискуссиям, продолжавшимся до утра, пока воздух, как ей казалось, не становился настолько густым от абстракций, что она впадала, полузадохнувшись, в тревожный сон. Сама отвлеченность темы, сама завершенность формы реплик мешали Анетте включиться в разговор, хотя по-настоящему она не знала, кого винить – то ли себя, то ли друзей Николаса, то ли французский язык. «Moi, j’aime le concret!»[11] – однажды, в конце какого-то собрания невольно воскликнула Анетта. «Le concret! C’est ce qu‘il ya de plus abstrait!»[12] – тут же остроумно ответил брат. Все рассмеялись, а Анетта расплакалась.
Юным девам в Рингхолле Анетта говорила так: «У меня нет ни родины, ни родного языка. Я говорю на четырех языках, но на всех неправильно». Это была неправда. Французский и английский Анетта знала в совершенстве. Но ей нравилось думать о себе как о вечной страннице. И собственная внешность казалась ей в этом смысле вполне подходящей. Бывало, она усаживалась перед зеркалом и начинала искать в глубине своих больших неугомонных глаз отсветы роковой неприкаянности. Анетта еще никого не любила, хотя кое-какой опыт у нее был. Она была лишена девственности в семнадцать лет другом Николаса, по просьбе последнего. Он мог бы устроить это и годом раньше, но Анетта нужна была ему в роли девственницы на черной мессе. «Относись к этому рационально, сестренка, – говорил Николас. – Гони от себя все эти тайны и ожидания, от которых только прямой путь к неврозам». С тех пор она пережила ряд приключений, не подаривших ей ни горя, ни радости.
Но если Николас таким образом задумал навсегда спасти Анетту от тайны, казавшейся ему такой нездоровой, то тут он, несомненно, просчитался. Тайна не исчезла, а просто переместилась, связавшись в представлении Анетты с будущим, туманную завесу которого непременно пронзят солнечные лучи.
Анетта проворно встала с постели. Она решила переодеться. Сбросила все свои юбки, верхнюю и нижние, и, натянув узкие черные брючки, восхищенно поглядела на себя в зеркало. Теперь она стала похожа на юного денди, готового вкусить все радости жизни – игру, женщин, шампанское. У нее были шелковые блузки всех цветов, а к ним, под цвет, шелковые шейные платки. Случались времена, когда Анетте все казалось скучным, кроме нарядов. Нарядов и драгоценностей. Еще в раннем детстве ей взбрело в голову коллекционировать драгоценные камни. И это дорогостоящее хобби, по мнению некоторых просто недопустимое, поддерживалось состоятельными родственниками и знакомыми из дипломатических кругов, живущими во всех частях света. В настоящее время Анетта владела просто выдающейся коллекцией, которую, вопреки отчаянным просьбам отца и страховой компании, отказывалась поместить в банк; и не просто возила, а еще и выставляла на общее обозрение, кладя камешки на синий бархатный фон; вот и сейчас это великолепие поблескивало на комоде. Марсия Кокейн, когда интересовались ее мнением насчет Анеттиных сокровищ, смеялась и отвечала так: вкладывать большие деньги в камни, а не в акции железнодорожных компаний имеет смысл хотя бы потому, что они способны доставить ценителям некое, совсем особое наслаждение; и еще: она была бы разочарована, если бы ее дочь упрятала такие великолепные украшения под замок, подальше от людских глаз. Таким образом, вопрос был закрыт.
Анетта выставляла не всю коллекцию, а прежде тщательно отбирала камешки и время от времени их меняла. Меняла она, причем каждый день, и расположение избранных камней: то симметричными узорами, то кучками, то просто наугад рассыпала их по бархату. Самым дорогостоящим в коллекции был рубин; его, когда Анетте исполнилось двенадцать, подарил ей индийский принц, который был влюблен в ее мать. А самым обожаемым был белый сапфир, подаренный, когда ей исполнилось четырнадцать, владельцем авиационного завода, влюбленным в ее брата. Именно этот камень она сейчас держала в пальцах, поднеся его к свету. Камень сверкал не белизной, не синевой, а золотом, утонченным до чистого прозрачного света. Настоящее сузилось до крохотной огненной точки. Анетта смотрела в самую его сердцевину.
– Анетта, – раздался голос Розы.
Анетта вздрогнула и едва не выпустила сапфир. Она поспешно вернула камень на место. Роза относилась к драгоценностям с неодобрением. Вид у нее был усталый, руки ее свисали, когда она стояла в дверях, словно тяжелые руки статуи. И кожа на ее лице тоже как-то некрасиво обвисла, пробуждая в Анетте жалость, смешанную с антипатией. Роза вернулась с фабрики, и Хантер тут же сообщил ей новости – Анетта решила бросить Рингхолл да еще явилась как раз тогда, когда Кальвин Блик торчал в офисе. Розе, которую в этот вечер ждали в Пимлико, и своих забот хватало.
– Значит, бросила школу, – проговорила она. – Ну, теперь жди беды!
– То же самое и я подумал, – ввернул Хантер, обрадованный тем, что гнев сестры миновал его.
Роза когда-то была лучшей подругой Марсии Кокейн. Они вместе учились в школе в Швейцарии, а позднее снимали квартиру в Лондоне. Роза всей душой стремилась полюбить и Анетту, что ей почти удалось. Задачу упрощало то обстоятельство, что Анетта вовсе не требовала от Розы такого уж пристального внимания. Роза, отчасти очарованная, отчасти раздраженная резвостью девушки, не могла не сравнить ее с собой в этом же возрасте; и сравнение выходило не в пользу Анетты. Но все эти претензии к Анеттиному поведению так и оставались неопределенными, и Роза даже не побеспокоилась спросить себя – обоснованны ли они, или это всего лишь зависть к более молодой, более в некотором смысле удачливой женщине. Временами она наслаждалась обществом Анетты. И в то же время это дитя пробуждало в ней беспокойство. Она знала, что Анетта боится ее насмешек. И от этого с еще большим азартом язвила и колола ее.
Роза опустилась на диван. Но сейчас ей не хотелось беседовать. Хотелось просто отдохнуть.
– Мне сказали, ты бросила школу, – обратилась она к Анетте.
– Да, – выпрямилась Анетта. – Роза, ты против? – Роза протянула Анетте руку, но, заметив, какая она грязная, поспешила убрать.
– Нет, конечно, нет! – ответила Роза. – А если и против, то это не имеет значения.
Она прилегла, держа ступни на весу и плотно сжав руки, чтобы не запачкать покрывало. Лежала неудобно, полуобернувшись к Анетте.
– Твой Рингхолл мне никогда особо не нравился. Но что же ты теперь собираешься делать?
– Я там ничему не научилась бы, – сказала Анетта. – Теперь буду учиться самостоятельно.
– Ты не ответила на мой вопрос: что ты теперь предполагаешь делать?
– О, мне столько хотелось бы узнать! – воскликнула Анетта. – Я составлю план.
Лежа на постели, Роза вдруг начисто забыла об Анетте. Тяжкая усталость накрыла ее, будто колоколом.
– Можно, я вытащу шпильки из твоих волос? – раздался откуда-то издалека голос Анетты; она села, поджав ноги, возле Розы.
– Да, если хочешь, – ответила Роза. Это уже был своего рода ритуал. Не имея сил даже двигаться, она подняла голову, и волосы упали тяжелым черным каскадом. Анетта гладила их, положив себе на колени.
– Какие чудесные! – вздохнула она. – Я пыталась отрастить свои подлиннее, но они дорастают только до плеч – и все.
У Анетты были короткие каштановые кудряшки – творение Анеттиного парикмахера. У Николаса, не обращавшегося к услугам парикмахера, волосы были совершенно прямые и от макушки опадали кругом настолько правильным, что некоторые даже предполагали, что это парик. Если бы Анетта носила такую прическу, то ее сходство с братом было бы просто потрясающим.
– До плеч у тебя терпения хватает, но не дальше, вот что ты хочешь сказать, – думая о чем-то своем, произнесла Роза.
– Лежи и отдыхай, – сказала Анетта. – Положи ноги как следует.
Она осторожно пододвинула Розины ступни и разжала ей руки. Та лежала расслабленно, улыбаясь чуть иронически, в то время как Анетта склонялась над ней, жадно, словно любовник, вглядываясь в ее лицо.
– Ты вылитая женщина Ренуара, – сказала она наконец. – У них такие же яркие черные глаза.
Зная, что эта яркость есть не что иное, как близость слез, Роза отвернулась.
– Что это? – спросила Анетта, указав на круглый знак чуть пониже Розиного плеча.
– След от прививки, – пояснила Роза. – У тебя наверняка точно такой же есть.
– Вряд ли, – ответила Анетта. – Прививку мне делали, но ничего не осталось.
Она закатала рукав шелковой рубашки до самого плеча. В самом деле не было никакого знака.
– Вот, гляди, и следа нет, – произнесла Анетта. – Я не хочу иметь на теле никаких вечных знаков, я не хочу ничего терять. Мне радостно, что я никогда не потеряла ни единого зуба. И уши никогда не прокалывала.
– Прокалывая уши, ты ничего не теряешь, – заметила Роза. – Кожа разделяется, но ее не становится меньше.
– Я понимаю, – сказала Анетта, – но мое тело все равно почувствовало бы перемену и уже никогда не было бы прежним. Я бы себя почувствовала так, будто меня кто-то пожевал и выплюнул.
– Пожевать и выплюнуть – это именно то, что происходит с человеческим телом, – отозвалась Роза. – Взять, к примеру, морщины. Это знаки, которые, раз появившись, уже не разглаживаются. Даже у тебя они есть.
– Нет! – закричала Анетта. Спрыгнув с дивана, она подбежала к зеркалу и принялась изучать свое лицо; Роза тоже пристально смотрела на него. Личико и в самом деле было таким гладеньким, таким нежным, какое бывает только в ранней юности.
– А вот и нет! – повернувшись к Розе, торжествующе воскликнула Анетта.
– В самом деле, – сказала Роза, – ты похожа на маленькую рыбку, такая же совершенно гладкая. Должно быть, ты русалка.
– Я ма-а-ленькая рыбка, я ру-у-салка! – запрыгав по комнате, пропела Анетта.
Лежа в полузабытьи, опутанная собственными волосами, Роза снова начисто забыла об Анетте.
Глава 6
Роза вошла в парадную дверь дома в Пимлико. Там всегда была открыто. Она торопливо поднялась по ступенькам и, не постучав, вошла в комнату.
Ян, балансируя, лежал на железной перекладине.
– Так делают факиры, – разъяснил он. – Именно так. Лежат годами. Разве нет? И через это познают Бога.
– Я не верю, – ответила Роза. – То есть, что познают Бога, не верю.
Роза украдкой взглянула на углубление в стене. Старуха лежала в своем алькове как обычно, и глаза ее были устремлены в сторону Розы, как глаза статуи. «Добрый вечер», – поздоровалась Роза как всегда, но как всегда не получила ответа.
В глубине комнаты Стефан возился со странным приспособлением, сделанным из полосок металла и веревок.
– Что это? – удивилась Роза.
– Машина для тренажа, – объяснил Стефан. – Мы сами ее собрали. Увидели в одном магазине и сделали вид, что хотим купить. А сами начали внимательно рассматривать, а потом сделали у себя. Металлические полоски нашли на фабрике. Разумно, правда?
Стефан сел, обмотался веревками и принялся энергично двигаться, наклоняясь и выпрямляясь, словно в руках у него были весла.
– Сумасшедший! – рассмеялась Роза.
– Но так мы становимся сильными, – поднявшись, сказал Стефан. – Самыми сильными. Если один из нас силен, то мы как король. А если оба сильны, то как император.
– В Польше мы много занимались спортом. Стефан был чемпионом по боксу, – подхватил Ян.
– А Ян – чемпионом по велосипеду, – продолжил Стефан.
И оба начали сумасшедшими подскоками носиться по комнате. Стефан боксировал, а Ян делал ногами движения, будто едет на велосипеде, а руками держит невидимый руль. Поднялся страшный шум. Верхние жильцы в конце концов застучали в пол.
Роза села на перекладину, вытирая выступившие от хохота слезы.
– Ох, прекратите! – взмолилась она. – Не могу! Хватит!
Братья затихли и осторожно приблизились к ней. Их улыбки сияли над ней, как два ангела.
– Бедняжка, теперь мы накормим тебя ужином, – сказал Стефан. – Иди сюда и садись.
Они усадили ее на матрац и расставили все необходимое для ужина. Роза прислонилась к стене. Как только она оказалась рядом с братьями, все ее заботы куда-то унеслись и на душе стало совсем спокойно. Стефан помешивал что-то в кастрюльке, стоящей на газовой горелке. Ян расположился рядом с Розой и ласково смотрел на нее.
– Ты наша сестра, – тронув ее носком туфли, произнес он. – Ты принадлежишь нам обоим.
Братья часто так говорили. Повторяли это каждый раз, когда она приходила, как заклинание.
– Жена – это пустое, – продолжал рассуждать Ян. – Где это – там и жена. Но мать – это важно, и брат – это важно. Новую жену всегда можно сделать. Но брат только один. И сестра тоже. Ты принадлежишь нам обоим. И этого достаточно.
Роза глядела на него молча, позволяя очарованию окутывать ее. Слова Яна звучали все мягче и мягче, словно он пытался убаюкать ее.
– Сегодня вечером мы расскажем тебе историю нашей деревни, – сказал Ян. – Историю нашей первой женщины.
Почти в каждую их вечернюю встречу кто-нибудь из братьев начинал рассказывать о Польше. Рассказ всегда начинался словами «В нашей деревне…» Эти истории Розе никогда не надоедало слушать. Под влиянием их рассказов в ее воображении возникали картины почти фантастические и в то же время абсолютно объемные, как в детстве при чтении волшебной сказки. Она все это видела – и стебельки травы, и дверные ручки, и солнце, отражающееся в окнах; она видела братьев, идущих по улице, – вот они еще дети, вот уже почти взрослые. Картина представала перед ней в мельчайших деталях, и все равно это было похоже на сон, и ей не хотелось знать, так ли было на самом деле.
Однажды она попросила братьев показать на карте, где находится их деревня. Но когда карта была развернута, братья стали спорить, где же находится деревня, и спорили так ожесточенно, что Роза в конце концов дала себе слово никогда больше не спрашивать, ограничившись образом, который их рассказы создали в ее воображении.
В другой раз, как бы размышляя вслух, она сказала:
– Любопытно, вернетесь ли вы когда-нибудь назад?
– Зачем нам возвращаться? – спросил Ян. – В нашей деревне все дураки. Они даже не знают, что такое университет. Они думают, что это просто такая школа для механиков. Школа для механиков, больше они ничего не знают. Когда мы со Стефаном делали наш семестр, они думали, что мы в такой школе учимся. Деревенщина, и все тут.
– Да ее и нет больше, нашей деревни, – прибавил Стефан. – Гитлер разбил. Расстреляли, потом сожгли. Ничего не осталось. Там теперь ничего нет. Ровная земля.
После того как ужин был съеден, Стефан начал рассказ:
– В нашей деревне была школа. Не настоящая школа, как в Англии, а сельская. Все дети в одной большой комнате, большие и маленькие, все вместе. Они садятся группами, а учитель ходит между ними, поэтому у одних урок, а другие в это время делают домашнее задание. Вот так оно было. Ян и я, мы посещали такую школу с семи лет. Мы могли не ходить, но мы ходили. Я говорил Яну, когда мы были маленькими: будем учиться много, научимся читать, писать, а от этого станем сильными, не такими, как другие деревенские. Ну и мы пошли. Сначала у нас был учитель, такой, с длинной бородой. Очень старый, и очень дурной. Я говорю Яну: не будем бросать школу, учитель скоро умрет. Мы научились немного читать, писать. Учитель умер. Ну мы и гадаем: а что теперь? В Польше не так, как в Англии. Учителей не так много. По селу пошли разговоры: что же теперь?
Потом из города приезжает учительница к нам в деревню. Никогда раньше учительницы не было. Сначала удивление поднялось, шушуканье. Молодая, красивая девушка. Разве такая может быть учительницей? Мы смеемся. В первый день вся деревня пришла посмотреть. Ребятня внутри, а деревенские все снаружи, в дверях, в окнах, наблюдают. А учительница такая румяная, такая писаная. А мы все смеемся. Но скоро мы видим, что она настоящая учительница. Все знает, нешутейно. Мы видим, как наши родители в двери заглядывают, нам смешно, баловаться хочется. Но она заставляет нас молчать. Снимает туфлю и хлоп ею по столу, вот так – бац! бац! и мы все замолкаем. Вдруг мы все начинаем бояться. Потом она поворачивается к дверям, где наши отцы, матери собрались, глядят на девушку, потому что не верят, что такая может быть учительницей. И она говорит: хотите на урок, заходите, а если не хотите, то прошу вас уйти. Теперь уже не она, а они краснеют. Потом уходят, чувствуя себя дураками. С того времени никто над учительницей не подшучивает, ни в школе, ни в деревне.
Мы, значит, остаемся в школе и многому учимся. Мы – лучшие ученики, самые-пресамые лучшие. И мы теперь большие, Ян и Стефан. У нашей семьи много денег, поэтому нам не надо работать в поле. Учительница довольна нами, учит нас больше, чем других. Она хочет, чтобы мы поступили в университет. И мы об этом думаем тоже. Но однажды она совершает против нас большую ошибку. Нам тринадцать, то есть мне тринадцать, а Яну двенадцать. Она бьет нас, да, по лицу. Почему она нас бьет, я не помню, и Ян не помнит. Но бьет обоих, сначала меня, потом Яна, и все дети видят это и смеются. А в Польше, в деревне, не принято, чтобы людей так били. Такое не забывают, такие пощечины. Я молчу, и Ян молчит, но каждый из нас в сердце думал тогда, что мы никогда не забудем, и когда будем взрослыми, берем эту женщину и так мстим ей. Каждый из нас про это думает, но мы друг другу не говорим.
После этого дня мы в классе молчим, всегда молчим. А до этого много говорили, отвечали, спрашивали вопросы. Но теперь молчим. Вот так сидим и смотрим на нее, все время смотрим на нее. Если она спрашивает иногда, мы буркаем что-то в ответ и все время смотрим, смотрим. И она вскоре становится несчастной. И она говорит: «Почему вы никогда не говорите теперь, вы двое, что с вами, вы заболели?» Но она очень хорошо знает, что с нами. Мы ничего не говорим. Мы делаем ее очень горюющей. Все время смотрим, вот так голову наклоняем, руками подпираем и смотрим. Так год проходит, два года. Мы много учимся, но теперь мы учимся для себя, по книжкам. И вскоре мы узнаем много, знаем теперь больше учительницы. Мы приходим в школу, как и раньше, но только чтобы смотреть на нее, и теперь если она что-то неправильно говорит, то мы ее поправляем. И ей очень горько, когда она нас видит. Она начинает бояться нас. И мы оба в своей душе повторяем: еще недолго осталось, еще совсем немного времени. И мы, как раньше, друг другу не признаемся. У него и у меня внутри сердца задум, внутри секрет. Мы ждем, пока повзрослеем, станем большими, высокими, сильными. Мы каждое утро смотрим на себя в зеркало, чтобы увидеть, похожи ли мы на мужчин. И мы видим, как становимся высокими, красивыми, как солдаты. И вот у нас наконец усы появляются. Каждый день я смотрю на себя в зеркало и радуюсь, и каждый день я вижу, как Ян собой любуется, как он отмечает свой рост на стене, смотрит в зеркало, расправляет плечи, да, сжимает кулаки. Но я не знаю, о чем он думает, а он не знает, о чем я думаю.
И однажды наша мать уезжает из деревни. Она тогда начинала болеть и едет к своей сестре в другую деревню. И я думаю: пришло время. И Ян про себя думает: пришло время. В один день мы так подумали. Но все еще молчим. Идем в школу и садимся, как раньше, и смотрим, а учительница краснеет и огорчается, когда нас видит в школе, как и раньше огорчалась. Урок проходит. Потом каждый из нас передает ей записку, но один не видит, что делает другой. Я, Стефан, кладу записку ей в книжку. А Ян – в шляпку. И мы оба идем домой, такие счастливые, такие взволнованные. Но друг перед другом мы все еще молчим. В той записке, что я передал учительнице, говорится: «Я люблю тебя. Встретимся сегодня вечером в девять около колодца». А Ян так написал: «Я люблю тебя. Встретимся сегодня в девять около дуба». И мы все время потом смеемся и ждем вечера. И каждый не знает, что другой сделал.
Наконец вечером я, Стефан, иду и становлюсь у колодца. А Ян, он идет и становится у дуба. Колодец почти в самом конце деревенской улицы, на север от нее. А между дубом и колодцем на этой самой улице есть фонтан. Когда я прихожу, то еще не совсем стемнело, и я смотрю по сторонам. Я не вижу учительницу, но я вижу Яна, который сидит под деревом. А Ян видит меня. Мы оба злимся, а потом делаем вид, что один другого не видит. Я сажусь тоже. Между нами небольшое расстояние, может быть, метров сто. И мы ждем. Темнеет, красиво вокруг очень, очень тихо. Я про себя думаю: если бы только не Ян. И что он торчит под деревом? А Ян в это время думает: ну чего этот Стефан? чего он там торчит у колодца?
Потом вдруг появляется учительница, в белом платье, как птица, и идет по сельской улице. Хоть и сумерки, а ее очень хорошо видно. Мы оба ее видим. Она смотрит вправо и видит меня. Она смотрит влево и видит Яна. И стоит минуту. Потом садится у фонтана и расправляет юбку. И смотрит на небо. Опускает руку в фонтан. А вокруг тихо. Минуты идут, говорю я себе, она видит Яна там и ждет, когда он уйдет, а потом придет ко мне. Итак, мы ждем втроем. Вечер синий такой, теплый. Темно, и звезды загораются, одна звезда, другая, потом много. Птица поет в лесу, наверное соловей. И все время мы видим, как она сидит там, неподвижно, запрокинув голову, да, и руку полощет в воде. Мы ее видим, хотя и темно, потому что на ней такое белое платье.
Меня злость начинает разбирать. Я с ума схожу, так желаю эту женщину. У меня лоб покрывается потом, я дрожу; но я все время вижу Яна, там, под деревом, даже в темноте я вижу его лицо, очень бледное. И пока Ян там, я не могу двинуться, я как человек в оковах. Деревенская улица заканчивается фонтаном, но дальше идет дорожка, ведущая к церкви. И вдруг из церкви выходят люди и идут к фонтану. Как раз перед Пасхой это, вечерняя служба. Впереди идет старая женщина, учительницина мать, и она берет дочь за руку и ведет прочь. И теперь кругом людские голоса, соловей замолкает, и ночь совсем темная. А я, как и раньше, сижу у колодца и начинаю плакать. Ян рассказал, что и он плакал, сидя под деревом. Потом каждый идет через лес, далеко, плачет, бьет руками деревья, падает на траву и лежит. Очень поздно возвращаемся домой. Ничего друг другу не говорим и так засыпаем.
На следующий день мы не идем в школу. Берем книжки и уходим подальше, на холм. Я, Стефан, иду на север, а Ян – на юг. И так мы ждем до вечера. И когда вечер приходит, мы возвращаемся, в девять часов я опять у колодца, а Ян у дерева. И начинаем ждать. И все получается как раньше. Учительница появляется в белом платье и садится у фонтана. Звезды, одна, две, три, множество, высыпают на синем небе. Так тихо, что мы слышим, как фонтан журчит. Потом снова соловей запевает. Я сижу у колодца, и пот течет у меня по груди. Я расстегиваю рубаху, вот так, рывком, на шее. Я не могу дышать. Я весь горю, так мне хочется прикоснуться к ней, но пока Ян там, я должен сидеть как мертвый, как труп, я боюсь пошевелить рукой. Я задыхаюсь, потом начинаю стонать, хотя и очень тихо, и раскачиваюсь туда и сюда, так, и все тело у меня болит. Потом все как вчера. Вдруг люди выходят из церкви, и впереди ее мать, она берет ее за руку и уводит, как в прежнюю ночь. Потом я лежу у колодца лицом в землю. Лежу как мертвый. Я даже не могу стонать; так я лежу час. Потом иду домой и засыпаю. Ян приходит гораздо позже.
Утром мы смотрим друг на друга. И он и я, мы оба белые, как привидения. Но еще ничего не говорим. Едим вместе, но ничего не говорим. Вслух мы ничего не говорим, только в душе. Я говорю себе молча: убью Яна. Я весь дрожу, когда об этом думаю. Держу кусок хлеба в руке, потом кладу его и встаю из-за стола. Дрожь такая, что идти едва могу. За дверь цепляюсь, чтобы не упасть. Иду в сарай, поискать топор. В это время Ян встает и идет в спальню. Я нахожу топор и возвращаюсь. И вижу: Ян стоит в дверях спальни и держит длинный охотничий нож. Мы стоим долго, очень долго, может, десять, пятнадцать минут и смотрим друг на друга. Ян прислоняется к своей двери, а я – к своей. Потом мы оба поворачиваемся и отбрасываем: он – нож, я – топор. Я ухожу в поле, и мне так плохо. Иду, как и вчера, куда глаза глядят, за холм.
Вечером возвращаюсь в деревню и в девять часов иду к колодцу. Гляжу и вижу Яна под деревом, как и раньше. И все опять повторяется. Учительница в белом платье приходит, садится у фонтана. Теплынь, звезды высыпали. Я слышу звук фонтана и пение соловья. На этот раз я не сижу, а стою, ногу поставил на край колодца. Жду десять минут. Весь дрожу, задыхаюсь, но слабым, как раньше, себя не чувствую. Не чувствую себя связанным. Смотрю на Яна. Смотрю на учительницу. Смотрю на церковь. И потом начинаю тихо идти к фонтану, неслышно, как дух. Мне кажется, что я сейчас и невидимый, как дух. Вокруг очень темно. Я вижу белое платье. Но тут и Ян начинает идти. Когда я вижу, что он идет, то начинаю идти быстрее. Потом я бегу, и он бежит, и мы оба сталкиваемся у фонтана, где сидит учительница.
Учительница встает. Ничего не говорит. И мы ничего не говорим. Потом берем ее за руки и ведем к нам в дом. Мы ведем ее кружным путем, вокруг полей, чтобы никто не видел. Ведем ее в дом. Потом раздеваем и имеем, сначала один, потом другой…
Стефан прервал рассказ.
– Кто был первый? – спросила Роза спустя мгновение.
– Я, – отозвался Стефан, – потому что я – старший. В Польше старший очень важный. Старший – король. Мы с Яном равны. Но мы не могли любить ее вместе, даже мы, и поэтому сделали очередность. Я – первый.
– С тех пор мы всегда делим наших женщин, – добавил Ян. – Так повелось.
– Да, – продолжил Стефан, – когда мы задумали взять ее и утаили друг от друга, то мы плохо сделали. Брат всегда должен рассказывать брату. И мы научились.
Оба кивнули важно.
– Вы любили ее снова или только в эту ночь? – спросила Роза.
– Только в эту ночь, – сказал Ян. – После этого мы любили многих девушек в деревне, многих девушек, все красивые девушки были наши, но ее – нет.
– Почему же? – снова поинтересовалась Роза.
– Не знаю, – ответил Ян. – Нам она не полюбилась. Она сказала неправду. Говорила про себя, что нетронутая, но обманула.
– В Польше все девушки говорят, что нетронутые, – заметил Стефан.
– Вообще, она была нам ненавистна, – продолжил Ян. – Мы не забыли той пощечины. И мы не хотели ее радовать. Достаточно, что она стала у нас первой.
– Мы причинили ей много боли, – сказал Стефан. – Перестали ходить в школу. Совсем перестали. Она высматривала нас на улице, ждала нас. Иногда опять приходила к фонтану. Мы наблюдали за ней. Но мы ничего не делали. Не узнавали, не приветствовали. Будто никогда и в глаза не видели. Много боли ей причинили.
– Бедная! – произнесла Роза. Ей хотелось плакать. – Бедная! Она была красивая?
– Да, – кивнул Ян, – красивая. Она из городских, но все равно как сельская, не леди, как ты. У нее длинные, очень длинные черные волосы, почти до земли, ее волосы как хвост лошади. И не жесткие, как твои, а шелковистые. Она будто обнимала своими волосами. И глаза, очень большие, широко расставленные, как у оленихи, испуганные такие.
– И она всегда носила четыре черных нижних юбки, – добавил Стефан.
