Белоповстанцы. Книга 1. Освобождение Приморья войсками Временного Приамурского правительства бесплатное чтение
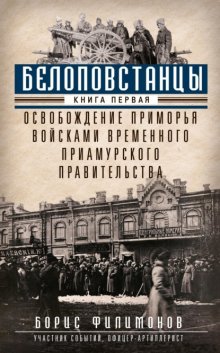
Борис Филимонов
Белоповстанцы. Книга 1. Освобождение Приморья войсками Временного Приамурского правительства
Да ведают потомки православных Страны родной минувшую судьбу…
А.С. Пушкин. Борис Годунов
Посвящается памяти русских воинов, за Веру и Отчизну живот свой положивших
Борис Филимонов
Участник событий, офицер-артиллерист

Хабаровский поход
1921–1922 гг.

© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2023
© ЗАО «Центрполиграф», 2023
Предисловие
В конце 1921 г. внимание если не всей России, то, во всяком случае, части ее граждан было приковано к далекому для многих Приморью. В лютый сибирский мороз отряды дотоле никому не ведомых белоповстанцев двинулись на Хабаровск. Он был взят. На границах Амурской области завязалась упорная борьба между белыми повстанческими частями и Народно-революционной армией ДВР. Перевес оказался на стороне красных, и к весне 1922 г. поредевшие белые отряды, испытывая недостаток в огнеприпасах, преследуемые частями Нарревармии, принуждены были отойти в Южно-Уссурийский край, в зону, занятую японскими экспедиционными силами. Этот поход, получивший в рядах белых бойцов наименование Хабаровского, является последним наступлением остатков белых армий Восточного фронта – преступной и заранее обреченной авантюрой, по мнению одних, единым выходом и сплошным подвигом, по мнению других.
Ввиду того что в течение ряда лет в зарубежной русской печати не появилось обстоятельного описания военных действий этой зимы 1921/22 г. в Приморье и восточной части Амурской области, я решил составить таковое. Свою работу начал в ноябре 1928 г. с приведения в порядок имевшихся на руках своих личных записок и сбора различных сведений от друзей. В дальнейшем, с осени 1929 г., к работе я стал привлекать бывших участников похода – чинов различных частей. Работая над составлением описания похода, стремился по возможности основываться на документах и дать беспристрастно правдивую и полную картину минувшего.
Так как исчерпывающих данных на руках у меня не было и подчас приходилось пользоваться недостаточно проверенными, а иногда сбивчивыми и противоречивыми показаниями, естественно, в работе моей могут оказаться упущения и неточности.
6 августа 1931 г., Шанхай
Всем лицам, так или иначе содействовавшим мне в моем труде, приношу свою глубокую благодарность. Особенно же благодарю полковника Генерального штаба Ефимова, Авенира Геннадиевича, уделившего исключительное внимание и положившего немало труда в деле снабжения меня необходимыми материалами, что в период составления книги в значительной мере облегчило выполнение намеченной мной задачи.
Автор
I
Обстановка перед походом
Дальне-Восточная Республика. – Белые в Южном Приморье. – Интервенты. – События осени 1921 г.
Русский Дальний Восток за время Гражданской войны всецело подпал под японское влияние. Правительство адмирала Колчака считало этот край потерянным для России, если не навсегда, то, во всяком случае, на многие годы. Крах белых в Сибири и отказ от продолжения интервенции так называемых союзников поставил лицом к лицу Японию и РСФСР. В своих собственных интересах японское императорское правительство не могло желать и содействовать распространению власти правительства РСФСР по территории русского Дальнего Востока по двум основным причинам: во-первых, это была власть правительства, объединившего под своим контролем почти все земли бывшей Российской державы, правительства, державшегося весьма независимо, и, во-вторых, с появлением представителей и органов правительства РСФСР неразрывно была связана пропаганда коммунистических идей. Так как русские правые и умеренные группировки, продолжая борьбу с большевиками, готовы были на временное обособление русского Дальнего Востока, создание на его территории нового государственного образования – буфера между Японией и РСФСР – удовлетворяло заинтересованные стороны, тем более что правительство РСФСР не считало себя настолько сильным, чтобы вступить в единоборство с Японией. В 1920 г. только крайне левые партии стремились воссоединить русский Дальний Восток с остальной Россией. Целью этого было, конечно, введение края в орбиту советских порядков, но в глазах недостаточно развитого сельского населения и рабочих края эти крайне левые партии выходили как бы охранителями идеи единой неделимой России, а правые и умеренные группировки масса населения считала сторонниками расчленения России. Так смеялась судьба, делая русских националистов белых друзьями чужеземцев и выставляя интернационалистов красных борцами за Родину и Свободу.
Итак, в конце 1920 г. на русском Дальнем Востоке должен был возникнуть буфер. Вначале к участию в строении буфера приглашались все политические партии и все слои населения, но… Попытка организации буфера правыми при участии семеновской Читы провалилась, так как фигура атамана оказалась неприемлемой даже для значительной части руководителей умеренных кругов. Объединение на основах коалиционных при участии всех группировок, за исключением Дальневосточной армии (семеновцы и каппелевцы), не состоялось, ибо чисто большевистское верхнеудинское правительство, опираясь на отряды красных партизан, явочным порядком объявило о принятии власти, а правительства благовещенское и владивостокское подчинились ему и самоликвидировались. История возникновения Дальневосточной Республики (ДВР) подробно изложена в книгах В.Г. Болдырева «Директория, Колчак, интервенты» и С.П. Руднева «При вечерних огнях», а посему желающим ознакомиться с этим вопросом надлежит обращаться к указанным книгам.
За три года смуты крестьяне Дальнего Востока привыкли жить без правительственной опеки. Налоги и повинности потеряли свою обязательность в их глазах. Поборы и ряд насилий, произведенных интервентами и карательными отрядами Калмыкова и Семенова, способствовали успеху красной пропаганды. У населения сложился отрицательный взгляд на белых, и оно ничего не имело против прихода красных. Проповедники единого социалистического фронта обещали свободную жизнь. Крестьянство представило, что истинно народная власть совершенно не будет взимать налогов и требовать повинностей и деревня будет жить сама по себе. Красная власть ДВР считалась народной, а потому велико было недоумение крестьянства, когда новое читинское правительство начало проводить в жизнь на своей территории московские законы и порядки. Загадочный лик долгожданной Свободы начинал проясняться. Невиданные доселе налоги на всякую живность и на продукты, ввозимые в город для продажи на базаре, принудили крестьян призадуматься. Они жались, вздыхали, чесали затылки, но, хочешь не хочешь, налоги платили, ибо власть требовала их неукоснительно. Казаки стали вздыхать главным образом о потере своего привилегированного положения. Между тем комсомол начинал проникать в деревню. Девчата и парни бегали на собрания вместо посиделок – новое, как везде и всегда, было занятно. Кое-где, преимущественно в украинских селениях, позакрывали церкви и выгнали священников. Тем не менее большинство женщин и значительная часть мужчин оставались лояльными церкви и вспоминали о старом мирном времени. Продукты дорожали, особенно в центрах.
Подводя итоги настроениям населения на территории ДВР в конце 1921 г., должно сказать, что, если массы многими мероприятиями новой власти оказались недовольными и к правительству ДВР жители ряда селений относились отрицательно, то все же, в силу ряда причин, население было далеко от мысли о вооруженном выступлении против красных властей. Вместе с тем оно безусловно враждебно относилось к возможности нового появления японцев и со злобой вспоминало о проходе отряда атамана Калмыкова, перепоровшего в свое время многие хохляцкие поселки. Агенты правительства, играя на этом, старались усилить отрицательное отношение населения к белым. Каппелевская армия выставлялась дикой, разнузданной бандой, от которой следовало ждать насилий и зверств, превосходящих калмыковские деяния. И вот при движении белых на Хабаровск крестьяне, оставаясь на местах, встречали белых с опаской, ожидая от них бесчинств.
Не принявшая участия в строительстве соглашательского буфера Дальневосточная (белая) армия под давлением превосходящих сил противника вынуждена была в ноябре 1920 г. оставить последний клочок Забайкалья и отойти за границу. Белой территории более не существовало, и Белая армия, вытесненная из одной области новообразующегося красного буфера, принуждена была искать себе приют в другой области того же буфера, правда находящейся под контролем Японии. Явочным порядком части Белой армии проникли в Южное Приморье, где осели вдоль линии железной дороги от самой границы до ст. Раздольное.
В конце мая 1921 г., при благосклонном нейтралитете японского командования, эти белые захватили Владивосток и произвели переворот в Никольск-Уссурийском и Раздольном. Гродековский же район еще с июля 1920 г. находился вне фактического контроля владивостокского правительства. На другой день после переворота во Владивостоке загорается борьба между двумя белыми группировками (каппелевцами и семеновцами). Эта внутренняя борьба препятствует атаману Семенову вести операции против ДВР в широком масштабе. Отряды барона Унгерна и генерала Сычева, не получая поддержки от главных сил Дальневосточной (белой) армии, погибают. В самом же Приморье белые распространяются на север по хабаровской линии только до ст. Евгеньевка, находящейся в пределах зоны, занятой японскими экспедиционными войсками. Кроме того, белые постепенно занимают Сучанскую железнодорожную ветку, село Владимиро-Александровское, находящееся в заливе Америка, и прибрежный район Барабаш – Посьет. В более чем трехмесячной борьбе новообразовавшегося Временного Приамурского правительства, опиравшегося на каппелевское командование, с атаманом Семеновым победа оказалась на стороне первых, и в середине сентября 1921 г. Гродеково смиряется и подчиняется Временному Приамурскому правительству. Руководящие лица гродековской группировки были принуждены либо оставить пределы Приморья, либо отойти на второстепенные посты, или же, наконец, оставаясь в Приморье, уйти в сторону от активной работы. Таким путем белые пришли к объединению, но авторитет их междоусобиц был значительно потрясен, и в глазах населения они пали так низко, что с ними переставали считаться. Напрасно лучшие из белых кляли недальновидность, корыстность и честолюбие своих «вождей», последние, не желая уступить друг другу власти и кое-какие жалкие средства, не желая подчиниться один другому, дошли до того, что втянули рядовую массу в междоусобицу. Как ни печально, но следует констатировать факт почти настоящего атаманства в частях белых. Порой становилось страшно от мысли: «А что, если кто-либо из этих „вождей“ получает мзду от ДВР за свою работу?»
Во главе Приамурского государственного образования, как официально был назван новый противобольшевистский центр, стояло Временное Приамурское правительство под председательством Спиридона Дионисиевича Меркулова и в составе Николая Дионисиевича Меркулова, Адерсона, Макаревича и Еремеева. Исполнительная власть – Совет управляющих ведомствами. Законодательная власть принадлежала Народному собранию (Нарсобу), члены которого были выбраны от населения Приморья или делегированы различными белыми организациями полосы отчуждения Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Главную роль играли оба брата Меркуловы – местные купцы. Правительство это, опиравшееся на каппелевское командование и каппелевские части, при неофициальной поддержке японского командования, сосредоточило в своих руках жалкие остатки некогда колоссальных российских средств и запасов, находившихся во Владивостоке.
Сельское население Южного Приморья симпатизировало в своей массе красным. Местами это настроение было выражено довольно ярко – Сучанский и Анучинский районы, Полтавская станица. Деревня жила своей собственной жизнью. Быть в ней хозяином правительство не имело ни средств, ни сил. Вот поэтому-то все элементы, более благожелательно или даже безразлично относившиеся к белым, держались в тени и воздерживались от порицания ДВР. Отряды партизан, состоящие главным образом из лиц, присланных из глубины ДВР, и отчасти пополненные партизанами из местных жителей, за пределами тридцативерстной полосы держали весь край в своих руках.
Рабочие в городах не скрывали своих красных настроений и открыто говорили, что скоро сбросят каппелевцев в бухту Золотой Рог. Люди с красными ленточками и бантами появлялись и свободно разгуливали по окраинам Владивостока и Никольска. На центральных улицах Владивостока задевали и оскорбляли офицеров. В Ново-Никольском (село в девяти верстах от г. Никольск-Уссурийского) красные терроризировали одну из невооруженных белых частей настолько, что это явилось причиной ухода ее из вышеназванного села. На сучанских рудниках развевался флаг ДВР.
Средние классы, как это было во всю русскую революцию, держались незаметно и тихо. В душе симпатизируя белым, они старались об этом не проговориться, так как «все может случиться». Попадались одиночные экзальтированные, которые кричали о белом движении и о дорогих «наших воинах», но это были единицы. Никто серьезно не верил в успех белых.
Итак, только бойцы белых частей да беженцы из Поволжья, Сибири и с Урала признавали себя гражданами белого государственного образования. Реальной белой силой являлись только солдаты обеих белых группировок, люди, которые носили в это время официальное наименование «резерва милиции». Говоря о белых, еще раз следует указать наличие непрекратившейся вражды между частями белых группировок (семеновской и каппелевской), хотя одна из них принуждена была подчиниться правительству, поддерживаемому другой группировкой. Больше того, не приходится говорить и о полном единении каппелевцев с правительством. Последнее состояло из местных людей, совершенно чуждых и неизвестных каппелевцам.
Истинными господами положения в Южном Приморье были японцы. В конце 1918 г. Япония, под предлогом содействия русским властям (белым), а позднее в целях обеспечения жизни ее граждан и сохранности их имущества заняла и удерживала все железнодорожные линии русского Дальнего Востока. Значение японских экспедиционных войск весьма велико. Не нужно забывать, что ликвидация атаманской Читы отрядом генерала Волкова в свое время не состоялась исключительно благодаря вмешательству японцев. В 1920 г., когда все союзные державы прекратили интервенцию, Япония одна продолжала удерживать за собой Уссурийскую, Восточную Китайскую и часть Забайкальской железной дороги, а также район Николаевска-на-Амуре. Осенью 1920 г. Япония сократила зону, занимаемую ее войсками, а именно за ней остались только Южно-Уссурийский и Николаевский районы.
Осенью 1921 г. экспедиционные японские войска в Южно-Уссурийском районе (8-я и 11-я пехотные дивизии, всего до 17 000 штыков под командой генерала Точибана) занимали линии железных дорог: Владивосток – разъезд Рассыпная Падь (перед ст. Пограничная), ст. Никольск-Уссурий-ский – ст. Шмаковка (в сторону Хабаровска), ст. Угольная – ст. Сучан. Кроме того, в стороне от железнодорожных линий японцы занимали: село Ивановка (по Анучинскому тракту), село Владимиро-Александровское (близ устья реки Сучан), пост Посьет (близ границ Кореи). Под их контролем находилась так называемая тридцативерстная полоса. Главные силы японских войск были сосредоточены в самом Владивостоке, его предместьях и окрестностях, затем следовали гарнизоны Никольск-Уссурийского, Спасска и Раздольного. На ст. Евгеньевка, что при городе Спасске, всегда находились два-три японских бронепоезда, в том числе небезызвестный «Орлик», забранный русскими частями у германцев, позднее отбитый чехами у большевиков и, наконец, перешедший «по наследству» от чехов в японцам. Кроме указанных четырех больших гарнизонов, в ряде пунктов по линиям железных дорог были разбросаны незначительные гарнизоны силой от одного батальона до взвода. Охрана железнодорожных линий лежала на этих частях. Все мосты, водокачки, станции и разъезды были обнесены крепкими и надежными проволочными заграждениями, за которыми были вырыты хорошо оборудованные окопы для стрельбы стоя. Тут же, обложенные мешками, находились бараки-землянки. Вообще японцы устраивались крепко и делали все солидно и прочно. Следует отметить, что из всех интервентов японские офицеры и солдаты оказались наиболее дисциплинированными и выдержанными. Солдаты не шатались зря вне расположения частей, а японские казармы были безукоризненно чисты.
Оставшиеся нейтральными во время захвата Приморья красными в феврале 1920 г. японцы скоро убедились, что ладить с красными невозможно. Николаевские события привели к вооруженному выступлению японцев по всей линии Владивосток – Хабаровск. Красные части были разбиты, частично разоружены или отброшены в сопки. Восстановления власти белых не последовало, но командующий японскими экспедиционными силами (генерал Оой) заключил особое соглашение с новым командующим русскими (красными) войсками Приморской земской управы (тов. Болдырев), по которому русские не имели права держать свои части ни в городах, ни в каких-либо других пунктах по линиям железных дорог, а также и в районе, прилегающем к этим железным дорогам линиям на пятнадцать верст в ту и другую сторону от них. Исключение было дано небольшому, строго ограниченному количеству так называемого «резерва милиции». На каждую винтовку, пулемет, револьвер требовалось специальное удостоверение за подписью и печатью штаба японской дивизии. Артиллерии русским не полагалось. Почти все русские склады оказались под контролем японцев, и выдача требуемого происходила по ордерам особой «согласительной комиссии». Короче – Приморье оказалось в руках Японии, и интервенция превратилась в оккупацию, хотя последнее слово не было громко сказано.
Апрельское соглашение оставалось в силе до осени 1922 г., когда последовала полная эвакуация японских войск из Приморья. Осенью 1920 г., когда японцы сократили занятый ими район, пункт соглашения, касающийся территории, занятой интервентами, был несколько изменен: нейтральная полоса перенесена. Ее северной границей становилась река Иман, южная проходила через ст. Шмаковка. В нейтральной полосе обе стороны не имели права держать воинских частей, но контроль над этой полосой был необходим. В результате над южной частью нейтральной полосы (от ст. Шмаковка до реки Уссури) был установлен японский контроль, а над северной частью (от реки Уссури до реки Иман) контроль перешел к ДВР.
Даже такое краткое описание дает ясную картину положения заинтересованных сторон. Роль и значение японцев очевидно, и так же очевидна необходимость тов. Антонову, атаману Семенову и братьям Меркуловым не только считаться с желаниями японского командования, почти что испрашивать у него соизволения на проведение в жизнь того или иного положения. Артачащееся правительство могло в любое время ожидать выступления «населения» против него, в результате чего правительство, безусловно, было бы сметено, а от японского командования по этому поводу оставалось услышать классическую фразу: «Нашему командованию нициво не извецно».
Прибытие частей Белой армии в Приморье не изменило положения. Переходя границу Битая в районе ст. Маньчжурия, белые части сдали все свое оружие китайцам с тем условием, что оно будет возвращено армии на ст. Пограничная, после перехода полосы отчуждения КВЖД. Это оружие возвращено не было. Белая армия прибыла в Приморье без оружия, только отдельные лица провезли оружие. Между прочим, тайком провез егерский полк по приказу своего командира – полковника Глудкина. Егеря провезли 125 винтовок и 5 пулеметов.
До майского переворота 1921 г. резерв милиции состоял из красных. После переворота резервом милиции стали каппелевцы. В белые части, далеко на неполный состав, были выданы винтовки. Орудий, конечно, белым японцы не выдали, и артиллерийские части белых фактически представляли пехоту. Конского состава в частях осталось совсем немного, ибо он был распродан в полосе отчуждения. Из-за продолжительной бескормицы оставшиеся немногие кони находились в скверном состоянии. Итак, силы Временного Приамурского правительства состояли из невооруженных пеших солдат, но правительство надеялось со временем получить от японцев необходимое оружие. Последние смотрели на некоторый излишек оружия у русских (белых) сквозь пальцы, хотя это, конечно, шло вразрез с условиями апрельского соглашения.
ДВР, не настолько сильная, чтобы бороться с Японией, молча уступала белым Южное Приморье в мае 1921 г., но междоусобная борьба, беспорядок, воцарившийся по этой причине, указали на болезненность этой вспышки противо-большевистского движения, и ДВР стала готовить почву для восстановления своей власти во Владивостоке и его районе. В конце сентября 1921 г. деятельность агентов правительства ДВР настолько усилилилась, что общественное мнение Владивостока и Никольска, не сомневаясь в возвращении красных, гадало только о времени водворения Антонова и партизан во Владивостоке. Кабинет белого правительства в это время все еще формировался, а в Дайрене тем временем созывалась конференция ДВР в Японии. Судьбы же вообще всего Дальнего Востока должны были решиться на конференции держав в далеком Вашингтоне. Временное Приамурское правительство к началу октября наметило своего делегата для посылки в Вашингтон. Этой посылкой хотели как бы прорубить окно в мир, хотели верить и надеяться, что великие державы, услышав глас белого делегата, не позволят ДВР проглотить Владивосток. Посылка и речи делегата имели бы цену лишь в том случае, если бы радио одновременно с ними принесло благоприятные для белых известия. Красные же, принимая во внимание в первую очередь конференцию в Дайрене, также развивают свою деятельность. Итак, японцы и белые русские являются союзниками, их враг – ДВР.
2 сентября во Владивостоке произошло кровавое столкновение между членами Союза грузчиков (местные рабочие) и Владивостокской трудовой артелью (элемент пришлый, главным образом каппелевцы) при погрузке и перевалке резины на пароход «Шинью». Это столкновение произошло не в результате работы политических агентов той или иной стороны, но разыгралось исключительно на почве получения заработка.
1 октября по Владивостоку распространилась весть о наступлении красных на Спасск. Она совпала с распоряжением правительства об эвакуации семейств военнослужащих из этого городка. Приблизительно в это же время красные партизаны утвердились в Полтавском районе. В.Г. Болдырев в своих записках занес это под 4 октября. Время для белых надвигается тяжелое, и приезд в эти дни группы так называемых врангелевцев, прибывших на пароходе «Франц-Фердинанд» из Месопотамии, не может скрасить положения. Красные агенты готовят переворот во Владивостоке. Об этом белая власть уже знает, но точная дата намеченного переворота пока еще остается неизвестной. Как контрмера против все усиливающейся деятельности красных 10 октября генерал-лейтенант Вержбицкий назначается управляющим Военно-морским ведомством Временного Приамурского правительства. Оппозиция семеновцев в это время была еще сильна, и приказ этот во многих частях был встречен с неудовольствием.
Не довольствуясь нажимом извне, красные принялись за внутреннюю работу. Во владивостокскую контрразведку белых стали поступать сведения, что во Владивостоке готовится выступление большевиков. Было известно, что в городе находится тов. Цейтлин – один из виднейших коммунистов на Дальнем Востоке. Тов. Цейтлин руководит всей работой, во Владивостоке уже восстановлены руководящие, центральные органы большевиков, из центра (Читы) получены деньги и инструкции, и уже формируются боевые дружины из грузчиков и рабочих. Однако белой контрразведке не удавалось напасть на следы главных руководителей готовящегося переворота. Настроение во Владивостоке стало тревожное, многие преувеличивали опасность, но то, что в 1919 г., благодаря сочувствию масс, выходило у большевиков в том же Владивостоке само собой, теперь они должны были создавать искусственно. Наконец белые раскрыли организацию тов. Цейтлина и в ночь на 17 октября (это число дает В.Г. Болдырев; С.П. Руднев указывает ночь на 19 октября, а Н.Ю. Фомин показывает 29 октября) на Эгершель-де в квартире старшего врача переселенческой больницы А.Б. Моисеева белая контрразведка накрывает главных конспираторов и при попытке скрыться главный из них – тов. Цейтлин платится жизнью. Красный переворот сорвался. Как оказалось, он был назначен на 18 ноября. После смерти тов. Цейтлина организация большевиков развалилась, ибо центральный руководящий орган был уничтожен и надо было создавать все вновь, но на это нужны были деньги и время. Людей же подобных тов. Цейтлину на месте не было, а в Чите не находилось больше желающих выехать из центра и отправиться на работу в самое гнездо белых. Деньги Чита также отпускала осторожно, и давались они только тем, кому центр верил. Владивостокские же красные организации после провала Цейтлина попали в немилость. Но своей работы ДВР во Владивостокском районе не прекращает, продолжая снабжать партизан деньгами, оружием и руководителями. По мере своих сил белые борются с этим. В двадцатых числах сентября белое правительство узнало о том, что из Шанхая готовятся выйти в Петропавловск на Камчатке оставшийся в распоряжении ДВР «Адмирал Завойко» и зафрахтованный правительством ДВР английский пароход «Ральф Моллер». Корабли, имея на борту уполномоченных ДВР, должны были доставить на Камчатку оружие, боевые припасы, обмундирование, продовольствие и прочие грузы, предназначенные для местных красных отрядов. 26 сентября из Владивостока вышел белый корабль «Батарея». Командиру его были даны инструкции держаться вблизи Сангарского пролива и постараться не дать этим судам пройти на Камчатку. Уже по выходе «Батареи» из Владивостока было получено сообщение, что из Шанхая вышел один «Ральф Моллер», о чем командиру «Батареи» капитану 1-го ранга Петровскому было дано знать в Хакодате, куда он заходил за углем. 8 октября (дата по бумагам капитана 1-го ранга Фомина, С.П. Руднев в своей книге указывает 28 октября) «Батарея» заметила в море вблизи японского порта Муроран пароход, похожий по описанию на «Ральф Моллер», и начала преследовать его. «Ральф Моллер», видя близость границы территориальных вод, повернул к берегу и, пользуясь преимуществом своего хода, старался ускользнуть от преследования. Выстрелом под нос из 47-миллиметрового орудия с «Батареи» «Ральф Моллер» был остановлен, но, к сожалению, на самой границе территориальных вод. Командир его, учтя свое положение, отказался исполнить приказ командира «Батареи» следовать за ним, вновь повернул к берегу и встал на якорь около японского города Муроран. Опасаясь осложнений с японцами, командир «Батареи» больше не стрелял, но последовал за «Ральфом Моллером» и встал на якорь вплотную к нему. Прибыли японские местные власти и осведомились о причинах стрельбы. Вслед за тем пришли два японских миноносца, а через три дня чиновник английского посольства в Токио. Капитан 1-го ранга Петровский, указывая на наличие на «Ральфе Моллере» оружия и военных грузов, требовал передачи их себе, а также выдачи большевистских комиссаров. В этом ему было отказано. Тогда капитан 1-го ранга Петровский объявил, что он будет следовать за «Ральфом Моллером», куда бы тот ни пошел. Иностранцам пришлось идти на уступки, и в результате было достигнуто соглашение, по которому большевикам разрешался отъезд в Шанхай, оружие и обмундирование были задержаны японцами, а остальной груз подлежал свозу на берег и продаже с аукциона. Командир «Батареи» принужден был согласиться на это, так как таким образом план красных был сорван. Не следует забывать, что особенно упрямиться ему не приходилось, потому что за ним не стояло никакой силы, кроме собственной твердости и решимости и того уважения, которое он вызвал к себе со стороны иностранцев своими действиями. После этой операции Временное Приамурское правительство впервые почувствовало значение морской силы для себя. Об этом случае иностранная печать говорила больше, чем о самом перевороте во Владивостоке, и многие только тогда узнали о самом существовании белого центра в Приморье и о том, что в его распоряжении есть военные корабли, плавающие под Андреевским флагом.
По неизвестным причинам отправка делегата на Вашингтонскую конференцию отпала окончательно 26 октября – так пишет В.Г. Болдырев. 30 октября радио из Петропавловска на Камчатке сообщило о занятии последнего отрядом есаула Бочкарева (у С.П. Руднева это датируется 10 сентября, но, надо полагать, в данном случае г. Руднев делает грубую ошибку). 12 ноября во Владивосток пришло известие о выезде в Дайрен главкома ДВР тов. Блюхера.
II
Театр военных действий
Поверхность Амурского края и Приморья. – Пути сообщения. – Климатические особенности. – Население. – Особенности военных действий в горах. – Некоторые статистические данные. – Заключение
Театром военных действий в предстоящем столкновении белых и красных на Дальнем Востоке должна была стать южная часть Приморской области, но волею судеб все тяготы Гражданской войны пришлось испытать всему Уссурийскому краю и юго-восточной части Амурской области.
В орографическом отношении территория, на которой разыгралась гроза военная, подразделяется на два района: Уссурийский и Амурский.
Под Уссурийским краем понимается большая часть Приморской области, прилежащая к правому берегу реки Уссури, ее притокам, вдоль русского побережья озера Ханка, реки Суйфуну. Пространство, занимаемое Уссурийским краем, равно приблизительно 201 тыс. квадратных верст.
Амурский район, протягиваясь вдоль левого берега реки Амур, от левого притока его – Бурей, полосой от ста до ста пятидесяти верст ниже Хабаровска, захватывает оба берега Амура, то есть этот район занимает юго-восточную часть Амурской области и северо-западную часть Приморской.
По рельефу как Уссурийский край, так и означенный Амурский район представляют собой местность гористую. Равнинные и низменные места встречаются лишь по берегам самого Амура, около озера Ханка и по речным долинам. Амурский район в левобережной части своей покрыт разветвлениями гор Малого Хингана, служащих водоразделами рек бассейна Амура, а вся правобережная часть Уссурийского края покрыта отрогами гор Господних (Сихотэ-Алинь), главный хребет которых вступает в край с юга, из Маньчжурии, и тянется вдоль побережья Японского моря, приблизительно на расстоянии одной трети от побережья Великого океана до реки Уссури. Дикий, но удобопроходимый во многих местах, хребет гор Господних наполняет своими разветвлениями всю страну. Главная ось гор Господних имеет меньшую высоту, чем ее боковые отростки. Скаты ее к морю очень часто оканчиваются отвесными береговыми утесами. Долины между скатами не широки и не глубоки, а потому неудобны для заселения. Западные отроги менее круты и длиннее восточных. Наполняя всю северную часть страны до реки Уссури, они делают этот район гористее Южно-Уссурийского. Из отрогов гор Господних заслуживает особого внимания хребет Хихцир, заполняющий местность между реками Уссури и Кией и протягивающийся по параллели к югу от главного политического и административного центра – города Хабаровска. В южной части Приморья, в районе озера Ханка гор нет совершенно, за исключением отдельных сопок. Само озеро Ханка в частях, принадлежащих России, окружено плохопроходимыми болотами. Название Ханка происходит от китайского слова «Хан-Хай», что значит Средиземное море, но, вопреки своему громкому имени, оно представляет собой типичное мелководное озеро. Глубина его нигде не превышает 14 аршин, но во время летних ливней Ханка действительно напоминает море. В обыкновенное время по озеру можно идти на расстоянии версты, нигде не находя более 30 сантиметров воды. В период дождей озеро, заливая низины, занимает громадные размеры. Оно весьма бурливо, и малая глубина его при сильной бурливости служит большим препятствием для развития судоходства. В водах озера Ханка водится много рыбы, достигающей очень часто громадных размеров, например, калуга достигает 30 пудов при длине более двух сажен. Следует указать, что все реки края богаты красной и белой рыбой и до занятия края русскими на реке Уссури был слышен шум от плавников кишащей в таком множестве рыбы. После Уссури одна из главных рек в крае – Суйфун. По долине его расположено значительное русское население. На протяжении 60 верст Суйфун судоходен. В среднюю воду ширина его от 100 до 150 сажен. Течение быстрое. Хотя страна изобилует множеством минеральных богатств, они совершенно не разрабатываются, за исключением Сучана. В некоторых других пунктах разработка производится, но в чрезвычайно малом масштабе.
Преобладающая почва Приморья – суглинок. Вследствие плохой всасывающей способности подпочвы – глинистой или суглинистой – большие площади многих местностей заболочены. Болота встречаются даже на возвышенностях и горах. Во время дождей суглинистая почва обращается в липкую грязь, а в летние жары, высыхая и размельчаясь, образует пыль. Благодаря глинистой подпочве приходится встречать нередко в колодцах мутную воду, желтоватого или беловатого цвета. Между тем колодцы в деле водоснабжения занимают видное место, так как в малоснежные зимы много речек и ручьев промерзают до дна, что, конечно, уничтожает возможность воспользоваться ими. Однако в некоторых местностях, главным образом в Уссурийском районе, водоснабжение находится исключительно в хороших условиях, и во многих селениях, расположенных по берегам быстрых, горных рек, жители пользуются свежей, кристально чистой водой.
Огромные дремучие леса (тайга), покрывающие край, за исключением нескольких участков, насчитывают массу пород, свойственных Амуру, Северо-Восточной Азии, Камчатке, Северной Америке и теплым частям Японии и Китая. Леса чередуются с густыми подлесками. Леса страны не похожи на европейские подлесья и ничего не имеют общего с дубравами Европы, которые кажутся ничтожными по сравнению с приамурскими. Густота растительности в лесах края настолько велика, что перед чащей иногда бывает бессилен даже топор, и лишь один огонь только в состоянии разрушить сплошную живую стену сплетшихся растений. Травянистая растительность достигает 10 футов в вышину. Чащи травянистой растительности переплетаются сетью лиан дикого винограда и бывают трудно проходимы.
Пути сообщения в крае развиты слабо, а потому в этом отношении большую роль играют реки. О железнодорожной сети говорить не приходится, можно говорить только о железнодорожных линиях: восточном участке Амурской железной дороги, Уссурийской железной дороге, ветке от Никольск-Уссурийского до ст. Пограничная и ветке Сучанской. Протяжение Уссурийской желдороги от Хабаровска до Владивостока равно 716 верстам. Уссурийская железная дорога соединяется с Амурской мостом через реку Амур, но в описываемое время этот мост частично был разрушен, а потому не мог быть использован. Общее протяжение Сучанской ветки (от ст. Угольная до ст. Сучан) равно 150 верстам, причем часть ее широкой колеи, а часть узкой. На участке Владивосток – Никольск-Уссурийский линия в две колеи, на всем остальном протяжении Уссурийской и Амурской железных дорог – одна колея. Таким образом, весь театр военных действий перерезывается одной сплошной линией желдороги.
Благодаря извилистости горного рельефа, множеству горных речек и ручьев, заболачивающих свои долины в период дождей (июль и август), дороги становятся или вовсе не проходимыми или трудно проходимыми. В сущности, во всем Уссурийском крае имеется только два удовлетворительных тракта: Никольск – Анучино и Раздольное – Посьет. Тракт Никольск – Камень – Рыболов страдает от частых наводнений, а после дождей проезд на многих участках становится невозможным. Все остальные грунтовые пути края надо считать мало проездными. Грунтовые пути Амурского района по степени проходимости значительно превосходят пути Уссурийского района. Из них следует отметить: 1) тракт, идущий вдоль линии желдороги Покровка – Волочаевка – Ин и далее на запад; 2) так называемый Благовещенский тракт, идущий вдоль левого берега Амура; 3) дорогу Хабаровск— Лохасу-су и 4) Хабаровск – Вятское. В горной части Уссурийского края, где местность суше и носит несколько степной характер, дороги немного лучше, но на севере, покрытом лесами и болотами, дороги находятся в ужасном состоянии. Именно такими являются пути, идущие вдоль Уссурийской железной дороги, а между тем эти пути имеют важное стратегическое значение в предстоящих операциях. Дороги, идущие на восток от железной дороги, от ст. Евгеньевка, Иман, Дормидоновка, Хор, Верино и т. д., в дождливое время непроходимы ни на колесах, ни верхом. В описываемое время даже вышеуказанные выделенные дороги вследствие отсутствия ремонта в течение продолжительного времени находились в сильно запущенном состоянии, и нередко войска при своем продвижении должны были останавливаться перед провалившимися мостиками, промоями и с большим трудом и тратой времени налаживать объезд повреждений.
Зимой, когда лед сковывает реки и болотистые пространства, пути сообщения значительно улучшаются. Река Уссури как коммуникационная линия приобретает значительную, если не главную, роль для наступающего, который в большинстве случаев лишен возможности сразу же воспользоваться захваченным участком желдороги из-за разрушений, произведенных отступающим. Уссури берет начало в горах Господних, вытекая оттуда в виде двух рек, из которых Уля-хэ должна быть признана главной, а Даубихэ – второстепенной. Как та, так и другая – реки горные. Уссури первоначально течет по довольно открытой долине и имеет ширину в среднюю воду от 50 до 100 сажен. Приняв в себя из озера Ханка реку Сунгачь, она расширяется и становится более спокойной и часто разбивается на рукава. После принятия значительных рек: Иман, Бикин, Хор – Уссури делается многоводной и часто разделяется на многочисленные протоки. При устье своем она достигает двух верст. Все течение ее равно 850 верстам. В верхнем течении Уссури преобладают равнины с обширными лугами и болотистыми низменностями. В среднем течении, несколько выше Бикина, ее окружают горы, спускающиеся крутыми уступами к самой воде. В нижнем течении снова появляются равнины. Долина реки Имана, особенно в верхней части своей, более или менее заселена. Долины рек Алчана и Бикина годны для заселения, но не заселены. По реке Хор открытых мест не встречается – всюду сплошная тайга. Река Уссури судоходна на протяжении 700 верст. Препятствия к плаванию встречаются только на перекатах да в мелководье. В мелководные года в самых мелких местах реки глубина бывает менее двух футов, и пароходство тогда на некоторое время должно приостанавливаться.
В климатическом отношении Приморье (как Уссурийский, так и Амурский районы) относится к числу особенных местностей Сибири. В то время как годовые средние температуры Приморья соответствуют северной части европейской России, средние годовые температуры января Приморья оказываются гораздо ниже таковых крайнего севера Архангельской губернии, а средняя годовая температура июля соответствует Кавказу и Крыму. В общем зима характеризуется сильнейшими морозами, очень часто доходящими до 35–40 градусов по Реомюру. В прибрежных полосах зима несколько теплее, но «тайфуны» (ветры) дают себя знать, а потому это мало меняет суть дела.
Еще большие колебания по временам года дают осадки. Средняя величина их не представляет ничего особенного (400–600 миллиметров), но дело в том, что до 270 миллиметров падает на дождливые месяца – июль и август. В период зимних месяцев иногда осадков не бывает совсем.
Лучшим временем года считается в крае осень – ясная и умеренно теплая. Начало ее падает на первые числа сентября, и продолжается она два месяца. Снега, как указано выше, выпадают весьма неровно: иногда они покрывают землю слоем не толще 1–2 четвертей аршина, иногда от одного до полутора аршин глубины. Вследствие постоянства лютых морозов снега чрезвычайно сухи и сыпучи. Подобно песку, они переносятся с места на место даже слабым ветром. При сильном движении воздуха – снежная буря. Зимой, в противоположность влажному лету, воздух чрезвычайно сух. В районе Хабаровска зима продолжается около 172 дней, в средней части приморской полосы – 139 дней, в Камень-Рыболове – 138 дней. Последние весенние заморозки оканчиваются в апреле и даже мае. Весна, предшествуемая сильной пургой, представляющей собой соединение метели, вьюги и шторма. Пурга господствует иногда до половины апреля. Из особенностей весны должно отметить незаметное разлитие рек. Густые туманы и холодные ветры, поднимающие ужасную пыль, делают весну неприятным временем года. Разница в климате южных и северных частей края незначительна. Вследствие сильных и постоянных холодов как в зимние, так и в вешние дни реки края бывают покрыты льдом на несколько месяцев. Главная водная артерия – Уссури замерзает в начале ноября и вскрывается в начале апреля. Следует отметить, что река Хор – вследствие быстрого и бурного течения местами не замерзает.
Ко всему этому следует добавить метеорологическую особенность Приморья – периодическую смену ветров: летом теплый и влажный с юго-востока, осенью и зимой постоянный холодный и сухой северный и северо-западный. В Амурском районе зимы более тихие, нежели в Уссурийском.
По данным сельскохозяйственной переписи осени 1923 г., в сельских местностях Дальнего Востока количество населения в Приморской и Амурской губерниях равнялось 1 026 575 человек. В это число не включены инородцы, проживающие в отдаленных таежных местностях, и воинские части. Процент городского населения к населению сельских местностей равен 30,6, в городах проживает 306 040 человек, и в сельских местностях – 720 535 человек. Если к вышеозначенной цифре 1 026 575 человек прибавить 30 000 человек, оставивших Приморье осенью 1922 г. при занятии Южно-Уссурийского района красными, то полученная цифра в 1 060 000 человек даст приблизительно верное представление о населении Приморской и Амурской областей осенью 1921 г. накануне описываемого ниже так называемого Хабаровского похода. Таким образом, густота населения в означенных областях совсем незначительна. Она редко где превышает одного жителя на один квадратный километр. Населенные пункты группируются преимущественно около главнейших путей сообщения по рекам Амуру, Уссури, Бурее, Суйфуну, Даубихэ, Иману и вдоль линий железных дорог. По берегам моря, в средней и северной части края большей частью встречаются безлюдные пространства. Наиболее густо заселены Приханкайская котловина, районы Благовещенский и Суйфунский.
Главную массу населения края составляют русские (великороссы, украинцы и белоруссы), их в крае насчитывается 80,4 %, причем в Уссурийском крае преобладающее большинство – переселенцы-украинцы, а в Амурском крае – наоборот, преобладают переселенцы-великороссы. Первые русские появились в крае в 1858 г. и основали военное поселение Хабаровку, ныне город Хабаровск. До 1883 г. переселение шло в Уссурийском крае с севера на юг, после чего стало производиться с юга на север, так как из отчизны ехали морем. С 1895 г. переселение возобновилось сухопутным путем, по железной дороге через Никольск-Уссурийский. Первыми населенниками Уссурийского края были забайкальские казаки, основавшие 23 станицы, причем самым южным поселком был Марковский, лежащий на реке Сун-гачь. В 1859 г. часть первых поселенцев, прибывших в район Хабаровска, пробралась на озеро Ханка, где основали деревни Турий Рог в 1865 г., Астраханку и Никольское (теперь город Никольск-Уссурийский) в 1866 г. Число первоначальных жителей Никольского села равнялось 19 семействам – уроженцам Астраханской и Воронежской губерний. Попытка быстро заселить берега Японского моря с помощью Удельного ведомства в период 1867–1871 гг. окончилась полной неудачей. С 1883 г. началось более интенсивное переселение, стали производиться отправки казеннокоштных и своекоштных переселенцев. В 1895 г. в целях расширения Уссурийского казачьего войска прибыли донские и оренбургские переселенцы-казаки. С 1901 г. надел семьи равнялся 15 десятинам.
Иностранных подданных различных национальностей в 1923 г. насчитывалось до 55 000 человек. Большинство из них китайцы, приезжающие в Приморье для заработка обыкновенно без семейств. Кроме мирных китайцев имеется также много хунхузов – профессиональных разбойников. Хунхузы наводят панический страх на мирных китайцев, орочен, гольдов и корейцев. Во время революции они окончательно обнаглели, и русские поселки стали также дрожать перед ними. Борьба с хунхузами чрезвычайно трудна, так как по виду они ничем не отличаются от мирных китайцев, а последние, терроризированные хунхузами, боятся выдать разбойников, которые живут между ними. Китайцы составляют 10 % всего населения края. Китайцы в России имеют свое собственное самоуправление.
Тунгусские племена: маньчжуры, гольды, орочены – у русских, подобно китайцам, носят общее наименование «манзы», что в переводе на русский язык означает вольный человек. Манзы отличные проводники, географию края они знают до мелочей, и им известны такие тропы, о которых никто не подозревает. Гольды живут по Уссури и Даубихэ, внешним своим видом они очень похожи на китайцев. Их домашний образ жизни также мало чем отличается от китайского. Орочены же встречаются преимущественно по верховьям правых притоков Уссури и по всему побережью. Поселки или деревни китайцев, маньчжур, гольдов и орочен состоят из нескольких фанз, расположенных в одиночку, выстроенных на один и тот же образец. По наружным бокам фанзы находятся пристройки для загона скота, склада хлеба и всевозможных вещей.
Корейцев в крае всего 2,9 % населения. Первые переселенцы прибыли из Кореи в 1863 г. – 12 семейств. Наибольшее число эмигрантов, около 7000 человек, прибыло в 1869 г. Массовые переселения корейцев были невыгодны для России, и с 1884 г. особое соглашение ограничило переселение. Революция смела все соглашения, и корейцы бурным потоком хлынули в Посьетский район. Корейцы весьма трудолюбивы и энергичны. Живут они в фанзах, похожих на китайские. Ряд фанз, расположенных на сотню и более шагов, составляет корейскую деревню. В пространстве между фанзами находятся обработанные поля.
Вслед за корейцами в процентном отношении следуют: евреи – 1,7 %, поляки – 1,6 %, татары – 1 %, латыши – 0,5 %, немцы – 0,3 %, литовцы – 0,2 %, японцы – 0,2 %, на прочие национальности падает 1,2 %. Японцы в крае появились после водворения русских. Проживают они в городах и занимаются торговлей, промышленностью и разными промыслами. Вместе с мужчинами на заработки приезжают и женщины-японки. Культурность, аккуратность, ловкость и вкус японцев делают их элементом, стоящим на одной ступени с представителями народов белой расы. Имеются в Приморье переселенцы также и из Финляндии, прибыли они в 1869 г., но их немного.
В возрастно-половом отношении мужчины превышают женщин: за исключением города Благовещенска, где на 100 мужчин приходится 95,1 женщина, в крае на 100 мужчин приходится только 87,4 женщины.
В религиозном отношении в среде русских православные превышают старообрядцев, штундистов, молокан и различных сектантов.
На 1000 душ населения обоего пола приходится 449 самодеятельных, 351 несамодеятельный и 200 детей до 10 лет.
По социальному положению главнейшей группой являются крестьяне казаки и батраки – всего до 700 000 человек, за ними следуют русские рабочие – 24 890 человек, потом рабочие желтой расы – 20 000 человек, русские служащие – 18 700 человек, служащие желтой расы – 3600 человек, прислуга русская – 4800 человек, прислуга желтой расы – 3600 человек, хозяев в городах русских – 11 200 человек, хозяев в городах желтой расы – 6200 человек, лиц свободных профессий – до 1000 человек и т. д. Наибольшее число рабочих падает на Владивосток и Никольск-Уссурийский. Главную массу рабочих, до одной четверти, составляют рабочие местного транспорта, на втором месте стоит группа железнодорожников, на третьем – металлисты.
По грамотности население края очень близко к грамотности Малороссии – на 100 человек приходится 56,8 грамотного.
Главным занятием жителей края является земледелие, побочными – охота, рыболовство, работы на золотых приисках, каменноугольных копях и лесных промыслах. Продуктами земледелия служат: яровая пшеница, овес, рожь (ярица), гречиха, ячмень. Кроме того, в Амурской области – просо, а в Уссурийском крае – чумиза, рис, бобы, кукуруза, буда, горох, судза, табак, лен, конопля, просо и картофель. Урожайность Приморья в общем удовлетворительная, но все же главного продукта питания – хлеба – местному населению едва хватает на его годовую потребность. Скотоводство развито в крае довольно широко. Лошади, крупный рогатый скот и свиньи имеются почти в каждом хозяйстве. Разведением овец занимаются лишь в некоторых районах, преимущественно в Амурской области. В китайских и корейских хозяйствах в ограниченном количестве содержатся мулы и ослы. Лошади Приморья – смесь трех пород: томской, забайкальской и маньчжурской.
Крестьянское население Приморья несравненно состоятельнее крестьян Европейской России. Крестьяне питаются хорошо – кроме хлеба употребляют в пищу молочные продукты, яйца, чай, рыбу (главным образом кету); мясо домашних животных – не редкость, а различного рода и вида дичь: косуля, кабан, лось, фазан – занимают во многих селениях первое место. Материальный достаток все же мало повлиял на улучшение жизни переселенцев с гигиенической точки зрения, очень часто куры и утки ютятся в хатах, многие колодцы загрязнены, а на дворах усадеб навоз гниет около жилья.
В прежнее время в Уссурийском крае было только три города: Владивосток, Никольск-Уссурийский и Хабаровск. Позднее в степень городов были возведены: Иман, Камень-Рыболов, Спасск, Ольга. В низовьях Амура расположен порт и город Николаевск-на-Амуре. В Амурской области – города: Благовещенск, Свободный (Алексеевск) и Зея.
Город Хабаровск расположен при слиянии рек Уссури и Амура. Он раскинулся на трех холмах. Постройки в городе преимущественно деревянные, но все казенные здания (всего до 50) построены из кирпича. Заводско-промышленных предприятий мало. Торгово-промышленная деятельность Никольск-Уссурийского была развита хорошо, причем велась крупная торговля хлебом, скотом и продуктами сельского хозяйства. Владивосток – важный порт и торговый центр.
В Уссурийском крае имелось всего три монастыря: мужской близ села Тихменево (в верхнем течении Уссури) и два женских (один близ Никольска, другой под Владивостоком).
В торговом отношении видную роль играли китайские купцы, кои конкурировали с русскими весьма успешно еще до Великой войны. Война и революция еще более способствовали захвату китайцами торговли.
Пересеченность гористой местности, отсутствие развитой сети грунтовых дорог, обилие речек и ручьев, пересекающих важнейшие оперативные направления, заболоченность многих участков, малочисленность населенных пунктов, ограниченность продовольствия и перевозочных средств, неблагоприятные климатические условия – все это делают проведение как оборонительного, так и наступательного плана военных действий весьма сложным и не допускает ведение операций на широких фронтах. Слабая населенность края не допускает развитие в нем партизанских действий в желательном размере и планомерности. Только чрезвычайная слабость или малодеятельность власти, господствующей в крае, может явиться залогом существования партизан.
Военная борьба на Дальнем Востоке сопряжена с рядом выгод и недостатков горной местности. Пересеченность ее будет затруднять продвижение частей, управление ими, ориентировку, стеснит сферу огня, прервет связь между частями, стеснит развертывание и затруднит атаку, но вместе с тем горная местность усилит расположение небольших отрядов. Стратегическая оборона, требующая обеспечения за собой всех имеющихся проходов, ведет к раздроблению сил. В горной местности обходы из средства, подготовляющего успех, превращаются в средство, решающее его, так как подчас внезапность появления врага на фланге или в тылу и трудность контрманевра понудит защитников позиции оставить ее без боя. Таким образом, в предстоящих операциях успех будет достигаться главным образом не боем, а маневром и особенно действиями на пути сообщения.
Территорию, на которой разыгрались военные действия, а также ту, которая являлась ближним тылом борющихся сторон, можно подразделять на шесть районов, более или менее обособленных друг от друга: 1) Южно-Уссурийский, 2) Ольгинский, 3) Имано-Бикинский, 4) Хабаровский, 5) юго-восток Амурской области и 6) Средне-Амурский. Наиболее населенными из них будут Южно-Уссурийский и Средне-Амурский, пустынным, почти совсем незаселенным, будет юго-восток Амурской области. В первых двух районах части могут свободно развернуться по фронту на 120, 200 и даже 300 верст, в то же время в некоторых местах Имано-Бикинского, Хабаровского районов и юго-востока Амурской области фронт ни в коем случае не может быть более 30, 40 и 60 верст.
Южно-Уссурийский район – часть Приморской области на юг от ст. Уссури и на запад от главного кряжа гор Господних. Район можно подразделить на несколько округов: Владивостокский, Суйфунский, Приханкайский, Спасский, Гродековский, береговой (от границ Кореи до устья Суйфуна), Анучино-Даубихинский, Чугуевскую падь, район низовьев Уляхэ и верховьев Уссури и, наконец, Сучана. Первые пять округов заселены гуще остальных, селения, насчитывающие по 200, 300 и более дворов, здесь не редкость, а учесть заимки и небольшие группы фанз, равно как и многочисленные дороги и тропы, весьма трудно. Селений более или менее крупных в этих пяти районах будет не менее 340. Вторые пять округов отделены друг от друга горными цепями. Населены они значительно слабее первых пяти, и при учете населенных пунктов представляется возможным учесть большинство совсем незначительных поселений – в 10–15 дворов, а иногда и меньше. В этих округах селение в 100 дворов считается значительным. В Анучино-Дубихин-ском районе всего 54 селения, в Чугуевской пади – 15 русских селений и до 30 инородческих групп фанз. По верхней Уссури и нижней Уляхэ до 30 русских селений, на Сучане до 120 русских и инородческих селений, исключая ряд заимок и мелких групп фанз. Из Южно-Уссурийского района в Китай ведет четыре дороги: 1) по берегу Ханки у Турьего Рога, 2) вдоль линии желдороги мимо Гродекова, 3) по реке Суйфун через Полтавку и 4) на самом юге от Ново-Киевска на Хунчун. С линии желдороги ст. Шмаковка – ст. Никольск-Уссурийский в Анучино-Даубихинскую округу и на нижнее Уляхэ ведет четыре дороги. Из Владивостокской округи на Сучан можно пробраться четырьмя путями: 1) морем, 2) вдоль по берегу, 3) вдоль по линии желдороги и 4) по тропе со Шкотова через Ново-Московскую, Хмельницкую. Из Анучинского и Чугуевского районов на Сучан можно пробраться по семи тропам. При движении на север нужно иметь в виду три главнейших пути: 1) вдоль линии желдороги от Никольска через Спасск, ст. Уссури к Иману, 2) из Анучина по долине р. Даубихэ в район Успенки, откуда в Иманский район можно выйти двумя путями, 3) по Чугуевской пади в район Самарки, откуда тропой в Иманский район. Из Южно-Уссурийского района в Ольгинский ведет четыре дороги: 1) дорога из Владимиро-Александровского на Звездочку и далее на Милорадово, 2) тропа через Архиповку на Милорадово, 3) тропа через Соколовку и 4) тропа через Антоновку. Из Южно-Уссурийского района в Иманский ведут: 1) три дороги в районе железнодорожной линии, 2) из района Успенки тропа на кумирню и далее на д. Малиновка, находящуюся в Иманском районе, 3) тропа из Самарки на д. Ариадна и далее дорога на Малиновку.
Ольгинский район – южная часть восточного побережья Приморья. Населенных пунктов до 35. С севера на юг район пересекается одной дорогой, которая, как указано выше, выводит во Владимиро-Александровское. Из района на запад в Чугуевский район выводит три так же указанных выше тропы.
Имано-Бикинский район – средняя часть Уссурийского края от сопки Медвежьей на севере (близ станицы Гленовской) до ст. Уссури на юге. Во всем этом значительном районе имеется всего до 165 селений, причем в это число включены совсем даже мелкие выселки. В южной части района селения раскинуты по всему бассейну реки Имана и его притоков. К северу от ст. Губерово они вытягиваются сначала в три, а потом в две линии – по Уссуре и вдоль железной дороги, причем на северной окраине района эти линии совсем поджимаются одна к другой.
Хабаровский район захватывает оба берега Амура. Во всем районе до 130 селений, причем 1) в районе железной дороги от Амурского железнодорожного моста до сопки Медвежьей – 32 селения, 2) по Уссури от Хабаровска до той же горы – 17 поселков, 3) в округе, что восточнее линии железной дороги Хабаровск – ст. Вяземская (по среднему течению Кии, Хора, Подхоренка, Джулихи и в окрестностях озера Петропавловского) – 43 селения. Остальные 38 селений находятся на территории левого берега Амура до границы Амурской области на запад и до высоты села Вятского на северо-восток. Из них: 1) 9 селений расположились по берегу Амура, 2) 6 селений – по железной дороге, 3) 12 селений – по реке Тунгуске, 4) остальные 11 селений разбросаны в стороне от главных путей сообщения. По числу дворов поселки этого района в большинстве случаев уступают поселкам Имано-Бикинского района, а с селениями Приханкайля или Суйфунского района их сравнивать совсем не приходится. В число 130 селений включены селения, имеющие до 5 дворов, деревня в 15–20 дворов считается совсем не маленькой.
Юго-восток Амурской области представляет собой треугольник – на востоке он граничит с Приморской областью, на юго-западе течет Амур, на северо-западе – река Бурея. В этом обширном районе, по числу квадратных верст превосходящем Южно-Уссурийский район, имеется всего около 130 населенных пунктов, из коих 50 расположены по берегу
Амура и поблизости от него, 22 находятся в районе ст. Архара (в 32 верстах на восток от реки Бурей), 18 – по линии железной дороги (от ст. Ин до ст. Урил) и, наконец, до 40 – по Благовещенскому тракту и в стороне от него, будучи разбросанными по обширному району между Амуром и железнодорожной линией. Следует отметить, что в число 18 пунктов по железной дороге включены все станции и разъезды числом 15, многие из которых имеют по три железнодорожные казармы.
Средне-Амурский район по величине своей территории стоит впереди Южно-Уссурийского района, по числу населения и населенных пунктов он также занимает первое место среди всех указанных шести районов. По приблизительному подсчету в нем имеется до 500 селений, в число которых не включены многочисленные заимки и мелкие выселки. Если, говоря о юго-востоке Амурской области, можно определенно сказать, что в этом районе имеется три главных пути сообщения: железная дорога, тракт и Амур, то учесть пути сообщения в Средне-Амурском районе весьма затруднительно, но главнейшими останутся те же три: железная дорога, тракт и река Амур.
Только теперь, рассмотрев положение театра военных действий, его топографические особенности, степень заселения, пути сообщения, климатические особенности, можно перейти к изучению сил сторон, так как разобранные выше данные, оставаясь неизменными, в значительной степени обуславливают течение и характер нижеописываемых военных операций, ибо они диктуют свои условия обеим сторонам, всем от высших начальников и командиров до рядового бойца. На фоне приведенных данных работа, проделанная войсками обеих сторон, восстанет в своей великой наготе и будут более правильны выводы и умозаключения.
Ill
Дальневосточная Народно-революционная армия и партотряды
Общие сведения. – Войска Забайкальского военного округа. – Войска Приамурского военного округа. – Речная Амурская флотилия. – Войска Приморской области или партотряды. – Сибирская флотилия. – Состояние частей к моменту открытия военных действий. – План обороны ДВР
Данные о Народно-революционной армии и партотрядах почерпнуты из книги Я. Покуса «Борьба за Приморье» и из записок, основанных на сводках штабов войск Временного Приамурского правительства. Последние, в свою очередь, составлялись на основании агентурных данных и опросов пленных, перебежчиков и лиц, прибывших из Советской России и ДВР. Таким образом, в нижеследуемом допустимы некоторые неточности и даже ошибки.
Кадром Народно-революционной армии являлись безусловно партизанские отряды, часть которых представляла собою остатки большевистских отрядов, бежавших в сопки при наступлении белых в 1918 г. Но таких отрядов было совсем немного. Позднее, в дни крушения белой власти, многие забайкальские, амурские и приморские части в полном составе перешли к красным. Вот эти-то отряды и части и являлись в 1921 г. войсками ДВР. Так как с партотрядами была масса хлопот, ранней весной 1921 г. высшее командование ДВР пыталось было уничтожить эти отряды, влив их в регулярные части или же распустив по домам. Но это не было проведено в жизнь; не то красному командованию в эту пору борьба с начальниками партотрядов оказалась не под силу, не то их ликвидации помешали действия отрядов барона Унгерна и генерала Сычева. С образованием же в Южном Приморье противобольшевистского центра партизаны оказались необходимы. Наступление барона Унгерна, его удар на стыке ДВР с РСФСР был опасен для только что вышедшего в жизнь государства. Дальбюро мобилизовало все свои силы для борьбы с Унгерном. Преступная борьба Владивостока с Гродековом дала возможность ДВР совсем оголить Хабаровский район. Теперь правительство ДВР уверилось в полной никчемности белых под Владивостоком, оно было уверено в скором овладении им посредством внутреннего переворота и переговоров с Японией. Поэтому движение белых войск на Хабаровск оказалось для красных совершенно неожиданным.
Во главе войск ДВР стоял главком, он же военмин – «красный самородок», товарищ Блюхер – 30 лет, по одним сведениям, уроженец Ярославской губернии, рабочий с 15 лет. За революционную пропаганду он отбыл тюремное заключение сроком в два года и восемь месяцев. В Великую войну был рядовым 19-го Костромского пехотного полка. Тяжело раненный, он был освобожден от военной службы, после чего до революции работал в Казани на заводе Остермана. Революция сделала его членом Самарского ревкома, и он принимал участие в ликвидации Дутова. В 1919–1920 гг. командовал 30-й советской стрелковой дивизией, отличился под Кунгуром и в Крыму во время штурма Перекопа. По иным сведениям, Блюхер не кто иной, как майор австрийской службы Тиц, специализировавшийся во время Великой войны на революционной пропаганде в русской армии.
Начальником штаба главкома был бывший полковник Генерального штаба Токаревский, его помощником – Пеленкин. Начальником оперативного отдела – Покус. Начальником разведывательного отдела – Королев. Главком находился под контролем Реввоенсовета ДВР, возглавляемого Погодиным.
Территория ДВР разделялась на два военных округа – Забайкальский и Приамурский. Во главе округов стояли командующие войсками округов, контролируемые окружными военными советами. Войска Приморской области возглавлял отдельный командующий войсками, но он, по всей видимости, подчинялся командующим войсками Приамурского военного округа. При командующем войсками Приморской области после майского переворота 1921 г. военного совета не имелось.
В Забайкальском военном округе были расквартированы:
1. Троицко-Савская кавалерийская бригада, сведенная после боев с отрядами барона Унгерна в полк, который квартировал в районе Петровского Завода. При своем отбытии на фронт под Хабаровск полк имел до 550 коней.
2. Особый Амурский стрелковый полк, сведенный из полков 3-й Амурской стрелковой дивизии. Хорошим командным составом он был отлично подготовлен к боевым действиям. Квартировал в районе Чита – Песчанка.
3. 1-я Читинская стрелковая бригада силой до 3800 бойцов. Она состояла из трех стрелковых полков, кавалерийского дивизиона и артиллерийского дивизиона, имевшего невыясненное количество орудий. Бригада квартировала в районе Чита – Борзя – Даурия – Нерчинский завод.
4. Кавалерийская дивизия Коротаева. Всего до 2500 человек. Эта дивизия квартировала в районе Стретенск – Нерчинск.
Других крупных войсковых соединений в пределах Забайкальского военного округа не имелось, но после отбытия вышеперечисленных частей (за исключением кавалерийской дивизии Коротаева) на фронт под Хабаровск в Читу распоряжением командарма 5-й советской из Иркутска была переброшена 104-я бригада 35-й советской стрелковой дивизии.
Из частей специального назначения следует отметить:
1. Военно-политическую школу, курсанты которой выпускались в части на должности военкомов и политруков.
2. Отряды Госполитохраны (государственная политическая охрана).
3. Караульные батальоны.
4. Железнодорожные части.
5. Саперные части и т. п.
Сведения о Приамурском военном округе более подробны. Войска этого округа ранее представляли 2-ю Амурскую армию, во главе которой стоял бывший штабс-капитан германской войны Серышев. После переформирования армии в войска округа тов. Серышев сделался комвойсками округа и, кроме того, был назначен членом Реввоенсовета ДВР в Чите. Начальником его штаба был бывший полковник Генерального штаба Школин, вскоре отбывший в Читу, а затем в распоряжение советского представителя в Китае тов. Иоффе. Место тов. Школина занял прибывший из Анучина бывший полковник Генерального штаба Луцков, занимавший в ставке адмирала Колчака пост помощника начальника осведомительного отделения. Помощником начальника штаба по оперативной части был бывший капитан одного из полков Иркутского гарнизона – тов. Еремин, человек не энергичный, склонный к пьянству.
Как контроль над комвойсками округа, в Хабаровске при штабе округа находился военный совет под председательством тов. Мельникова. Последний, по некоторым сведениям, бывший студент-коммунист, не имевший ничего общего с военной службой. Членами военного совета были: Постышев, бывший фонарщик города Иркутска, не скрывавший на митингах своей прежней профессии. Вторым членом был Лебедев, фамилия третьего забыта.
Если части Забайкальского военного округа состояли из бойцов, закаленных в борьбе с белыми, то частям войск Приамурского военного округа вести упорной борьбы с белыми не пришлось, да и части эти были переформированы: из бывших частей Приморской земской управы, т. е. из бывших колчаковских полков, механически перешедших к красным. В рядах этих же полков имелось значительное число бойцов-каппелевцев, которые после Сибирского Ледяного похода, будучи больными и ранеными, вследствие переполнения госпиталей Читы и Харбина, были провезены в Никольск, Владивосток, где после выздоровления зачислены в приморские части, то есть красные.
Согласно книге Я. Покуса войска Приамурского военного округа представляли собой 2-ю Амурскую дивизию, которая позднее, перед походом, была переименована в бригаду, но, по другим сведениям, полки Приамурского военного округа носили наименование «отдельных», что исключает, конечно, вхождение их в ту или иную бригаду или дивизию.
В пределах Приамурского военного округа были расквартированы:
4-й отдельный Благовещенский стрелковый полк. Командиром полка был бывший офицер Фадеев. Два батальона этого полка располагались в Благовещенске, а один батальон занимал город Алексеевск (Свободный), где ранее квартировала Отдельная Корейская революционная бригада (до 2000 бойцов), которая была переведена в г. Иркутск в резерв командарма 5-й советской.
5-й отдельный Хабаровский стрелковый полк. Командир полка – тов. Васильев, по одним сведениям, бывший прапорщик, по другим – красный офицер. Полк целиком был расквартирован в самом Хабаровске, где нес гарнизонную службу и производил тактические занятия.
6-й отдельный Иманский стрелковый полк. Командир этого полка был также начальником «нейтральной зоны». Это был бывший штабс-капитан Инструкторской школы Нокса во Владивостоке на Русском острове – тов. Нельсон-Гирст. Одним батальоном полк занимал пос. Бикин, другим – город Иман. В последнем пункте находились также штаб полка и различные команды. В третий батальон были выделены преимущественно коммунисты и сочувствующие им. Этот батальон получил наименование Дивизиона народной охраны и был расположен в поселке Медведовский близ ст. Уссури. Дивизион был сформирован потому, что согласно условиям апрельского договора красные не имели права держать в нейтральной зоне регулярные войска, а только отряд в 450 человек Дивизиона народной охраны и железнодорожную милицию.
Каждый из вышеуказанных трех стрелковых полков – трехбатальонного состава. Последние состояли из трех рот. При полках имелись команды пеших и конных разведчиков, пулеметная, саперная, хозяйственная и музыкантская. Общая численность штыков в полку, по белым сводкам, достигала 1400. На с. 24 своей книги Я. Покус силу 6-го стрелкового полка определяет только в 600 штыков. К этому надо добавить 450 штыков Дивизиона народной охраны, находившегося в отделе. Все же численность 6-го стрелкового полка после этого будет равняться 1050 штыкам, а не 1400. Подробных данных о стрелковых полках 1-й Читинской бригады нет, но надо полагать, что их численность была приблизительно такой же, как и полков 2-й Амурской бригады.
4-й отдельный кавалерийский полк был сформирован в Хабаровске. Командиром полка был назначен бывший капитан русской службы китаец Сунь-Фу, военкомом – Серобаба. В полку имелось несколько офицеров и унтер-офицеров бывшего конно-егерского полка полковника Враштеля, зверски замученного на Хорском мосту весной 1920 г. Полк четырехэскадронного состава, всего в полку около 400 сабель.
Я. Покус упоминает еще о пограничных кавалерийских дивизионах – 4-м и 5-м. Что они представляли собой, не выяснено.
Артиллерия Приамурского военного округа состояла, по белым сводкам, из четырех легких полевых батарей (трехдюймовые орудия), отдельной конной горной, тяжелой гаубичной и вагонного парка. Я. Покус дает иные цифры, а именно: две легкие батареи четырехорудийного состава, отдельную конную батарею такого же состава и отдельный конный горный взвод. Вся красная артиллерия располагалась в Хабаровске – Благовещенске, и сведений о том, что в районе Бикин – Иман находится несколько орудий, в штабе 3-го стрелкового корпуса войск Временного Приамурского правительства не имелось.
По линии железной дороги красные располагали четырьмя бронепоездами: «Защита трудового народа», или № 7, находился на ст. Губерово. Он был вооружен двумя трехдюймовыми орудиями и несколькими пулеметами. Команда его – большинство коммунистическая молодежь. Другой бронепоезд – № 8 – находился в районе Хабаровска. Бронепоезда № 2 и № 9 находились в районе ст. Благовещенск – ст. Бочарово. Надо полагать, что в Забайкалье находились другие бронепоезда.
В Хабаровске, кроме 4-го кавалерийского полка и 5-го стрелкового полка, располагались:
1. Батальон Госполитохраны (150–200 бойцов).
2. Караульный батальон (300 человек).
3. Железнодорожный батальон.
4. Отдельный авиационный отряд в составе не то 3, не то 5 самолетов (Я. Покус на с. 18 и 32 дает различные цифры).
5. Саперный батальон (его численность белыми не была установлена).
6. Рота Амурской речной флотилии (около 150 человек), сформированная из команд судов, не успевших осенью до замерзания Амура уйти в Благовещенск.
В распоряжении начальника Инженерной части в Хабаровске находилась минно-подрывная рота, численностью до 80 человек. Командиром роты был бывший электромонтер, коммунист города Хабаровска тов. Лунев.
В селе Вятском, находящемся в 60 верстах от Хабаровска, располагался партизанский отряд Бойко – Павлова. Начальник этого отряда – бывший слесарь Хабаровского арсенала. Он партизанил в 1918–1919 гг. против японцев и атамана Калмыкова. Кадр отряда – бывшие бойцы банды Тряпицына, стершей с лица земли г. Николаевск-на-Амуре.
В Благовещенске, кроме 4-го стрелкового полка и артиллерии, находились: 1) батальон Госполитохраны, 2) караульный батальон, 3) батальон Амурской речной флотилии, сформированный на зиму из матросов Амурской флотилии для охраны судов, и 4) отдельный танковый взвод.
Амурская речная боевая флотилия состояла из двух башенных канонерок, четырех сормовских канонерок и шести вооруженных катеров легкого типа. Канонерки были вооружены трех- и шестидюймовыми орудиями. Летом флотилия несла охрану реки Амур от города Сретенска до города Николаевска-на-Амуре, в который входить не могла, так как там находились японские миноносцы.
Командующий Амурской флотилией непосредственно подчинялся начальнику морской части ДВР тов. Подерни. Штаб флотилии находился в городе Благовещенске. Командующим был бывший капитан 2-го ранга Тыртин. Он всецело зависел от начальника оперативной части своего штаба – бывшего мичмана, коммуниста Хоменко.
Осенью 1921 г. Амурская флотилия не успела вся пройти в Благовещенск из своего плавания до замерзания Амура и была оставлена в следующих пунктах:
в Хабаровске – 4 канонерки, из команд которых сформирована рота в 150 человек;
в Екатерино-Никольском – 3 канонерки, 100–120 человек;
в Благовещенске остальная часть флотилии – батальон в 200–250 человек.
После захвата белыми Владивостока в мае 1921 г. штаб командующего войсками Приморской области бежал в урочище Анучино – базу известного партизана Шевченко, где и обосновался. Телеграфной линией Анучино было связано с Хабаровском, кроме того, штаб комвойсками имел радиостанцию. Путь от ст. Иман до ст. Уссури, а дальше на юг по рекам Уссури и Даубихэ был свободен, и транспорты огнеприпасов без труда доставлялись в Анучино. Больше того, красные эмиссары без всякой охраны могли проникать в район ст. Угольная, двигаясь из Анучино по дороге на Ширяевку, а оттуда мимо Ивановки и Раздольного в Кролевец и Кневичи.
Командующим войсками Приморской области был тов. Лепехин, по одним сведениям, бывший мичман керенского производства, по другим – простой солдат, командовавший на Южном фронте против войск генерала Деникина артиллерийским дивизионом. Во всяком случае, был мало знаком с военной службой и без посторонней помощи не мог руководить военными действиями партизан. Перед самым началом военных действий тов. Лепехин был отстранен от командования войсками, и его место занял тов. Леухин – бывший офицер.
Начальником штаба командующего войсками был тов. Луцков, выехавший до переворота во Владивостоке в Читу и оттуда командированный в Анучино. После назначения тов. Луцкова начальником штаба Приамурского военного округа его пост в Анучине принял тов. Кошкин, бывший капитан. Первым помощником начштаба по оперативной части был тов. Сибирцев – сын начальницы одной из женских гимназий во Владивостоке. Крупную роль играл тов. Шевченко.
К ноябрю 1921 г. в распоряжении комвойсками находились:
1. 1-й Приморский батальон, силой до 300 человек. Комбат тов. Никольский – бывший офицер. Батальон был расквартирован в районе Анучино – Орловки.
2. 2-й Приморский батальон, силой до 250 человек. Комбат тов. Палицин – бывший офицер. Батальон расквартирован в деревне Яковлевка.
3. 3-й Приморский береговой батальон, силой до 300 человек. Комбат тов. Сидоров – бывший офицер. Батальон находился в Сучанском районе со штабом в Романовке.
4. 4-й Ольгинский батальон. Численность не выяснена. Комбат – тов. Назаренко. Батальон находился в Ольгинском районе.
5. Приморская батарея четырехорудийного состава, находилась в Анучине. Эта батарея, равно как эскадрон конницы и подрывная команда, прибыла в Анучино из Хабаровска после захвата белыми Владивостока.
Перечисленные выше части являлись, так сказать, кадровыми. Красное командование надеялось в нужный момент усилить их посредством призыва молодых возрастов местного населения, сочувствовавшего красным. Я. Покус на с. 17 определяет силу красных отрядов, находившихся в Южном Приморье, до 1000 штыков и сабель с пулеметами. Кроме перечисленных отрядов он упоминает еще о пятом отряде, находившемся в Приханкайском крае со штабом в г. Камень-Рыболове. Приханкайские партизаны руководились, по белым сведениям, тов. Лебедевым – бывшим при Антонове начальником Никольск-Уссурийской уездной милиции. В Приханкайле, по белым источникам, действовали:
1. Конный отряд тов. Решетникова в 80 сабель.
2. Партотряд тов. Ярошенко в 70 пеших и 12 конных.
Кроме того, по линии железной дороги оперировала подрывная команда Кривого, надо полагать, что это была та самая команда, что выслал Хабаровск.
Итак, численность партотрядов в Южном Приморье была совсем невелика, но по причинам хорошего знания местности, имея всюду и везде своих людей, из-за отсутствия определенной формы одежды партизаны были малоуязвимы. Неожиданного налета или подрыва железнодорожной линии японцы и белые могли ожидать в любое время. Отсутствие у белых близких и крепких связей с населением большинства районов, а также занятие японцами и белыми одних только железнодорожных линий приводило к тому, что партизаны чувствовали себя полными хозяевами почти всей территории Южного Приморья – территории, считавшейся Временным Приамурским правительством своей.
Вышеуказанные партотряды или войска состояли из русских, китайцев и корейцев. Были тут и местные жители, и пришлый люд. В числе последних имелись как присланные из глубины ДВР коммунисты, так и бывшие колчаковцы – та же категория, что попала в полки 2-й Амурской бригады. Перебежчиков из каппелевских и семеновских частей, за исключением немногих оренбургских казаков, не было. В Сучанском и Ольгинском районе имелись целые отряды из китайцев и корейцев. Бывшие хунхузы и разбойники, ненавидимые населением, даже большевистски настроенным, хорошо дрались, были бесчеловечно жестоки с попавшими к ним в руки, а потому считались у красных наиболее надежными частями. Собственно говоря, такие же отряды корейцев и китайцев имелись в районах Посьета, Барабаша, Полтавки, Духовского и Турьего Рога, но эти отряды не прикрывались красным знаменем, не получали директив от красных штабов, а именовали себя хунхузами и грабили население, не оправдываясь идеей.
Надо полагать, что красные партотряды все время высылали от своего ядра мелкие разведывательные партии с задачей терроризировать белых и японцев. Эти мелкие партии все время бродили по деревням края. Особое внимание красные обращали на Сучанский и Спасский районы. По Сучану бродил партотряд Анисимова – оренбургского казака. Надо полагать, что этот отряд входил в состав 3-го Приморского берегового батальона. Под Спасском действовали отряды Борисова и Сологуба, входившие, видимо, в состав 2-го Приморского батальона. Наконец под самым Никольск-Уссурийском действовал Топорков. Некоторые партотряды были способны принять и выдержать стрелковый бой, но все же их выучка была много слабее регулярных частей Народно-революционной армии, хотя процент хороших стрелков среди партизан был больше, нежели в армии.
Единственными портами ДВР в 1921 г. были Императорская Гавань и порт Святой Ольги, ибо город и порт Николаевск-на-Амуре находился в руках Японии, а по всему побережью залива Петра Великого и залива Америки распространились белые. Высокими, незаселенными, малодоступными горами Господними (Сихотэ-Алинь) оба приморских пункта ДВР были отрезаны от центров республики. Путями сообщения служили тропы. По ним можно было проникнуть из Ольгинского района в Сучанский и Анучинский районы, можно было наладить снабжение и питание партотрядов. Морем же из Ольги можно было если не угрожать белому Владивостоку, то, во всяком случае, производить дерзкие налеты, подобные налету тов. Вольского на остров Аскольд, где красным удалось беспрепятственно захватить не охраняемую белыми радиостанцию со всем обслуживающим ее персоналом и материалами. Понятно поэтому то, что красные превратили порт и город Святой Ольги в свою базу, питавшую морем партотряды Сучанского района. В бухте Ольги в распоряжении Военного совета партизанских отрядов Приморья находились уведенные во время майского переворота из Владивостока пароходы «Монгугай», «Диомид», «Лейтенант Дыдымов» и катер «Амур». В Ольге имелись: казначейство, радиостанция и кое-какие запасы оружия и огнеприпасов.
О состоянии частей Народно-революционной армии к моменту открытия белыми военных действий Я. Покус на с. 19 говорит так: «После ряда демобилизаций старых сроков службы до 1897 г. включительно части Народно-революционной армии оказались с комплектом до 40 % своего штатного состава. Боевая подготовка частей оставляла желать много лучшего и в общей оценке была слабой. Вооружение было в хорошем состоянии, одежда плохая (но, во всяком случае, несравненно лучше одежды белых частей), продовольствие скудное (каппелевские части в это время питались лучше, но семеновские хуже, нежели части Народно-революционной армии), фуража недостаточно (кони красных во время похода оказались сильнее и лучше, нежели кони белоповстанцев). В зимнее время овес вовсе не выдавался, что, конечно, неблагоприятно отражалось на конском составе. Политического состава в Народно-революционной армии было мало». Несмотря на то что наличный состав коммунистов был невелик, а нелегальные организации эсэров и максималистов были в армии весьма сильны, тем не менее, по словам Я. Покуса, армия в своей массе восприняла коммунистическую идеологию. Командный состав на 60 % состоял из бывших офицеров, но лояльных Советской власти.
На случай наступления противника (белых или японцев) с юга, со стороны Владивостока, ставя себе задачей оборону главного центра края – г. Хабаровска, красное командование выбрало три позиции, которые стало приводить в оборонительное состояние, но которые к моменту начала военных действий еще не были приведены в надлежащий вид. Выбранные позиции были следующими: 1. Гондатьевская— Иманская, 2. Бикинская – главная и 3. Корфовская.
Территория Приморья по своим естественным свойствам не способствует ведению операций на широких фронтах. Местные условия делают проведение как оборонительного, так и наступательного плана чрезвычайно затруднительным. Движение войск на Хабаровск могло происходить только в узкой заселенной полосе, прилегающей к реке Уссури и линии железной дороги. Слабая заселенность края в то же время не допускала развития партизанских действий в желательном размере. Незаселенность китайской стороны (левый берег реки Уссури) и отсутствие на границе китайских пограничных войск и стражи допускало использование обеими сторонами китайской территории в целях обхода.
Я. Покус на с. 10–11 состояние оборонительных позиций Народно-революционной армии рисует в следующем виде:
«Гондатьевская – Иманская позиция. К началу военных действий работы по укреплению данной позиции были произведены в размере 60–80 % данных начальником инженеров Народно-революционной армии заданий. Оборона позиции была расчитана на одну стрелковую бригаду. Позиция должна была представлять собой ряд укрепленных поселков с вынесенными вперед отдельными укреплениями, имевшими своею целью прикрытие ряда троп. Поселок Софьевка и другие были укреплены, дабы парализовать фланговые обходы на этом участке.
Бикинская или главная позиция. Работы по укреплению были произведены на 10–15 %. Оборона рассчитана на две стрелковые бригады. Намеченный план обороны некоторых отдельных участков должен был обеспечить красных от форсирования реки противником. В летнее время эта позиция, имея на правом берегу р. Бикин ряд командующих высот, в связи с трудопроходимостью реки, текущей перед фронтом позиции, имела значительную обороноспособность, и форсирование противником реки Бикин исключительно пешими частями, без артиллерии и обозов, хотя и возможно было в некоторых местах, тем не менее было сопряжено с большими потерями для форсирующего. Зимой, когда Бикин покрыт толщей льда и, следовательно, проходим во всех местах, оборона Бикинской позиции весьма затруднялась.
Корфовская позиция являлась непосредственной защитой подступов к г. Хабаровску. Работы по укреплению только были намечены, но еще не начались. Оборона расчитывалась на вход в дело всех частей в случае их отступления с предыдущих позиций и на наличие резерва данного района».
IV
Войска Временного Приамурского правительства
Состав Армии в Приморье. – Общий вид организации. – Начальники и подчиненные. – Постановка снабжения и хозяйственной части
Осколки различных частей белых армий Восточного фронта, счастливо избегнувшие пленения за время своего движения через Сибирь, проделавшие так называемый Сибирский Ледяной поход, в течение которого за ними установилось прозвание каппелевцев, проскочив в Забайкалье, по соединении там с частями атамана Семенова, так называемыми семеновцами, образовали Дальневосточную армию (белую), которая по оставлении Забайкалья в ноябре 1920 г. почти целиком прошла в Южное Приморье, где впоследствии ее части получили официальное наименование Войска Временного Приамурского правительства.
Общая численность Белой армии по прибытии ее в Южное Приморье доходила до 30 тысяч человеческих ртов и нескольких тысяч лошадиных. Многие годы походов, для одних начавшиеся еще в Великую войну, а для других в Гражданскую, давно оторвали чинов армии от родного очага и мирной жизни. С домом у них фактически все было порвано, казалось бы, что из них мог бы выработаться тип кондотьеров, но этого не случилось, и своей массой они остались честными гражданами России и терпимо относились к населению, недоброжелательно и даже враждебно к ним настроенному.
Огромное большинство чинов Белой армии были родом из Приуралья, с берегов Волги, Камы, отчасти из Западной Сибири и Забайкалья. Уроженцев Средней и Восточной Сибири было немного. Обитателей Амурской и Приморской областей – всего лишь горсть. Населению Приморской области, состоящему главным образом из украинцев, бойцы Белой армии были «чужими». Исключение составляли только казаки оренбургцы и забайкальцы, нашедшие здесь своих сородичей.
Случай, преданность Белому делу, пассивность и упорство привели чинов Белой армии из столь отдаленных краев в Приморье, многие «практичные» люди, не видя впереди никакого просвета, бросали расстроенные ряды белых войск после Ледяного Сибирского похода или оставления Забайкалья. В рядах остался тот, кто жил борьбой с большевиками, кто продолжал твердо верить в скорое воскресение России, а пока считал нужным продолжать службу в кадрах будущей Русской армии, тот, кто не решался или не желал самостоятельно бороться с жизнью вне рядов войск. Много было и таких, кто, не задаваясь высокими целями, довольствовался настоящим и жил, пока его кормили. Наконец, попадались единичные хищники, кои были не прочь пожить вволюшку на остатки казенных средств, а при случае и погреть свои руки. Следует отметить, что после майского переворота 1921 г., когда в Приморье образовался Белый центр, некоторые из оставивших ряды войск вновь вернулись на службу в свои части.
Осколки молодой русской армии, развернувшейся из добровольческих отрядов и частей народных армий 1918 г. (Сибирской и Народной), до последних дней своих сохранили характерную особенность своей юности – крепчайшую духовную связь между начальником и подчиненным, происходившую от полной общности интересов, а нередко и близких отношений, предшествовавших службе под белыми знаменами. В тяжелой обстановке фронта и ближнего тыла трудами и энергией молодого русского офицерства были созданы белые части Восточного фронта. Волею судеб представители солидного русского генералитета в этой работе участия не приняли. Здесь уместно отметить то, что к этому времени офицерство состояло из бесчисленного ряда лиц различных классов, профессий, взглядов, убеждений и интересов. К тому же солдатами вначале были только добровольцы и самомобилизовавшиеея – учащаяся молодежь, казаки, крестьяне и рабочие. В результате взаимоотношения чинов оказались непринужденными, но вместе с тем, при отсутствии ряда формальностей, воинские чины были скованы на фронте строгой и даже суровой дисциплиной. Равномерного распределения офицерства по частям вначале не было. Не удалось его провести высшему белому командованию и в 1919 г., равно как и превратить добровольцев народных войск в солдат регулярной армии. После красноярской катастрофы Белая армия по существу своему вновь стала чисто добровольческой, но подъема, как то было в 1918 г., уже не было в ее рядах. Части, пришедшие в Приморье, хотя и сохранили свой облик добровольческих и народных частей, тем не менее, под влиянием неудач и катастроф, этот облик принял все же искаженные формы.
Нет и не может быть ничего удивительного в том, что при описании воинских частей Временного Приамурского правительства приходится наталкиваться на ряд явлений, чуждых понятиям старой Русской армии. Часть этих явлений, как указано выше, явилась как продукт новых взглядов на вещи и новых отношений, другая часть – болезненна по существу своему. Вместе с тем в частях Белой армии 1921 г. сохранились также и многие положительные черты старой Русской армии.
Еще в Забайкалье количество бойцов в частях не соответствовало их «классу», если так можно выразиться. При проходе через полосу отчуждения КВЖД ряды полков еще более поредели. Раскол на две враждебные группировки вконец расстроил порядок, ибо многие части распались совершенно или же раскололись на две части.
До отъезда атамана Семенова из пределов Приморья, последовавшего 13 сентября 1921 г., существовало два не зависящих друг от друга высших органа управления войсками: штаб главнокомандующего всеми вооруженными силами Российской Восточной окраины и штаб командующего Дальневосточной армией. Первый находился в Гродеково, второй – сначала в Никольск-Уссурийском, а позднее во Владивостоке.
К лету 1921 г. в Приморье в подчинении главнокомандующего находилась только одна Гродековская группа войск, возглавляемая генерал-лейтенантом Савельевым. В состав этой группы войск входили: все казачьи части и части 1-го корпуса, пришедшие в Приморье (часть забайкальцев осела в районе Хайлара в полосе КВЖД), и две стрелковые бригады, выделившиеся из состава 2-го и 3-го стрелковых корпусов.
В подчинении командующего Дальневосточной армией (генерал-лейтенант Вержбицкий) находились 2-й Сибирский стрелковый (генерал Смолин) и 3-й стрелковый (генерал Молчанов) корпуса. В состав этих корпусов входили только стрелковые и кавалерийские части, не перешедшие весной в Гродековскую группу.
Организация подразумевала подразделение корпусов и Гродековской группы войск на бригады, полки, батальоны, роты и т. д. Так все это и было на бумаге. На деле же многие полки, состоящие из двух-трех рот, в действительности представляли собой один батальон, причем роты нередко имели по 15–20 рядов. В непосредственном подчинении штабов корпусов и Гродековской группы имелся ряд мелких единиц до отдельных рот, сотен и взводов включительно. Коротко: лето 1921 г. – время мелких отдельных частей, делающих весь аппарат управления и снабжения громоздким, увеличивающих штабы и управления за счет людей в строю. Отдавая должное, следует отметить, что по приходе в Приморье генерал Смолин свел свой корпус в дивизию, сократив таким образом число штабов, но позднее дивизия вновь была превращена в корпус.
Только что описанная громоздкая и неправильная организация сохранялась по следующим мотивам:
1. Как указано выше, части 1921 г. являлись осколками когда-то значительных частей. Каждый осколок старался сохранить себя отдельной единицей до того светлого времени, когда он сможет вновь развернуться.
2. Командиры и начальники, привыкнув командовать крупными частями, инстинктивно цеплялись за «класс» своей части, а потому понижение «класса», то есть сведение частей в менее крупные единицы, во многих случаях влекло за собой уход на покой или откомандирование в штаб ряда лиц, пребывание коих на не соответствующих их чину должностях противоречило психологии чинов армии.
3. Командиры частей определенно не желали терять свою хозяйственную автономию.
Сохранение старых территориальных наименований частей определенно преобладало, и не только полки, но батальоны, роты и эскадроны сохраняли наименования тех полков, каковыми они были в 1918–1919 гг. Бригады же, образуемые от слияния сведенных в полки бригад, получали обобщающие наименования. Так появились: Поволжская, Ижевско-Воткинская и Сибирская бригады. Каппелевские части, переходя в состав Гродековской группы войск, сохраняли свои старые наименования (Егерский, Уральский, Добровольческий полки, Красноуфимский, Камский конные дивизионы).
О внешней подтянутости, выправке, однообразной форме одежды говорить не приходится. Хотя все белые бойцы ходили в погонах и в растерзанном виде солдаты сами не любили появляться, тем не менее особых требований в этом отношении не проявлялось и предъявлять было нельзя, так как армия после своего прихода в Приморье обмундирования и жалованья не получала.
Если занятия с офицерами и солдатами в некоторых частях и производились, то в большинстве случаев к ним относились несерьезно. Осенью 1921 г. во Владивостоке имел место следующий случай, ярко характеризующий психологию белых бойцов: когда одну из белых частей гарнизона вывели на занятия (рассыпной строй), солдаты оказались премного обиженными: «Как? Всю Сибирь прошли, столько лет воюем, а тут опять учить то, что мы и так хорошо знаем?»
По уставу полагалось отдание чести всем генералам и офицерам без остановки во фронт, но на практике солдаты отдавали честь только офицерам своей части и тем из «чужих» офицеров, которые при больших чинах солидно выглядели. Недоразумений на этой почве не происходило, ибо офицеры считали вполне нормальным, что их приветствуют только свои солдаты.
Переходы из одной части в другую и выходы на сторону одно время происходили зачастую самовольно и, за редким исключением, проходили безнаказанно. Некоторые командиры и начальники сами переманивали к себе офицеров и солдат в целях пополнения или развертывания своих частей. Только в редких частях не принимали самовольно переходящих.
Ясное представление о численности и организации белых частей дает следующая сохранившаяся таблица:
Численный состав гарнизона Раздольного 6 марта 1921 г.

В вышеприведенной таблице в графе «Воткинцы» показаны Воткинский стрелковый полк и Воткинский конный дивизион. Камский стрелковый полк не показан совсем, надо полагать, что камцы включены в число уфимцев; во всяком случае, в это время камцев было очень немного – они представляли собой батальон под командой капитана Васильева.
Во главе Белой армии в Приморье стояли молодые генералы. Вышедшие на Великую войну в обер-офицерских чинах, они остались совершенно неизвестными широким массам в течение ее. В Гражданскую войну они выдвинулись, но и здесь ни один из них не занимал столь видного положения, чтобы стать авторитетом для всей Дальневосточной армии. Генералы Молчанов и Смолин командовали на Уральском фронте дивизиями, генерал Бородин был в то время командиром полка, а генералы Савельев и Глебов только в дни крушения Белой армии в Забайкалье (1920) были произведены в генералы. Один генерал Вержбицкий имел за собой командование более крупными силами, именно во время весеннего наступления 1919 г. он командовал Южной группой Сибирской армии, действуя в направлении Сарапул – Казань.
Претендентами на высшие посты являлись – генералы Лебедев (бывший при адмирале Колчаке наштаверхом до весенней катастрофы на фронте), Лохвицкий (бывший командармом 1-й осенью 1919 г.), Бангерский (комкор 2-го Уфимского), но и они также не обладали достаточным весом и достаточной объективностью, дабы смирить враждующие группировки.
В прошлом Белой армии было слишком много вольных и невольных перемен в высшем командовании (Гришин-Алмазов, Иванов-Ринов, Болдырев, Лебедев, Гайда, Дитерихс, Сахаров, Каппель, Войцеховский, Лохвицкий, Вержбицкий), чтобы оно способствовало укреплению авторитета командующего просто даже как понятия. Все казалось и считалось легко сменимым и заменимым. В обстановке русской революции и Гражданской войны создался тип «атаманов» – неограниченных и не ответственных ни перед кем маленьких владык. Болезнь эта к 1921 г. окончательно поразила организм Дальневосточной Белой армии и самые ярые противники атаманов превратились фактически в атаманов. Соревнование начальников приняло в это время совершенно недопустимые формы и вело к постоянному несогласию. Особенно были черны дни Раздолинского сидения. Обливая грязью своих противников, самые старшие начальники упускали из виду то, что этим самым они сами погружались в грязь. В свои дрязги они стали втягивать офицеров и даже солдат.
Значительная ценность каждого бойца, как результат малочисленности частей, неудачи, частые перемены в командовании, отсутствие самого необходимого из пищи и одежды, вырывали почву из-под ног начальника и заставляли его подчас смотреть на некоторые провинности подчиненного сквозь пальцы. Результат не заставил себя долго ждать – воинские чины стали распускаться.
Бессистемные производства и награждения орденами, наличие отдельных самозванцев, как результат массовой затери послужных списков, вели к тому, что каждого командира, офицера и солдата ценили его начальники, равные и подчиненные постольку, поскольку он был ценен сам по себе, а не по тому чину или званию, которое он носил.
Разделение на каппелевцев и семеновцев, приведшее очень скоро к полному расколу, явилось скорее результатом соревнования начальников, чем антагонизма масс. Действительно, несмотря на ряд эксцессов, падающих на время наибольшего затемнения мозгов, отношение общей массы офицерства и солдат, как каппелевцев к семеновцам, так и семеновцев к каппелевцам, было вполне терпимо.
Все действия начальства, с легкой руки самих командиров, подвергались нещадной критике. Младший офицер в ответ на приказание мог получить молчок, в худшем случае – грубость. Положение обер-офицеров было неважно. Отчасти это объясняется тем, что многие офицеры, получив чины за боевые отличия, панибратствовали со своими друзьями-солдатами. Наличие офицерских рот почти в каждом полку способствовало подобному «равноправному» отношению. Вместе с тем, видя, что офицер делает все то же, что и солдат, то же ест, так же спит, солдаты болше доверяли офицерству, не имели повода видеть в нем барина, впрочем, многие офицеры барами никогда и не были. Вера друг в друга была полной. В своих солдатах все офицеры были твердо уверены. Боевые приказания всегда исполнялись быстро и беспрекословно. Браня подчас свое начальство, солдат все же верил ему и шел за ним.
При наличии не зависящих друг от друга двух командований вполне естественно существование двух главных интендантств в Белой армии. Одно из них находилось в Гродекове и снабжало части Гродековской группы войск, другое (армейское) после переворота обосновалось во Владивостоке и стало ведать снабжением правительственных войск (генерал-майор Бырдин). Такое положение существовало до тех пор, пока у атамана Семенова имелись средства для прокормления своих частей. Позднее, вследствие острого недостатка продуктов питания, многие гродековские части, оставаясь в оперативном подчинении штаба главнокомандующего, устраивались на довольствие к Приамурскому правительству и получали продукты от каппелевского интендантства. Долго продолжаться такое положение, конечно, не могло, и к осени все гродековские части оказались не только на довольствии у правительства, но и на службе у него.
Питание частей, находившихся на довольствии у правительства до Хабаровского похода, было достаточным. Части получали 2½ фунта хлеба (половина белого, половина черного), в обед – суп, вечером – кашу, но различная мелочь интендантством недодавалась, и средств на приобретение оной не отпускалось. Гродековские части, не перешедшие на довольствие к правительству, летом 1921 г. голодали форменным образом, и местное население из сострадания прикармливало голодных солдат и офицеров. Из гродековского интенданства эти части получали только рис и отвратительной выпечки черный с отрубями хлеб. Конский состав гродековских частей довольствовался исключительно подножным кормом и к осени 1921 г. пришел в полную негодность. Особенно ужасный вид имели кони Забайкальской казачьей дивизии.
Армия, потерявшая значительную часть своего имущества в эшелонах, брошенных при отходе к ст. Маньчжурия, распродала и размотала другую часть его по линии КВЖД. В Приморье в марте и апреле 1921 г. гродековские части получили дрелевое, желтое обмундирование и сапоги. Ожидались шитье и выдача шинелей. Каппелевские части в это время ничего и ни от кого не получали. После майского переворота положение изменилось. В руках каппелевского интендантства оказались некоторые интендантские склады в городах Владивосток и Никольск, бывшие доселе в распоряжении красных. Части, находившиеся в подчинении каппелевского командования, получили белье, тонкий зеленый шевиот и шинельное сукно. Частям, поступавшим на довольствие к правительству позднее, но не вошедшим в подчинение каппелевского командования, двери интендантстских складов открывались не так уж широко. 1-я стрелковая бригада и Оренбургская казачья бригада получили синий демсин, а шевиот им выдан не был. Между прочим, 1-я стрелковая бригада шевиота не получила даже летом 1922 г., хотя на складах шевиот имелся. Наиболее обделенными оказались части Забайкальской казачьей дивизии и гродековцы (позднее 3-я пластунская бригада). Эти части не получили ни шевиота, ни демсина под предлогом того, что весной им было выдано атаманом Семеновым дрелевое обмундирование. Шинельного сукна они не получили уже без всяких предлогов.
Жалованием части Гродековской группы войск были удовлетворены по март или апрель 1921 г. (установить точно не представляется возможным) золотом, согласно ставок 1920 г. Оклады были мизерны, так рядовой стрелок получал рублей 15, офицер-боец – 26 рублей, младший офицер – 28, командир отдельной части – около 40. Из-за отсутствия денежных сумм в дальнейшем части Гродековской группы войск жалованья больше не получали, каппелевские части по этой причине жалованья после отхода из Забайкалья совсем не получали. После переворота Временное Приамурское правительство утвердило оклады жалованья чинам войск (приблизительно такие же, как были в Забайкалье). После этого части стали заготовлять требовательные ведомости и посылать их во Владивосток, но, так как наличность в казначействе была все время весьма малой, ассигновки гасились мелкими частями, а посему и чины в частях получали жалованье по частям.
V
Прошлое и настоящее белых частей
Ижевцы и воткинцы. – Уфимцы и камцы. – Волжане. – Остатки отдельной Красноуфимской добровольческой бригады. – Омцы. – Барнаульцы и пепеляевцы. – Иркутцы. – Конно-егеря Манжетного и красноуфимцы. – Уральцы. – Егеря. – Конно-егеря Глудкина. – Добровольцы. – Маньчжурцы, конвойцы и уссурийцы. – Кавалеристы. – Амурцы. – Иманская сотня. – Атамановцы. – Забайкальцы. – Енисейцы. – Сибирцы. – Оренбуржцы. – Железнодорожники. – Сибирская флотилия
Для того чтобы полнее и ярче обрисовать весь облик частей и бойцов белоповстанческих войск, следует коснуться каждой из пришедших в Приморье частей Белой армии.
С именем ижевцев и воткинцев связана одна из героических страниц белой борьбы – стихийное движение приуральского крестьянства и рабочих против большевизма. Недалеко от Камы, немного выше г. Сарапула, находятся два старинных завода: Ижевский и Камско-Воткинский. Ижевский завод состоял из двух отделений – оружейного и сталелитейного. Этому заводу Российская Императорская армия была обязана своим перевооружением трехлинейными винтовками. Камско-Воткинский судостроительный завод являлся вспомогательным к Ижевскому. Заводское население отличалось зажиточностью, крепким семейным укладом, честностью и религиозностью (большинство было староверами). Главное занятие жителей этих заводов, кроме чисто заводского, составляли кустарные промыслы. Воткинский завод славился своими самоварами, тарантасами и производством кожаной обуви. Ижевцы изготовляли пистонные одноствольные ружья, столовые приборы высших сортов, обувь и кружева.
Едва занималась заря 7 августа 1918 г., на Ижевском заводе тревожно загудел гудок – большевики объявили мобилизацию рабочих для похода на Казань, занятую частями Народной армии. Не в добрый час для себя объявили большевики о мобилизации: глухое недовольство, исподволь нараставшее в среде рабочих-ижевцев, прорвалось, и советская власть была свергнута. 17 августа к ижевцам присоединились воткинцы. Рабочие и самомобилизовавшееся крестьянство прилежащих районов своими силами создали Ижевскую и Воткинскую народные армии. Весь командный (офицерский) состав был выделен восставшими из своей среды. Позднее Ижевская и Воткинская народные армии были переформированы, первая в бригаду, вторая в 15-ю дивизию. Ввиду недостатка в частях офицеров к ижевцам и воткинцам постепенно прибывали офицеры, не принадлежавшие к уроженцам и жителям заводов и края, но, войдя в добровольческие рабочие части, все эти офицеры быстро и всецело восприняли дух частей. С весны 1919 г. имя ижевцев неразрывно связалось с именем полковника, позднее генерала, Молчанова. Герой восстания и обороны Воткинска штабс-капитан, позднее полковник, Юрьев, стяжавший горячую любовь всех своих подчиненных, поздней осенью 1919 г. по проискам завистников и формалистов был отставлен от командования дивизией и принужден был покинуть свое детище. В дальнейшем во главе воткинцев стоял Генерального штаба полковник фон Вах, принявший дивизию во время Сибирского Ледяного похода. Следует отметить, что в 15-ю Воткинскую дивизию в августе 1919 г. была влита 16-я Сарапульская дивизия, сформированная в г. Екатеринбурге весной 1919 г. из призванных молодых возрастов жителей Прикамья. Будучи слитыми, новые части очень быстро составили одно целое, нерушимое и крепкое, причем сарапульцы приняли дух и имя воткинцев. Имена ижевцев и воткинцев гремели на Урале и в Сибири – это были воскресшие курени запорожцев. На запорожцев они походили не только своими сплоченностью, доблестью, отвагой, но также взаимоотношениями чинов и внутренним распорядком жизни в частях.
Мало походили они на регулярные части, взаимоотношения офицеров и солдат между собой были несравненно проще, нежели у казаков; в своей дружественности они граничили даже с некоторой развязностью в обращении. Суворовский завет «Сам погибай, а товарища своего выручай» проводился в жизнь частями, и только в самых исключительных случаях тяжелой боевой обстановки от них можно было ожидать оставления врагу тел своих павших или раненых однополчан.
Таков марш ижевцев. Добавить к нему можно только то, что воткинцы были единственной частью, которая не бросила своей артиллерии в Сибири. В Читу воткинцы провезли все свои орудия – их было одиннадцать. Правда, отчасти некоторые это объясняют тем, что Воткинская артиллерия шла не в общей артиллерийской колонне полковника Беренца, а со своими полками, чины которых в трудную минуту вытаскивали орудия.
Символом неразрывной связи со своими заводами – железом и сталью – у ижевцев и воткинцев считался синий цвет – цвет их погон, выпушек, петлиц. Буквы «Иж» были на погонах ижевцев, буквы «Втк» – у воткинцев. Галунных погон офицеры и подпрапорщики ижевско-воткинских частей никогда не носили: на тех же синих погонах были белые просветы, зигзаги, канты.
Среди частей Белой армии в Приморье имелись следующие ижевско-воткинские части: 1) Ижевский стрелковый полк, 2) Воткинский стрелковый полк, 3) Воткинский конный дивизион, 4) Отдельная Воткинская конная батарея и 5) Воткинская стрелковая легкая батарея.
Ижевский стрелковый полк в Приморье насчитывал в марте 1921 г. по своим спискам 640 ртов, из них 86 офицеров, 509 солдат, 34 женщины и 11 детей. В ноябре 1921 г. на фронт полк выставил 430 строевых и 73 нестроевых чина. Полком в это время командовал скромный, но боевой и распорядительный полковник Зуев. Командиром 3-го батальона был ротмистр Багиянц – гордость полка. Конных в полку было немного – всего около 40 человек. В полку имелось пять пулеметов.
Воткинский стрелковый полк в Приморье в марте 1921 г., совместно с Воткинским конным дивизионом, насчитывал 768 ртов, из них 109 офицеров, 553 солдата, 98 женщин и 8 детей. В ноябре 1921 г. на фронт полк выставил 268 строевых чинов и 73 нестроевых чина. В эти цифры включены чины Воткинской конной батареи, но исключены чины Воткинского кондива. Командиром полка, как было уже указано выше, был полковник фон Вах, прибывший к воткинцам зимой 1918/19 г. Свой полк он крепко держал в руках. Его уважали как боевого и храброго офицера, распорядительного начальника. Конных в полку не было совсем. Пулеметов – шесть.
Воткинская конная батарея. В Приморье отдельной части с подобным наименованием не было. Бывшие чины этой батареи, общим числом 45 человек, входили в состав Воткинского стрелкового полка. С началом движения на Хабаровск они стали обслуживать макленку. Начальником этой команды батареи был поручик Жилин.
Воткинский конный дивизион при выходе на фронт в конце ноября 1921 г. выставил 184 строевых чина, из них 32 офицера. Нестроевых в дивизионе было 4 офицера, 4 чиновника и 29 солдат. В дивизионе было три или четыре пулемета. Командиром был бывший улан, офицер военного времени, подполковник Дробинин – боевой и распорядительный командир. Все остальные офицеры, за исключением двух-трех, были произведены в офицеры из солдат за боевые заслуги.
Воткинская стрелковая батарея, бывшая летом 1920 г. отдельным дивизионом, ввиду переизбытка артиллерии в отдельном Воткинском отряде и полного отсутствия таковой в Омской стрелковой дивизии, была временно придана этой дивизии и так при ней и осталась, даже после перехода Воткинского отряда из 2-го корпуса в 3-й. Батареей командовал бывший командир Воткинского артиллерийского дивизиона – полковник Алмазов, хороший кадровый офицер – Михайлов. В своих рядах батарея насчитывала до 20 офицеров и свыше 120 солдат. Старший офицер батареи, штабс-капитан Стариков, универсант, офицер времени Великой войны, окончил Константиновское артиллерийское училище. Кроме этих двух старших офицеров в батарее было еще несколько офицеров, окончивших артиллерийские училища. Батарея полковника Алмазова считалась одной из образцовых частей Белой армии. Взаимоотношения офицеров и солдат, несмотря на полную дружественность и простоту, отличались значительной выдержкой и корректностью. В Приморье батарея полковника Алмазова входила в состав 2-го Отдельного Сибирского стрелкового артиллерийского дивизиона.
Еще до восстания ижевцев и воткинцев, в июне и июле 1918 г., крестьянские повстанческие отряды при содействии чехов освободили от большевиков почти всю Уфимскую губернию. Впоследствии эти отряды, будучи сведенными в полки, образовали две славные дивизии – 4-ю Уфимскую имени генерала Корнилова стрелковую дивизию и 8-ю Камскую имени адмирала Колчака стрелковую дивизию. Шесть полков из общего числа восьми состояли исключительно из добровольческих повстанческих отрядов, два других полка были сформированы осенью 1918 г., но и они в значительной степени были укомплектованы самомобилизовавшимися. Имена 15-го Михайловского и 30-го Аскинского стрелковых полков, созданных крестьянами тех же волостей, прогремели на Урале. Обе дивизии были не только одними из самых больших в армии адмирала Колчака по количеству штыков дивизий, но также и боевыми, заслужившими недаром свои шефства. Насчитывая в своих рядах от 16 до 20 тысяч бойцов каждая, дивизии укомплектовывались русскими и татарами – жителями бассейна реки Белой и левого берега нижнего течения Камы. Офицеры, за малым исключением, были также местные жители. Так как в этом обширном районе имелся ряд городов и такой большой центр, как Уфа, вполне понятно, что в полках было много офицеров с законченным средним образованием и прошедших курс военных училищ или школ прапорщиков. В марте 1919 г. эти дивизии нанесли главный удар красным, а при отступлении белых в Уральские горы и далее к Челябинску они же принимали на себя удары красных. Под Красноярском они потеряли приблизительно половину оставшихся в строю и по проходе в Читу были сведены в полки. В 1920 г. в Забайкалье самым большим в Белой армии был Камский стрелковый полк, за ним следовал Уфимский. По оставлении белыми Забайкалья на ст. Маньчжурия Камский полк был распущен своим командиром, полковником Воробьевым. Оставшиеся люди Камского полка присоединились к уфимцам, и одно время, весьма короткое, существовал даже по бумагам Камско-Бельский стрелковый полк, но очень скоро он стал именоваться просто Уфимским. В марте 1921 г. в Раздольном под командой полковника Сидамонидзе находились 121 офицер и 653 солдата – это было все, что осталось от двух когда-то больших дивизий.
Как стрелковые части, уфимцы и камцы имели малиновые погоны, выпушки и петлицы. Под адмиральским орлом камцы носили «АК» – «Адмирал Колчак», уфимцы – переплетенный вензель «4УГКп» – «4-й Уфимский генерала Корнилова полк».
К осени 1921 г. в Приморье имелись следующие уфимские и камские части: 1) 4-й Уфимский стрелковый полк, 2) 8-й Камский стрелковый полк, 3) 1-й стрелковый артиллерийский дивизион и 4) отдельный Камский конный дивизион.
4-й Уфимский стрелковый полк, при выходе на фронт в первых числах января 1922 г., выставил до 450 штыков. Трехбатальонного состава, полк состоял из восьми стрелковых рот и команды разведчиков, которая как бы являлась 9-й ротой. Полк почти поголовно состоял из татаро-башкир, бойцов отчаянных, бесстрашно кидавшихся на неприятельские линии. Ядром полка являлись люди 13-го Уфимского стрелкового полка, который под именем 1-го Уфимского пехотного полка начал формироваться в июле 1918 г. в г. Уфе. Чинов 16-го Уфимского и славного 15-го Михайловского полков, взятых вместе, в рядах 4-го Уфимского полка было меньше, нежели чинов 13-го Уфимского. Чинов 14-го Уфимского в Приморье в рядах Уфимского полка было всего лишь горсть – этот полк почти целиком остался под Красноярском. Как было указано выше, через полосу отчуждения КВЖД Уфимский полк прошел целиком. Полк этот не разваливался и не расползался в стороны, чему во многом обязан был полковому мулле. Командиром полка был молодой, но превосходный и боевой офицер – полковник Сидамонидзе, проведший всю Гражданскую войну в рядах 13-го Уфимского полка, где службу свою начал с фельдфебеля офицерской роты. Полк принял он в самом начале Сибирского похода, в районе Ново-Николаевска.
8-й Камский стрелковый полк. Под командой случайного офицера в Приморье прибыло всего около ста пятидесяти камцев. В Раздольном они составляли один батальон. Только после майского переворота 1921 г. и приезда из г. Харбина бывшего первого командира 8-го Камского полка, полковника Сотникова, был восстановлен Камский полк, но первое время он продолжал состоять из одного батальона. Уже летом 1921 г. на Русском острове к полку был присоединен батальон полковника Матросова, который до того входил в состав отряда генерала Петухова, формировавшегося отчасти на средства атамана Семенова. Батальон полковника Матросова – три роты – состоял в значительной мере из алтайцев и камцев, последние из числа тех, что уклонялись от поступления и службы в 8-м Камском полку. Само собой разумеется, что по слиянии недоброжелательный холодок между «первым» и «вторым» батальонами не исчез. Чины полка по национальности были русскими и татаро-башкирами, причем первых было более, нежели вторых. Каждый из батальонов состоял из трех рот, кроме того, в полку были еще офицерская, пулеметная и нестроевая роты. По приблизительным подсчетам, при выступлении в поход в ноябре 1921 г. полк смог выставить не более 330 штыков. Командир полка полковник Сотников был превосходным боевым офицером, отлично знавшим военную службу, но на хозяйственную часть он имел особый свой взгляд и относился пренебрежительно к правильному ведению его. К этому следует добавить, что полковник Сотников был глубоко честным и порядочным человеком. Полковник Сотников – старый кадровый офицер (производства в офицеры приблизительно времени Русско-японской войны), служивший в мирное время в Раздольном в 6-м Сибирском саперном батальоне вместе с Молчановым, тогда еще поручиком. В Гражданскую войну полковник Сотников на Уральском фронте командовал 29-м Бирским стрелковым полком. Помощником командира 8-го Камского полка в Приморье был по доблести своей не уступавший своему начальнику полковник Турков – на Уральском фронте командир 32-го Прикамского стрелкового полка, принявший этот полк от Молчанова, тогда еще полковника.
1-й стрелковый артиллерийский дивизион. По приходе каппелевской армии в г. Читу из чинов 4-го Уфимского стрелкового артиллерийского дивизиона, остатков 12-го Уральского стрелкового артиллерийского дивизиона и влитых в него 6-го Уральского и Сибирского стрелкового артиллерийского дивизиона полковника Беттихера, приставшего к ижевцам во время Сибирского ледяного похода, был сформирован
2-й Уфимский стрелковый артиллерийский дивизион, который вошел в состав дивизии того же наименования и номера. Командиром дивизиона был назначен бывший начальник артиллерии 4-й Уфимской стрелковой дивизии полковник Романовский, кадровый офицер, окончивший Михайловское артиллерийское училище и выпущенный в офицеры в 1904 г., солидный артиллерист с большим опытом. При проходе через полосу отчуждения КВЖД дивизион почти совсем развалился. В Раздольное прибыла совсем небольшая группа офицеров и солдат, которая была влита в Сводноартиллерийский дивизион в виде 3-й батареи – Уфимской. По выходе полковника Глудкина с егерями и уральцами из состава 3-го стрелкового корпуса полковник Романовский со своей батареей присоединился к нему. В это же время в Уфимскую батарею влилась одна из рот 4-го Уфимского стрелкового полка в составе 50 солдат и 1 офицера, а затем из Сводно-артиллерийского дивизиона к нему же перешла группа офицеров. Таким образом малочисленная Уфимская батарея превратилась в дивизион, который получил теперь наименование 1-го стрелкового – по имени бригады, в состав которой он вошел. К ноябрю 1921 г. в дивизионе числилось 6 штаб-офицеров, 22 обер-офицера, 1 чиновник и до 70 солдат. Выступив в поход в декабре 1921 г., дивизион дал: офицерский взвод, стрелковую роту и конный взвод – всего 73 бойца.
Отдельный Камский конный дивизион, конный лишь по названию, насчитывавший в своих рядах от 80 до 120 человек, был приведен полковником Надзадиным в Гродеково из Никольск-Уссурийского летом 1921 г. после того, как бригада генерала Осипова перешла из состава Гродековской группы войск в 3-й стрелковый корпус. Прошлое этого конного дивизиона – прошлое 8-й Камской дивизии и полка. Дивизион состоял почти исключительно из татаро-башкир. В Гродеково дивизион был включен в состав отдельной стрелковой бригады, которой командовал совсем молодой полковник Буйвид, и поздней осенью 1921 г. был пополнен только что прибывшими в Приморье бывшими унгерновцами. К ноябрю того же года численность дивизиона достигла 250 чинов. В это время им командовал полковник Крылов.
Молодой офицер Генерального штаба В.О. Каппель окончил Великую войну в чине подполковника. Борьба на Волге летом и осенью 1918 г. сделала его имя и имя его небольшого добровольческого отряда широко известными. В ноябре того же года Временное Всероссийское правительство (Директория) в виде исключения произвело полковника Каппеля в генерал-майоры (Болдырев В.Г. Директория. Колчак. Интервенты. С. 109). Генерал Петров в своей книге «От Волги до Тихого океана» довольно подробно описывает операции на Волге и в Приуралье, где Каппель и его части, уже тогда получившие прозвание каппелевцев, играли видные роли. Части 1-го Волжского стрелкового корпуса, как именовались части генерала Каппеля, создались и выросли на фронте в боевой обстановке. Почти целиком они состояли из добровольцев – учащихся и горожан. Мобилизованных солдат в рядах было совсем немного. Процент же офицеров в частях был весьма значителен – весной 1919 г. их насчитывалось в корпусе до 2000 человек. Корпус состоял из трех стрелковых дивизий, которые первое время именовались бригадами, – 1-я Самарская, 3-я Симбирская и 13-я Казанская, и одной кавалерийской бригады двухполкового состава – Волжской. Стрелковые дивизии состояли из трех стрелковых полков, егерского батальона, конного и артиллерийского дивизионов, но все полки были далеко не полного, даже малого состава. Таким образом, Волжский корпус представлял собой только остов, кадр настоящего корпуса за все время своего участия в боевых операциях, ибо, хотя весной 1919 г., перед своим возвращением на фронт, он и был пополнен мобилизованными сибиряками и бывшими красноармейцами, выразившими желание вступить в ряды белых войск, но принимать в расчет их не приходится, так как в первых же боях они стали либо сдаваться красным, либо переходить на их сторону. Вследствие небольшой своей численности дивизии Волжского корпуса уже в самом начале Сибирского похода, в районе Ново-Николаевска, фактически были сведены в полки. Под Красноярском целиком погибли сибирцы, от казанцев вышла группа в 50 человек – начдив генерал Ястребцев со своим штабом и ординарцами, только одни самарцы, руководимые генерал-майором Сахаровым, заменившим умирающего генерала Имшенецкого, вышли в значительном числе.
По приходе в Забайкалье остатки 1-го Волжского корпуса были сведены в Отдельную Волжскую бригаду, состоявшую из одного стрелкового, одного драгунского полков и одной батареи. В этой бригаде бывших самарцев было приблизительно до 70 %, симбирцев было всего несколько случайных человек, остальные были казанцами – бывшими чинами 13-й Казанской и 13-й Сибирской стрелковых дивизий (кадром 13-й Сибирской явились также казанцы – части полковника Степанова, снявшиеся с фронта осенью 1918 г. и проскочившие в тыл в Ново-Николаевск). При проходе через полосу отчуждения КВЖД в конце 1920 г. драгунский полк почти целиком остался в Харбине, и по приходе в Приморье бригада свернулась в полк. В марте 1921 г. в Раздольном находилось всего 380 волжских душ – 110 офицеров, 245 солдат, 21 женщина и 4 детей. После переворота волжские артиллеристы выделились из полка и под именем 3-й Волжской генерала Каппеля батареи вошли в состав Сводно-артиллерийского дивизиона. Таким образом, к осени 1921 г. в Приморье существовали две Волжские части: 1) 1-й Волжский имени Генерала Каппеля стрелковый полк и 2) 3-я Волжская имени генерала Каппеля батарея. Первые носили на погонах витой вензель – «ВГКп», вторые «ЗГК» под пушками. Погоны, петлицы и выпушки у волжан были малиновые.
1-й Волжский стрелковый полк в мае 1921 г. состоял из одной офицерской, трех стрелковых рот и малочисленных команд разведчиков и нестроевой. В офицерской роте было до 40 человек, в 1-й – около 75, во 2-й – до 100 и в 3-й около 70. Осенью 1921 г., после прибытия во Владивосток парохода «Франц Фердинанд», в Волжский полк были влиты так называемые «южане» или «врангелевцы», всего до 30 человек. Под командой своего «южанина» штабс-капитана Ушакова они составили 4-ю стрелковую роту. Эти новоприбывшие «южане» были также волжане – жители Николаевского уезда Самарской губернии. В 1918 г. они находились в рядах Народной армии, но при откате последней с Волги к Уралу части, в которых они служили, принуждены были отойти на юг и присоединиться к уральским казакам. Командиром полка был самарец полковник Белянушкин, его помощник – полковник Карлов.
3-я Волжская батарея в своих рядах к осени 1921 г. насчитывала всего 47 человек, из них офицеров было человек пять-шесть. Орудий эта батарея, как и все остальные, до Хабаровского похода не имела. Находясь в составе Волжской бригады и полка, чины батареи ничем не отличались от остальных волжан, но по выделении из полка и переходе в подчинение к полковнику Бек-Мамедову батарейцы невольно мало-помалу стали воспринимать облик чинов Сводноартиллерийского дивизиона. Командиром батареи был молодой офицер (Константиновского артиллерийского училища, выпуска 1915 г.) подполковник Иличев.
В заключение следует указать, что волжане, будучи закаленными в боях, похвастаться внешней воинской отчетливостью не могли и взаимоотношения чинов имели не совсем нормальный характер, чему причиной было не только то, что первый период своего существования волжские части провели под знаменами Комуча (Комитета Учредительного собрания), но к этому также подталкивали особые взгляды и понятия комбрига. На общем фоне, безусловно, выделялась своей подтянутостью группа «южан». В бою же от «волжских чудо-орлов и богатырей», как называл их генерал Сахаров, можно было ожидать «суворовски» стремительных ударов.
Подобно частям Ижевским, Воткинским, Камским и Уфимским, отдельная Красноуфимская добровольческая бригада образовалась из повстанческих отрядов, созданных восставшим весной 1918 г. крестьянским и горно-рабочим населением Красноуфимского уезда. Эти повстанческие отряды были объединены поручиком Рычаговым – местный житель-крестьянин, в прошлом солдат, дослужившийся до офицерских чинов на германском фронте. В глухом Красноуфимском уезде немного было офицеров, а потому вполне понятно, что в создании частей бригады и вождении их в бой главную роль играли лица, не прошедшие курса военных училищ и школ прапорщиков, – бывшие унтер-офицеры, и тем не менее оба стрелковых полка полного состава (1-й Красноуфимский, 2-й Кыштымский), конный дивизион (Ачитский) и батарея всегда были на уровне хороших воинских частей. Под Кемчугом, во время Сибирского похода, погибли генерал-майор Рычагов и его полки. На восток проскочила лишь часть Ачитского конного дивизиона, да прошел еще артиллерийский дивизион, следовавший в составе сначала артиллерийской колонны полковника Беренца, а затем присоединившийся к Уральской группе генерала Круглевского. В Забайкалье эти два осколка бригады оказались в различных войсковых соединениях: ачитцы были приданы Иркутской стрелковой дивизии, бок о бок с которой на Урале сражалась Красноуфимская бригада, а артиллеристы, будучи слитыми с остатками 11-го Уральского артиллерийского дивизиона (до 20 офицеров и 14 солдат), образовали Сводно-артиллерийский дивизион.
В Приморье в рядах войск Временного Приамурского правительства бывших жителей Красноуфимского уезда, бывших чинов бригады того же наименования было до 280 бойцов – в Ачитском дивизионе до 180 и в Сводно-артиллерийском дивизионе до 100. По национальности все они были русскими. На военной службе, в годину некоторой распущенности даже в среде офицеров, они показали себя подтянутыми, исполнительными, бравыми и развитыми солдатами, которыми начальники всегда были довольны. Отсутствие лица, которое бы озаботилось объединить и соединить осколки бригады, кстати сказать никогда не враждовавшие друг с другом, повело к тому, что славное прошлое бригады не имело в Забайкалье и Приморье продолжения, хотя бывшие чины бригады и продолжали выполнять свой долг в чужих по имени частях. Бывший командир артиллерийского дивизиона подполковник Зеленой был слишком мягок для того, чтобы провести в жизнь такую идею, которой он и не задавался, а подполковник Кузьминых – командир Ачитского конного дивизиона, налегал на выпивон. В августе 1921 г. Ачитский конный дивизион вошел в состав вновь сформированного Сводно-Сибирского кавалерийского полка.
7 июня 1918 г., в первый день восстания, в г. Омске начал формироваться 1-й Степной полк – будущий 13-й Омский стрелковый полк. 21 июня этот полк в составе 150 человек выступил из Омска на фронт в г. Ишим, находясь в отряде полковника Вержбицкого.
Ядром 16-го Ишимского стрелкового полка являлся первый офицерский партизанский отряд, во главе которого стоял капитан, позднее полковник, Казагранди и запись в который была открыта в тот же день 7 июня в Омске. Через полутора суток этот отряд, в составе 61 пехотинца с винтовками, при 11 пулеметах Люиса, и 10 артиллеристов с одним орудием при 93 снарядах отбыл из Омска вниз по реке Иртыш.
Отряд войск полковника Вержбицкого и партизанский отряд капитана Казагранди в течение лета 1918 г. вели упорные бои с красными, продвигаясь на северо-запад вдоль линии Тюменской железной дороги и реки Иртыш. В сентябре 1918 г. вышеуказанные части, составлявшие 1-ю Степную дивизию, были переименованы: дивизия стала именоваться 1-й Сибирской стрелковой дивизией, а полки из 1, 2 и
3-го Степных превратились в 13-й Омский, 14-й Иртышский и 15-й Курганский, а отряд полковника Казагранди, уже развернутый в полк, был наименован 16-м Ишимским стрелковым полком. Пополненная добровольцами и самомобилизовавшимися жителями Тобольской и Пермской губерний,
4- я Сибирская стрелковая дивизия очистила горнозаводский район, а затем, совместно с 1-м Средне-Сибирским стрелковым корпусом, приняла участие в наступлении на Пермь, ее взятии, разгроме перешедших в контрнаступление красных под Кунгуром и овладела линией реки Камы в районе г. Оса – Сарапул. Ишимский стрелковый полк под командой своего выдающегося командира, капитана Метелева, решил судьбу Воткинского завода, предопределив полный разгром 7-й Уральской советской дивизии. В дальнейшем 4-я Сибирская стрелковая дивизия вышла на берег реки Вятка, причем Ишимский полк форсировал широко разлившуюся Вятку. Следует также отметить, что за время с сентября 1918 г. по апрель 1919 г. 4-я Сибирская стрелковая дивизия выделила кадр на формирование 7-й и 18-й Сибирских стрелковых дивизий, укомплектованных жителями Приуральского и Прикамского краев. Неудачи на фронте Западной армии понудили 4-ю Сибирскую дивизию к отступлению; под напором главных сил противника, перенесшего свой удар по Сибирской армии, дивизия отходила на восток. Затем непосильная борьба на Тоболе и опять отступление. Под Канском, после объявления о добровольческой службе, ряды дивизии поредели. По приходе в Читу омцы, ишимцы и барнаульцы, пополненные остатками других частей Сибирской армии, образовали Омскую стрелковую дивизию, которая в Приморье превратилась в полк.
4-й Омский стрелковый полк к осени 1921 г. состоял из трех батальонов, сохранивших свои наименования: Омского, Ишимского и Барнаульского. Кроме стрелковых рот, в полку имелась пулеметная команда (около 40 человек), эскадрон (около 90 всадников), нестроевая рота (около 80 человек) и музыкантская команда. В это время полк имел приблизительно до 700 ртов, в поход же выставил не менее 500 бойцов. Во время похода эскадрон был пополнен за счет рот и доведен до 120 сабель. Командиром полка был полковник Мельников, его помощником – полковник Мохов, командовавший полком во время Анучинской операции и движения на Хабаровск. Ко всему этому следует добавить, что Омский полк в Приморье был сплоченной, дружной, образцовой частью. По сравнению с другими частями солдаты Омского полка были подтянуты. В полку имелось хорошо (конечно, по тому времени) оборудованное офицерское собрание, кажется единственное настоящее офицерское собрание. Хозяйство полка было поставлено также хорошо. Эти преимущественные особенности Омского полка отчасти могут быть объяснены тем, что кадры полка последовательно находились в руках опытных начальников: генералов Вержбицкого, Смолина, Генерального штаба полковника Аргунова. Хотя этих начальников нельзя заподозривать в пристрастии к остаткам когда-то их родной, собственной части, тем не менее вполне естественно, что они относились, вопреки, быть может, своему желанию, все же с некоторым, особым вниманием к Омскому полку. Генерал Смолин указывает, что он не только не выделял Омский полк, но всегда старался относиться и относился с большим вниманием к более молодым частям, вошедшим в его подчинение позднее.
Наскоро сформированные из офицеров и добровольцев три дружины: Томская, Ново-Николаевская и Барнаульская, под общей командой молодого подполковника Пепеляева, примкнули к чешским частям капитана Гайды и, двигаясь из сердца Сибири на восток в Забайкалье, покрыли себя славой. После этого они были пополнены и развернуты в 1-й Средне-Сибирский стрелковый корпус, и под командой того же Пепеляева, теперь уже генерал-майора, они совершили свой знаменитый марш на Пермь, а позднее сражались под Верещагином и Глазовом. Потеряв более трех четвертей своего состава в боях и от эпидемий, части корпуса в конце 1919 г. были отведены в тыл на пополнение. Но не отдых и покой сулил им рок. Преступное легкомыслие подполковника Ивакина (командовавшего в это время 1-й дивизией) и генерал-майора Зиневича (командир корпуса) не только погубило корпус, но нанесло смертельный удар всему Белому делу в Сибири. Из состава всего 1-го Средне-Сибирского стрелкового корпуса в Забайкалье прошел один только 3-й Барнаульский стрелковый полк. Этим полк обязан был сильной воле и решимости своего командира капитана Богословского, который, поставив своей целью вывод кадра полка на территорию, обеспечивающую дальнейшее существование его, провел полк крайним севером, глухой тайгой, по глубоким снегам Лены и Витима.
С времен давным-давно забытых, с 1711 г. от Колывано-Воскресенского горного батальона ведут свою историю барнаульцы. Переименованный впоследствии в Барнаульский линейный, а затем в Барнаульский резервный батальон, в Русско-японскую войну он развернулся в 12-й Барнаульский стрелковый полк, который за бои под Дашичао получил Георгиевское знамя. По реорганизации армии, в Великую войну полк скрыл свое славное имя под скромной цифрой 44-го Сибирского стрелкового полка, но и тут, на германском фронте, полк стойко сражался с врагом до последних дней. Вернувшись домой, барнаульцы организовали ячейку и 14–15 июня 1918 г. произвели переворот в Барнауле. Через три дня Барнаульская дружина, позднее полк, выступила на фронт. Как уже видно из вышеуказанного, барнаульцы по приходе в Читу вошли в состав Омской стрелковой дивизии, а в Приморье были сведены в батальон.
Кроме Барнаульского полка в Читу из состава 1-го Средне-Сибирского стрелкового корпуса пробрались отдельные, случайные лица. В числе последних был бывший комкор 1-го Средне-Сибирского, бывший командарм 1-й Сибирской, бывший кумир Сибири – генерал-лейтенант Пепеляев. Сразу же по прибытии он начал было формировать отряд из бывших чинов своих частей, но скоро увидел, что авторитет его сильно поколеблен, и уехал в Харбин, отказавшись от создания хотя бы небольшой, но отдельной, части, пополненной бывшими чинами 1-го Средне-Сибирского корпуса. Только осенью 1921 г. во Владивостоке, занимавший один из видных постов в 1-м Средне-Сибирском корпусе, генерал-майор Вешневский приступил к проведению в жизнь этой мысли и с разрешения Временного Приамурского правительства стал формировать 1-й Сибирский стрелковый имени генерал-лейтенанта Пепеляева полк. В этот полк поступали главным образом бывшие чины вышеуказанного корпуса, приезжавшие из полосы отчуждения КВЖД. Приток добровольцев был слаб, к декабрю формирование его все еще не было закончено, численность его была совсем мизерна. Я. Покус неправильно именует этот полк «1-м Владивостокским пехотным полком» и силу его определяет в 500 штыков, которую должно считать преувеличенной не менее как в три раза. По некоторым же сведениям, вся численность полка в январе – феврале 1922 г. была не более 80—100 человек.
Сразу по занятии Иркутска чехо-русскими силами полковник Гривин приступил к формированию Иркутской дружины. Через несколько дней эта дружина, в составе трех батальонов, выступила на фронт, где и приняла живейшее участие в боях за обладание Круго-Байкальской железной дорогой, разгроме красных под Танхоем, Посольской и преследовании их до соединения с отрядом атамана Семенова. Пополнившись и развернувшись в 3-ю дивизию, иркутяне были перекинуты в Екатеринбург, откуда выступили походным порядком на Бисертский завод, заняли г. Красноуфимск, сражались с Блюхером у Песчаной горы, на реке Шаля, под Осой, Сарапулом и т. д. В конце концов дивизия изнемогла в боях, люди выбились из сил, ряды ее поредели. Трагический конец был первого командира иркутцев, командира 4-го Восточно-Сибирского корпуса генерал-лейтенанта Гривина. После неудачи на Тоболе белые отступили, но Верховное командование все еще намеревалось отстоять Омск. Между командующим 2-й армией генералом Войцеховским и генералом Гривиным произошел крупный разговор. Последний заявил, что та горсть людей, что осталась у него, измоталась настолько, что не может сдерживать врага, а потому он, генерал Гривин, снимает свои части с фронта и согласно старому приказу главнокомандующего следует в глубокий тыл на пополнение… Генерал Гривин был застрелен генералом Войцеховским за неисполнение приказа. В боях потеряли иркутцы и генерала Ракитина – душу дивизии, который водил их на славные дела. По оставлении Забайкалья многие иркутяне, не желая далеко уходить от родных мест, оставили ряды дивизии и присоединились к отряду барона Унгерна, ушедшего в Монголию. В Приморье иркутяне были свернуты в полк – 3-й Иркутский стрелковый, но это были теперь остатки когда-то славной части. Численность полка, по одним сведениям, показывается до 400 чинов, по другим – только до 150. Командиром полка был полковник Золотарев.
Как видно из вышесказанного, сибирские части, находясь на фронте на Урале и в Приморье, пополнялись добровольцами, самомобилизовавшимися и мобилизованными из жителей этих краев, причем вновь вступившие в армию пошли не только на укомплектование ранее существующих частей, но из них также были созданы новые части молодой русской армии, которые действовали в составе 1-го Средне-Сибирского, 3-го Западно-Сибирского и 4-го Восточно-Сибирского корпусов. Из таких частей в Приморье в составе Белой армии пришли две: Отдельный конно-егерский дивизион, известный как дивизион Манжетного, и Отдельный Красноуфимский конный дивизион.
Мобилизовав в конце 1918 г. в Пермской и Вятской губерниях бывших солдат кавалерийских полков старой Русской армии, большевики сформировали из них 10-й Пермский кавалерийский полк. По выдвижении его на фронт, в декабре, в селе Ильинском, полк в полном составе всего до 450 человек, руководимый бывшим офицером Еремеевым, перешел на сторону белых, где сразу же и вошел в состав отряда полковника Казагранди. Последний приказал ротмистру Манжетному создать из перешедших людей Отдельный конный дивизион. Отобрав до 300 лучших всадников, ротмистр Манжетный создал Отдельный конно-егерский дивизион. Ротмистр Манжетный был волевой, выдающийся офицер. Бывший жандарм, еще ранее того офицер 17-го Новомиргородского уланского полка, он очень быстро из хороших солдат создал образцовую кавалерийскую часть, славное имя которой – «конно-егеря Манжетного» – прогремело по Уральскому фронту. С середины 1919 г. дивизион все время находился с 4-й Сибирской дивизией, с которой и пришел в Забайкалье, где летом 1920 г., в г. Нерчинске, на пополнение убыли в людях в дивизион была влита группа так называемых пепеляевцев. При проходе через полосу отчуждения КВЖД полковник Манжетный с частью людей остался в Харбине. В Приморье, под командой подполковника Линкова, прибыло до 200 человек, которые совместно с ачитцами в августе 1921 г. образовали Сводно-Сибирский кавалерийский полк. У конно-егерей имелся стяг, преподнесенный дивизиону весной 1919 г. «благодарным населением стольких-то волостей освобожденного Прикамья», как о том гласила надпись. В заключение следует добавить, что в руках полковника Манжетного это была одна из самых грозных для врага белых частей. Дивизион имел особую форму: зеленый погон с желтой выпушкой, такие же петлицы, на погонах – переплетенные буквы желтого цвета: «ЕК» и лампасы двойные зеленые с желтым посередине кантиком.
Отдельный Красноуфимский конный дивизион в составе добровольческой бригады того же наименования (поручика, потом полковника, наконец, генерал-майора Рычагова) никогда не находился. Основой его была сформированная при 3-й Сибирской (Иркутской) дивизии в конце 1918 г. Отдельная Татарская сотня, состоявшая из добровольцев-мусульман, жителей Красноуфимского уезда. В этой сотне было вначале 120 сабель. Во время весеннего наступления 1919 г. из добровольцев – русских жителей Красноуфимского и Сарапульского уездов при той же Иркутской дивизии был сформирован эскадрон, который вместе с Татарской сотней, под командой капитана Кветковского, образовал Отдельный Красноуфимский конный дивизион, который все время и находился при 3-й Сибирской (Иркутской) дивизии, не имевшей своей конницы. Значительных потерь и катастроф дивизион избежал, но командиры его частенько менялись. Так как одно время в дивизионе было несколько офицеров 10-го Ингерманландского гусарского полка, то в дальнейшем чины дивизиона высказывали свои претензии на восприемство духа и славы означенного полка былой русской конницы. В Читу пришло 185 сабель и 30 штыков. Здесь дивизию принял полковник Хромов – кадровый кавалерийский офицер. В Приморье, по сведении Иркутской дивизии в полк, красноуфимцы сохранили свою самостоятельность. Весной 1921 г. они последовали за генералом Осиповым и вышли из состава 2-го корпуса. В это время в дивизионе было до 180 чинов. Обратный переход к каппелевцам генерала Осипова привел к смуте в умах многих чинов дивизиона, и ряды его несколько поредели. К осени 1921 г. в дивизионе имелось до 70 всадников и 130 пеших.
К марту 1919 г. в составе молодой русской армии имелись четыре стрелковые дивизии, носившие наименование Уральских и укомплектованных жителями Приуралья – Челябинская губерния, Златоустовский, Екатеринбургский уезды и Зауральские уезды Пермской губернии. Две первые – 6-я и 7-я Уральские дивизии горных стрелков – были развернуты из добровольческих формирований первых дней восстания. Две другие – 11-я и 12-я Уральские стрелковые дивизии – формировались в более спокойной обстановке, но состояли преимущественно из мобилизованных. Выступив на фронт частично поздней осенью 1918 г., частично зимой, все эти четыре дивизии приняли участие в весеннем наступлении белых, и к концу лета 1919 г. они оказались сильно потрепанными и малочисленными. Попытки пополнить их не привели к цели, ибо прибывшие из Сибири пополнения были сильно распропагандированы и целиком переходили на сторону противника. После того как надежда на возвращение из Южной армии двух полков 6-й Уральской дивизии отпала, оставшиеся два полка этой дивизии были влиты в 12-ю Уральскую дивизию, которая входила в Уфимскую группу генерала Бангерского. В составе этой группы остатки 12-й Уральской дивизии прошли в Читу, где, будучи слитыми с Алтайским конным дивизионом, образовали У рало-Алтайский конный полк. После оставления Забайкалья этот полк был расформирован приказом комкора, ибо не имелось возможности перебросить конный полк в Приморье из-за недостатка подвижного состава железной дороги. Первые два эскадрона (алтайцы) были влиты в кавалерийский полк, а уральцы (3-й, 4-й эскадроны и пулеметная команда) были влиты в 4-й Уфимский стрелковый полк. Распродав конский состав на ст. Маньчжурия, уральцы частично проследовали в Приморье в составе вышеназванного Уфимского полка, но большинство, получив отпуска впредь до распоряжения, осело в Харбине.
Остатки 11-й Уральской стрелковой дивизии, сражавшейся на Урале, проделавшие поход через Сибирь под командой генерал-майора Круглевского, служившего ранее во 2-м лейб-гвардии Царскосельском стрелковом полку, по проходе в Забайкалье были свернуты в Уральский стрелковый полк. Так как генерал Круглевский принял Сводную дивизию, то уральцы получили нового начальника – полковника Доможирова, окончившего Казанское пехотное училище офицера производства 1911 г. Весной 1921 г. уральцы последовали за полковником Глудкиным и вышли из состава 3-го стрелкового корпуса. С этого времени судьба Уральского полка неразрывно связалась с судьбой Егерского полка. Полковник Доможиров стал помощником комбрига и начальником штаба бригады. Командиром же Уральского полка очень скоро стал полковник Гампер – ранее служивший в 43-м Сибирском стрелковом полку, а затем в отряде атамана Красильникова. После майского переворота в Уральский полк стали прибывать уральцы – бывшие чины Урало-Алтайского полка, но все же большая часть их до полка не доехала – была задержана в Никольск-Уссурийском и влита в Омский стрелковый полк.
К осени 1921 г. 2-й Уральский стрелковый полк состоял из одной офицерской роты, двух стрелковых, мусульманского пешего эскадрона, эскадрона красильниковцев (пешего), пулеметной роты, команды конных разведчиков и нестроевой роты, всего до 100–150 чинов. Помощником командира полка был полковник Климовских – кадровый офицер. Вообще в этом полку было много интеллигентных офицеров по сравнению с некоторыми другими полками того времени.
Полковым праздником уральцы считали День Александра Невского. Цвет полка был черный – цвет егерского батальона 11-й Уральской дивизии. Погоны черного цвета с красным кантом, такие же петлицы. У офицеров на таких же погонах красные просветы. Бывшие урало-алтайцы ходили также и в своей форме – черные погоны с белым кантом и белыми просветами. Кроме того, уральцы, как чины 1-й стрелковой (Глудкинской) бригады, носили на левом рукаве национальный угол, вершиной вниз.
Летом 1919 г. в Омске подполковник Глудкин стал формировать егерский батальон охраны ставки Верховного главнокомандующего. Позднее этот батальон был развернут в отряд, приравненный по штатам к полку. В сентябре того же года на Тоболе молодой полк получил боевое крещение и покрыл себя славой, разгромив превосходящие силы противника под хутором Рожновским: оказавшись в тяжелом положении из-за отхода соседних частей, полк с честью вышел из положения, не оставив ни одного своего раненого, а их было более ста человек. После этого полковнику Глудкину был придан батальон из состава частей Степной группы, а затем отряд полковника Глудкина развернулся в дивизию, состоящую из двух егерских полков, одного конно-егерского полка и артиллерийского дивизиона. Во время похода через Сибирь полковник Глудкин, искусно маневрируя, провел свой отряд по глухим тропам, разбивая попадавшиеся на пути партизанские отряды. В Забайкалье отряд полковника Глудкина, по сведении в егерский полк, был включен в состав 1-й Сводной дивизии. Егерский полк в это время состоял из двух батальонов и одного конного дивизиона. Непрекращающиеся неудачи, повисшие над Белой армией, не пугали молодого, пылкого, безумно-храброго полковника Глудкина, и вот, по проходе в Приморье, когда каппелевские военачальники не вполне определили линию дальнейшего своего поведения, полковник Глудкин со своим егерским полком выходит из состава 3-го корпуса и присоединяется к частям Гродековской группы войск. К нему присоединяются уральцы, затем уфимские артиллеристы. Полковник Глудкин становится командиром 1-й стрелковой бригады, а свой полк, именующийся теперь 1-м егерским полком, передает своему помощнику – полковнику Александрову, окончившему Александровское пехотное училище и произведенному в офицеры в 1912 г. Помощником последнего становится подполковник Зултан, совсем молодой офицер (в 1917 г. он был еще прапорщиком), но энергичный и дельный. Кроме командира, в полку был еще только один кадровый офицер – адъютант капитан Штихлинг. По сведениям на 1 января 1922 г., в полку состояло по спискам 52 офицера и 239 солдат, но до этого времени полк успел понести потери в походе, а потому осенью 1921 г. состав его, безусловно, был больше человек на тридцать – пятьдесят. Весной 1921 г. во всей 1-й стрелковой бригаде по спискам на 6 марта было 218 офицеров, И чиновников, 719 солдат, 12 женщин и 9 детей, то есть в этих цифрах, кроме егерей, показаны также уральцы и артиллеристы. Одна четверть егерей по национальности была татаро-башкирами, которые плохо выговаривая слово «егерский», коверкали и превращали свой полк в «негринский», а самих себя в «негринцев». К осени 1921 г. полк состоял из трех стрелковых рот, двух пулеметных рот, двух эскадронов (1-го имени Бессмертного и 2-й Алтайский), нестроевой роты, команды связи и комендантской команды. Полковым праздником егерей был День святых Петра и Павла. Егеря имели малиновый погон с зеленым кантом и с витой желтой буквой «Е». На левом рукаве – угол, такой же, как и у уральцев.
После того как полковник Глудкин оказался в начале 1921 г. командиром стрелковой бригады, состоящей из двух пехотных полков и артиллерийского дивизиона, он решил воскресить свой умерший конно-егерский полк. В этих делах из егерского полка были выделены бывшие конно-егеря находившиеся под командой поручика Мещерякова. Они составили в новом 1-м конно-егерском полку первый эскадрон. В это же время к полковнику Глудкину присоединилась группа кавалеристов, находившихся в Приморье еще до прибытия туда частей каппеле-семеновских войск. Эта группа возглавлялась полковником Степановым. Полковник Степанов близко сошелся с полковником Глудкиным и был назначен командиром нового полка, но, так как обе группы оказались чуждыми друг другу, жизнь и порядок в полку налаживались слабо. Летом 1921 г., уже во время нахождения 1-й стрелковой бригады в Спасске, в конно-егерский полк стали вливаться отдельные офицеры и солдаты из Сводно-кавалерийского полка (полковник Козлов). В полку появилась третья группа. Вслед за этим полк понес жестокий удар: во время майского переворота конно-егеря получили коней. В Спасске, из-за недостатка фуража и средств, кони полка, подобно коням других частей, паслись на лугах, вблизи расположения казарм полка. Партизаны, видимо, выследили, произвели налет на табун и угнали всех коней. Конно-егерский полк фактически превратился в пехотную часть. При выступлении в поход он смог выставить всего трех всадников, остальные были пешими. Из-за отсутствия документальных данных и того, что полк не представлял собой единой семьи и каждая из групп жила замкнуто своей собственной жизнью и интересами, не представилось возможным выяснить численный состав полка. По некоторым сведениям, при выступлении на фронт полк дал до 180 человек. Погон – малиновый с желтым кантом.
Летом 1919 г. в Омске стал формироваться Особый отряд, коему предназначалось в будущем установление связи между левофланговыми частями фронта армии адмирала Колчака и правофланговыми частями Добровольческой армии генерала Деникина. Руководящую роль в создаваемых частях должны были играть и играли так называемые южане, то есть чины Добровольческой армии, пробравшиеся в Сибирь с юга России через безводные южнорусские и среднеазиатские степи. Во главе отряда был поставлен южанин – генерал Краморенко. Ко времени окончания формирования частей Особого отряда обстановка на Восточном фронте сложилась уже так, что думать о проведении в жизнь задуманного плана казалось поздно. Поздней осенью 1919 г. Особый отряд, переименованный в Добровольческую дивизию, под командой все того же генерала Краморенко, принял участие в боях, разыгравшихся к востоку от Уральских гор, на терртории Западной Сибири. Добровольческая дивизия состояла фактически из трех (на бумаге четырех) стрелковых добровольческих полков и артиллерийского дивизиона. Приблизительно в это же время к ней был придан Отдельный отряд Бехтерева в составе двух эскадронов и двух рот. Этот отряд был сформирован в августе 1919 г. из чинов различных частей. Во время похода через Сибирь к остаткам Добровольческой дивизии присоединялись группы чинов различных частей, а также мелкие части, например: 4-й батальон морских стрелков, отряд генерала Макри и др.
По проходе добровольцев в Забайкалье дивизия была сведена в бригаду, состоявшую из 1-го Добровольческого полка (остатки 1-го полка), 3-го сводного Добровольческого полка (остатки 2-го, 4-го полков и других частей) и Добровольческого артиллирийского дивизиона – две батареи (1-й командовал молодой подполковник Гайкович). Отряд полковника Бахтерева, сведенный в Отдельный конный дивизион, остался при бригаде. Бригада вошла в состав 2-го корпуса. Генерал Краморенко почти сразу по приходе в Читу уехал из армии, и вскоре (в Нерчинске) бригаду принял генерал-майор Осипов – бывший начальник 7-й Сибирской дивизии. Почти одновременно с этим в командование 3-м полком вступил прибывший из штаба 2-го корпуса полковник Урняж – кадровый офицер. После того как в шелапугинских боях были убиты командир 1-го полка – полковник Зантьев и его помощник, в командование 1-м полком вступил бывший командир 1-го батальона 1-го полка полковник Черкес – совсем молодой офицер.
В марте 1921 г., после съезда командиров частей Белой армии, происходившего в Гродеково, последовал выход из состава 2-го корпуса генерала Осипова и из состава 3-го корпуса полковника Глудкина. К чести командиров и чинов частей, раскол Добровольческой бригады на две части последовал без каких-либо эксцессов. Дело происходило так: на общем собрании чинов бригады после доклада обстановки генерал Осипов (комбриг), полковник Черкес (комполка 1-го), полковник Хромов (комдивизиона Красноуфимского) и подполковник Гайкович (комбатареи) заявили о своем переходе в подчинение к атаману Семенову, а полковник Урняж (комполка 3-го) и полковник Бахтерев (командир конного дивизиона) заявили о том, что остаются в подчинении своего прежнего начальства, то есть каппелевского. Чинам бригады было предложено самим выбрать путь. В результате красноуфимцы и артиллеристы полностью последовали за своими командирами и перешли к атаману Семенову, чины 3-го полка и конного дивизиона остались со своими командирами в подчинении каппелевского командования. 1-й же полк раскололся: все офицеры и часть солдат последовали за своим командиром, другая же часть солдат не пожелала перейти к атаману Семенову, а потому влилась в 3-й полк.
Добровольцы носили черные погоны с красным кантом, офицеры – такие же погоны с красными просветами. На погонах большая прописная буква «Д». Золотых погон офицеры-добровольцы совершенно не носили.
К осени 1921 г. чины бывшей Добровольческой бригады находились в следующих трех частях: 1) 1-й Добровольческий полк, 2) 3-й Добровольческий полк и 3) Отдельная Добровольческая батарея.
1-й Добровольческий полк после ряда мытарств и лишений, которые полку пришлось претерпеть летом 1921 г. ввиду принадлежности его к гродековцам, значительно поредел. В полку находилось всего не более 150 чинов, а потому нет ничего удивительного в том, что командир полка (полковник Черкес) должен был чрезвычайно дорожить каждым лишним человеком и вопрос «численности» был поэтому впереди вопроса «качества». Таким образом, до слияния, уже во время Хабаровского похода, с Отдельным Красноуфимским конным дивизионом полк был слабоват.
3-й Добровольческий полк до майского переворота по спискам насчитывал до 500 чинов, но ко времени выступления в поход осенью 1921 г. в рядах полка осталось всего до 350 бойцов. Следует отметить, что в это число входят также бывшие чины Отдельного конного дивизиона (полковника Бахтерева), который был влит в полк еще до майского переворота. Ко времени выступления в поход 3-й полк, несмотря на то что был сводным, оказался сплоченнее и крепче, нежели 1-й полк. Полк состоял из двух батальонов по три стрелковые роты и третьего сводного батальона – офицерская рота – 60 штыков, конно-разведческого эскадрона – 80 сабель, пулеметной команды – 5 пулеметов (по Покусу) и команды связи. Командиром полка был по-прежнему полковник Урняж, его помощником, который ввиду болезни командира полка прокомандовал полком в течение всей Хабаровской экспедиции, – полковник Бахтерев, командир 1-го батальона полковник Д. (южанин), командир 2-го батальона – полковник Лапаев, командир сводного батальона – подполковник Быков.
Отдельная Добровольческая батарея при выступлении на фронт в ноябре 1921 г. выставила 72 человека и 1 лошадь строевых и 29 нестроевых чинов. Эта батарея была, безусловно, интересной частью: командир, большинство офицеров и часть солдат, правда небольшая, были бывшими воспитанниками кадетских корпусов, в подавляющей своей массе – Омского кадетского корпуса. Кадетский дух, кадетские традиции в этой батарее доминировали, это была дружная, крепко спаянная семья. К этому следует прибавить, что большинство офицеров этой батареи окончили курс артиллерийских училищ, чего нельзя сказать про все остальные батареи белоповстанческих войск, так как в них преобладали пехотные офицеры, служившие в артиллерии с 1918 г. Командиром батареи был молодой, энергичный, неустрашимый подполковник Гайкович (выпуска в офицеры 1915 г.).
В конце 1917 г., по захвате власти в России и в Сибири Советами, есаул Забайкальского казачьего войска Семенов, сорганизовав совсем небольшой отряд, пытался противостоять большевикам на границах Маньчжурии и Забайкалья. К весне 1918 г. этот отряд превратился в ОМО – Особый Маньчжурский отряд. По очищении Забайкалья от красных чешскими, сибирскими частями совместно с отрядом атамана Семенова последний отряд поздней осенью 1918 г. был развернут в Особую Маньчжурскую дивизию. В конце 1920 г. в Гродеково пришли жалкие остатки ее, кои и были сведены в Отдельный Маньчжурский дивизион, командиром которого был совсем молодой, но доблестный полковник Буйвид. К осени 1921 г. в рядах дивизиона находилось до 300 строевых чинов. На малиновых погонах маньчжурцы носили буквы «АС» – атаман Семенов.
По расформировании в 1920 г. Читинского военного училища, созданного атаманом Семеновым и существовавшего с 1918 г., весь командный состав, молодые, только что произведенные в офицеры юнкера старшего курса и юнкера младшего курса были обращены на создание Сводного при ставке Главнокомандующего полка, состоявшего из батальона пехоты, дивизиона конницы и батареи, всего около 600 человек. Естественно, что связанные традициями училища в крепкую воинскую часть, закаленные в походах и боях, чины полка являли собой тот образ воинского чина, к коему должны были стремиться белые бойцы. Принимая участие в боях при отходе Белой армии из Забайкалья в 1920 г., конвойцы понесли большие потери и только в ноябре были отозваны в Маньчжурию на охрану ставки главнокомандующего. По прибытии в декабре 1920 г. в Гродековский район они были сведены в Отдельный конвойный дивизион. 26 мая 1921 г. они принимали участие в захвате белыми Владивостока, причем потеряли 6 человек убитыми и 12 ранеными. Затем, ввиду начавшихся недоразумений между каппелевцами и семеновцами, конвойцы прошли обратно в Гродековский район, где в условиях холода, голода и безденежья, совсем изнуренные, все же продолжали сохранять веру в своих начальников и боеспособность. В это время их было около 350 человек. Командиром дивизиона был полковник Иванов – кадровый офицер-артиллерист. Конвойцы носили такие же погоны, как и маньчжурцы.
В течение июля, августа и сентября 1920 г. в Гродековском районе под крылом Уссурийского казачьего войска был сформирован так называемый Отряд войсковой самообороны. Одну треть строевого состава этого отряда дал Уссурийский казачий дивизион, перекинутый сюда из Забайкалья по приказу атамана Семенова, две другие трети были добровольцы-одиночки – офицеры, юнкера и солдаты различных частей армий адмирала Колчака, оторвавшиеся от своих частей по тем или иным причинам и занесенные военной непогодой в Приморье ранее прихода туда частей белой Дальневосточной армии. В этом числе значительную роль играли бывшие юнкера Школы Нокса на Русском острове (близ Владивостока) благодаря своей сплоченности. Между прочим, ноксовцы доставили в Гродеково знамя школы, которое стало знаменем Отдельного Уссурийского стрелкового дивизиона, как в 1921 г. после ряда развертываний (главным образом на бумаге) и свертываний стали называться три пешие сотни означенной выше войсковой самообороны. К концу 1921 г. в рядах дивизиона насчитывалось от 200 до 250 человек. Командиром дивизиона был хороший строевой офицер полковник Белых.
Вышеперечисленные три дивизиона, совместно с Отдельным Камским конным дивизионом, осенью 1921 г., после отъезда из Гродекова атамана Семенова и реорганизации Гродековской группы войск, составили Отдельную стрелковую бригаду, командиром коей был назначен полковник Буйвид. При выступлении на фронт в самом конце 1921 г. эта бригада, переименованная в Пластунскую, выставила немногим более 1000 бойцов, что приводит к выводу о том, что вместе с нестроевыми чинами численность бригады превышала численность самых больших каппелевских бригад – Ижевско-Воткинской и отряда полковника Аргунова. В 1921 г. эта бригада считалась семеновской, к старшим начальникам и к рядовым чинам каппелевское командование относилось с заметным недоверием, опаской и даже недоброжелательством. Каппелевское командование было бы радо раскассировать эту бригаду, если бы представился случай. Между тем подавляющее большинство чинов этой бригады были бывшими каппелевцами, попавшими в семеновские части исключительно волею судеб, здесь были и ижевцы, и уральцы, и камцы, и уфимцы, и иркутяне и пр. и пр. Процент интеллигентных и полуинтеллигентных лиц в частях этой бригады был, безусловно, выше, нежели в других бригадах Белой армии. В заключение следует указать еще на то, что в частях бригады был образцовый порядок. Солдаты были подтянуты. Распущенности не было заметно.
На уральском фронте белых летом 1919 г. кавалерийских соединений было три: 1-я кавалерийская дивизия, 2-я Уфимская кавалерийская дивизия и Отдельная Волжская кавалерийская бригада. Последняя входила в состав 1-го Волжского стрелкового корпуса. Никаких других кавалерийских соединений (исключая казачьи) ни на фронте, ни в тылу армий адмирала Колчака не было, но почти при каждой дивизии имелись отдельные конные дивизионы.
В 1918 г. в боевой обстановке стали зарождаться и расти молодые полки молодой армии – преемники славы и традиций старых кавалерийских полков: на Волге – Казанский драгунский (быв. Каргопольский), Симбирский уланский (быв. Литовский), Самарский (быв. Александрийский) и Сызранский, в Сибири – Томский гусарский и Иркутский, на Урале – Екатеринбургский и Уфимские, на Дальнем Востоке – Приморский драгунский (быв. Приморский). В конце 1919 г. генерал-лейтенанту Миловичу было поручено сформировать кавалерийский корпус, но, объехав шесть полков (Волжские и Сибирские), генерал Милович пришел к выводу, что из имеющихся нал�
Посвящается памяти русских воинов, за Веру и Отчизну живот свой положивших
Борис Филимонов
Участник событий, офицер-артиллерист
Хабаровский поход
1921–1922 гг.
© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2023
© ЗАО «Центрполиграф», 2023
Предисловие
В конце 1921 г. внимание если не всей России, то, во всяком случае, части ее граждан было приковано к далекому для многих Приморью. В лютый сибирский мороз отряды дотоле никому не ведомых белоповстанцев двинулись на Хабаровск. Он был взят. На границах Амурской области завязалась упорная борьба между белыми повстанческими частями и Народно-революционной армией ДВР. Перевес оказался на стороне красных, и к весне 1922 г. поредевшие белые отряды, испытывая недостаток в огнеприпасах, преследуемые частями Нарревармии, принуждены были отойти в Южно-Уссурийский край, в зону, занятую японскими экспедиционными силами. Этот поход, получивший в рядах белых бойцов наименование Хабаровского, является последним наступлением остатков белых армий Восточного фронта – преступной и заранее обреченной авантюрой, по мнению одних, единым выходом и сплошным подвигом, по мнению других.
Ввиду того что в течение ряда лет в зарубежной русской печати не появилось обстоятельного описания военных действий этой зимы 1921/22 г. в Приморье и восточной части Амурской области, я решил составить таковое. Свою работу начал в ноябре 1928 г. с приведения в порядок имевшихся на руках своих личных записок и сбора различных сведений от друзей. В дальнейшем, с осени 1929 г., к работе я стал привлекать бывших участников похода – чинов различных частей. Работая над составлением описания похода, стремился по возможности основываться на документах и дать беспристрастно правдивую и полную картину минувшего.
Так как исчерпывающих данных на руках у меня не было и подчас приходилось пользоваться недостаточно проверенными, а иногда сбивчивыми и противоречивыми показаниями, естественно, в работе моей могут оказаться упущения и неточности.
6 августа 1931 г., Шанхай
Всем лицам, так или иначе содействовавшим мне в моем труде, приношу свою глубокую благодарность. Особенно же благодарю полковника Генерального штаба Ефимова, Авенира Геннадиевича, уделившего исключительное внимание и положившего немало труда в деле снабжения меня необходимыми материалами, что в период составления книги в значительной мере облегчило выполнение намеченной мной задачи.
Автор
I
Обстановка перед походом
Дальне-Восточная Республика. – Белые в Южном Приморье. – Интервенты. – События осени 1921 г.
Русский Дальний Восток за время Гражданской войны всецело подпал под японское влияние. Правительство адмирала Колчака считало этот край потерянным для России, если не навсегда, то, во всяком случае, на многие годы. Крах белых в Сибири и отказ от продолжения интервенции так называемых союзников поставил лицом к лицу Японию и РСФСР. В своих собственных интересах японское императорское правительство не могло желать и содействовать распространению власти правительства РСФСР по территории русского Дальнего Востока по двум основным причинам: во-первых, это была власть правительства, объединившего под своим контролем почти все земли бывшей Российской державы, правительства, державшегося весьма независимо, и, во-вторых, с появлением представителей и органов правительства РСФСР неразрывно была связана пропаганда коммунистических идей. Так как русские правые и умеренные группировки, продолжая борьбу с большевиками, готовы были на временное обособление русского Дальнего Востока, создание на его территории нового государственного образования – буфера между Японией и РСФСР – удовлетворяло заинтересованные стороны, тем более что правительство РСФСР не считало себя настолько сильным, чтобы вступить в единоборство с Японией. В 1920 г. только крайне левые партии стремились воссоединить русский Дальний Восток с остальной Россией. Целью этого было, конечно, введение края в орбиту советских порядков, но в глазах недостаточно развитого сельского населения и рабочих края эти крайне левые партии выходили как бы охранителями идеи единой неделимой России, а правые и умеренные группировки масса населения считала сторонниками расчленения России. Так смеялась судьба, делая русских националистов белых друзьями чужеземцев и выставляя интернационалистов красных борцами за Родину и Свободу.
Итак, в конце 1920 г. на русском Дальнем Востоке должен был возникнуть буфер. Вначале к участию в строении буфера приглашались все политические партии и все слои населения, но… Попытка организации буфера правыми при участии семеновской Читы провалилась, так как фигура атамана оказалась неприемлемой даже для значительной части руководителей умеренных кругов. Объединение на основах коалиционных при участии всех группировок, за исключением Дальневосточной армии (семеновцы и каппелевцы), не состоялось, ибо чисто большевистское верхнеудинское правительство, опираясь на отряды красных партизан, явочным порядком объявило о принятии власти, а правительства благовещенское и владивостокское подчинились ему и самоликвидировались. История возникновения Дальневосточной Республики (ДВР) подробно изложена в книгах В.Г. Болдырева «Директория, Колчак, интервенты» и С.П. Руднева «При вечерних огнях», а посему желающим ознакомиться с этим вопросом надлежит обращаться к указанным книгам.
За три года смуты крестьяне Дальнего Востока привыкли жить без правительственной опеки. Налоги и повинности потеряли свою обязательность в их глазах. Поборы и ряд насилий, произведенных интервентами и карательными отрядами Калмыкова и Семенова, способствовали успеху красной пропаганды. У населения сложился отрицательный взгляд на белых, и оно ничего не имело против прихода красных. Проповедники единого социалистического фронта обещали свободную жизнь. Крестьянство представило, что истинно народная власть совершенно не будет взимать налогов и требовать повинностей и деревня будет жить сама по себе. Красная власть ДВР считалась народной, а потому велико было недоумение крестьянства, когда новое читинское правительство начало проводить в жизнь на своей территории московские законы и порядки. Загадочный лик долгожданной Свободы начинал проясняться. Невиданные доселе налоги на всякую живность и на продукты, ввозимые в город для продажи на базаре, принудили крестьян призадуматься. Они жались, вздыхали, чесали затылки, но, хочешь не хочешь, налоги платили, ибо власть требовала их неукоснительно. Казаки стали вздыхать главным образом о потере своего привилегированного положения. Между тем комсомол начинал проникать в деревню. Девчата и парни бегали на собрания вместо посиделок – новое, как везде и всегда, было занятно. Кое-где, преимущественно в украинских селениях, позакрывали церкви и выгнали священников. Тем не менее большинство женщин и значительная часть мужчин оставались лояльными церкви и вспоминали о старом мирном времени. Продукты дорожали, особенно в центрах.
Подводя итоги настроениям населения на территории ДВР в конце 1921 г., должно сказать, что, если массы многими мероприятиями новой власти оказались недовольными и к правительству ДВР жители ряда селений относились отрицательно, то все же, в силу ряда причин, население было далеко от мысли о вооруженном выступлении против красных властей. Вместе с тем оно безусловно враждебно относилось к возможности нового появления японцев и со злобой вспоминало о проходе отряда атамана Калмыкова, перепоровшего в свое время многие хохляцкие поселки. Агенты правительства, играя на этом, старались усилить отрицательное отношение населения к белым. Каппелевская армия выставлялась дикой, разнузданной бандой, от которой следовало ждать насилий и зверств, превосходящих калмыковские деяния. И вот при движении белых на Хабаровск крестьяне, оставаясь на местах, встречали белых с опаской, ожидая от них бесчинств.
Не принявшая участия в строительстве соглашательского буфера Дальневосточная (белая) армия под давлением превосходящих сил противника вынуждена была в ноябре 1920 г. оставить последний клочок Забайкалья и отойти за границу. Белой территории более не существовало, и Белая армия, вытесненная из одной области новообразующегося красного буфера, принуждена была искать себе приют в другой области того же буфера, правда находящейся под контролем Японии. Явочным порядком части Белой армии проникли в Южное Приморье, где осели вдоль линии железной дороги от самой границы до ст. Раздольное.
В конце мая 1921 г., при благосклонном нейтралитете японского командования, эти белые захватили Владивосток и произвели переворот в Никольск-Уссурийском и Раздольном. Гродековский же район еще с июля 1920 г. находился вне фактического контроля владивостокского правительства. На другой день после переворота во Владивостоке загорается борьба между двумя белыми группировками (каппелевцами и семеновцами). Эта внутренняя борьба препятствует атаману Семенову вести операции против ДВР в широком масштабе. Отряды барона Унгерна и генерала Сычева, не получая поддержки от главных сил Дальневосточной (белой) армии, погибают. В самом же Приморье белые распространяются на север по хабаровской линии только до ст. Евгеньевка, находящейся в пределах зоны, занятой японскими экспедиционными войсками. Кроме того, белые постепенно занимают Сучанскую железнодорожную ветку, село Владимиро-Александровское, находящееся в заливе Америка, и прибрежный район Барабаш – Посьет. В более чем трехмесячной борьбе новообразовавшегося Временного Приамурского правительства, опиравшегося на каппелевское командование, с атаманом Семеновым победа оказалась на стороне первых, и в середине сентября 1921 г. Гродеково смиряется и подчиняется Временному Приамурскому правительству. Руководящие лица гродековской группировки были принуждены либо оставить пределы Приморья, либо отойти на второстепенные посты, или же, наконец, оставаясь в Приморье, уйти в сторону от активной работы. Таким путем белые пришли к объединению, но авторитет их междоусобиц был значительно потрясен, и в глазах населения они пали так низко, что с ними переставали считаться. Напрасно лучшие из белых кляли недальновидность, корыстность и честолюбие своих «вождей», последние, не желая уступить друг другу власти и кое-какие жалкие средства, не желая подчиниться один другому, дошли до того, что втянули рядовую массу в междоусобицу. Как ни печально, но следует констатировать факт почти настоящего атаманства в частях белых. Порой становилось страшно от мысли: «А что, если кто-либо из этих „вождей“ получает мзду от ДВР за свою работу?»
Во главе Приамурского государственного образования, как официально был назван новый противобольшевистский центр, стояло Временное Приамурское правительство под председательством Спиридона Дионисиевича Меркулова и в составе Николая Дионисиевича Меркулова, Адерсона, Макаревича и Еремеева. Исполнительная власть – Совет управляющих ведомствами. Законодательная власть принадлежала Народному собранию (Нарсобу), члены которого были выбраны от населения Приморья или делегированы различными белыми организациями полосы отчуждения Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Главную роль играли оба брата Меркуловы – местные купцы. Правительство это, опиравшееся на каппелевское командование и каппелевские части, при неофициальной поддержке японского командования, сосредоточило в своих руках жалкие остатки некогда колоссальных российских средств и запасов, находившихся во Владивостоке.
Сельское население Южного Приморья симпатизировало в своей массе красным. Местами это настроение было выражено довольно ярко – Сучанский и Анучинский районы, Полтавская станица. Деревня жила своей собственной жизнью. Быть в ней хозяином правительство не имело ни средств, ни сил. Вот поэтому-то все элементы, более благожелательно или даже безразлично относившиеся к белым, держались в тени и воздерживались от порицания ДВР. Отряды партизан, состоящие главным образом из лиц, присланных из глубины ДВР, и отчасти пополненные партизанами из местных жителей, за пределами тридцативерстной полосы держали весь край в своих руках.
Рабочие в городах не скрывали своих красных настроений и открыто говорили, что скоро сбросят каппелевцев в бухту Золотой Рог. Люди с красными ленточками и бантами появлялись и свободно разгуливали по окраинам Владивостока и Никольска. На центральных улицах Владивостока задевали и оскорбляли офицеров. В Ново-Никольском (село в девяти верстах от г. Никольск-Уссурийского) красные терроризировали одну из невооруженных белых частей настолько, что это явилось причиной ухода ее из вышеназванного села. На сучанских рудниках развевался флаг ДВР.
Средние классы, как это было во всю русскую революцию, держались незаметно и тихо. В душе симпатизируя белым, они старались об этом не проговориться, так как «все может случиться». Попадались одиночные экзальтированные, которые кричали о белом движении и о дорогих «наших воинах», но это были единицы. Никто серьезно не верил в успех белых.
Итак, только бойцы белых частей да беженцы из Поволжья, Сибири и с Урала признавали себя гражданами белого государственного образования. Реальной белой силой являлись только солдаты обеих белых группировок, люди, которые носили в это время официальное наименование «резерва милиции». Говоря о белых, еще раз следует указать наличие непрекратившейся вражды между частями белых группировок (семеновской и каппелевской), хотя одна из них принуждена была подчиниться правительству, поддерживаемому другой группировкой. Больше того, не приходится говорить и о полном единении каппелевцев с правительством. Последнее состояло из местных людей, совершенно чуждых и неизвестных каппелевцам.
Истинными господами положения в Южном Приморье были японцы. В конце 1918 г. Япония, под предлогом содействия русским властям (белым), а позднее в целях обеспечения жизни ее граждан и сохранности их имущества заняла и удерживала все железнодорожные линии русского Дальнего Востока. Значение японских экспедиционных войск весьма велико. Не нужно забывать, что ликвидация атаманской Читы отрядом генерала Волкова в свое время не состоялась исключительно благодаря вмешательству японцев. В 1920 г., когда все союзные державы прекратили интервенцию, Япония одна продолжала удерживать за собой Уссурийскую, Восточную Китайскую и часть Забайкальской железной дороги, а также район Николаевска-на-Амуре. Осенью 1920 г. Япония сократила зону, занимаемую ее войсками, а именно за ней остались только Южно-Уссурийский и Николаевский районы.
Осенью 1921 г. экспедиционные японские войска в Южно-Уссурийском районе (8-я и 11-я пехотные дивизии, всего до 17 000 штыков под командой генерала Точибана) занимали линии железных дорог: Владивосток – разъезд Рассыпная Падь (перед ст. Пограничная), ст. Никольск-Уссурий-ский – ст. Шмаковка (в сторону Хабаровска), ст. Угольная – ст. Сучан. Кроме того, в стороне от железнодорожных линий японцы занимали: село Ивановка (по Анучинскому тракту), село Владимиро-Александровское (близ устья реки Сучан), пост Посьет (близ границ Кореи). Под их контролем находилась так называемая тридцативерстная полоса. Главные силы японских войск были сосредоточены в самом Владивостоке, его предместьях и окрестностях, затем следовали гарнизоны Никольск-Уссурийского, Спасска и Раздольного. На ст. Евгеньевка, что при городе Спасске, всегда находились два-три японских бронепоезда, в том числе небезызвестный «Орлик», забранный русскими частями у германцев, позднее отбитый чехами у большевиков и, наконец, перешедший «по наследству» от чехов в японцам. Кроме указанных четырех больших гарнизонов, в ряде пунктов по линиям железных дорог были разбросаны незначительные гарнизоны силой от одного батальона до взвода. Охрана железнодорожных линий лежала на этих частях. Все мосты, водокачки, станции и разъезды были обнесены крепкими и надежными проволочными заграждениями, за которыми были вырыты хорошо оборудованные окопы для стрельбы стоя. Тут же, обложенные мешками, находились бараки-землянки. Вообще японцы устраивались крепко и делали все солидно и прочно. Следует отметить, что из всех интервентов японские офицеры и солдаты оказались наиболее дисциплинированными и выдержанными. Солдаты не шатались зря вне расположения частей, а японские казармы были безукоризненно чисты.
Оставшиеся нейтральными во время захвата Приморья красными в феврале 1920 г. японцы скоро убедились, что ладить с красными невозможно. Николаевские события привели к вооруженному выступлению японцев по всей линии Владивосток – Хабаровск. Красные части были разбиты, частично разоружены или отброшены в сопки. Восстановления власти белых не последовало, но командующий японскими экспедиционными силами (генерал Оой) заключил особое соглашение с новым командующим русскими (красными) войсками Приморской земской управы (тов. Болдырев), по которому русские не имели права держать свои части ни в городах, ни в каких-либо других пунктах по линиям железных дорог, а также и в районе, прилегающем к этим железным дорогам линиям на пятнадцать верст в ту и другую сторону от них. Исключение было дано небольшому, строго ограниченному количеству так называемого «резерва милиции». На каждую винтовку, пулемет, револьвер требовалось специальное удостоверение за подписью и печатью штаба японской дивизии. Артиллерии русским не полагалось. Почти все русские склады оказались под контролем японцев, и выдача требуемого происходила по ордерам особой «согласительной комиссии». Короче – Приморье оказалось в руках Японии, и интервенция превратилась в оккупацию, хотя последнее слово не было громко сказано.
Апрельское соглашение оставалось в силе до осени 1922 г., когда последовала полная эвакуация японских войск из Приморья. Осенью 1920 г., когда японцы сократили занятый ими район, пункт соглашения, касающийся территории, занятой интервентами, был несколько изменен: нейтральная полоса перенесена. Ее северной границей становилась река Иман, южная проходила через ст. Шмаковка. В нейтральной полосе обе стороны не имели права держать воинских частей, но контроль над этой полосой был необходим. В результате над южной частью нейтральной полосы (от ст. Шмаковка до реки Уссури) был установлен японский контроль, а над северной частью (от реки Уссури до реки Иман) контроль перешел к ДВР.
Даже такое краткое описание дает ясную картину положения заинтересованных сторон. Роль и значение японцев очевидно, и так же очевидна необходимость тов. Антонову, атаману Семенову и братьям Меркуловым не только считаться с желаниями японского командования, почти что испрашивать у него соизволения на проведение в жизнь того или иного положения. Артачащееся правительство могло в любое время ожидать выступления «населения» против него, в результате чего правительство, безусловно, было бы сметено, а от японского командования по этому поводу оставалось услышать классическую фразу: «Нашему командованию нициво не извецно».
Прибытие частей Белой армии в Приморье не изменило положения. Переходя границу Битая в районе ст. Маньчжурия, белые части сдали все свое оружие китайцам с тем условием, что оно будет возвращено армии на ст. Пограничная, после перехода полосы отчуждения КВЖД. Это оружие возвращено не было. Белая армия прибыла в Приморье без оружия, только отдельные лица провезли оружие. Между прочим, тайком провез егерский полк по приказу своего командира – полковника Глудкина. Егеря провезли 125 винтовок и 5 пулеметов.
До майского переворота 1921 г. резерв милиции состоял из красных. После переворота резервом милиции стали каппелевцы. В белые части, далеко на неполный состав, были выданы винтовки. Орудий, конечно, белым японцы не выдали, и артиллерийские части белых фактически представляли пехоту. Конского состава в частях осталось совсем немного, ибо он был распродан в полосе отчуждения. Из-за продолжительной бескормицы оставшиеся немногие кони находились в скверном состоянии. Итак, силы Временного Приамурского правительства состояли из невооруженных пеших солдат, но правительство надеялось со временем получить от японцев необходимое оружие. Последние смотрели на некоторый излишек оружия у русских (белых) сквозь пальцы, хотя это, конечно, шло вразрез с условиями апрельского соглашения.
ДВР, не настолько сильная, чтобы бороться с Японией, молча уступала белым Южное Приморье в мае 1921 г., но междоусобная борьба, беспорядок, воцарившийся по этой причине, указали на болезненность этой вспышки противо-большевистского движения, и ДВР стала готовить почву для восстановления своей власти во Владивостоке и его районе. В конце сентября 1921 г. деятельность агентов правительства ДВР настолько усилилилась, что общественное мнение Владивостока и Никольска, не сомневаясь в возвращении красных, гадало только о времени водворения Антонова и партизан во Владивостоке. Кабинет белого правительства в это время все еще формировался, а в Дайрене тем временем созывалась конференция ДВР в Японии. Судьбы же вообще всего Дальнего Востока должны были решиться на конференции держав в далеком Вашингтоне. Временное Приамурское правительство к началу октября наметило своего делегата для посылки в Вашингтон. Этой посылкой хотели как бы прорубить окно в мир, хотели верить и надеяться, что великие державы, услышав глас белого делегата, не позволят ДВР проглотить Владивосток. Посылка и речи делегата имели бы цену лишь в том случае, если бы радио одновременно с ними принесло благоприятные для белых известия. Красные же, принимая во внимание в первую очередь конференцию в Дайрене, также развивают свою деятельность. Итак, японцы и белые русские являются союзниками, их враг – ДВР.
2 сентября во Владивостоке произошло кровавое столкновение между членами Союза грузчиков (местные рабочие) и Владивостокской трудовой артелью (элемент пришлый, главным образом каппелевцы) при погрузке и перевалке резины на пароход «Шинью». Это столкновение произошло не в результате работы политических агентов той или иной стороны, но разыгралось исключительно на почве получения заработка.
1 октября по Владивостоку распространилась весть о наступлении красных на Спасск. Она совпала с распоряжением правительства об эвакуации семейств военнослужащих из этого городка. Приблизительно в это же время красные партизаны утвердились в Полтавском районе. В.Г. Болдырев в своих записках занес это под 4 октября. Время для белых надвигается тяжелое, и приезд в эти дни группы так называемых врангелевцев, прибывших на пароходе «Франц-Фердинанд» из Месопотамии, не может скрасить положения. Красные агенты готовят переворот во Владивостоке. Об этом белая власть уже знает, но точная дата намеченного переворота пока еще остается неизвестной. Как контрмера против все усиливающейся деятельности красных 10 октября генерал-лейтенант Вержбицкий назначается управляющим Военно-морским ведомством Временного Приамурского правительства. Оппозиция семеновцев в это время была еще сильна, и приказ этот во многих частях был встречен с неудовольствием.
Не довольствуясь нажимом извне, красные принялись за внутреннюю работу. Во владивостокскую контрразведку белых стали поступать сведения, что во Владивостоке готовится выступление большевиков. Было известно, что в городе находится тов. Цейтлин – один из виднейших коммунистов на Дальнем Востоке. Тов. Цейтлин руководит всей работой, во Владивостоке уже восстановлены руководящие, центральные органы большевиков, из центра (Читы) получены деньги и инструкции, и уже формируются боевые дружины из грузчиков и рабочих. Однако белой контрразведке не удавалось напасть на следы главных руководителей готовящегося переворота. Настроение во Владивостоке стало тревожное, многие преувеличивали опасность, но то, что в 1919 г., благодаря сочувствию масс, выходило у большевиков в том же Владивостоке само собой, теперь они должны были создавать искусственно. Наконец белые раскрыли организацию тов. Цейтлина и в ночь на 17 октября (это число дает В.Г. Болдырев; С.П. Руднев указывает ночь на 19 октября, а Н.Ю. Фомин показывает 29 октября) на Эгершель-де в квартире старшего врача переселенческой больницы А.Б. Моисеева белая контрразведка накрывает главных конспираторов и при попытке скрыться главный из них – тов. Цейтлин платится жизнью. Красный переворот сорвался. Как оказалось, он был назначен на 18 ноября. После смерти тов. Цейтлина организация большевиков развалилась, ибо центральный руководящий орган был уничтожен и надо было создавать все вновь, но на это нужны были деньги и время. Людей же подобных тов. Цейтлину на месте не было, а в Чите не находилось больше желающих выехать из центра и отправиться на работу в самое гнездо белых. Деньги Чита также отпускала осторожно, и давались они только тем, кому центр верил. Владивостокские же красные организации после провала Цейтлина попали в немилость. Но своей работы ДВР во Владивостокском районе не прекращает, продолжая снабжать партизан деньгами, оружием и руководителями. По мере своих сил белые борются с этим. В двадцатых числах сентября белое правительство узнало о том, что из Шанхая готовятся выйти в Петропавловск на Камчатке оставшийся в распоряжении ДВР «Адмирал Завойко» и зафрахтованный правительством ДВР английский пароход «Ральф Моллер». Корабли, имея на борту уполномоченных ДВР, должны были доставить на Камчатку оружие, боевые припасы, обмундирование, продовольствие и прочие грузы, предназначенные для местных красных отрядов. 26 сентября из Владивостока вышел белый корабль «Батарея». Командиру его были даны инструкции держаться вблизи Сангарского пролива и постараться не дать этим судам пройти на Камчатку. Уже по выходе «Батареи» из Владивостока было получено сообщение, что из Шанхая вышел один «Ральф Моллер», о чем командиру «Батареи» капитану 1-го ранга Петровскому было дано знать в Хакодате, куда он заходил за углем. 8 октября (дата по бумагам капитана 1-го ранга Фомина, С.П. Руднев в своей книге указывает 28 октября) «Батарея» заметила в море вблизи японского порта Муроран пароход, похожий по описанию на «Ральф Моллер», и начала преследовать его. «Ральф Моллер», видя близость границы территориальных вод, повернул к берегу и, пользуясь преимуществом своего хода, старался ускользнуть от преследования. Выстрелом под нос из 47-миллиметрового орудия с «Батареи» «Ральф Моллер» был остановлен, но, к сожалению, на самой границе территориальных вод. Командир его, учтя свое положение, отказался исполнить приказ командира «Батареи» следовать за ним, вновь повернул к берегу и встал на якорь около японского города Муроран. Опасаясь осложнений с японцами, командир «Батареи» больше не стрелял, но последовал за «Ральфом Моллером» и встал на якорь вплотную к нему. Прибыли японские местные власти и осведомились о причинах стрельбы. Вслед за тем пришли два японских миноносца, а через три дня чиновник английского посольства в Токио. Капитан 1-го ранга Петровский, указывая на наличие на «Ральфе Моллере» оружия и военных грузов, требовал передачи их себе, а также выдачи большевистских комиссаров. В этом ему было отказано. Тогда капитан 1-го ранга Петровский объявил, что он будет следовать за «Ральфом Моллером», куда бы тот ни пошел. Иностранцам пришлось идти на уступки, и в результате было достигнуто соглашение, по которому большевикам разрешался отъезд в Шанхай, оружие и обмундирование были задержаны японцами, а остальной груз подлежал свозу на берег и продаже с аукциона. Командир «Батареи» принужден был согласиться на это, так как таким образом план красных был сорван. Не следует забывать, что особенно упрямиться ему не приходилось, потому что за ним не стояло никакой силы, кроме собственной твердости и решимости и того уважения, которое он вызвал к себе со стороны иностранцев своими действиями. После этой операции Временное Приамурское правительство впервые почувствовало значение морской силы для себя. Об этом случае иностранная печать говорила больше, чем о самом перевороте во Владивостоке, и многие только тогда узнали о самом существовании белого центра в Приморье и о том, что в его распоряжении есть военные корабли, плавающие под Андреевским флагом.
По неизвестным причинам отправка делегата на Вашингтонскую конференцию отпала окончательно 26 октября – так пишет В.Г. Болдырев. 30 октября радио из Петропавловска на Камчатке сообщило о занятии последнего отрядом есаула Бочкарева (у С.П. Руднева это датируется 10 сентября, но, надо полагать, в данном случае г. Руднев делает грубую ошибку). 12 ноября во Владивосток пришло известие о выезде в Дайрен главкома ДВР тов. Блюхера.
II
Театр военных действий
Поверхность Амурского края и Приморья. – Пути сообщения. – Климатические особенности. – Население. – Особенности военных действий в горах. – Некоторые статистические данные. – Заключение
Театром военных действий в предстоящем столкновении белых и красных на Дальнем Востоке должна была стать южная часть Приморской области, но волею судеб все тяготы Гражданской войны пришлось испытать всему Уссурийскому краю и юго-восточной части Амурской области.
В орографическом отношении территория, на которой разыгралась гроза военная, подразделяется на два района: Уссурийский и Амурский.
Под Уссурийским краем понимается большая часть Приморской области, прилежащая к правому берегу реки Уссури, ее притокам, вдоль русского побережья озера Ханка, реки Суйфуну. Пространство, занимаемое Уссурийским краем, равно приблизительно 201 тыс. квадратных верст.
Амурский район, протягиваясь вдоль левого берега реки Амур, от левого притока его – Бурей, полосой от ста до ста пятидесяти верст ниже Хабаровска, захватывает оба берега Амура, то есть этот район занимает юго-восточную часть Амурской области и северо-западную часть Приморской.
По рельефу как Уссурийский край, так и означенный Амурский район представляют собой местность гористую. Равнинные и низменные места встречаются лишь по берегам самого Амура, около озера Ханка и по речным долинам. Амурский район в левобережной части своей покрыт разветвлениями гор Малого Хингана, служащих водоразделами рек бассейна Амура, а вся правобережная часть Уссурийского края покрыта отрогами гор Господних (Сихотэ-Алинь), главный хребет которых вступает в край с юга, из Маньчжурии, и тянется вдоль побережья Японского моря, приблизительно на расстоянии одной трети от побережья Великого океана до реки Уссури. Дикий, но удобопроходимый во многих местах, хребет гор Господних наполняет своими разветвлениями всю страну. Главная ось гор Господних имеет меньшую высоту, чем ее боковые отростки. Скаты ее к морю очень часто оканчиваются отвесными береговыми утесами. Долины между скатами не широки и не глубоки, а потому неудобны для заселения. Западные отроги менее круты и длиннее восточных. Наполняя всю северную часть страны до реки Уссури, они делают этот район гористее Южно-Уссурийского. Из отрогов гор Господних заслуживает особого внимания хребет Хихцир, заполняющий местность между реками Уссури и Кией и протягивающийся по параллели к югу от главного политического и административного центра – города Хабаровска. В южной части Приморья, в районе озера Ханка гор нет совершенно, за исключением отдельных сопок. Само озеро Ханка в частях, принадлежащих России, окружено плохопроходимыми болотами. Название Ханка происходит от китайского слова «Хан-Хай», что значит Средиземное море, но, вопреки своему громкому имени, оно представляет собой типичное мелководное озеро. Глубина его нигде не превышает 14 аршин, но во время летних ливней Ханка действительно напоминает море. В обыкновенное время по озеру можно идти на расстоянии версты, нигде не находя более 30 сантиметров воды. В период дождей озеро, заливая низины, занимает громадные размеры. Оно весьма бурливо, и малая глубина его при сильной бурливости служит большим препятствием для развития судоходства. В водах озера Ханка водится много рыбы, достигающей очень часто громадных размеров, например, калуга достигает 30 пудов при длине более двух сажен. Следует указать, что все реки края богаты красной и белой рыбой и до занятия края русскими на реке Уссури был слышен шум от плавников кишащей в таком множестве рыбы. После Уссури одна из главных рек в крае – Суйфун. По долине его расположено значительное русское население. На протяжении 60 верст Суйфун судоходен. В среднюю воду ширина его от 100 до 150 сажен. Течение быстрое. Хотя страна изобилует множеством минеральных богатств, они совершенно не разрабатываются, за исключением Сучана. В некоторых других пунктах разработка производится, но в чрезвычайно малом масштабе.
Преобладающая почва Приморья – суглинок. Вследствие плохой всасывающей способности подпочвы – глинистой или суглинистой – большие площади многих местностей заболочены. Болота встречаются даже на возвышенностях и горах. Во время дождей суглинистая почва обращается в липкую грязь, а в летние жары, высыхая и размельчаясь, образует пыль. Благодаря глинистой подпочве приходится встречать нередко в колодцах мутную воду, желтоватого или беловатого цвета. Между тем колодцы в деле водоснабжения занимают видное место, так как в малоснежные зимы много речек и ручьев промерзают до дна, что, конечно, уничтожает возможность воспользоваться ими. Однако в некоторых местностях, главным образом в Уссурийском районе, водоснабжение находится исключительно в хороших условиях, и во многих селениях, расположенных по берегам быстрых, горных рек, жители пользуются свежей, кристально чистой водой.
Огромные дремучие леса (тайга), покрывающие край, за исключением нескольких участков, насчитывают массу пород, свойственных Амуру, Северо-Восточной Азии, Камчатке, Северной Америке и теплым частям Японии и Китая. Леса чередуются с густыми подлесками. Леса страны не похожи на европейские подлесья и ничего не имеют общего с дубравами Европы, которые кажутся ничтожными по сравнению с приамурскими. Густота растительности в лесах края настолько велика, что перед чащей иногда бывает бессилен даже топор, и лишь один огонь только в состоянии разрушить сплошную живую стену сплетшихся растений. Травянистая растительность достигает 10 футов в вышину. Чащи травянистой растительности переплетаются сетью лиан дикого винограда и бывают трудно проходимы.
Пути сообщения в крае развиты слабо, а потому в этом отношении большую роль играют реки. О железнодорожной сети говорить не приходится, можно говорить только о железнодорожных линиях: восточном участке Амурской железной дороги, Уссурийской железной дороге, ветке от Никольск-Уссурийского до ст. Пограничная и ветке Сучанской. Протяжение Уссурийской желдороги от Хабаровска до Владивостока равно 716 верстам. Уссурийская железная дорога соединяется с Амурской мостом через реку Амур, но в описываемое время этот мост частично был разрушен, а потому не мог быть использован. Общее протяжение Сучанской ветки (от ст. Угольная до ст. Сучан) равно 150 верстам, причем часть ее широкой колеи, а часть узкой. На участке Владивосток – Никольск-Уссурийский линия в две колеи, на всем остальном протяжении Уссурийской и Амурской железных дорог – одна колея. Таким образом, весь театр военных действий перерезывается одной сплошной линией желдороги.
Благодаря извилистости горного рельефа, множеству горных речек и ручьев, заболачивающих свои долины в период дождей (июль и август), дороги становятся или вовсе не проходимыми или трудно проходимыми. В сущности, во всем Уссурийском крае имеется только два удовлетворительных тракта: Никольск – Анучино и Раздольное – Посьет. Тракт Никольск – Камень – Рыболов страдает от частых наводнений, а после дождей проезд на многих участках становится невозможным. Все остальные грунтовые пути края надо считать мало проездными. Грунтовые пути Амурского района по степени проходимости значительно превосходят пути Уссурийского района. Из них следует отметить: 1) тракт, идущий вдоль линии желдороги Покровка – Волочаевка – Ин и далее на запад; 2) так называемый Благовещенский тракт, идущий вдоль левого берега Амура; 3) дорогу Хабаровск— Лохасу-су и 4) Хабаровск – Вятское. В горной части Уссурийского края, где местность суше и носит несколько степной характер, дороги немного лучше, но на севере, покрытом лесами и болотами, дороги находятся в ужасном состоянии. Именно такими являются пути, идущие вдоль Уссурийской железной дороги, а между тем эти пути имеют важное стратегическое значение в предстоящих операциях. Дороги, идущие на восток от железной дороги, от ст. Евгеньевка, Иман, Дормидоновка, Хор, Верино и т. д., в дождливое время непроходимы ни на колесах, ни верхом. В описываемое время даже вышеуказанные выделенные дороги вследствие отсутствия ремонта в течение продолжительного времени находились в сильно запущенном состоянии, и нередко войска при своем продвижении должны были останавливаться перед провалившимися мостиками, промоями и с большим трудом и тратой времени налаживать объезд повреждений.
Зимой, когда лед сковывает реки и болотистые пространства, пути сообщения значительно улучшаются. Река Уссури как коммуникационная линия приобретает значительную, если не главную, роль для наступающего, который в большинстве случаев лишен возможности сразу же воспользоваться захваченным участком желдороги из-за разрушений, произведенных отступающим. Уссури берет начало в горах Господних, вытекая оттуда в виде двух рек, из которых Уля-хэ должна быть признана главной, а Даубихэ – второстепенной. Как та, так и другая – реки горные. Уссури первоначально течет по довольно открытой долине и имеет ширину в среднюю воду от 50 до 100 сажен. Приняв в себя из озера Ханка реку Сунгачь, она расширяется и становится более спокойной и часто разбивается на рукава. После принятия значительных рек: Иман, Бикин, Хор – Уссури делается многоводной и часто разделяется на многочисленные протоки. При устье своем она достигает двух верст. Все течение ее равно 850 верстам. В верхнем течении Уссури преобладают равнины с обширными лугами и болотистыми низменностями. В среднем течении, несколько выше Бикина, ее окружают горы, спускающиеся крутыми уступами к самой воде. В нижнем течении снова появляются равнины. Долина реки Имана, особенно в верхней части своей, более или менее заселена. Долины рек Алчана и Бикина годны для заселения, но не заселены. По реке Хор открытых мест не встречается – всюду сплошная тайга. Река Уссури судоходна на протяжении 700 верст. Препятствия к плаванию встречаются только на перекатах да в мелководье. В мелководные года в самых мелких местах реки глубина бывает менее двух футов, и пароходство тогда на некоторое время должно приостанавливаться.
В климатическом отношении Приморье (как Уссурийский, так и Амурский районы) относится к числу особенных местностей Сибири. В то время как годовые средние температуры Приморья соответствуют северной части европейской России, средние годовые температуры января Приморья оказываются гораздо ниже таковых крайнего севера Архангельской губернии, а средняя годовая температура июля соответствует Кавказу и Крыму. В общем зима характеризуется сильнейшими морозами, очень часто доходящими до 35–40 градусов по Реомюру. В прибрежных полосах зима несколько теплее, но «тайфуны» (ветры) дают себя знать, а потому это мало меняет суть дела.
Еще большие колебания по временам года дают осадки. Средняя величина их не представляет ничего особенного (400–600 миллиметров), но дело в том, что до 270 миллиметров падает на дождливые месяца – июль и август. В период зимних месяцев иногда осадков не бывает совсем.
Лучшим временем года считается в крае осень – ясная и умеренно теплая. Начало ее падает на первые числа сентября, и продолжается она два месяца. Снега, как указано выше, выпадают весьма неровно: иногда они покрывают землю слоем не толще 1–2 четвертей аршина, иногда от одного до полутора аршин глубины. Вследствие постоянства лютых морозов снега чрезвычайно сухи и сыпучи. Подобно песку, они переносятся с места на место даже слабым ветром. При сильном движении воздуха – снежная буря. Зимой, в противоположность влажному лету, воздух чрезвычайно сух. В районе Хабаровска зима продолжается около 172 дней, в средней части приморской полосы – 139 дней, в Камень-Рыболове – 138 дней. Последние весенние заморозки оканчиваются в апреле и даже мае. Весна, предшествуемая сильной пургой, представляющей собой соединение метели, вьюги и шторма. Пурга господствует иногда до половины апреля. Из особенностей весны должно отметить незаметное разлитие рек. Густые туманы и холодные ветры, поднимающие ужасную пыль, делают весну неприятным временем года. Разница в климате южных и северных частей края незначительна. Вследствие сильных и постоянных холодов как в зимние, так и в вешние дни реки края бывают покрыты льдом на несколько месяцев. Главная водная артерия – Уссури замерзает в начале ноября и вскрывается в начале апреля. Следует отметить, что река Хор – вследствие быстрого и бурного течения местами не замерзает.
Ко всему этому следует добавить метеорологическую особенность Приморья – периодическую смену ветров: летом теплый и влажный с юго-востока, осенью и зимой постоянный холодный и сухой северный и северо-западный. В Амурском районе зимы более тихие, нежели в Уссурийском.
По данным сельскохозяйственной переписи осени 1923 г., в сельских местностях Дальнего Востока количество населения в Приморской и Амурской губерниях равнялось 1 026 575 человек. В это число не включены инородцы, проживающие в отдаленных таежных местностях, и воинские части. Процент городского населения к населению сельских местностей равен 30,6, в городах проживает 306 040 человек, и в сельских местностях – 720 535 человек. Если к вышеозначенной цифре 1 026 575 человек прибавить 30 000 человек, оставивших Приморье осенью 1922 г. при занятии Южно-Уссурийского района красными, то полученная цифра в 1 060 000 человек даст приблизительно верное представление о населении Приморской и Амурской областей осенью 1921 г. накануне описываемого ниже так называемого Хабаровского похода. Таким образом, густота населения в означенных областях совсем незначительна. Она редко где превышает одного жителя на один квадратный километр. Населенные пункты группируются преимущественно около главнейших путей сообщения по рекам Амуру, Уссури, Бурее, Суйфуну, Даубихэ, Иману и вдоль линий железных дорог. По берегам моря, в средней и северной части края большей частью встречаются безлюдные пространства. Наиболее густо заселены Приханкайская котловина, районы Благовещенский и Суйфунский.
Главную массу населения края составляют русские (великороссы, украинцы и белоруссы), их в крае насчитывается 80,4 %, причем в Уссурийском крае преобладающее большинство – переселенцы-украинцы, а в Амурском крае – наоборот, преобладают переселенцы-великороссы. Первые русские появились в крае в 1858 г. и основали военное поселение Хабаровку, ныне город Хабаровск. До 1883 г. переселение шло в Уссурийском крае с севера на юг, после чего стало производиться с юга на север, так как из отчизны ехали морем. С 1895 г. переселение возобновилось сухопутным путем, по железной дороге через Никольск-Уссурийский. Первыми населенниками Уссурийского края были забайкальские казаки, основавшие 23 станицы, причем самым южным поселком был Марковский, лежащий на реке Сун-гачь. В 1859 г. часть первых поселенцев, прибывших в район Хабаровска, пробралась на озеро Ханка, где основали деревни Турий Рог в 1865 г., Астраханку и Никольское (теперь город Никольск-Уссурийский) в 1866 г. Число первоначальных жителей Никольского села равнялось 19 семействам – уроженцам Астраханской и Воронежской губерний. Попытка быстро заселить берега Японского моря с помощью Удельного ведомства в период 1867–1871 гг. окончилась полной неудачей. С 1883 г. началось более интенсивное переселение, стали производиться отправки казеннокоштных и своекоштных переселенцев. В 1895 г. в целях расширения Уссурийского казачьего войска прибыли донские и оренбургские переселенцы-казаки. С 1901 г. надел семьи равнялся 15 десятинам.
Иностранных подданных различных национальностей в 1923 г. насчитывалось до 55 000 человек. Большинство из них китайцы, приезжающие в Приморье для заработка обыкновенно без семейств. Кроме мирных китайцев имеется также много хунхузов – профессиональных разбойников. Хунхузы наводят панический страх на мирных китайцев, орочен, гольдов и корейцев. Во время революции они окончательно обнаглели, и русские поселки стали также дрожать перед ними. Борьба с хунхузами чрезвычайно трудна, так как по виду они ничем не отличаются от мирных китайцев, а последние, терроризированные хунхузами, боятся выдать разбойников, которые живут между ними. Китайцы составляют 10 % всего населения края. Китайцы в России имеют свое собственное самоуправление.
Тунгусские племена: маньчжуры, гольды, орочены – у русских, подобно китайцам, носят общее наименование «манзы», что в переводе на русский язык означает вольный человек. Манзы отличные проводники, географию края они знают до мелочей, и им известны такие тропы, о которых никто не подозревает. Гольды живут по Уссури и Даубихэ, внешним своим видом они очень похожи на китайцев. Их домашний образ жизни также мало чем отличается от китайского. Орочены же встречаются преимущественно по верховьям правых притоков Уссури и по всему побережью. Поселки или деревни китайцев, маньчжур, гольдов и орочен состоят из нескольких фанз, расположенных в одиночку, выстроенных на один и тот же образец. По наружным бокам фанзы находятся пристройки для загона скота, склада хлеба и всевозможных вещей.
Корейцев в крае всего 2,9 % населения. Первые переселенцы прибыли из Кореи в 1863 г. – 12 семейств. Наибольшее число эмигрантов, около 7000 человек, прибыло в 1869 г. Массовые переселения корейцев были невыгодны для России, и с 1884 г. особое соглашение ограничило переселение. Революция смела все соглашения, и корейцы бурным потоком хлынули в Посьетский район. Корейцы весьма трудолюбивы и энергичны. Живут они в фанзах, похожих на китайские. Ряд фанз, расположенных на сотню и более шагов, составляет корейскую деревню. В пространстве между фанзами находятся обработанные поля.
Вслед за корейцами в процентном отношении следуют: евреи – 1,7 %, поляки – 1,6 %, татары – 1 %, латыши – 0,5 %, немцы – 0,3 %, литовцы – 0,2 %, японцы – 0,2 %, на прочие национальности падает 1,2 %. Японцы в крае появились после водворения русских. Проживают они в городах и занимаются торговлей, промышленностью и разными промыслами. Вместе с мужчинами на заработки приезжают и женщины-японки. Культурность, аккуратность, ловкость и вкус японцев делают их элементом, стоящим на одной ступени с представителями народов белой расы. Имеются в Приморье переселенцы также и из Финляндии, прибыли они в 1869 г., но их немного.
В возрастно-половом отношении мужчины превышают женщин: за исключением города Благовещенска, где на 100 мужчин приходится 95,1 женщина, в крае на 100 мужчин приходится только 87,4 женщины.
В религиозном отношении в среде русских православные превышают старообрядцев, штундистов, молокан и различных сектантов.
На 1000 душ населения обоего пола приходится 449 самодеятельных, 351 несамодеятельный и 200 детей до 10 лет.
По социальному положению главнейшей группой являются крестьяне казаки и батраки – всего до 700 000 человек, за ними следуют русские рабочие – 24 890 человек, потом рабочие желтой расы – 20 000 человек, русские служащие – 18 700 человек, служащие желтой расы – 3600 человек, прислуга русская – 4800 человек, прислуга желтой расы – 3600 человек, хозяев в городах русских – 11 200 человек, хозяев в городах желтой расы – 6200 человек, лиц свободных профессий – до 1000 человек и т. д. Наибольшее число рабочих падает на Владивосток и Никольск-Уссурийский. Главную массу рабочих, до одной четверти, составляют рабочие местного транспорта, на втором месте стоит группа железнодорожников, на третьем – металлисты.
По грамотности население края очень близко к грамотности Малороссии – на 100 человек приходится 56,8 грамотного.
Главным занятием жителей края является земледелие, побочными – охота, рыболовство, работы на золотых приисках, каменноугольных копях и лесных промыслах. Продуктами земледелия служат: яровая пшеница, овес, рожь (ярица), гречиха, ячмень. Кроме того, в Амурской области – просо, а в Уссурийском крае – чумиза, рис, бобы, кукуруза, буда, горох, судза, табак, лен, конопля, просо и картофель. Урожайность Приморья в общем удовлетворительная, но все же главного продукта питания – хлеба – местному населению едва хватает на его годовую потребность. Скотоводство развито в крае довольно широко. Лошади, крупный рогатый скот и свиньи имеются почти в каждом хозяйстве. Разведением овец занимаются лишь в некоторых районах, преимущественно в Амурской области. В китайских и корейских хозяйствах в ограниченном количестве содержатся мулы и ослы. Лошади Приморья – смесь трех пород: томской, забайкальской и маньчжурской.
Крестьянское население Приморья несравненно состоятельнее крестьян Европейской России. Крестьяне питаются хорошо – кроме хлеба употребляют в пищу молочные продукты, яйца, чай, рыбу (главным образом кету); мясо домашних животных – не редкость, а различного рода и вида дичь: косуля, кабан, лось, фазан – занимают во многих селениях первое место. Материальный достаток все же мало повлиял на улучшение жизни переселенцев с гигиенической точки зрения, очень часто куры и утки ютятся в хатах, многие колодцы загрязнены, а на дворах усадеб навоз гниет около жилья.
В прежнее время в Уссурийском крае было только три города: Владивосток, Никольск-Уссурийский и Хабаровск. Позднее в степень городов были возведены: Иман, Камень-Рыболов, Спасск, Ольга. В низовьях Амура расположен порт и город Николаевск-на-Амуре. В Амурской области – города: Благовещенск, Свободный (Алексеевск) и Зея.
Город Хабаровск расположен при слиянии рек Уссури и Амура. Он раскинулся на трех холмах. Постройки в городе преимущественно деревянные, но все казенные здания (всего до 50) построены из кирпича. Заводско-промышленных предприятий мало. Торгово-промышленная деятельность Никольск-Уссурийского была развита хорошо, причем велась крупная торговля хлебом, скотом и продуктами сельского хозяйства. Владивосток – важный порт и торговый центр.
В Уссурийском крае имелось всего три монастыря: мужской близ села Тихменево (в верхнем течении Уссури) и два женских (один близ Никольска, другой под Владивостоком).
В торговом отношении видную роль играли китайские купцы, кои конкурировали с русскими весьма успешно еще до Великой войны. Война и революция еще более способствовали захвату китайцами торговли.
Пересеченность гористой местности, отсутствие развитой сети грунтовых дорог, обилие речек и ручьев, пересекающих важнейшие оперативные направления, заболоченность многих участков, малочисленность населенных пунктов, ограниченность продовольствия и перевозочных средств, неблагоприятные климатические условия – все это делают проведение как оборонительного, так и наступательного плана военных действий весьма сложным и не допускает ведение операций на широких фронтах. Слабая населенность края не допускает развитие в нем партизанских действий в желательном размере и планомерности. Только чрезвычайная слабость или малодеятельность власти, господствующей в крае, может явиться залогом существования партизан.
Военная борьба на Дальнем Востоке сопряжена с рядом выгод и недостатков горной местности. Пересеченность ее будет затруднять продвижение частей, управление ими, ориентировку, стеснит сферу огня, прервет связь между частями, стеснит развертывание и затруднит атаку, но вместе с тем горная местность усилит расположение небольших отрядов. Стратегическая оборона, требующая обеспечения за собой всех имеющихся проходов, ведет к раздроблению сил. В горной местности обходы из средства, подготовляющего успех, превращаются в средство, решающее его, так как подчас внезапность появления врага на фланге или в тылу и трудность контрманевра понудит защитников позиции оставить ее без боя. Таким образом, в предстоящих операциях успех будет достигаться главным образом не боем, а маневром и особенно действиями на пути сообщения.
Территорию, на которой разыгрались военные действия, а также ту, которая являлась ближним тылом борющихся сторон, можно подразделять на шесть районов, более или менее обособленных друг от друга: 1) Южно-Уссурийский, 2) Ольгинский, 3) Имано-Бикинский, 4) Хабаровский, 5) юго-восток Амурской области и 6) Средне-Амурский. Наиболее населенными из них будут Южно-Уссурийский и Средне-Амурский, пустынным, почти совсем незаселенным, будет юго-восток Амурской области. В первых двух районах части могут свободно развернуться по фронту на 120, 200 и даже 300 верст, в то же время в некоторых местах Имано-Бикинского, Хабаровского районов и юго-востока Амурской области фронт ни в коем случае не может быть более 30, 40 и 60 верст.
Южно-Уссурийский район – часть Приморской области на юг от ст. Уссури и на запад от главного кряжа гор Господних. Район можно подразделить на несколько округов: Владивостокский, Суйфунский, Приханкайский, Спасский, Гродековский, береговой (от границ Кореи до устья Суйфуна), Анучино-Даубихинский, Чугуевскую падь, район низовьев Уляхэ и верховьев Уссури и, наконец, Сучана. Первые пять округов заселены гуще остальных, селения, насчитывающие по 200, 300 и более дворов, здесь не редкость, а учесть заимки и небольшие группы фанз, равно как и многочисленные дороги и тропы, весьма трудно. Селений более или менее крупных в этих пяти районах будет не менее 340. Вторые пять округов отделены друг от друга горными цепями. Населены они значительно слабее первых пяти, и при учете населенных пунктов представляется возможным учесть большинство совсем незначительных поселений – в 10–15 дворов, а иногда и меньше. В этих округах селение в 100 дворов считается значительным. В Анучино-Дубихин-ском районе всего 54 селения, в Чугуевской пади – 15 русских селений и до 30 инородческих групп фанз. По верхней Уссури и нижней Уляхэ до 30 русских селений, на Сучане до 120 русских и инородческих селений, исключая ряд заимок и мелких групп фанз. Из Южно-Уссурийского района в Китай ведет четыре дороги: 1) по берегу Ханки у Турьего Рога, 2) вдоль линии желдороги мимо Гродекова, 3) по реке Суйфун через Полтавку и 4) на самом юге от Ново-Киевска на Хунчун. С линии желдороги ст. Шмаковка – ст. Никольск-Уссурийский в Анучино-Даубихинскую округу и на нижнее Уляхэ ведет четыре дороги. Из Владивостокской округи на Сучан можно пробраться четырьмя путями: 1) морем, 2) вдоль по берегу, 3) вдоль по линии желдороги и 4) по тропе со Шкотова через Ново-Московскую, Хмельницкую. Из Анучинского и Чугуевского районов на Сучан можно пробраться по семи тропам. При движении на север нужно иметь в виду три главнейших пути: 1) вдоль линии желдороги от Никольска через Спасск, ст. Уссури к Иману, 2) из Анучина по долине р. Даубихэ в район Успенки, откуда в Иманский район можно выйти двумя путями, 3) по Чугуевской пади в район Самарки, откуда тропой в Иманский район. Из Южно-Уссурийского района в Ольгинский ведет четыре дороги: 1) дорога из Владимиро-Александровского на Звездочку и далее на Милорадово, 2) тропа через Архиповку на Милорадово, 3) тропа через Соколовку и 4) тропа через Антоновку. Из Южно-Уссурийского района в Иманский ведут: 1) три дороги в районе железнодорожной линии, 2) из района Успенки тропа на кумирню и далее на д. Малиновка, находящуюся в Иманском районе, 3) тропа из Самарки на д. Ариадна и далее дорога на Малиновку.
Ольгинский район – южная часть восточного побережья Приморья. Населенных пунктов до 35. С севера на юг район пересекается одной дорогой, которая, как указано выше, выводит во Владимиро-Александровское. Из района на запад в Чугуевский район выводит три так же указанных выше тропы.
Имано-Бикинский район – средняя часть Уссурийского края от сопки Медвежьей на севере (близ станицы Гленовской) до ст. Уссури на юге. Во всем этом значительном районе имеется всего до 165 селений, причем в это число включены совсем даже мелкие выселки. В южной части района селения раскинуты по всему бассейну реки Имана и его притоков. К северу от ст. Губерово они вытягиваются сначала в три, а потом в две линии – по Уссуре и вдоль железной дороги, причем на северной окраине района эти линии совсем поджимаются одна к другой.
Хабаровский район захватывает оба берега Амура. Во всем районе до 130 селений, причем 1) в районе железной дороги от Амурского железнодорожного моста до сопки Медвежьей – 32 селения, 2) по Уссури от Хабаровска до той же горы – 17 поселков, 3) в округе, что восточнее линии железной дороги Хабаровск – ст. Вяземская (по среднему течению Кии, Хора, Подхоренка, Джулихи и в окрестностях озера Петропавловского) – 43 селения. Остальные 38 селений находятся на территории левого берега Амура до границы Амурской области на запад и до высоты села Вятского на северо-восток. Из них: 1) 9 селений расположились по берегу Амура, 2) 6 селений – по железной дороге, 3) 12 селений – по реке Тунгуске, 4) остальные 11 селений разбросаны в стороне от главных путей сообщения. По числу дворов поселки этого района в большинстве случаев уступают поселкам Имано-Бикинского района, а с селениями Приханкайля или Суйфунского района их сравнивать совсем не приходится. В число 130 селений включены селения, имеющие до 5 дворов, деревня в 15–20 дворов считается совсем не маленькой.
Юго-восток Амурской области представляет собой треугольник – на востоке он граничит с Приморской областью, на юго-западе течет Амур, на северо-западе – река Бурея. В этом обширном районе, по числу квадратных верст превосходящем Южно-Уссурийский район, имеется всего около 130 населенных пунктов, из коих 50 расположены по берегу
Амура и поблизости от него, 22 находятся в районе ст. Архара (в 32 верстах на восток от реки Бурей), 18 – по линии железной дороги (от ст. Ин до ст. Урил) и, наконец, до 40 – по Благовещенскому тракту и в стороне от него, будучи разбросанными по обширному району между Амуром и железнодорожной линией. Следует отметить, что в число 18 пунктов по железной дороге включены все станции и разъезды числом 15, многие из которых имеют по три железнодорожные казармы.
Средне-Амурский район по величине своей территории стоит впереди Южно-Уссурийского района, по числу населения и населенных пунктов он также занимает первое место среди всех указанных шести районов. По приблизительному подсчету в нем имеется до 500 селений, в число которых не включены многочисленные заимки и мелкие выселки. Если, говоря о юго-востоке Амурской области, можно определенно сказать, что в этом районе имеется три главных пути сообщения: железная дорога, тракт и Амур, то учесть пути сообщения в Средне-Амурском районе весьма затруднительно, но главнейшими останутся те же три: железная дорога, тракт и река Амур.
Только теперь, рассмотрев положение театра военных действий, его топографические особенности, степень заселения, пути сообщения, климатические особенности, можно перейти к изучению сил сторон, так как разобранные выше данные, оставаясь неизменными, в значительной степени обуславливают течение и характер нижеописываемых военных операций, ибо они диктуют свои условия обеим сторонам, всем от высших начальников и командиров до рядового бойца. На фоне приведенных данных работа, проделанная войсками обеих сторон, восстанет в своей великой наготе и будут более правильны выводы и умозаключения.
Ill
Дальневосточная Народно-революционная армия и партотряды
Общие сведения. – Войска Забайкальского военного округа. – Войска Приамурского военного округа. – Речная Амурская флотилия. – Войска Приморской области или партотряды. – Сибирская флотилия. – Состояние частей к моменту открытия военных действий. – План обороны ДВР
Данные о Народно-революционной армии и партотрядах почерпнуты из книги Я. Покуса «Борьба за Приморье» и из записок, основанных на сводках штабов войск Временного Приамурского правительства. Последние, в свою очередь, составлялись на основании агентурных данных и опросов пленных, перебежчиков и лиц, прибывших из Советской России и ДВР. Таким образом, в нижеследуемом допустимы некоторые неточности и даже ошибки.
Кадром Народно-революционной армии являлись безусловно партизанские отряды, часть которых представляла собою остатки большевистских отрядов, бежавших в сопки при наступлении белых в 1918 г. Но таких отрядов было совсем немного. Позднее, в дни крушения белой власти, многие забайкальские, амурские и приморские части в полном составе перешли к красным. Вот эти-то отряды и части и являлись в 1921 г. войсками ДВР. Так как с партотрядами была масса хлопот, ранней весной 1921 г. высшее командование ДВР пыталось было уничтожить эти отряды, влив их в регулярные части или же распустив по домам. Но это не было проведено в жизнь; не то красному командованию в эту пору борьба с начальниками партотрядов оказалась не под силу, не то их ликвидации помешали действия отрядов барона Унгерна и генерала Сычева. С образованием же в Южном Приморье противобольшевистского центра партизаны оказались необходимы. Наступление барона Унгерна, его удар на стыке ДВР с РСФСР был опасен для только что вышедшего в жизнь государства. Дальбюро мобилизовало все свои силы для борьбы с Унгерном. Преступная борьба Владивостока с Гродековом дала возможность ДВР совсем оголить Хабаровский район. Теперь правительство ДВР уверилось в полной никчемности белых под Владивостоком, оно было уверено в скором овладении им посредством внутреннего переворота и переговоров с Японией. Поэтому движение белых войск на Хабаровск оказалось для красных совершенно неожиданным.
Во главе войск ДВР стоял главком, он же военмин – «красный самородок», товарищ Блюхер – 30 лет, по одним сведениям, уроженец Ярославской губернии, рабочий с 15 лет. За революционную пропаганду он отбыл тюремное заключение сроком в два года и восемь месяцев. В Великую войну был рядовым 19-го Костромского пехотного полка. Тяжело раненный, он был освобожден от военной службы, после чего до революции работал в Казани на заводе Остермана. Революция сделала его членом Самарского ревкома, и он принимал участие в ликвидации Дутова. В 1919–1920 гг. командовал 30-й советской стрелковой дивизией, отличился под Кунгуром и в Крыму во время штурма Перекопа. По иным сведениям, Блюхер не кто иной, как майор австрийской службы Тиц, специализировавшийся во время Великой войны на революционной пропаганде в русской армии.
Начальником штаба главкома был бывший полковник Генерального штаба Токаревский, его помощником – Пеленкин. Начальником оперативного отдела – Покус. Начальником разведывательного отдела – Королев. Главком находился под контролем Реввоенсовета ДВР, возглавляемого Погодиным.
Территория ДВР разделялась на два военных округа – Забайкальский и Приамурский. Во главе округов стояли командующие войсками округов, контролируемые окружными военными советами. Войска Приморской области возглавлял отдельный командующий войсками, но он, по всей видимости, подчинялся командующим войсками Приамурского военного округа. При командующем войсками Приморской области после майского переворота 1921 г. военного совета не имелось.
В Забайкальском военном округе были расквартированы:
1. Троицко-Савская кавалерийская бригада, сведенная после боев с отрядами барона Унгерна в полк, который квартировал в районе Петровского Завода. При своем отбытии на фронт под Хабаровск полк имел до 550 коней.
2. Особый Амурский стрелковый полк, сведенный из полков 3-й Амурской стрелковой дивизии. Хорошим командным составом он был отлично подготовлен к боевым действиям. Квартировал в районе Чита – Песчанка.
3. 1-я Читинская стрелковая бригада силой до 3800 бойцов. Она состояла из трех стрелковых полков, кавалерийского дивизиона и артиллерийского дивизиона, имевшего невыясненное количество орудий. Бригада квартировала в районе Чита – Борзя – Даурия – Нерчинский завод.
4. Кавалерийская дивизия Коротаева. Всего до 2500 человек. Эта дивизия квартировала в районе Стретенск – Нерчинск.
Других крупных войсковых соединений в пределах Забайкальского военного округа не имелось, но после отбытия вышеперечисленных частей (за исключением кавалерийской дивизии Коротаева) на фронт под Хабаровск в Читу распоряжением командарма 5-й советской из Иркутска была переброшена 104-я бригада 35-й советской стрелковой дивизии.
Из частей специального назначения следует отметить:
1. Военно-политическую школу, курсанты которой выпускались в части на должности военкомов и политруков.
2. Отряды Госполитохраны (государственная политическая охрана).
3. Караульные батальоны.
4. Железнодорожные части.
5. Саперные части и т. п.
Сведения о Приамурском военном округе более подробны. Войска этого округа ранее представляли 2-ю Амурскую армию, во главе которой стоял бывший штабс-капитан германской войны Серышев. После переформирования армии в войска округа тов. Серышев сделался комвойсками округа и, кроме того, был назначен членом Реввоенсовета ДВР в Чите. Начальником его штаба был бывший полковник Генерального штаба Школин, вскоре отбывший в Читу, а затем в распоряжение советского представителя в Китае тов. Иоффе. Место тов. Школина занял прибывший из Анучина бывший полковник Генерального штаба Луцков, занимавший в ставке адмирала Колчака пост помощника начальника осведомительного отделения. Помощником начальника штаба по оперативной части был бывший капитан одного из полков Иркутского гарнизона – тов. Еремин, человек не энергичный, склонный к пьянству.
Как контроль над комвойсками округа, в Хабаровске при штабе округа находился военный совет под председательством тов. Мельникова. Последний, по некоторым сведениям, бывший студент-коммунист, не имевший ничего общего с военной службой. Членами военного совета были: Постышев, бывший фонарщик города Иркутска, не скрывавший на митингах своей прежней профессии. Вторым членом был Лебедев, фамилия третьего забыта.
Если части Забайкальского военного округа состояли из бойцов, закаленных в борьбе с белыми, то частям войск Приамурского военного округа вести упорной борьбы с белыми не пришлось, да и части эти были переформированы: из бывших частей Приморской земской управы, т. е. из бывших колчаковских полков, механически перешедших к красным. В рядах этих же полков имелось значительное число бойцов-каппелевцев, которые после Сибирского Ледяного похода, будучи больными и ранеными, вследствие переполнения госпиталей Читы и Харбина, были провезены в Никольск, Владивосток, где после выздоровления зачислены в приморские части, то есть красные.
Согласно книге Я. Покуса войска Приамурского военного округа представляли собой 2-ю Амурскую дивизию, которая позднее, перед походом, была переименована в бригаду, но, по другим сведениям, полки Приамурского военного округа носили наименование «отдельных», что исключает, конечно, вхождение их в ту или иную бригаду или дивизию.
В пределах Приамурского военного округа были расквартированы:
4-й отдельный Благовещенский стрелковый полк. Командиром полка был бывший офицер Фадеев. Два батальона этого полка располагались в Благовещенске, а один батальон занимал город Алексеевск (Свободный), где ранее квартировала Отдельная Корейская революционная бригада (до 2000 бойцов), которая была переведена в г. Иркутск в резерв командарма 5-й советской.
5-й отдельный Хабаровский стрелковый полк. Командир полка – тов. Васильев, по одним сведениям, бывший прапорщик, по другим – красный офицер. Полк целиком был расквартирован в самом Хабаровске, где нес гарнизонную службу и производил тактические занятия.
6-й отдельный Иманский стрелковый полк. Командир этого полка был также начальником «нейтральной зоны». Это был бывший штабс-капитан Инструкторской школы Нокса во Владивостоке на Русском острове – тов. Нельсон-Гирст. Одним батальоном полк занимал пос. Бикин, другим – город Иман. В последнем пункте находились также штаб полка и различные команды. В третий батальон были выделены преимущественно коммунисты и сочувствующие им. Этот батальон получил наименование Дивизиона народной охраны и был расположен в поселке Медведовский близ ст. Уссури. Дивизион был сформирован потому, что согласно условиям апрельского договора красные не имели права держать в нейтральной зоне регулярные войска, а только отряд в 450 человек Дивизиона народной охраны и железнодорожную милицию.
Каждый из вышеуказанных трех стрелковых полков – трехбатальонного состава. Последние состояли из трех рот. При полках имелись команды пеших и конных разведчиков, пулеметная, саперная, хозяйственная и музыкантская. Общая численность штыков в полку, по белым сводкам, достигала 1400. На с. 24 своей книги Я. Покус силу 6-го стрелкового полка определяет только в 600 штыков. К этому надо добавить 450 штыков Дивизиона народной охраны, находившегося в отделе. Все же численность 6-го стрелкового полка после этого будет равняться 1050 штыкам, а не 1400. Подробных данных о стрелковых полках 1-й Читинской бригады нет, но надо полагать, что их численность была приблизительно такой же, как и полков 2-й Амурской бригады.
4-й отдельный кавалерийский полк был сформирован в Хабаровске. Командиром полка был назначен бывший капитан русской службы китаец Сунь-Фу, военкомом – Серобаба. В полку имелось несколько офицеров и унтер-офицеров бывшего конно-егерского полка полковника Враштеля, зверски замученного на Хорском мосту весной 1920 г. Полк четырехэскадронного состава, всего в полку около 400 сабель.
Я. Покус упоминает еще о пограничных кавалерийских дивизионах – 4-м и 5-м. Что они представляли собой, не выяснено.
Артиллерия Приамурского военного округа состояла, по белым сводкам, из четырех легких полевых батарей (трехдюймовые орудия), отдельной конной горной, тяжелой гаубичной и вагонного парка. Я. Покус дает иные цифры, а именно: две легкие батареи четырехорудийного состава, отдельную конную батарею такого же состава и отдельный конный горный взвод. Вся красная артиллерия располагалась в Хабаровске – Благовещенске, и сведений о том, что в районе Бикин – Иман находится несколько орудий, в штабе 3-го стрелкового корпуса войск Временного Приамурского правительства не имелось.
По линии железной дороги красные располагали четырьмя бронепоездами: «Защита трудового народа», или № 7, находился на ст. Губерово. Он был вооружен двумя трехдюймовыми орудиями и несколькими пулеметами. Команда его – большинство коммунистическая молодежь. Другой бронепоезд – № 8 – находился в районе Хабаровска. Бронепоезда № 2 и № 9 находились в районе ст. Благовещенск – ст. Бочарово. Надо полагать, что в Забайкалье находились другие бронепоезда.
В Хабаровске, кроме 4-го кавалерийского полка и 5-го стрелкового полка, располагались:
1. Батальон Госполитохраны (150–200 бойцов).
2. Караульный батальон (300 человек).
3. Железнодорожный батальон.
4. Отдельный авиационный отряд в составе не то 3, не то 5 самолетов (Я. Покус на с. 18 и 32 дает различные цифры).
5. Саперный батальон (его численность белыми не была установлена).
6. Рота Амурской речной флотилии (около 150 человек), сформированная из команд судов, не успевших осенью до замерзания Амура уйти в Благовещенск.
В распоряжении начальника Инженерной части в Хабаровске находилась минно-подрывная рота, численностью до 80 человек. Командиром роты был бывший электромонтер, коммунист города Хабаровска тов. Лунев.
В селе Вятском, находящемся в 60 верстах от Хабаровска, располагался партизанский отряд Бойко – Павлова. Начальник этого отряда – бывший слесарь Хабаровского арсенала. Он партизанил в 1918–1919 гг. против японцев и атамана Калмыкова. Кадр отряда – бывшие бойцы банды Тряпицына, стершей с лица земли г. Николаевск-на-Амуре.
В Благовещенске, кроме 4-го стрелкового полка и артиллерии, находились: 1) батальон Госполитохраны, 2) караульный батальон, 3) батальон Амурской речной флотилии, сформированный на зиму из матросов Амурской флотилии для охраны судов, и 4) отдельный танковый взвод.
Амурская речная боевая флотилия состояла из двух башенных канонерок, четырех сормовских канонерок и шести вооруженных катеров легкого типа. Канонерки были вооружены трех- и шестидюймовыми орудиями. Летом флотилия несла охрану реки Амур от города Сретенска до города Николаевска-на-Амуре, в который входить не могла, так как там находились японские миноносцы.
Командующий Амурской флотилией непосредственно подчинялся начальнику морской части ДВР тов. Подерни. Штаб флотилии находился в городе Благовещенске. Командующим был бывший капитан 2-го ранга Тыртин. Он всецело зависел от начальника оперативной части своего штаба – бывшего мичмана, коммуниста Хоменко.
Осенью 1921 г. Амурская флотилия не успела вся пройти в Благовещенск из своего плавания до замерзания Амура и была оставлена в следующих пунктах:
в Хабаровске – 4 канонерки, из команд которых сформирована рота в 150 человек;
в Екатерино-Никольском – 3 канонерки, 100–120 человек;
в Благовещенске остальная часть флотилии – батальон в 200–250 человек.
После захвата белыми Владивостока в мае 1921 г. штаб командующего войсками Приморской области бежал в урочище Анучино – базу известного партизана Шевченко, где и обосновался. Телеграфной линией Анучино было связано с Хабаровском, кроме того, штаб комвойсками имел радиостанцию. Путь от ст. Иман до ст. Уссури, а дальше на юг по рекам Уссури и Даубихэ был свободен, и транспорты огнеприпасов без труда доставлялись в Анучино. Больше того, красные эмиссары без всякой охраны могли проникать в район ст. Угольная, двигаясь из Анучино по дороге на Ширяевку, а оттуда мимо Ивановки и Раздольного в Кролевец и Кневичи.
Командующим войсками Приморской области был тов. Лепехин, по одним сведениям, бывший мичман керенского производства, по другим – простой солдат, командовавший на Южном фронте против войск генерала Деникина артиллерийским дивизионом. Во всяком случае, был мало знаком с военной службой и без посторонней помощи не мог руководить военными действиями партизан. Перед самым началом военных действий тов. Лепехин был отстранен от командования войсками, и его место занял тов. Леухин – бывший офицер.
Начальником штаба командующего войсками был тов. Луцков, выехавший до переворота во Владивостоке в Читу и оттуда командированный в Анучино. После назначения тов. Луцкова начальником штаба Приамурского военного округа его пост в Анучине принял тов. Кошкин, бывший капитан. Первым помощником начштаба по оперативной части был тов. Сибирцев – сын начальницы одной из женских гимназий во Владивостоке. Крупную роль играл тов. Шевченко.
К ноябрю 1921 г. в распоряжении комвойсками находились:
1. 1-й Приморский батальон, силой до 300 человек. Комбат тов. Никольский – бывший офицер. Батальон был расквартирован в районе Анучино – Орловки.
2. 2-й Приморский батальон, силой до 250 человек. Комбат тов. Палицин – бывший офицер. Батальон расквартирован в деревне Яковлевка.
3. 3-й Приморский береговой батальон, силой до 300 человек. Комбат тов. Сидоров – бывший офицер. Батальон находился в Сучанском районе со штабом в Романовке.
4. 4-й Ольгинский батальон. Численность не выяснена. Комбат – тов. Назаренко. Батальон находился в Ольгинском районе.
5. Приморская батарея четырехорудийного состава, находилась в Анучине. Эта батарея, равно как эскадрон конницы и подрывная команда, прибыла в Анучино из Хабаровска после захвата белыми Владивостока.
Перечисленные выше части являлись, так сказать, кадровыми. Красное командование надеялось в нужный момент усилить их посредством призыва молодых возрастов местного населения, сочувствовавшего красным. Я. Покус на с. 17 определяет силу красных отрядов, находившихся в Южном Приморье, до 1000 штыков и сабель с пулеметами. Кроме перечисленных отрядов он упоминает еще о пятом отряде, находившемся в Приханкайском крае со штабом в г. Камень-Рыболове. Приханкайские партизаны руководились, по белым сведениям, тов. Лебедевым – бывшим при Антонове начальником Никольск-Уссурийской уездной милиции. В Приханкайле, по белым источникам, действовали:
1. Конный отряд тов. Решетникова в 80 сабель.
2. Партотряд тов. Ярошенко в 70 пеших и 12 конных.
Кроме того, по линии железной дороги оперировала подрывная команда Кривого, надо полагать, что это была та самая команда, что выслал Хабаровск.
Итак, численность партотрядов в Южном Приморье была совсем невелика, но по причинам хорошего знания местности, имея всюду и везде своих людей, из-за отсутствия определенной формы одежды партизаны были малоуязвимы. Неожиданного налета или подрыва железнодорожной линии японцы и белые могли ожидать в любое время. Отсутствие у белых близких и крепких связей с населением большинства районов, а также занятие японцами и белыми одних только железнодорожных линий приводило к тому, что партизаны чувствовали себя полными хозяевами почти всей территории Южного Приморья – территории, считавшейся Временным Приамурским правительством своей.
Вышеуказанные партотряды или войска состояли из русских, китайцев и корейцев. Были тут и местные жители, и пришлый люд. В числе последних имелись как присланные из глубины ДВР коммунисты, так и бывшие колчаковцы – та же категория, что попала в полки 2-й Амурской бригады. Перебежчиков из каппелевских и семеновских частей, за исключением немногих оренбургских казаков, не было. В Сучанском и Ольгинском районе имелись целые отряды из китайцев и корейцев. Бывшие хунхузы и разбойники, ненавидимые населением, даже большевистски настроенным, хорошо дрались, были бесчеловечно жестоки с попавшими к ним в руки, а потому считались у красных наиболее надежными частями. Собственно говоря, такие же отряды корейцев и китайцев имелись в районах Посьета, Барабаша, Полтавки, Духовского и Турьего Рога, но эти отряды не прикрывались красным знаменем, не получали директив от красных штабов, а именовали себя хунхузами и грабили население, не оправдываясь идеей.
Надо полагать, что красные партотряды все время высылали от своего ядра мелкие разведывательные партии с задачей терроризировать белых и японцев. Эти мелкие партии все время бродили по деревням края. Особое внимание красные обращали на Сучанский и Спасский районы. По Сучану бродил партотряд Анисимова – оренбургского казака. Надо полагать, что этот отряд входил в состав 3-го Приморского берегового батальона. Под Спасском действовали отряды Борисова и Сологуба, входившие, видимо, в состав 2-го Приморского батальона. Наконец под самым Никольск-Уссурийском действовал Топорков. Некоторые партотряды были способны принять и выдержать стрелковый бой, но все же их выучка была много слабее регулярных частей Народно-революционной армии, хотя процент хороших стрелков среди партизан был больше, нежели в армии.
Единственными портами ДВР в 1921 г. были Императорская Гавань и порт Святой Ольги, ибо город и порт Николаевск-на-Амуре находился в руках Японии, а по всему побережью залива Петра Великого и залива Америки распространились белые. Высокими, незаселенными, малодоступными горами Господними (Сихотэ-Алинь) оба приморских пункта ДВР были отрезаны от центров республики. Путями сообщения служили тропы. По ним можно было проникнуть из Ольгинского района в Сучанский и Анучинский районы, можно было наладить снабжение и питание партотрядов. Морем же из Ольги можно было если не угрожать белому Владивостоку, то, во всяком случае, производить дерзкие налеты, подобные налету тов. Вольского на остров Аскольд, где красным удалось беспрепятственно захватить не охраняемую белыми радиостанцию со всем обслуживающим ее персоналом и материалами. Понятно поэтому то, что красные превратили порт и город Святой Ольги в свою базу, питавшую морем партотряды Сучанского района. В бухте Ольги в распоряжении Военного совета партизанских отрядов Приморья находились уведенные во время майского переворота из Владивостока пароходы «Монгугай», «Диомид», «Лейтенант Дыдымов» и катер «Амур». В Ольге имелись: казначейство, радиостанция и кое-какие запасы оружия и огнеприпасов.
О состоянии частей Народно-революционной армии к моменту открытия белыми военных действий Я. Покус на с. 19 говорит так: «После ряда демобилизаций старых сроков службы до 1897 г. включительно части Народно-революционной армии оказались с комплектом до 40 % своего штатного состава. Боевая подготовка частей оставляла желать много лучшего и в общей оценке была слабой. Вооружение было в хорошем состоянии, одежда плохая (но, во всяком случае, несравненно лучше одежды белых частей), продовольствие скудное (каппелевские части в это время питались лучше, но семеновские хуже, нежели части Народно-революционной армии), фуража недостаточно (кони красных во время похода оказались сильнее и лучше, нежели кони белоповстанцев). В зимнее время овес вовсе не выдавался, что, конечно, неблагоприятно отражалось на конском составе. Политического состава в Народно-революционной армии было мало». Несмотря на то что наличный состав коммунистов был невелик, а нелегальные организации эсэров и максималистов были в армии весьма сильны, тем не менее, по словам Я. Покуса, армия в своей массе восприняла коммунистическую идеологию. Командный состав на 60 % состоял из бывших офицеров, но лояльных Советской власти.
