Из жизни людей. Полуфантастические рассказы и не только… бесплатное чтение
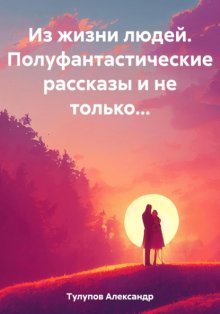
«В рабочий полдень»
Москва. 1991‑й год. Осень, ноябрь.
Моя первая жена только окончила Гнесинку и устроилась петь в государственный академический хор.
Концертов нет. Никому ничего не нужно, кроме как поесть. Но репетиции на всякий случай идут своим ходом – вдруг востребуют…
И вот первый за месяц концерт! Отъезд на поезде в час ночи. Ждёт славный город Елец! Именно там в столь тревожное время живут такие долгожданные и большие ценители хорового пения! Рано утром высадили почему‑то в поле. И по грязи – вперёд: в зябкую, туманную, предрассветную мглу.
Оказалось, что это шефский концерт духовной музыки (С. В. Рахманинов, П. Г. Чесноков, Д. С. Бортнянский и т. д.) с названием, как у известной советской радиопередачи: «В рабочий полдень», для работников местного мясокомбината.
Завтраком покормили в столовке. Дали геркулесовую кашку и кофе из цикория с калорийной булочкой. Распевались и репетировали наскоро в подсобке. Переоделись там же и пошли в конференц-зал, где и предполагалось радовать зрителя искусством.
Выходит хор…
В зале сидят мужики и бабы в белых, забрызганных кровью халатах, с тяжёлыми, усталыми лицами.
Жена у меня смешливая… Когда объявили первый номер:
– Сергей Васильевич Рахманинов «Тебе поéм», – она начала колотиться от смеха прямо на сцене…
Это было её первое и последнее выступление в том хоре.
Ну а потом вообще из профессии ушла. А жаль… И голос был, и внешность была… Теперь у неё своя риел-торская компания. Говорит, что не жалеет…
А концерт тогда прошёл успешно. Публика подобрела. Все хлопали и снисходительно улыбались. Перед отъез-дом был обед. А ещё каждому артисту торжественно вручили по «колясочке» краковской колбасы.
К 8 Марта
Я учился во втором классе.
К 23 февраля наши девочки организованно дарили мальчикам подарки. Кто с кем за партой сидел, тот тому и дарил. Благо, что чудесным образом мальчиков и девочек в классе было поровну. Кто подарок купил, кто сам сделал, кому родители помогли.
Мальчиков попросили выйти из класса, и, когда мы вернулись, подарки уже лежали у каждого на парте. Для меня был приготовлен деревянный треугольник-линейка.
Девочку, с которой мы сидели вместе, звали Валя. Училась она плохо. Даже совсем плохо. Отвечая с места или, тем более выходя к доске – терялась, говорила односложно или вовсе угрюмо молчала.
У неё было большое лицо с крупными чертами, нависшие брови и округлый, с чрезвычайно глубокими морщинами лоб. Длинные волосы, зачёсанные назад и сплетённые в толстую русую косу, канатом свисали, украшая спину до самого копчика, а может, и ниже. Я всегда был довольно высокого роста, но Валя была как‑то и повыше, и помощнее. Так часто бывает в начальных классах, впрочем, так бывает и после семидесяти. Мне же нравилась отличница Мила, сидевшая за первой партой. Она была прелестна: маленького роста, шустрая и сообразительная, бегло читала вслух, отвечала уверенно и внятно. А минувшей осенью 7 ноября её в числе ещё пятнадцати детей со всей страны отобрали поздравлять членов Политбюро на Мавзолее. Милочке очень повезло, ведь она вручила цветы самому Леониду Ильичу!
Но, как говорится, соседей не выбирают.
Я подошёл, сел на своё место, взял треугольник: «Спасибо, Валя!» – сказал я и бережно положил его в порт-фель.
Дней через десять мальчики должны были поздравлять девочек в ответ.
И вот накануне мы с моей крёстной, младшей маминой сестрой тётей Таней, пошли покупать подарок. Где мы только не были! Заходили в Детский мир, галантерейные и подарочные отделы универмагов и наконец поехали в ЦУМ. Там я и увидел статуэтку фигуристки. Она была матово-белая, то ли керамическая, то ли фарфоровая, а может, даже из простого пластика. Но, главное, очень, очень…, очень красивая и очень-очень дорогая!
Три руб-ля!…
Для конца 60‑х – цена безумная!
Но с тётей Таней нельзя было ходить и выбирать «просто так». Например, нельзя было ездить «просто так» на Птичий рынок. В доме обязательно появлялся кто‑то живой. Это мог быть хомячок, ёжик, ужик, черепашка или ещё кто угодно – забавный, пушистый или даже скользкий.
Короче, фигуристка была куплена.
Когда мы пришли домой и бабушка узнала, сколько стоит поздравить однопартницу, то случился скандал, и прозвучала фраза: «Да вы с ума сошли?! А ты взрослая – и такая дура! Как ты могла?!»
Моя бабушка одна вырастила четверых детей в вой-ну. Тётя Таня была самой младшей. Она родилась в конце марта 1941‑го.
В начале июля дед ушёл в московское ополчение добровольцем. Через два месяца его привезли с фронта больного пневмонией. Он пролежал неделю в больнице и умер. Бабушка осталась не просто с четырьмя малолетками (два мальчика и две девочки), но ещё и без пособия по потере кормильца, так как дед умер не на поле боя…
Я не хочу, да и не могу описывать подробно то, что ей пришлось пережить. Рассказывала она очень мало. Говорила, что дед был не пьющий, работящий, грамотный. Жили небогато, но очень счастливо, если не считать смерть двоих первенцев. А тут вой-на…
– Как ты мог записаться на фронт?!! У тебя же бронь?!! – готовя обед и шинкуя капусту, рассказывала бабушка мне, маленькому школьнику, события тридцатилетней давности.
– А он и говорит: «Ксения, у Витьки трое детей, и он записался, а ведь у него тоже бронь, и мне, говорит, стало перед ним неудобно». А потом забормотал про Сталина, про Родину… мол, защищать надо…
Бабушка похоронила мужа и десять лет не ходила на могилу. «Как он мог! Перед Витькой стало ему неудобно?! А передо мной удобно?! У тебя четверо детей, это они – Сталин и Родина! – в сердцах говорила она, и голубые глаза её становились белыми и прозрачными, – без него бы не победили?!» – и от её резких движений, а может, и слов, капуста разлеталась с доски по всему столу.
Вечером за ужином, придя с работы, к разговору присоединилась мама, которая тоже очень подивилась нашей добыче в Центральном универмаге Москвы. Мы с тетей Таней сидели, как оплёванные, и молчали.
Утром после завтрака я вновь достал статуэтку из коробочки, установил её на сервант, осторожно погладил и чуть отошёл. «Какая красивая, – подумал я ещё раз, – как жалко дарить!» – вздохнул и поместил девушку обратно в коробочку. Сдвинув учебники и тетрадки в одну из сторон портфеля, я аккуратно погрузил подарок в образовавшееся пространство, застегнул замочек на портфеле, оделся и торжественно пошел в школу.
Перед началом занятий наша первая учительница Мария Петровна Кузнецова, очень строгая, небольшого роста женщина лет сорока пяти, повелела девочкам выйти из класса, а мальчикам – выложить приготовленное на свои парты.
Я трепетно достал из коробочки подарок и поставил его на тот край парты, куда должна была прийти и сесть Валя. Дверь распахнулась, мальчики встали, девочки начали заходить. Я очень нервничал. События вчерашнего дня, сама сложность выбора покупки, желание удивить или даже поразить соседку по парте, доказать бабушке, а главное, себе самому, что так и надо, – всё это вместе давило и волновало.
Валя подошла резкими шагами и села за парту. Я, стоя, торжественно начал:
– Валя, поздравляю тебя с восьмым Марта! Желаю здоровь…
В этот момент Валя схватила статуэтку и быстро, повертев её одной рукой влево-вправо, небрежно закинула в свой портфель, одновременно раздражённо и себе поднос, но весьма слышно, брякнула: «Говна‑то!»
Когда помоями обливают, наверно, не так обидно…
Уроки закончились. Я пришел домой. Бабушка, как всегда, приготовила обед. Я переоделся, помыл руки и сел за стол. Была слабая надежда, что пронесёт и что бабушка вдруг всё забыла и не спросит… Но первый же вопрос был на злобу дня:
– Ну, как подарок, вручил?
– Да, – сказал я, всё ещё надеясь, что отделаюсь легко.
– И, что – понравился?
– Не знаю, – пробубнил я и хлебнул ложку с супом.
– Как – не знаю?! Что она сказала‑то?! – бабушка не унималась…
Я собрался с духом и выпалил:
– Она сказала: «Говна‑то!».
Бабушка, которая маячила от стола к плите и обратно, вдруг замерла. Я смотрел в тарелку, всем своим существом готовясь к окончательному разносу. Бабушка иногда могла ещё и съездить полотенцем по затылку.
Так, как в этот раз, бабушка смеялась очень редко. В связи с хронической бронхиальной астмой воздуха ей надолго не хватало, и она, едва успевая делать короткие вдохи, заливалась снова и снова.
Сколько я помню бабушку, она всегда пела.
Пела, когда готовила еду, когда гладила, когда мыла посуду или вязала. Голос был небольшой, но свободный и от того красивый и полетный. Вот этим красивым голосом бабушка и засмеялась. А я, никак не ожидая такого поворота в восприятии случившегося, радостно всё съел и пошел делать домашнее задание.
Потом я гулял. Раньше все дети сами ходили в школу и гуляли во дворе своего или даже соседних домов. Главное было только сказать родителям, куда именно ты пошел, где будешь и с кем.
Вечером все собрались за столом на ужин. Кроме мамы и тёти Тани пришел ещё и дядя Юра – один из бабушкиных сыновей. Мне задали всё тот же вопрос о торжественном вручении подарка. Ну и тут уж я, понимая всю безопасность настоящего момента, выдал историю в лицах и паузах. Все сначала тоже остолбенели и удивились, но глядя на бабушку, тоже развеселились. Она же смеялась звонче всех. А я был очень, очень доволен…
Удивительное поколение, прошедшее ту вой-ну! Мне сейчас больше лет, чем ей тогда. И мне сегодня, вспоминая ту историю, тоже смешно. Но что бы нам и не посмеяться, когда и сотой доли всех тех ужасов нас не коснулось. А потому нам радоваться легко и просто. Ну и слава Богу!
А Валя проучилась с нами до восьмого класса и ушла во взрослую жизнь. Мы, одноклассники, ничего не знали, да и не интересовались, что с ней и как.
Я встретил её однажды, лет через восемь, возле метро Профсоюзная. Было это уже после службы в армии, когда я ходил по улицам Москвы и все мне казались родными или друзьями. Она выходила из магазина – я входил, и мы буквально столкнулись в дверях. У Вали на верхних веках были положены голубые тени (тогда так было модно). Всё остальное осталось без изменений. Смотрелось это зловеще.
– Здравствуй, Валя! – радостно воскликнул я.
– Здррс…, – пробурчала Валя, глядя куда‑то в пол.
– Как жизнь, где работаешь?
– Швеёй-мотористкой в ателье.
– Что шьёшь?
Она протянула руку к моей куртке–ветровке, прихватила ее за воротничок, быстро покрутила его влево – вправо:
– Вот это – на вас, – Валя зыркнула исподлобья, – куртки мужские.
Очень хотелось спросить: замужем ли, есть ли дети, помнит ли она про статуэтку, может, сохранилась? Но, не стал… Что‑то неловкое было во всей этой нашей встрече… И я распрощался с Валей… наверно, навсегда.
Дума о дебилах …
(и не только)
Дебильность – медицинский термин, характеризующий степень самой лёгкой (слабой) умственной отста-лости.
Их количество во всех странах и народах различное, но стабильное и довольно высокое. Слышал, что ещё в советское время процент подобных учеников в общеобразовательных школах доходил до двадцати.
Однако сегодня по официальной статистике их не более 3%. Странно, не правда ли? Но, оказывается, получить диагноз дебил в наше время очень сложно. Для этого необходимо пройти целый ряд исследований и диагностических мероприятий. Так что три процента – это только зарегистрированных, а на деле дебилы могут оказаться более значимым в количественном отношении отрядом живущих с нами рука об руку граждан.
В связи с постигшим меня знанием я с тех давних, ещё советских, пор, а ныне особенно, озадачился несколькими животрепещущими вопросами.
А именно:
– куда они деваются во взрослой жизни;
– может ли дебил сделаться примерным и любящим семьянином;
– легко ли, да и возможно ль, научить дебила правильно любить свою Родину;
– как распознать дебила в своем руководителе или супруге, и что тогда в связи с этим следует предпринять;
– и, наконец, насколько возможно дебилу стать большим учёным или политиком?
Один из признаков дебила – неразборчивый почерк. Но и у Альберта Эйнштейна, и у Льва Толстого был отвратительный почерк. Как быть? Кому верить? Что думать и что делать?
Просто руки опускаются…
Потому‑то государство и общество испокон веку брало на себя ответственность совместно и активно прилагать нечеловеческие усилия по максимально беззаботному и облегченному житию этой обделенной природой категории граждан. Особенно многое было сделано и делается в последние годы. Бесконечные телевизионные ток-шоу, мелодраматические сериалы, юмористические и иные развлекательные программы заняли почти всё эфирное время. И это очень правильно! Ведь им тяжело и неуютно среди нас – счастливых и здоровых. Их меньше, и они, как принято сейчас говорить, иные (впрочем, судя по количеству массово ржущей публики, их может быть уже и больше). И всё же… Им неинтересно в театре, они не пойдут в оперу, балет или на концерт симфонической музыки. Но нельзя так безжалостно разделять их со всеми остальными и давать почувствовать даже в малой степени этот несправедливый природный провал!
В связи с вышеизложенным, предлагаю вовсе стереть ущербную грань, облегчить и усилить возможность их проникновения в мир прекрасного, а именно:
– в филармонических залах и академических театрах выделить специальные два-три ряда для наиболее передовых и продвинутых дебилов, всё же пожелавших посетить подобные виды искусства;
– пришедшим на льготные места непременно надо создать все привычные для них условия пребывания на массовых мероприятиях, и дабы не унизить и не оскорбить их чувства звуками симфонической, хоровой или оперной музыки, необходимо сохранить созвучную им атмосферу футбольных матчей, боев без правил либо мотоциклетных гонок, разрешив громко разговаривать и даже кричать, свистеть, стучать ногами и улюлюкать.
У меня только есть одно маленькое сомнение…
По прошествии некоторого времени – они станут с нами в один ряд или мы с ними?
Куравлёв Леонид Вячеславович
Было это лет двадцать назад…
Встреча со зрителями в Зеленограде. Я веду программу.
Кто поёт, кто читает, кто вспоминает.
Подхожу к Леониду Вячеславовичу, который за сценой сидит на стульчике. Ему через десять минут выходить. Спрашиваю, как лучше представить?
– Да, объяви хоть как, – говорит, – боюсь я, Саш. Я ведь не «разговорник», не юморист, не пою. Чего я им говорить-то там буду?
И так он мне это в сердцах сказал, что я сразу поверил, проникся и представил грозящую катастрофу. Он, действительно, переживал и смотрел на меня очень тревожно.
Я немного подумал и вдруг говорю:
– А вот так и начните, как сейчас: ну, что боитесь, что не поёте, не «разговорник»… дальше само пойдёт. Вы так это естественно, эмоционально и откровенно сказали! Вот и повторите! А там ещё и нарезка из фильмов с Вашими комментариями в помощь…
Куравлёв опустил на пару секунд глаза, затем поднял их, лукаво посмотрел на меня и вдруг с интонацией и голосом Пашки Колокольникова сказал:
– Штэ, ты…?
Через пять минут вышел на сцену и начал именно так.
Всё прошло прекрасно!
Зритель был восхищён и очарован!
Чурик
Было это уж совсем давно…
Я иногда приходил в гости к своему дяде. Звали его Юра (мамин родной брат). Жил он с женой и сыном неподалеку от нас: возле метро Профсоюзная, за рестораном «Черёмушки».
Так как мама недавно развелась с отцом, дядя Юра время от времени исполнял его роль, участвуя в моем воспитании. Мы то в парк на лыжах ходили, то на стадионе за «Спартак» болели, то просто я сидел целый день у них в семье и смотрел телевизор, играя с двоюродным братом и кошкой Муркой. От дяди Юры я узнал про легендарного пограничника Никиту Карацупу, вместе мы ждали у телевизора боксерские бои с Валерием Попенченко. Наверно, многие знают и помнят боксера Валерия Попенченко, но уже мало кто видел его в прямом эфире – видел, как он самым коротким путем, без излишних «танцулек», добирался до головы или корпуса соперника и бил точно и конкретно. По манере и технике это, наверно, был предшественник Майка Тайсона.
А однажды мы с дядей Юрой случайно включили телевизор и увидели Игоря Ильинского в драматической роли. Он, прославленный комедийный артист, читал перед телекамерой «Старосветских помещиков» Н. В. Гоголя. Даже у меня, десятилетнего мальчика, перехватило горло. Это было гениально! Как написано, так и прочитано!
Ильинский дочитал, дядя Юра быстро встал и ушел на кухню… Зазвенел о горлышко стакан, забулькала жидкость, глотнул, подавился (видимо, сегодня это была первая доза, и сразу она не полезла), но уже через минуту вернулся размягченный и довольный.
Пока дядя Юра не допился «до чёртиков», он был очень юморным, добрым и ответственным человеком, хорошо знал оперу, много читал. Когда же в 37 лет умерла его задорная, звонко поющая и веселая жена Галя, дядю Юру понесло…
Но я отвлекся от сути своего рассказа…
Среди кирпичных пятиэтажек, расположенных метрах в пятидесяти друг от друга, где и жил мой дядя, росли густые кусты и деревья, образуя в каждом дворе свою отдельную ауру. Этот двор был самый зелёный изо всех. Кусты высотой в три-четыре метра образовывали потайные уголочки и укромные места. Если идти от подъездов дома по одной из витиеватых дорожек, то можно было вдруг выйти на небольшую площадку, где стоял среди плотной зелени крепко сбитый стол со скамейками. Вот за этим‑то столом летом в выходные дни собирались мужики (человек десять–двенадцать) – жители дома и, стуча костяшками, играли в домино.
Но домино было только поводом. Главное, ради чего собирались, это общение и «приём на грудь». Жены, да и вся родня игроков, конечно, были против такой игры с возлияниями. Они периодически контролировали процесс, несмотря на то, что «спортсменами» каждый раз давались обещания: «Больше ни-ни!». Игроки же, чуть заслыша шуршание в кустах или шаги проверяющих, умело и ловко убирали посуду.
Я к этому столу приходил из любопытства, просто посмотреть, как они там играют. Мужики, обращаясь к дяде Юре, почти каждый раз шутливо спрашивали его:
– Он нас не заложит?
– Неее, – отвечал, глядя на меня, захмелевший дядя, – Шуряк свой, он не продаст!
И вот однажды я стоял возле стола и наблюдал их игру. Мужики, то выпивали, то рассказывали анекдоты, то ударяя по столу, периодически орали: «Рыба!»
Вдруг в кустах зашуршало, заёрзало, задышало… Посуда была моментально убрана в какой‑то выдвижной ящичек, смонтированный под столом, а лица присутствующих приняли благообразные выражения.
Но тут из кустарника медленно и с достоинством, с очень серьезным видом вышла маленькая чёрненькая, кривоногая собачка какой‑то невнятной породы и уставилась на игроков. Почти хором все выдохнули:
– Чуууурик!
– Ррр-гав! – ответил Чурик.
Он постоял буквально секунду и ушёл обратно в кус-ты.
Чурику тогда было лет пять. Я его до этого случая регулярно видел возле дома. Гулял он один, видимо, владельцы выпускали пёсика на самостоятельный выгул. Машин тогда было немного, да и двор не проездной, так что опасность была минимальна. К чужим Чурик на ручки не шёл, злобно рычал, и украсть такую собачку никому бы не пришло в голову. Ходил он, как хозяин двора, монотонно дефилируя вдоль подъездов, иногда отбегая в зелёный скверик.
Через много лет, отслужив срочную, зашёл я навестить дядю Юру. Жена его Галя умерла, а сын рано обзавёлся семьёй и уехал. Дядя во второй раз женился, но это была скучная, вялая и занудливая тётка. Он стал пить запойно и превратился совсем в другого человека. Посидел я у них в знакомой квартире с совершенно теперь незнакомыми людьми. Поговорили минут тридцать…
Выхожу я из подъезда и вижу, как мимо меня по проезжей части бредёт знакомое существо. Чурик стал чрезвычайно седым, все его и без того кривые четыре ножки (знаю, что лапки) ещё и прихрамывали, язык из-за отсутствия зубов выпал набок. Пройдя мимо меня, он попытался бодрячком запрыгнуть на бордюр пешеходной дорожки, но сделать ему это удалось только со второй попытки. Зато, когда забрался, то уж очень взбодрился и побежал дальше эдакой змейкой – то влево, то вправо. Кидало Чурика в разные стороны. Видимо, жить ему оставалось совсем мало – неделю или месяц, впрочем, может, и год.
Было мне двадцать лет. И как‑то я так неожиданно подумал, глядя на этого друга человечества, что вот юность-то моя, наверно, прошла совсем.
«Но ведь это ничего, впереди обязательно будет молодость, потом зрелость, и даст Бог – старость. Как же много ещё предстоит впереди… Как много!»
Так я тогда думал…
Он?
Только начался 1991‑й год.
Цены убежали вперёд. Зарплата гналась за ними, как старая хромая лошадка за новеньким задорным Феррари.
Год назад я ушёл от молодой жены, прожив с ней четыре года. И вот тут отпустили цены. Государство устранилось от своих доверчивых граждан, а новая моя любовь, подписав очень выгодный контракт, уплыла на громадном лайнере в кругосветное гастрольное путешествие.
Я остался в Москве один на один с громадным количеством конкурирующих в борьбе за жизнь жителей. Хочу напомнить всем завидующим и ненавидящим москвичей: в кризисы, на переломах истории, в разруху или во время вой-ны, гражданской особенно, – не приведи вам Господь жить в большом городе! Догадаетесь сами, почему?
Казалось бы, так мне и надо, ведь я сам ушёл от жены (детей не было), сам сделал выбор: куда и к кому уйти, сам выбрал работу, сам решил учиться на академического вокалиста, который сто лет никому не нужен в годы смятений. Всё сам, и во всём сам и виноват. Ну ещё, конечно, руководство в стране подкачало. Но к нему не пойдёшь, не пустят. А если и пустят, то сразу и прогонят, чтобы не гундел тут…
Да, так тебе и надо! Но всё‑таки жаль парня – ведь человек и к тому же живой.
Я начал худеть. Сначала мне это даже нравилось. Но когда я стал подсчитывать, сколько я могу в месяц купить коробок спичек, соли, пачек масла, лука, хлеба и геркулеса, то оптимизм мой моментально улетучился.
Через три месяца я похудел на 16 килограммов и влез в старый костюм 46‑го размера. А когда сдавал экзамен по вокалу, то после первой спетой фразы: «Скорбит душа», ноги мои затряслись так, будто я, исполняя торжественный монолог царя из оперы «Борис Годунов», вдруг захотел пуститься в пляс.
Выхода я не видел. Жизнь катилась вертикально в пропасть, на самое дно, наверно, туда, куда упала «маленькая жёлтая птичка» из известного кинофильма. Встречи и разговоры с друзьями и знакомыми ни к чему не приводили, у всех было не лучше, денег больше не становилось, и никакого просвета ждать было неоткуда.
И вот в один из самых безнадёжных дней я еду в метро. Народу немного, все сидят. Я тоже сижу и раз за разом читаю на противоположном от меня стекле вагона призыв: «Уступайте места инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам!», – и о чём‑то своём думаю. Насколько я понимаю сейчас, это было время моего погружения в самую что ни на есть безнадежную депрессию. Тянущее чувство где‑то в районе солнечного сплетения уже не давало появиться аппетиту, голод приносил покой, а равнодушие и апатия волной накатывали всё чаще и продолжительней.
Проехал я несколько станций, и вдруг подходит ко мне пожилой мужчина, склоняется надо мной, и, глядя на меня в упор, говорит:
– Молодой человек, Вам очень плохо?
– Да нет, – отвечаю я, – не очень.
Он чуть помолчал, наверно, влез ко мне в душу, и мягко так вдруг сказал:
– У Вас глаза пощады просят…
Мы посмотрели друг на друга ещё чуть, и он добавил:
– У Вас всё будет хорошо, надо потерпеть…
И отошёл к дверям на выход.
Поезд остановился. Он вышел.
Я поехал дальше. Через несколько минут вышел и я.
Ничего вокруг не изменилось: мне не дали денег, не предложили перспективную работу, меня даже не погладили по голове. Но внутри меня загорелся какой‑то маленький огонёк. Можно даже выразиться иначе: мне то ли подарили соломинку, за которую можно зацепиться, как за бревно, то ли вручили горчичное зёрнышко Веры.
День за днём по крохам становилось легче, что‑то менялось к лучшему почти незаметно, как июльский ночной ветерок, а что‑то оставалось без изменений. Но была уверенность, что ко мне тогда в вагоне приходил Он и повелел терпеть и жить дальше.
Через некоторое время я перестал худеть и в моей невеселой жизни появились входы и выходы, перспективы и новые люди.
А вы как думаете – это был Он…?
Вот ведь…
Телефон не зазвонил, а завибрировал. Я его взял и нажал на зелёный кружок.
– Алло…
– Сыночек, это я, – слышу я мамину интонацию, но не её, а какой‑то тоненький, жалобный голос.
– Да, мам… – говорю я от неожиданности бессильно и на выдохе.
– Где же ты, сыночек?
– Я здесь, мама – здесь! – уже сдерживая себя, чтобы не заорать, говорю я.
– Нееет, тебя здесь нет… Это неправда… Я каждый день смотрю, жду, а тебя всё нет, – жалуется она, как маленькая.
– Я здесь!!! – ору я во всё горло и рывком просыпаюсь…
Одышка утихла.
Беру телефон: 26 декабря 05.30 на часах.
Католическое Рождество. Мама 35 дней в реанимации в коме.
Сон, как явь.
Явь, как сон. Друзья, враги, знакомые, равнодушные и сочувствующие – все вперемешку.
Прицел сбит! С друзьями и близкими ругаюсь и порчу отношения, в посторонних пытаюсь найти поддержку. Заглянул в Фейсбук. Там грустный текст в блоге фейсбучной подруги-журналиста. У неё тоже – не очень… Посочувствовал. Прочитал смешную миниатюру Лейлы Рахматовой, и на душе как‑то вдруг полегчало. Задорно и остроумно пишет эта талантливая женщина! Лайкнул… Стало ещё чуть легче, и даже, наверно, уснул. Спасибо тебе, Лейла!
Всё же полезная придумка – этот Фейсбук!
Актриса
Было это давно, но не очень…
У детского театра при общеобразовательной школе в Алтуфьево случился 20‑летний юбилей. На празднование сего знаменательного события попросили они меня пригласить и привезти звезду. Но не фальшивую «звезду», коих сейчас называют таковыми, а настоящую, потому и написал первый раз без кавычек. Обсудили… Все сошлись на Ирине Муравьевой. Я лично её не знал, но мог получить достойную рекомендацию, телефон и попробовать пригласить. Так я и сделал.
Ирина Вадимовна была настроена позитивно и согласилась. Подтвердили дату, время. Проговорили, что споёт, что скажет…
Настал означенный день.
Я сам за рулём на машине приехал за ней к подъезду дома на Кутузовском. Время рассчитали с запасом на пробки. Актриса вышла, я поздоровался и, представившись, открыл дверь. Она разместилась. Тронулись.
Отъехав от дома метров пятьсот, я вдруг вспомнил свой ночной кошмарный сон. Он был такой яркий и эмоциональный, что меня, внезапно его вспомнившего, потянуло именно с этого и начать разговор:
– Ирина Вадимовна, мне сегодня приснился такой страшный сон, что я даже не знаю, к чему его отнести и как расшифровать?…
– И что же Вам приснилось? – вежливо уточнила актриса.
Отступать было поздно, и я выпалил всё как на духу:
– Мне приснилось, что я на концерте вышел на сцену, начинаю петь, а все смотрят не на меня, в смысле, не в глаза мне, а ниже… Ниже пояса… И смотрят недоумённо. Я продолжаю извлекать из диафрагмы фразу за фразой: легато, пиано, форте, фермата и тому подобное – должной реакции нет! Все, как прежде, смотрят ниже и, переглядываясь, удивляются. Ну, наконец, я и сам опускаю взгляд… И что же?! У меня на чёрных брюках смокинга совершенно расстёгнута ширинка, и из неё торчит нижняя часть белой концертной рубашки! Я сразу проснулся, и проснулся в панике и диком смущении… Вот такой сон! К чему бы это?
Всю эту околесицу, сидя за рулём, единым залпом я несу актрисе, едва познакомившись с ней, сам не зная почему, вот так – вдруг и безо всякого повода?!
И тут правым ухом я слышу сначала шёпот, потом крик:
– Стоооп… Остановите машину!
Я останавливаюсь, очевидно, понимая, что меня приняли за маньяка и сейчас произойдет побег известной актрисы из машины: она помчится, не оглядываясь, домой, в подъезд, в квартиру, за дверь и долго будет дрожать, ожидая погони. А чуть позже вся страна узнает про Алтуфьевского маньяка, которого удалось изловить и изолировать, благодаря беспримерной бдительности народной артистки, ну и, конечно, нашей доблестной полиции.
Пауза. Ирина Вадимовна, замерев, растерянно и одновременно пристально поглядела мне в глаза, будто о чём‑то догадавшись, и тревожным голосом категорично заявила:
– Через сто метров разворот! Разворачивайтесь, едем обратно, ближе к дому!
«Всё, – подумал я, – если я и не маньяк, то выступать уж точно не будет!»
И тут она скороговоркой пояснила:
– Я забыла минусовую фонограмму! Как петь‑то?!
«Фууу-ф! И всего‑то! Боже мой!» – радостно возликовало моё нутро.
Развернулись, подъехали к соседнему двору (ближе перекрыто). Ирина Вадимовна позвонила мужу и объяснила, что сейчас придёт молодой человек (это я) и что ему надо передать диск.
– Я на каблуках, а Вы бегите скорей, а то опоздаем! Только на него (мужа) пристально не смотрите – у него ячмень на глазу вылез, и он очень стесняется.
Всё так и произошло: Леонид Данилович выдал мне диск, и я убежал. Ячменя не увидел, правда, как и просили, не присматривался.
Трогательно это было – с ячменём. Вот так, в такие моменты настоящие отношения двух близких людей, наверно, и становятся очевидны постороннему случайному свидетелю.
Ехали мы очень долго, часа три. Пробки. Актриса на третьем часу начала периодически сползать с пассажирского кресла вниз и закатывать глаза. А я ей бурчу: «Вы в Бога веруете… православная… воцерковлённая… – это Вам испытание, терпите!» – говорил я хоть и весело, но обречённо, ведь взлететь над потоком машин было невозможно…
Приехали прямо к началу.
Сразу на сцену. Актриса, очевидно, переживала за своё выступление. Но всё прошло замечательно. Не помню точно, о чём она говорила переполненному залу с подростками, вроде что‑то про слонов больших и маленьких. Это была притча, смысл которой теперь уж я и не припомню. А затем – песня.
За кулисами чай с пирожками – и обратно в путь.
Доехали в два раза быстрее. Очень много говорили. Занятно всё это… Повезло мне познакомиться и лично узнать интересного человека!
Как она мой сон‑то «считала» – а?! Настоящая актриса! Её приёмная телепатическая антенна – от Бога!
Через год ещё раз, но уж совсем коротко виделись на торжественном мероприятии в парке Победы на Поклонной горе.
Но интересной для меня была, конечно, та – первая встреча…
Офыбка
Нам было тогда лет по двадцать семь. У моего друга-одноклассника умер отец. Я давно знал покойного и потому был приглашён на похороны и поминки. Похороны прошли очень достойно. Была, правда, небольшая заминка при заколачивании крышки гроба… Папа был высокого роста и по смерти ещё изрядно прибавил. Оказывается, покойники увеличивают свой рост сантиметров на пять-десять. Так что, когда случится вам, не дай Бог, кого хоронить, не оплошайте и заказывайте гроб подлиннее прижизненного размера усопшего. Тут ещё и на него надели модельные туфли на каблуках. Вот ноги и не полезли. Стали втискивать силой, так голова высунулась за бортик. Пришлось в коленях подогнуть, да так – к ангелам, в смысле, под землю и отправить. Нет, неправильно написал: тело отправили под землю, а душа-то, наверно, улетела в сопровождении ангелов.
После похорон приехали поминать домой. Человек двадцать. Стол накрыт. Покурили и сели кушать. За столом, кроме двоих сыновей и вдовы, присутствовали друзья покойного, сподвижники (папа был художник), родственники и я. Рядом со мной и оказался один из родственников. Это был солидного вида дядечка лет пятидесяти в торжественном костюме, на лацкане пиджака которого висел значок Депутата Верховного Совета РСФСР.
Прозвучал короткий поминальный тост. Молча выпили. Ткнули вилками, куснули. Второй короткий тост… Выпили, ткнули, куснули… Молчим, жуём… Как‑то неловко. Водка ещё не «забрала», да и вообще тяжело на сердце. И тут депутат в образовавшейся паузе как бы мне, но этак довольно громко и поставленным голосом, который все сразу услышали, тыкая вилкой в направлении блюда, и говорит: «Селёдка на поминальном столе – это офыбка…» И так он это важно и со знанием заявил, что никто хоть и не понял, что за слово было в конце фразы, но все сразу как‑то передёрнулись и стали глазеть друг на друга, ища разъяснения. Я осмелел первым, наверно, из-за того, что обратились вроде ко мне – я ж рядом сидел, да и был самый молодой… Итак, я набрал в лёгкие воздух и робко спросил, в конце вопроса уходя на фальцет:
– Штооо?
– Селёдка на поминках – офыбка, – повторил ещё более категорично важный гость.
– Ой! – первой догадалась и беспокойно вскинулась вдова. Она, поспешно встав из-за стола, скоро подошла к другому его краю, где и стояла та самая «ОФЫБКА», и уж было хотела вовсе утащить блюдо с селёдкой куда‑нибудь на кухню с глаз долой, будто от селёдки на столе зависело, попадёт ли её новопреставленный супруг в нужные ворота где‑то там – далеко за облаками и, может, даже гораздо выше, ну уж точно – не ниже, нежели вход в двери Верховного Совета РСФСР. Но тут гость по-доброму и даже с некой достойной снисходительностью остановил женщину и твёрдо заявил своё непоколебимое «нет»: – Нет, нет, нет – не надо! Пусть уж стоит – не страФно! Оказалось, что он напрочь не выговаривает букву «Ш» и совершенно этого не смущается и даже как бы напротив… Ну не страшно, так не страшно. Тем более, что я и ещё пара человек уже съели по кусочку этой неподобающей случаю селёдки. И вроде ничего…
Тут всех сразу отпустило, и поминки покатились дальше как по маслу. Последовал третий душевный тост от одного из художников, затем официальный от самого противника селёдки, далее от детей и остальных родственников. Я тоже сказал что‑то. Мой сосед между тостами в задумчивости ещё несколько раз пробурчал про ошибку, но его уже никто не слушал. Одним словом, поминками все остались очень довольны.
Примерно через двадцать лет, будучи в гостях на очередном дне рождения всё у того же моего одноклассника, я спросил, помнит ли он тот случай на поминках, и как поживает его высокопоставленный родственник? – Да, ты знаешь, – улыбнулся мой друг, – недавно умер его почти столетний отец, и мы с матерью были на похоронах. Так вот на столе, кроме прочего, стояли блюда с селёдкой, и все гости трескали её за обе щеки. И сам депутат трескал! И ни про какую ошибку даже не заикался.
В строю и вне… Самый счастливый день
Это было 2 декабря в пятницу.
До дембеля оставалось пять месяцев.
«Рота, подъём!»– прозвучала ненавистная команда.
«Как же так, я не услышал предварительного оповещения приготовиться к подъему?»
Я вскочил и в кальсонах побежал в туалет, но на полпути увидал, что рота уже стоит в строю. Все одеты… Что за чёрт?!
Побежал обратно одеваться.
Через минуту выбегаю уже по форме и в строй. Перед строем меня останавливает Серёга Жалнин, берёт за руку и ставит рядом с собой. Сергей рядовой «старик», как и я… И чего это он?! Спросонок, ничего не понимая, встаю с ним перед строем. Где офицеры и сверхсрочник старшина?! Куда они все подевались? И тут он давай командовать всей роте:
– Ррааавняяяйсь! СмииирррнО!
Ррравнение на средину! – поворачивается ко мне и отдает рапорт:
– Рядовой Тулупов, весь личный состав роты поздравляет Вас с днём рождения и желает здоровья и скорейшего дембеля! Ура!!
И все сто человек как заорут:
– Уррааа! Уррааа!! Уррааа!!!
– Вольно, разойтись! – скомандовал Сергей. И тут все бросились меня поздравлять, хлопать по спине, плечам, обнимать и пожимать руки.
А ведь я совершенно забыл про свой день рождения! Совершенно! Ещё и спросонья…
Все были так расположены, так доброжелательны и при этом так искренни!
Подошёл «салага» рядовой Толик Автономов из-под Тулы и сказал этак изумлённо:
– А я думал, что ты только год отслужил или даже меньше…
Это он так решил потому, что я, став «стариком» и будучи в наряде дежурным или дневальным по роте, всегда сам брался мыть сортир, кабинки с «очком», раковины и пол. Одним словом, самую грязную, неприятную и даже унизительную работу. Таковой она ощущалась особенно для «салаг». К тому же над ними часто подсмеивались. А в моё дежурство никто даже плюнуть бы на пол не посмел, да и сходить мимо унитаза тоже. Сердитый я был для своих. Убраться же мне было несложно, а молодых избавляло от унизительной процедуры. И без того они после гражданской домашней жизни ходили гнобимые, подавленные, да ещё и лысые.
Весь день я был под впечатлением утреннего события. Все мне при встрече улыбались, разделяя мою радость. И, когда после отбоя лег в койку, то никак не мог уснуть и тоже всё улыбался, как Юрий Деточкин после спектакля, когда он ехал в окружении милиционеров в КПЗ. И подумал тогда: «Как же хорошо жить! Никогда не забуду этот день!»
И ведь не забыл.
Армейская жизнь и события того времени – это отдельная тема. Там, наверно, есть на что опереться, и, может, даже случится так, что именно те «луковки» позволят мне достойно предстать перед райскими вратами и перевесят все обиды, которые я часто, вольно или невольно, наношу своим самым любимым и близким людям.
В строю и вне… Ещё один самый счастливый день…
Не знаю, как сейчас, но в советское время в армии в столовой было так…
Мы заходили в зал всей ротой, вставали с обеих сторон к длинным столам и ждали команду: «Садись!» Если садились на скамейки не одновременно или старшина был просто не в духе, то звучала команда: «Отставить!» И затем снова: «Садись!» Иной раз до семи приседаний доходило, а то и более…
За каждый стол садились десять человек. Рассаживались так: во главе два-три «старика»; далее – отслужившие год и более, которых называли «шнурки» или «черпаки»; ну, и в самом конце пара-тройка «молодых» или «зелёных». Котелок с едой стоял возле «молодых» и один из них раскладывал её по тарелкам. Распределял он таким образом, что куски мяса доставались сначала «старикам», затем «шнуркам» и уж после «молодым». Белый хлеб и масло тоже сразу передавались «старикам», они забирали самые толстые горбушки, и тарелка отправлялась дальше. С сахаром было всё то же… Часто в конце стола почти не оставалось ни мяса, ни хлеба, ни сахара. И никому не было никакого дела до того, как‑то там недоевший первогодка будет весь день ноги таскать?
Учитывая, что ближе к весне кормили в основном «кирзой» (так называли перловку) да квашеной капустой, то «зеленке» становилось совсем грустно.
И тут я, с Вашего разрешения, немного отвлекусь…
Помню, только прибыли мы из «учебки», буквально, в один из первых же субботних парко–хозяйственных дней нас отправили солить и квасить капусту. Там в огромном ангаре мы должны были резать кочаны свежей капусты на крупные части и бросать их в ёмкость, обложенную кафелем, похожую на небольшой бассейн размером четыре на четыре и глубиной метра в три. Сначала капустой покрыли дно. Затем посолили, вскрывая и высыпая несколько пачек с крупной солью на образовавшийся слой. Дальше было самое интересное… Нам каждому ещё перед началом работ выдали резиновые сапоги. Надев их, надо было прыгнуть вниз чана и что есть силы толочь ногами эту самую капусту. Но если прыгнуть всем, а нас было пять человек, то как же потом оттуда выбираться и готовить новую порцию? Наконец, благодаря смекалке старшего, и, соответственно, более опытного старослужащего, назначенного нами командовать, додумались мы до того, что спрыгнуть должны двое, а трое будут им туда сверху заготовки кидать. И так совместными усилиями поднимать утрамбованные слои капусты до самых краёв чана. Таким образом, предполагалось, что топтуны вместе с капустой тоже приподнимутся и в конце концов вылезут.
Не помню, откуда появлялась капуста. То ли она лежала там, в ангаре, гуртом, то ли её нам подносили в корзинах, но суть не в этом. Суть в том, что через час все замудохались чуть не до смерти, а чан не заполнился даже на четверть. Особенно устали те, которые пошли в забой. У них там внизу через полчаса ноги сначала стали ватными, а потом и вовсе окаменели, и воины очень пожалели о своем погружении в капустный бассейн. Они отчётливо поняли, что сильно погорячились, когда первое время почём зря молотили ногами, превращая капусту в кашу. Мы, в том числе и я, которые сверху – тоже не лошади: подносить, резать да забрасывать в чан. Стало ясно, что дело «швах»: сучить ногами надо реже и капусту резать крупнее, иначе ребят не спасти, и останутся они дальше жить да служить в соленой капусте собственного приготовления.
Прошло ещё немало времени, и треть чана мы накидали. Тут один из наших – верхних – который «старик» и начальник, заявил, что пойдет вниз к товарищам, и что он, оказывается, знает, как надо солить и давить, так как этим с успехом занимался на гражданке, где‑то там у себя, работая в колхозе. Он и действительно, бодро спрыгнув вниз, начал давить кочаны, пританцовывая, будто Адриано Челентано, который подобным образом мял виноград в каком‑то там итальянском фильме.
Но знаток и передовик-колхозник как‑то очень быстро выдохся, перестал плясать, остановился, задумался, взгляд его на секунду остекленел, он вдруг засуетился, завертелся, быстро расстегнул ширинку и начал ссать прямо в капусту. Мы – двое, оставшиеся сверху, – гневно возмутились и заорали, мол, ты с ума сошел, ведь сами зимой жрать всё это будем! Совсем, что ли опупел! Он же, ничуть не устыдившись, заявил, что мы ничего не понимаем, и разницы никакой нет между тем, что в пачке с солью и тем, что в его струе: оно, хоть и несколько иное, однако тоже – соль! Но самое жуткое случилось следом… Те двое нижних, что прежде уработались и остолбенели, вдруг тоже свои хозяйства подоставали и повторили действия старшóго знатока производства. Он, видимо, открыл их морально–физиологические крантики, после чего хлопчики и привнесли в процесс квашения свой неповторимый специфический букет. Была у меня и ещё одна, но уже строго медицинская, версия произошедшего. Она заключалась в том, что они там – в чане – нанюхались испарений капустного сока с солью, и в их мозгах произошёл тот же эффект, что и у граждан, сующих головы в целлофановые пакеты и вдыхающих там ядовитый толуоловый клей марки «Момент».
Неумолимо подступало время обеда. Мы неистово подносили, резали, солили и топтали. К обеду успели наполнить гораздо больше половины чана и вытащить наверх обессилевших товарищей.
И вот позже каждый раз, когда в столовке давали квашеную капусту, я маялся сомнениями: уж не из того ли самого бассейна принесли нам покушать?
Но вновь продолжим наше основное повествование, не ради же капусты я затеял тут целый рассказ писать…
Нас было четверо…
Мой друг Генка Анисифоров – одного со мной призыва: спокойный, выдержанный, среднего роста, черноволосый и коренастый русский татарин из-под Казани с резким прижатым голосом. Он тогда был очень похож на актера Николсона в молодости, такая же демоническая внешность: почти прозрачные под нависшим лбом серые глаза и сам взгляд – чрезвычайно жёсткий и даже пугающий. До армии он занимался штангой, ничего из литературы не читал, жил сам себе на радость, активно встречался с женщинами и в этом плане казался продвинутым, но в роте о своих интимных отношениях предпочитал лишнего не болтать. Генка обладал острым природным умом. Я поражался точности его восприятия в оценке людей, способности к ситуационному юмору, умению себя достойно держать с офицерами и «стариками», и главное – это его внутренняя порядочность во всём.
Мы оба сошлись на том, что «стариковать» и унижать «зелёнку» – занятие недостойное, и когда сами станем «дедами», то откажем себе в этом сомнительном удовольствии.
К нам сразу примкнул и полностью разделил эту тему Сережа Власов из Свердловска (ныне – Екатеринбург). Сергей – блондин с большими залысинами на лбу, интеллигентный и тихий молодой человек, скорее, напоминал какого‑то мыслителя, нежели рядового советской армии. Говорил он негромко, как бы сам себе, но при этом смотрел прямо в глаза собеседнику, был хоть и мягок, но тверд (такое противоречие иногда бывает), матом совершенно не ругался, вывести его из равновесия было практически невозможно. Только мы с ним во всей роте не делали дембельского альбома и не перешивали форму, готовясь к выходу в гражданскую жизнь. Наше общее понимание всего вокруг происходящего казалось совершенно естественным и неудивительным.
Через месяц после начала большого эксперимента наши действия поддержал ещё один «старик» – Сергей Антропов. Меня с ним связывала одна интересная тема… Вот ведь странно устроена человеческая то ли логика, то ли психика! Как вы сможете прочитать в конце рассказа, моя фамилия – Тулупов. Ракетными вой-сками стратегического назначения, где я служил, командовал тогда генерал армии В. Ф. Толубко. Раз в месяц ко мне кто‑либо из сослуживцев подходил и с загадочным выражением лица тихо спрашивал:
– А Толубко, случайно, не твой родственник?
– Нет, не мой, – с завидным постоянством, как дятел, повторял я, – он же Толубко, а я – Тулупов.
– Не, ну, может, какой дальний родственник? – продолжая надеяться, допытывался вопрошающий.
И самое интересное, что в вопросах никогда не было никакой иронии или сарказма – всё с широко раскрытыми глазами и последующим разочарованием.
К Сергею Антропову подходили ещё более почтительно, ведь там родственником мог оказаться сам Председатель КГБ СССР Ю. В. Андропов. Да и буковка менялась всего одна… И разочарование у интересующегося было сильнее, нежели в моём случае.
Но к делу! Что же за тема такая появилась у нас, а точнее, у меня в последний отрезок службы? Один бы я никогда не воплотил этой идеи в жизнь – сожрали бы свои же «деды». Они и так чуть позже пытались развернуть нас в русло «славных» традиций армейской дедовщины. Но Генка зыркнул исподлобья, я что‑то злобно прорычал, Сережа тоже твердо выдвинул свой тихий, но разумный аргумент, и от нас отстали.
Суть в том, что удумал я распределять еду за столом, начиная с молодых, в расчете на их сознательность и чувство врождённой справедливости, которое, как искра Божья или Святый Дух (называйте, как вам удобней и ближе), всегда с нами и в нас от самого рождения и до смерти. Хоть Евангелие я тогда ещё и не читал, но почувствовал как‑то, что именно так будет справедливо и правильно. И загорелся я этой идеей, и поделился ею, и приняли её тогда друзья мои очень близко к сердцу.
Конечно, дедовщина сильно привлекательна не только отслужившим бо́льшую часть срока как возможность сачкануть и самоутвердиться, но и – а это, наверное, самое главное – удобна она и привлекательна офицерам, которые могут в своё отсутствие оставлять внутреннее управление в воинском коллективе на самотёк в расчете на сложившееся иерархическое устройство. Всё бы оно ничего, ведь и, действительно, прослуживший дольше, хоть и не на много, – старше и опытнее, и, конечно, ему бы помогать офицерам в управлении, обучая молодняк, если бы, однако, очевидно благая цель извращённо на каждом шагу не подменялась на откровенные издевательства и унижения… Что может правильно понимать молодой девятнадцатилетний парень в отношении такого же, как он сам, который всего‑то на один год младше его самого? Да почти ничего! Превалирует только одно – желание сатисфакции за предшествующее годичное подчинение с унижениями. Конечно, были и «старики» над нами, которые именно подсказывали и учили. Но и они шли в общем потоке таких взаимоотношений, которые обижают любого нормального человека, не смея либо не желая нарушить сложившиеся устои.
Здесь я бы хотел ввести одно объяснение…
Среди служащих срочников, как, впрочем, и в любом коллективе, где существуют иерархические отношения, случаются такие экземпляры, которых невозможно не унизить. Они настолько готовы моментально и при малейшей опасности или давлении подставить вам свой зад, что соблазн дать по нему коленом преодолеть почти невозможно. Если только брезгливо не отвернуться и с досады не плюнуть на пол. Этот тип людей, существовавший во всех народах всех стран и во все времена, названный мизерабль (отверженный), прекрасно известен. Хотя и среди них, если следовать сочувствующему им Виктору Гюго, есть граждане, достойные уважения. Впрочем, не о них здесь речь: ни о тех, кому сочувствовал великий писатель, ни тем более о тех, кто даже и его сочувствия не удостоился. Мы говорим о психически нормальных людях, которых пыталась сломать порочная армейская система. И это, заметьте, не касается необходимого воспитания у молодых и порой избалованных ребят, уважения к любому труду, чувства ответственности за порученное дело, навыкам самообслуживания и социализации. Да и ещё много чего необходимого, что насильно и жестко прививает армейская жизнь во благо!
Итак, мы втроём всё обговорили и твёрдо решили, как я уже написал выше, организовать такой стол, где распределение происходит с другого края, то есть с молодёжной его части. Туда же поставили кроме котелка белый хлеб и сахар. В первый опытный день мы, «старики» – организаторы, были все в сборе, заняв свои места во главе стола. Эксперимент начался неожиданно для всех, кроме нас. Перед молодыми поставили котелок, хлеб и сахар. Распределять должны были они сами. Мы пассивно сидели и ждали своей оставшейся доли. Через минуту, когда молодые всё распределили, то оказалось, что мы трое остались без сахара, хлеба и мяса вовсе. «Черпаки» въехали сразу и взяли себе меру, как обычно. А вот самые юные расхватали всё с переизбытком. «Черпаки» заржали в голос. И тут «зелёнки» наконец смекнули и, краснея, стали перераспределять по новой. В итоге поделились справедливо, и нам досталось приблизительно столько, сколько и всем остальным. Довольны оказались все: мы – тем, что эксперимент удался; «молодые» – что наелись не меньше остальных; а «черпаки» стали свидетелями того, чего ещё никогда не видели.
Было так до самого нашего дембеля. Вскоре о том прознали все. «Молодые» образовали очередь побывать за чудесным столом. Мы, конечно, не всегда сидели во главе вчетвером или втроём, иногда кто‑то из нас оставался даже и один. Но «черпаки», следуя новой традиции, делились, как старики. Офицеры знали, но никак не реагировали.
Я дембельнулся в начале мая. Отгулял положенные три отпускных месяца и с августа устроился на работу.
В ноябре раздался телефонный звонок, и я услышал знакомый голос Толика – одного из бывших «черпаков».
– Александр, привет! У нас дембель! Первую часть призыва отпустили сегодня! Саша, можно мы все приедем к тебе домой и отметим?!
– Конечно, приезжайте! На банкет не рассчитывайте, но закусить куплю. Только, чур, не нажираться. Пузырь на троих и не больше!
– Водки мы сами по дороге немного купим… Всем же потом транзитом через Москву и дальше, кому куда.
– Сколько вас?
– Двенадцать человек.
Жили мы с мамой вдвоём в трёхкомнатной квартире, и развернуться было где. Мама работала до самого вечера, а у меня был выходной, и, будучи совершенно свободным, пошёл я в кулинарию, купил там сколько было полтавских котлет, квашеной капусты, варёной картошки и в магазине «Морозко» фасолевых стручков. Ну и, может, чего‑то ещё, уж и не помню.
Отварил, поджарил. Приехали, выпили, закусили…
Все ко мне относились с почтением, будто я какой‑-нибудь Мао Цзэдун, или Ким Ир Сен, или даже Хо Ши Мин, что меня несколько смущало и удивляло. «Ну, понятно, – решил я про себя, – я же хозяин, и они у меня в гостях…»
Среди торжества, а это был фуршет, и все стояли, так как стульев было мало, решили выпить за меня.
И тут выяснилось, что ребята продолжили нашу традицию, и льготных столов для «молодых» стало аж три!!!
Я чуть не расплакался…
И это был ещё один «самый счастливый день…» в моей жизни.
Берёза
– Саш, спилил бы ты её, пока тонкая.
– Хорошо, спилю… потом. Завтра спилю.
Бабушка мне не поверила.
– Ведь забудешь, а там корнями избу подымет.
Березка выросла совсем незаметно и как‑то сзади из-под дома. Вдруг взяла и вылезла. Почему на неё пару лет не обращали внимания, даже и не знаю… Я был в армии, а остальным, видимо, и дела никакого не было.
Прошёл день, неделя, месяц. Бабушка не напоминала, да и я то вспомню, то забуду.
В конце августа возвращаться в Москву. Подхожу к бабушке и говорю:
– Ну чего, березу‑то пилить?
– Нет, не надо. Не трогай. Почитай метра два уже. Пусть растёт, коли так. Всё память…
Подошли мы к ней, постояли, посмотрели на кривенькую…
И оставили.
Бабушка умерла через два месяца в конце октября. Да и все, кто жил в том доме, теперь уже умерли. Вот и мама в этом году…
Бревенчатый дом давно завалился, и его разобрали. Я же тут каждое лето живу в доме, который построили возле. На месте старой избы вырыли колодец. С мамой так решили: колодец на месте прежнего дома.
А берёза у меня уже много лет перед глазами. Она, наверно, с пятиэтажку. Большая такая! Ствол остался немного под наклоном, его теперь и не обхватить. Птички и коты её очень любят. Ну и я – смотреть, как она растёт.
В лесу
Встретились мы в больнице, в кардиологическом отделении на плановом, но достаточно сложном диагностическом обследовании, которое называется коронарография. Лежали в одной палате. У меня не так давно случился инфаркт и у него тоже. Он постарше и на пенсии, мне чуть за пятьдесят, остальные – его ровесники. Подготовка к процедуре, а также и она сама, включая период последующего восстановления, занимает дней пять. За это время можно успеть не только познакомиться с лежащими по соседству, но и подружиться с теми, кто окажется близок и по духу, и по душе. Вот мы и познакомились, и разговорились. И рассказал он нам свою интересную историю о том, как приключилась с ним эта болезнь тогда, ещё несколько лет назад. Передаю я её по памяти, может, и ошибусь в мелочах, ведь время прошло, но главное помню точно…
Почти всё лето мы с женой живём в глухомани: в малюсенькой деревне на опушке огромного дремучего леса. До асфальта почти десять километров бездорожья. Ни магазинов, ни аптеки, ни нормальной связи, ничегошеньки. Случись потоп, пожар или помирать кому, так ни одна транспортина не доберётся: ни скорая, ни пожарная.
И тут оно так почти и сложилось. С каждой минутой становилось всё хуже. То ли изжога, то ли лопнуло что‑то внутри посреди груди… И одышка не уходит, и глубокого вдоха не хватает, и двух подряд тоже, и с трёх не надышаться… Пробовал лечь на спину, на бок, на другой – всё не то… Вскочил в панике! Плохо, тревожно и непонятно. Что это?!
Жена подошла. Посидела рядом с минуту… И пошла в огород что‑то там полоть.
А ты тут оставайся один. Мы все и всегда остаемся одни. Или почти одни… И ещё Она – костлявая.
Он взглянул куда‑то мимо нас в крашеную больничную стену, а, может, и даже чуть дальше, будто припоминая ту самую костлявую морду. Но не сбился и продолжил…
Кто же знал, что нельзя корчевать старые пни в жару! Нет, знал, конечно! Но раньше всё сходило с рук. Когда в юности бежал, пытаясь догнать в забеге и стать первым. Всегда, когда охватывало желание борьбы до победы, терял чувство меры и не замечал наступления предела. Увлекался, будто от результата забега зависела не только вся своя дальнейшая судьба, но и жизнь всей страны. Почему прирожденные спортсмены, как добившиеся больших результатов, так и не добившиеся таковых, мало живут? Полагаю, это Дух борьбы! Его проделки… Он помогает выигрывать или продолжать активно бороться, но и он сам может однажды вас разом прикончить.
Давно все забеги в прошлом, да и соревноваться негде и не с кем. И тут невольно начинаешь придумывать конкурентов везде и во всём. Сегодня это были пни и корни. Их надо было выдрать из земли десятикилограммовым ломом. У душистой черёмухи очень разветвлённая корневая система. Кустарник, превратившись в дерево, становится угрозой всем растениям в вашем саду. Его корни, прорастая под землёй на десять, пятнадцать и более метров, будто спрут, опутывают яблоню, вишню, рябину, сливу или что угодно и душат, поглощая и отбирая у более нежного конкурента жизнь. Садовое дерево или кустарник засыхает, а черемуха продолжает радостно разветвляться и плодиться по всему садово–огородному простору. Если вы срубили это злостное растение, когда оно уже большое дерево, то не вздумайте его пустить на дрова. Черёмуха при сгорании выделяет слезоточивый газ, в честь которого и назвали тот самый препарат для борьбы со свободолюбивыми или буйными демонстрантами. Сажайте лучше сирень.
Но я увлекся и отошёл от основной темы повествования. А ведь так далеко уходить в сторону нельзя! Можно вмиг лишить слушателя терпения и самому потерять нить рассказа.
Прошло часа три, а легче не становилось. И тут стало уж совсем худо. Появилось какое‑то чувство надвигающегося предела… Сейчас, вот-вот что‑то должно случиться! Встал и на деревянных ногах из последних сил пошел в туалет, будто там спасение… Успел только крикнуть: «Нашатырь!!»
Бухнулся на унитаз, но сидеть не смог. Сложился туловищем пополам на колени, туда же упала голова. Всё – сейчас умру… Жена принесла нашатырь, но он не помогает… Или помогает? Сознание есть, но жить – сил нет.
Рубашка за какие‑то пять минут сделалась насквозь мокрая, с лица пот, ну прям ручьем. И далее, через полное обнуление к чудесному воскресению…
Если вы думаете, что я только вспотел, то ошибаетесь: пролилось изо всех мыслимых отверстий – хорошо ещё, что всё происходило в санузле.
Но вот – ожил… Тело вернулось к жизни, разум просветлел. Позвонили в скорую, ведь не ровен час, может всё и повториться.
Скорая заблудилась, созванивались с водителем раз пять. Приехали через шесть часов после вызова и глубоко затемно. Встретили, как родных. Фельдшер, мужчина средних лет, спросил про симптомы, приставил портативный аппарат и снял кардиограмму. Через минуту объявил, что есть подозрение на инфаркт и сделал какой‑то обезболивающий укол. Непонятно зачем, когда боль давно прошла и даже хотелось шутить и иронизировать. Приказали собираться в больницу, мол, там разберутся точнее, и к тому же нынешние сутки, на счастье, дежурит кардиолог. Водитель скорой, а это была родная «буханка», только с полосой по бокам и красным крестиком в фонаре над лобовым стеклом, обратно ехать в полной тьме оробел. Пришлось влезть в мою Витару и быть предводителем нашего каравана из двух автомашин. До районной больницы километров тридцать. Приехали. Город древний, старая больница недавно перестроена и теперь почти новая. В приемном покое пожилая, та самая обещанная дежурная врач-кардиолог с лицом и голосом надзирателя в женской тюрьме (точно не знаю, но, наверно, они там такие). Фельдшер ей про симптомы, кардиограмму и инфаркт, а она ему сквозь зубы, тихо и злобно, будто желая удавить:
– Ты зачем его сюда привез?! – он ей в ответ с потерянным видом и дрожащим голосом:
– Так, вроде, все симптомы… и кардиограмма…
Она:
– Ты зачем сюда его привез?!
Теперь и она сама стала делать кардиограмму на портативный аппарат. Смотрит на график…
Вердикт: ничего нет – всё хорошо.
– Езжайте к себе в Москву… Знаете, какая у нас здесь очередь в Тулу на обследование стоит?! А у вас там всё по ОМС и без всякой очереди.
И снова фельдшеру змеиным шёпотом:
– Ты чего его сюда привез!
Честно говоря, я ей тогда поверил. Взял листочек с кардиограммой, сел в машину и отправился обратно в деревню, в заповедник.
Две недели я пытался хоть как‑то прийти в себя и брался то пилить брёвна, то колоть дрова, то ходить с бензокосой стричь травку и даже отжимался (уж больно хотелось снять какой‑то зажим в груди), но быстро уставал. Появлялась одышка, тяжесть в груди и возникало предчувствие рецидива. Я был совершенно подавлен. Жена на меня смотрела, как на симулянта, и разговаривала пренебрежительно, видимо, оправдывая такое отношение желанием взбодрить меня, что ли… Я же постоянно просил её понизить тон и не заводиться, но раз за разом всё повторялось: она меня задевала, я срывался.
И вот как‑то в очередной раз она съязвила, сказав что‑то неприятное и резкое, а я хоть и без сил, но заорал в ответ на уровень громче… И тут, будто добившись своего, она сразу умолкла и где‑то растворилась: то ли на участке, то ли в доме.
Я же, вконец измотавшись за две недели решил, что жить мне больше нет никакой возможности и надо просто уйти подальше в лес, а уж там, пройдя ручьи и овраги, выбившись из последних сил и желаний, как какому‑то дикому животному упасть, где придётся и сдохнуть. Пусть потом ищут… А как ещё? Нельзя же, вот так, как во все прошедшие дни, едва шевеля копытами, жить дальше?!
И ведь пошёл…
И ведь, хотя едва ногами от слабости перебираю, как пьяный в бреду, но, однако, бреду. Телефон с собой не взял, воды не взял. Ничего не взял. Иду смертушку свою повстречать: открыт, прям и ясен перед грядущей судьбою своей.
Прошёл я по тяжёлому смешанному лесу километра три. Всё, как и мечтал: иду через ручьи и овраги, иду и иду. Заказник там у нас: деревень и людей нет ни в одну сторону. Часа полтора уже брожу. Дорожки сменились тропинками, тропинки тоже рассосались, и только бурелом да кустарник вперемешку с молодыми деревцами. Пора бы и начинать помирать… Но что‑то, как, бывало, обречённо в задумчивости отвечала моя прабабушка на вопрос о её здоровье: «Не даёт Бог смерти, не даёт…»
Чем дольше я ходил–бродил, тем меньше шансов мне оставалось умереть. Сердце по-прежнему стучало, одышка была умеренной, ноги шли и шли. Вроде, даже полегчало на третьем часу…
Ну и чего?
Походил я ещё с полчаса, да и повернул домой. Перед подходом к деревне так и вовсе стало веселей, и я почти побежал.
Вернулся, как и ушёл, огородом через калитку на задах, которая в лес. Прошло часа четыре. Моего отсутствия даже не заметили, словом не обмолвились. Будто и нет меня. Прошёл я в дом, лёг на диван. Опять стало как‑то нехорошо. И подумалось тогда: «Никогда я на ней не женюсь! И даже, более того, сбегу при первой возможности, если, конечно, выживу».
Мы тут в палате дружно подивились на последнее его заявление и вопросили нашего рассказчика:
– Так ты ж говорил, что она жена?!
– Да, – говорит, – жена, только гражданская. Да теперь, может, она и сама не захочет.
И продолжил…
Спустя неделю приехал в Москву. Мне всё хуже. Записался к терапевту. Попал к нему через три дня. Терапевт назначил сделать и записал на электрокардиограмму. Прошло ещё пять дней.
Пришел. Лежу на кушетке. Девочка, которая делает ЭКГ и говорит: «У Вас плохая кардиограмма».
Через час привезли по скорой в Склифосовского. Почти сразу на операционный стол.
Инфаркт.
Поставили стент. Сразу стало легче. Вот, пока живой.
Хотел после реабилитации поехать в районную больницу и плюнуть в морду той бабе-кардиологу. Ведь оказалось, что на первой кардиограмме инфаркт был очевиден. Она просто тогда решила наплевать. Так и проходил я с инфарктом почти целый месяц. Но подумал и не поехал. Мысль у меня опасливая появилась, что сейчас вот приеду, начну слюну во рту собирать для плевка, разнервничаюсь, да ею же подавлюсь и второй инфаркт заработаю.
И вот что я теперь после всего думаю…
Если у Вас в жизни случится какая‑то неясная, запутанная или тяжёлая ситуация, то ступайте-ка вы в лес на природу. Походите, побродите – авось оно и само как‑нибудь разрешится.
Рассосётся…
Второй концерт…
Перед самым дефолтом 1998 года в Тамбове должен был состояться концерт в рамках фестиваля, посвящённого очередному юбилею Сергея Васильевича Рахманинова. Меня пригласили помочь в администрировании. Просьба поучаствовать пришла от знакомой актрисы, а после неё позвонил главный по проведению программы и объяснил, что ему нужна поддержка и свой человек рядом для координации. Я согласился. Но уже на вокзале, увидев моего, пусть временного, но шефа, я оробел… Дело в том, что выглядел он, как какой‑-нибудь чемпион зарубежной лиги боёв без правил: росту под два метра, голова, как две мои, челюсть – будто чугунный утюг, вмонтированный в нижнюю часть головы. «Мама дорогая! Какая дикая, бандитская рожа! – изумился я… – Наверно, коммерсант какой‑то, и, видимо, к музыке отношения совсем не имеет». Однако тембр голоса, мягкие интонации и речевые обороты выдавали в нём человека, хоть и сурового, но пожелавшего вдруг примкнуть к сцене и даже преклоняющегося перед искусством и его служителями. Возраста он был примерно моего или чуть старше, очень предупредителен и корректен… Одним словом, мы сошлись и поладили, будто давно знакомые товарищи.
Все музыканты, а это был Российский национальный оркестр и сопровождающие, поехали в ночь поездом, чтобы утром прибыть, разместиться, отрепетировать, отдохнуть и затем уж вечером – концерт.
Я помню сейчас самое главное и только то, что на меня произвело наибольшее впечатление, а потому из всей программы фестиваля остался в памяти только Второй концерт для фортепиано с оркестром и солистом Николаем Петровым.
Прибыли, поселились в гостинице рядом с залом филармонии и пошли на завтрак. Поели, и почти сразу дневная репетиция на сцене.
Петров был несколько ворчлив и недоволен темпом, который оркестр никак не хотел поддерживать и тянул пианиста назад, не давая ему устремиться вперёд. Он останавливался, что‑то объяснял, брал предусмотрительно положенный с края клавиатуры по правую руку белый платочек и смахивал им пот со лба.
Напомню, что всё это происходило в трудные и смутные времена с нашим безобразным, вечно пьяным тогдашним президентом, хроническим безденежьем почти всего населения и бесконечными криминальными разборками. Условия жизни Тамбова и Москвы для основной массы людей, населяющих эти города, наверно, мало чем отличались. Но мне тогда казалось, что в Тамбове должно быть ещё хуже, и жителям не то что не до Рахманинова, а вообще‑то и до всей классической музыки дела никакого нет, тем более за деньги. Ну… нагонят бесплатно солдат-срочников, наприглашают старичков из ветеранских организаций и центров социального обслуживания. Соберётся половина зала или чуть больше. Будут делать вид, что слушают и понимают, и… – давай, из чувства глубокого уважения хлопать между частями концерта, когда и хлопать-то не предполагается… А потом, после приобщения к «высокому», разбредутся все: кто спать по казармам, а кто по домам – глазеть перед сном по телевизору какой‑-нибудь дурацкий сериал… Примерно так, ну… или как‑то, может чуть иначе, но в том же духе, рассуждал я…
Мой скепсис был развеян за пару часов до начала концерта. Когда после первой репетиции все отобедали и сильно за полдень вновь стали входить в филармонический дом, то из дверей кассы увидели стометровую очередь. Оркестранты прошли через служебный вход, а я в кассы – посмотреть, что это там такое, и как?
Очередь состояла в основном из среднего возраста мужчин. Одеты они были чрезвычайно торжественно: в костюмы, белого цвета рубашки, с повязанными галстуками и туфлями на ногах. Женщин было заметно меньше, видимо, многие были освобождены от стояния в очереди на каблуках и в вечерних платьях, оставаясь до определённой поры дома.
Это удивительно, но очередь была на бронь!
Оркестр снова расположился на сцене. Шёл короткий прогон перед концертом. Темп не держали, Петров опять был недоволен. Я недолго посидел в зале и вышел в кассы, теперь уже со стороны служебных помещений. И вот, находясь на ступеньках и, соответственно, чуть выше стоящих, я ещё раз взглянул на очередь. Она не двигалась. До начала продажи брони оставалось ещё минут тридцать. «Что‑то не так», – подумал я и почти сразу понял, в чём дело… Почти на всех стоявших в очереди мужчинах, как молодых, так и более возрастных, пиджаки и брюки болтались, будучи на размер-два больше… С рубашками была та же история: повязанные галстуки висели на тонких шеях, упираясь в застёгнутые верхние пуговицы.
«Чёрт возьми эту сволочную, мерзкую власть в нашей стране! Несчастный наш народ! Как можно было его довести до состояния выживания во все эти годы! И кто они такие – эти бездарные, но хитрые: рыжие, пьяные или болтливые твари, засевшие на самом верху, ничего не понимающие ни в литературе, ни в живописи, ни в музыке, ни в науке, ни в экономике, пустые и глупые даже в политике, в которой должны бы соображать! Откуда взялись в нашей стране эти скоты, радостно всех обобравшие и набившие свои карманы всем тем, что им не принадлежит и не могло принадлежать?! И когда всё это закончится?» – вот такие недобрые, если не сказать злобные, мысли посетили меня в кассах перед самым началом концерта.
За кулисами стояли художественный руководитель филармонии, директор и мой шеф. Я примкнул и услышал следующее:
– Надо же такое! На Пугачёву пришло ползала, на Распутину – треть, а на сегодня – всё продали ещё неделю назад, – говорил приятно удивленный директор.
– Там большая очередь за бронью, аж на улицу. Наверное, всем билетов не хватит? – спросил я.
– Знаю, – ответил директор, – всех запустим, сядут в проходах.
В зале тысячи на полторы мест работали кондиционеры, но было всё равно жарко. Договорились, что их отключат перед самым началом, ведь концерт в «живой» акустике и без усилительной аппаратуры.
Минут за десять до начала, мы (администрация) сели приблизительно в десятом литерном ряду, левее от центра и ближе к одной из входных дверей. Рядом расположился всё тот же мой непосредственный руководитель с угрюмым и безжалостным выражением лица. Зал заполнился битком, и, более того, зрители сидели в проходах и стояли по стенам.
Всё выглядело не только чрезвычайно торжественно, но и даже грандиозно, будто что‑то готовилось из ряда вон выходящее с громом и молниями.
Под аплодисменты в смокингах вышел оркестр и стал подстраивать инструменты. Михаил Плетнёв не приехал и дирижировал кто‑то другой. Кто это был, к сожалению, сейчас уже не вспомню. На сцену с краю вышла ведущая и без микрофона объявила о фестивале и Втором концерте для фортепьяно с оркестром С. В. Рахманинова, представив оркестр, дирижёра и солиста. К роялю очень конкретно и как‑то по-деловому, вызвав овацию, прошёл Николай Петров и поклонился. Не помню никаких речей перед началом. Перед глазами только огромный портрет Сергея Рахманинова на заднем плане сцены с его размашистой росписью и годами жизни, оркестр, дирижёр и Николай Петров со своим белым платочком справа от клавиатуры.
В какой момент отключили кондиционеры, я не заметил. Но вдруг образовалась тишина и тишина такая, что назвать её мёртвой или звенящей, значит не передать ничего. Это была тишина со знаком минус, будто вы поглядели в пропасть, и она туда потянула, и надо прыгать… Откуда возникло такое ощущение – не знаю, но оно случилось, вероятно, у всех.
Последовали первые аккорды фортепьяно. Во Втором концерте начинает и задаёт темп пианист. Оркестр должен влиться следом за ним, и далее вместе, как в дуэте, их воля переплетена и неразрывна. А дальше его (оркестра) воля переплетена с волей солиста. Иначе крах! И тут я слышу, как Петров взял темп гораздо быстрее, нежели на репетициях, где оркестр и так‑то не поспевал. Торжественность от происходящего переросла в тревожное ожидание чего‑то неминуемого, но того, чего все, впрочем, будто ждали и предчувствовали. У оркестрантов заметно встревожились лица и возникли какие‑то мобилизационные телодвижения. Они‑то яснее всех ощущали тяжесть ответственности, которую на них возложил гениальный солист. Он же летел, как паровоз, у которого впереди только рельсы, и уж никуда съехать невозможно. По этим рельсам Петров дерзко предложил мчаться и музыкантам всего оркестра.
И они помчались… И не подвели… И приобщились через Петрова к Рахманинову. И весь зал окунулся в эту бездну, каждый забыв себя совершенно!
Через несколько тактов первой части наступило время основной темы концерта, которая явно проявляется в нём дважды. Она и без того, будучи напряжённой и драматичной, разжимается, как пружина с огромной потенцией и силой, а тут ещё и такой темп… Про мурашки по коже, о которых обычно рассказывают благодарные зрители, я даже и не упоминаю, они с первого аккорда не покидали меня и беспрерывно будоражили и даже терзали.
Вдруг сосед слева, всё тот же суровый московский товарищ, поворачивает в мою сторону голову и говорит: «Мне плохо… Я сейчас умру…» – и начинает сползать с кресла на пол в проход. Под носом у него даже в полумраке я внятно разглядел белый обморочный треугольник и капельки пота по всему лицу. Мы все, кто сидел к нему ближе, повскакивали, и давай его тащить за руки и за ноги к дверям и в фойе. Надо же ещё и не шуметь… А в нём центнера полтора! Выволокли… Он странным образом почти сразу пришел в себя и очнулся. Посадили его на стульчик, оставили под присмотром дежурной старушки, а сами пошли снова в зал на свои места слушать.
Закончилась первая часть. Зрители в теме и не хлопают – это совсем хорошо. Пауза. Дверь открывается, и тихонечко в зал входит оклемавшийся мой сосед. Садится снова рядом со мной. Вторая часть у Рахманинова лирическая… Мы сидим, блаженствуем и медитируем в гармониях и мелодиях Сергея Васильевича. Я иногда посматриваю налево – как он там, мой друг? А он, вроде, нормально: сидит и слушает себе в удовольствие…
И тут без перерыва (так у композитора) начинается третья часть. Петров темп не снижает, знай себе, только платочком пот смахивает в паузах. У меня опять засосало под ложечкой и появилось тревожное предчувствие. Слышу, второй раз основная тема пошла и тот же пружинный ритм. В зале снова будто мышцы у всех зрителей разом напряглись и застыли. Ну и тело соседа опять поползло с кресла на пол… Белый треугольник, пот на лице и схожая с прежней голосом умирающего лебедя фраза: «Я опять подыхаю…» Дружно встали, вытащили, посадили на стул, позвали бабушку, пошли дослушивать.
Овациям не было конца! Петров улыбался и был, очевидно, доволен. Музыканты едва стояли, как после марафона, который им пришлось пробежать со спринтерской скоростью. У всех и для всех случился большой праздник. Такого блестящего исполнения я больше никогда не слышал. А таких благодарных, грамотных и понимающих зрителей, да ещё и в таком количестве, никогда не видел.
И ещё в очередной раз убедился я, как обманчива бывает внешность человека и какое несоответствие иногда являет она с мягким и чувствительным нутром его…
Тогда же, в 98‑м году, приехав в Москву, рассказал я эту историю одному своему знакомому музыканту, который покончил с музыкой и занимался исключительно бизнесом. Тот рассмеялся и говорит: «Да, уж! Выходит, чуть не «ушатал» Сергей Васильевич твоего бандоса…»
По прибытии в Москву мой тамбовский временный начальник уже совсем не казался столь грозным. Он очень переживал за случившееся и всю обратную дорогу в поезде рассказывал мне о себе и даже признался, что это его второй такой печальный опыт. Оказывается, некоторое время назад он уже бухался в обморок при схожих обстоятельствах и тоже на Втором концерте Рахманинова. Оркестр был другой, пианист тоже другой, ну и зал в другом городе. А результат тот же… «Знать, в композиторе дело…», – подумал я.
Но вот совсем недавно в Москве, в Большом зале консерватории играл молодой пианист – «новая восходящая звезда и громадный талант» (так мне его рекомендовали), а с ним известный оркестр. Заиграли… Всё тот же Второй концерт. Но что‑то пошло не так… Как сразу развалилось, так уж больше и не собралось… Отдельные, разрозненные музыкальные куски, я бы даже сказал – осколки. Рахманинова там не было вовсе: Николай Петров умер, а оркестру, очевидно, было всё равно.
Не то что в обморок никто не хотел падать, но и просто досидеть до конца было трудно. И грустно…
Наверно, всё вместе должно сложиться: и пианист, и оркестр, и дирижёр, и композитор, и слушатель должен быть эмоционально отзывчивый.
Но без фанатизма, конечно…
Бедная Лида
Это было в СССР. Ноябрь 19_7 года.
Генка отслужил полтора года и только стал «стариком». Всё уже было понятно с армейской жизнью, оставалось дотянуть до весны и домой. Именно дотянуть… Уж больно длинными в последний месяц стали сутки. Хотелось домой, всё надоело до смерти: наряды, караул, боевое дежурство под землёй, парко–хозяйственные дни, политзанятия, отсутствие увольнительных и отпусков – издержки режимного батальона связи. Одним словом – тоска зелёная, особенно, когда тебе девятнадцать лет, а самые лучшие годы ты вынужден ходить строем и петь дурацкую песню про девчонку, убеждая её не плакать, когда идёт дождь и чего‑то ждать и ждать… А чего ждать, если она на воле и ей тоже девятнадцать.
Ленка была красивая, смелая и стройная блондинка. Такие нравятся всем. Она и нравилась всем… Месяцев через шесть после призыва одноклассник Саня написал, что видел её в компании с каким‑то парнем и чтобы Генка выкинул её из головы. И Генка выкинул.
Итак, жизнь тянулась изнурительно неторопливо…
Объявили ночной наряд. Причина, из-за которой пришла разнарядка в город, так и осталась неясной. Обычно в наряд по комендатуре ходили из роты охраны, а тут связисты… Почему выбрали именно Генку и Серёгу, объяснить можно тем, что, наверно, нужны были ребята поопытнее – город всё же. Выдали штык-ножи, форму ПШ (полушерстяную), проинструктировали, как себя вести: достойно, выдержано, а если что, смело и даже отважно.
После ужина они сели на «козлика» с водилой «из наших» и в сопровождении дежурного офицера поехали за пять километров в город. Город – современный стотысячник, недалеко от Москвы. Здание комендатуры небольшое, как одноэтажная пристройка к магазину. Вышли из автомобиля. Снег с дождём, ветер – противно. При входе официальная вывеска. Низенькое, в две ступеньки, крыльцо. Прошли метров десять по коридору… Одна дверь, другая, ещё чуть и за поворотом в тамбуре – третья, открытая настежь. Зашли вместе с офицером. В вытянутой комнате длинная скамья под двумя зарешеченными окнами, в торце большой канцелярский стол с телефоном. За столом сидит на стуле и что‑то пишет старшина: молодой, лет двадцати пяти, уверенный в себе парень, с красивым и лукавым лицом, светлыми волосами и серыми глазами. Видимо сверхсрочник или как сейчас назы-вают – контрактник. Он вышел из-за стола и поздоровался за руку со старшим лейтенантом.
– Вот, привёз тебе бойцов, принимай, – привычно сказал офицер, чуть помолчал… – Ну… я поеду?
– Угу, – согласился старшина, – до завтра.
– Нее, утром за ними лейтенант Волгин приедет.
– Угу…
Офицер ушёл. Генка с Серёгой стояли и не знали, что делать дальше…
– Садитесь ребята, располагайтесь, – неожиданно дружелюбно и даже по-приятельски сказал старшина и, указав на скамейку, сам сел на стул.
У Генки сначала сложилось впечатление, что старшина и не старшина вовсе, а целый капитан или даже майор. Уж больно независимо и даже с некоторым превосходством он вел себя со старлеем. Да и вообще удивительным показалось, что дежурным по комендатуре в таком большом городе был не офицер, а старшина. И вот этот большой человек так доверительно обратился и предложил садиться и располагаться.
Ребята сели и стали разглядывать комнату: матовый плафон с горящей лампочкой, портрет министра обороны на стене, и, конечно, старшину, который аккуратно заполнял журнал дежурства. Спустя некоторое время он поднял голову: «Через часик немного походим по району патрулём… Так, чтобы нас увидели – и обратно», – и подмигнул. Генка с Серёгой заулыбались и с радостью настроились на «лафу».
Прошло минут тридцать, а может сорок… Старшина всё писал и писал… Генка подумал: «Может, даже успеем зайти в какой‑-нибудь гастроном, купить колбасы, коли старшина такой свой-ский». Кормили в части, как и во всей армии, неважно. Последние полтора года всё время хотелось поесть, и мысли, даже после недавнего ужина с кислой капустой и «кирзой», сразу закрутились на привычную, «возвышенную», жорную тему.
«Что же это он так долго пишет! Так ведь и все магазины закроют!» – начинал беспокоиться Генка. Колбаса ему представлялась не какая‑-нибудь, а краковская или, на худой конец, одесская…
Серёга тихо сидел рядом, и, опустив голову на грудь, видимо, уже стал слегка задрёмывать.
Вдруг хлопнула входная дверь, и сразу истерично и громко слух резанул пронзительный голос: «Караул… убивают!! Помогите!!!». По кафелю дробью простучали каблуки, и с криком в комнату влетела вся покрытая мокрым тающим снегом небольшого роста женщина, одетая в натуральную пушистую дорогую шубу. В шапке из чернобурки на голове она и сама выглядела, как встревоженная и агрессивная зверушка.
Женщина была очень… очень даже хорошенькая, лет тридцати, может, чуть больше. Но не в том суть, и не это главное…
В момент, когда она появилась в комнате, Генка с Серёгой только и успели, что вскочить и схватиться за штык-ножи.
– Там… там! Девочку убивают!!! Лет пятнадцати… двое!!! – беспорядочно и задыхаясь кричала она изо всех сил.
В это время старшина, не поднимая глаз и продолжая сидеть, прилежно заполнял журнал, не обращая никакого внимания ни на крики, ни на саму женщину, ни на всю так внезапно сложившуюся, тревожную ситуацию. «Боится или не хочет неприятностей в своё дежурство, козёл!» – пронеслось в голове у Генки. Видимо, та же мысль посетила и Серёгу… И оба, не сговариваясь, заорали:
– Гдеее!!!
– Сто метров! За углом! За комендатурой в кустах! Скорей же! Помогите!!! – и она бросилась бежать к дверям на выход, показывая путь.
Генка побежал за ней, Серёга следом. Обоих била дрожь, одышка сбивала дыхание. Генка на ходу разминал пальцы, предполагая возможный кулачный бой.
Женщина выскочила на улицу. Ребята за ней к выходу…
– Отставить! – услышали они пронзительную команду старшины, который вдруг «проснулся».
Воины вбежали обратно в комнату, выпучив на старшину глаза, сбиваясь и перебивая друг друга:
– Как же?!… Мы же?!!… Там же – девочку??!!!…
– Отставить, – спокойно повторил старшина и добавил, – садитесь.
Генка и Серёга, продолжая страдать одышкой, подошли к скамейке, но не сели.
– Как же так, товарищ старшина?!… – начал было возмущаться осмелевший Серёга. Но тут входная дверь бабахнула, и через секунду на пороге комнаты вновь появилась женщина. Теперь она была в полном отчаянии… Лицо перекошено, глаза презрительно сверкали от возмущения.
– Эх, вы – защитнички!! Трусы!!! Трусы!!! Человека убивают, а вы здесь спрятались и сидите!!! Вы же патруль!!! У вас же ножи!!!
Женщина была так эмоционально накручена, что, как в воронку, утягивала за собой. Она опять побежала к выходу. Вернулась… Проорала проклятия и снова хотела уже броситься к выходу.
И тут старшина наконец‑то встал, поднял руку и остановил ребят, собравшихся снова бежать на улицу.
– Сейчас всё поймёте, – сказал он твёрдо. И как бы на что‑то решившись, настойчиво, и даже вразрез перебивая, обратился к женщине:
– Лида… Лида. Ли-да! – И только она на мгновенье замолчала, как он вдруг выдал совершенно не подходящую к ситуации фразу, – А ты вот, Лида, лучше-ка расскажи, за что и как тебе Нобелевскую премию вручили?
Вопрос был дурацкий, и у Генки мелькнуло в голове, что старшина издевается сразу надо всеми и шутит совершенно неподобающим образом.
Но в ту же секунду, в тот же самый момент, пока Генка соображал, что там сморозил старшина, выражение лица Лиды вдруг избавилось от тревоги, оно как‑то обмякло, разгладилось и засветилось мягкой, доверчивой улыбкой. Её голова склонилась на бок и, загадочно подымая взор из под бровей, на присутствующих взглянула совершенно другая, скромная, тихая, с глубоким чувством собственной значимости и достоинства женщина.
Она, понизив голос на октаву, вдруг заговорила даже несколько снисходительно, но и в тоже время немного тушуясь:
– Ну, это не мне одной… Мы трудились над этой темой всем отделом… Вручили, конечно, мне…, но заслуга всех…, всех…, без исключения. Ну, вы понимаете?…
Стало не страшно, а жутко. Если б сзади не стояла скамейка, то Генка с Сергеем сели бы на пол. Женщина совершенно забыла о терзаемой негодяями «девочке за углом». Она так увлеклась рассказом, продолжая нести околесицу во всех подробностях описывая торжественную церемонию вручения премии и атмосферу, царящую в Швеции, в самóм Концертном зале Стокгольма, где проходило награждение, о бурных и продолжительных аплодисментах, временами переходящих в овацию… Всё было описано подробно, до мелочей, с эмоциями и восторгом. И даже банкет в Голубом зале Стокгольмской ратуши в присутствии королевской семьи, с омарами, а также картошкой в мундире и пельменями (национальное блюдо в знак уважения лауреата от Советского Союза).
Гена ничего не соображал, да и не мог даже понимать, в чём именно нюансы и по какому поводу то улыбалась, то плакала, то торжественно вещала дама. После первого «момента истины», когда он понял, что Лида не в себе, разум и у самого Генки отшибло напрочь. Он, конечно, сталкивался с людьми, у которых были проблемы с головой. В деревне, куда его в детстве каждое лето вывозили отдыхать с бабушкой, был такой, Серёжа Долбешкин, фамилия которого удивительным образом соответствовала его полной неспособности к любому виду обучения. Была картавая бабка Маланья, которая не умела даже считать, и когда спрашивали, сколько цыпляточек вылупилось и бегает у неё по двору, отвечала: «Кучка бееньких и кучка сееньких…»
Так то было там – в детстве, где всё это понятно и даже смешно. Но тут же совсем другое! Красивая, молодая, хорошо одетая женщина… Да ещё всё так как‑то вышло… с благородным порывом и даже с надрывом, и ничто не предвещало…
Серёга, как только речь зашла о вручении самой престижной международной премии, начал мотать головой то влево – таращась на Лиду, то вправо – пытаясь найти объяснение происходящего у старшины. Но тот упёрся в журнал и прилежно продолжал писать, и писать, и писать… Конечно, он всё понимал и знал заранее, но не «прокалывался», лишь краешком глаза контролируя процесс.
Вечность для Генки и Серёги закончилась минут через пять. Старшина наконец встал из-за стола и, сделав пару шагов, мягко и доброжелательно, но, как и прежде, с нажимом, перебивая несчастную женщину, заговорил:
– Ну, вот и хорошо, Лида… Очень хорошо… Замечательно! Ты всё рассказала… Мы всё послушали и поняли… Молодец!… А теперь пора домой… Сама дойдёшь?
– Да, – упавшим вдруг голосом сказала Лида, крайне смутившись и будто о чём-то сожалея.
– Дорогу помнишь?
– Конечно, – робко и даже потерянно пробормотала она.
– Только никуда не заходи. Прямо домой – да?!
– Да…
– Ну, ступай…
И Лида ушла.
Осталось недоумение и чувство какой‑то досады… А может, девочка‑то в кустах всё же была?! Эмоциональный отклик, возникший у ребят на истеричный призыв женщины, остался нереализованным. Казалось, что девочка всё же была, должна или могла быть! Хотелось пойти за угол комендатуры, и посмотреть, и проверить… Чёрт бы с ней, с Нобелевской премией! Может она – премия – просто какое‑то недоразумение?!
Старшина подошёл к столу, захлопнул журнал и будто зачитал приговор:
– Она жена коменданта города полковника N. Лет пять назад родила, и что‑то там с «крышей» случилось. Молоко что ли в голову ударило, точно не знаю. Он её в психушку не сдаёт, видимо, жалеет. Вот она иногда из дома сбегает и по городу болтается или, как сегодня, в комендатуру приходит…
Потом целый час молча ходили патрулём по вечернему городу. Про колбасу Генка совсем забыл. Какая уж там колбаса…
Утром приехали в роту, как с похорон.
Серёга несколько раз пробовал рассказать своим «старикам» о случившемся, но выходило невесть что. Он, как Шура Балаганов, размахивал руками и притопывал ногами, пытаясь передать то, что видел и слышал накануне, но никто так и не смог вникнуть в суть и толком понять, почему Серёга так заходится. Да и не до того всем было: кто пришёл из наряда, кто собирался в наряд; Лёхе пришло какое‑то тревожное письмо из дома; Димка натёр портянкой на мизинце мозоль и хромал, слушая формально и раздражённо. В конце концов Серёга плюнул и через неделю всё забыл.
Генка же был так поражён случившимся, так он силился понять, как такое вообще возможно?! Ему было жалко и бедную Лиду, и неизвестного полковника, который живёт во всём этом ужасе, да и всю семью, наверно, тоже страдающую и переживающую. А как там ребёнок, из-за которого всё это случилось?…
