История о нас. Как мы стали людьми? Путеводитель по эволюции человека бесплатное чтение
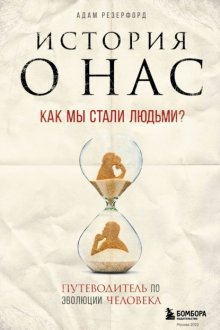
THE BOOK OF HUMANS:
A Brief History of Culture, Sex, War, and the Evolution of Us by Adam Rutherford
First published by Weidenfeld & Nicolson, an imprint of The Orion Publishing Group, London
Copyright © Adam Rutherford 2018
Illustrations copyright © Alice Roberts 2018
The moral right of Adam Rutherford to be identfied as the author of this work has been asserted in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act of 1988.
Иллюстрации Элис Робертс
Венера из Холе-Фельс
Олдувайский топор
Дельфин с губкой
Огненный ястреб
Модная Джулия
Возвратный гортанный нерв жирафа
Самая сложная подъязычная кость
Человек-лев из пещеры Штадель
Рыболовный крючок с острова Ява
© Мосолова Т. П., перевод на русский язык, 2020
© ООО «Издательство „Эксмо“», 2022
Введение
«Что за мастерское создание — человек!» — благоговейно восклицает Гамлет.
«Как благороден разумом! Как беспределен в своих способностях, обличьях и движениях! Как точен и чудесен в действии! Как он похож на ангела глубоким постижением! Как он похож на некоего бога! Краса Вселенной! Венец всего живущего!»[1]
«Венец всего живущего!» Какое красивое выражение. Гамлет возвеличивает нас как поистине особых существ, почти божеств, неограниченных в своей способности мыслить. Это еще и пророческая фраза, поскольку Гамлет возвышает нас над другими животными, признавая при этом, что мы относимся к их числу. Через 250 лет после того, как Шекспир написал эти строки, Чарлз Дарвин неопровержимо доказал принадлежность человека к миру животных: мы — одна из тоненьких веточек на едином запутанном семейном дереве, охватывающем четыре миллиарда лет истории со множеством витков и поворотов и миллиардом видов организмов. Все эти организмы, включая нас, происходят от единого начала и объединены общим кодом, определяющим наше существование. Молекулы жизни общие для всех, как и механизмы жизни: гены, ДНК, белки, метаболизм, естественный отбор, эволюция.
Но позже Гамлет указывает на парадокс в самом основании нашего бытия:
«А что для меня эта квинтэссенция праха?»
Мы особые, но мы тоже всего лишь материя. Мы животные, но ведем себя подобно богам. Дарвин в каком-то смысле вторил Гамлету, заявляя, что «наш разум подобен божественному», но нельзя отрицать, что человек («man» — у Дарвина, так что, переходя на язык XXI века, скажем: мужчина и женщина) несет на себе «неизгладимую печать своего низкого происхождения».[2]
Идея о том, что человек — особенное животное, лежит в основе понимания нашей сущности. Какие способности и действия составляют пьедестал, возвышающий нас над нашими эволюционными родственниками? Что делает нас животными, а что — венцом всего живущего? Все организмы по определению уникальны в том смысле, что они могут жить в специфических условиях и их использовать. Очевидно, мы считаем себя исключением, но являемся ли мы на самом деле более уникальными, чем другие животные?
Наряду с идеями Шекспира и Дарвина существует и другой взгляд на нашу исключительность, отразившийся в чуть менее значительном произведении культуры — в мультипликационном фильме о супергероях «Семейка» (The Incredibles): «Каждый по-своему особенный (…) что подразумевает, что никто особенным не является».
Люди — это животные. Наша ДНК в принципе не отличается от ДНК существ, живших на планете за последние 4000 миллионов лет. И код этой ДНК у всех одинаковый: насколько нам известно, генетический код универсален. Четыре буквы алфавита ДНК (A, C, T и G) одни и те же у бактерий, бонобо, орхидей, дубов, постельных клопов, морских уточек, трицератопсов, Tyrannosaurus rex, орлов, белых цапель, дрожжей, слизевиков и белых грибов. Способ организации ДНК и механизм ее трансляции в молекулы белков, обеспечивающих функционирование этих существ, тоже в целом одинаковый для всех. Клеточное строение — еще один универсальный принцип жизни[3], и все бесчисленные клетки вбирают в себя энергию Вселенной общим для всех способом.
Это три из четырех основополагающих принципов биологии: универсальность генетического кода, клеточная теория и хемиосмотическая теория (технический, но красивый термин для обозначения основного процесса клеточного метаболизма, за счет которого клетки получают необходимую для жизни энергию из окружающей среды). Четвертый принцип — эволюция путем естественного отбора. Вместе эти важные универсальные теории позволяют сделать однозначный вывод: все формы жизни на Земле, включая нас, объединены общностью происхождения.
Эволюция — медленный процесс, а Земля была населена на протяжении большей части своего существования. Временные рамки, которыми мы так легко оперируем в научных целях, чрезвычайно трудно охватить разумом. Хотя мы появились на Земле одними из последних, нашему виду уже более 3000 столетий. Мы пересекли этот океан времени, почти не изменившись. По физическим параметрам наши тела не сильно отличаются от тел Homo sapiens, живших в Африке 200 000 лет назад[4]. Тогда мы имели такую же физиологическую способность разговаривать, как и теперь, и мозг наш был примерно такого же размера. Наши гены подвергались небольшим изменениям ввиду изменений климата и рациона питания по мере наших перемещений по Африке и за ее пределами, и генетические вариации в ничтожно малой доле ДНК привели к появлению некоторых различий между людьми, в основном связанных с внешними признаками: цветом кожи, структурой волос и некоторыми другими. Но если бы вы заполучили женщину или мужчину вида Homo sapiens, живших 200 000 лет назад, причесали бы их и одели по моде XXI в., они не выделялись бы на фоне жителей любого современного города.
Это постоянство таит в себе загадку. Возможно, мы выглядим так же, но мы изменились, причем значительно. Ученые спорят, когда именно это произошло, но уже примерно 45 000 лет назад что-то случилось. Многие считают, что это было внезапное изменение (внезапное в эволюционном масштабе, подразумевающем сотни поколений и десятки столетий, а не мгновенное превращение). Такие отрезки времени даже трудно описать словами. Но археологические данные показывают, что в какой-то момент стала возникать и распространяться поведенческая практика, характерная для современного человека, а раньше таких проявлений (почти) не было. На фоне долгого срока существования Земли этот переход действительно можно считать молниеносным.
Изменение произошло не в наших телах, не в нашей физиологии и даже не в нашей ДНК. Изменение произошло в нашей культуре. В научном смысле культура — это набор артефактов, связанных с определенным местом и временем. Сюда относятся орудия труда, техника изготовления ножей и приспособлений для рыбной ловли и использование пигментов для декоративных целей и изготовления украшений. По следам очагов можно судить об умении поддерживать огонь, готовить пищу и, возможно, собираться группами вокруг костра. Из данных о материальной культуре можно делать выводы о поведении. На основании окаменелостей мы пытаемся предположить, как выглядели те люди, но археологические находки, относящиеся к их быту, также позволяют понять, какими были доисторические люди и когда они такими стали.
Примерно 40 000 лет назад мы уже создавали ювелирные украшения и музыкальные инструменты. Нашему искусству был присущ символизм, мы изобретали новое оружие и новые способы охоты. За несколько тысячелетий мы обзавелись собаками: мы приручили волков, которые стали сопровождать нас в поисках пищи задолго до того, как сделались нашими домашними любимцами.
Цепь этих превращений иногда называют Большим скачком, поскольку мы перескочили в сложное в интеллектуальном плане состояние, в котором пребываем до сих пор. Есть еще термин «когнитивная революция», но мне не хочется использовать это выражение для обозначения непрерывного процесса, длившегося, по-видимому, несколько тысяч или даже больше лет, поскольку революция — это что-то мгновенное. В любом случае, современные формы поведения стали быстро возникать и укореняться в разных уголках мира. Мы начали высекать из камня сложные фигурки — как реалистичные, так и абстрактные, вырезать из слоновой кости химер-идолов и украшать стены пещер изображениями сцен охоты и важных для нашей жизни животных. Самый старый известный на сегодняшний день образец фигуративного искусства Homo sapiens — это 12-дюймовая статуэтка человека с головой льва, возраст которой составляет около 40 000 лет. Она вырезана из бивня мамонта в конце последнего ледникового периода.
Вскоре после этого мы начали создавать небольшие женские фигурки. Теперь их называют Венерами. Мы не знаем, имелось ли у них специальное назначение, хотя некоторые ученые считают, что они были символами плодородия, поскольку их половые признаки сильно преувеличены: грудастые женщины с выпуклой вульвой и часто с непропорционально маленькой головой. Но, возможно, они были лишь искусством ради искусства, или их делали для игры. В любом случае изготовление таких фигурок требует большого мастерства, планирования и абстрактного мышления. Человек-лев — вымышленное существо. Венеры — намеренно абстрактная интерпретация человеческого тела. Кроме того, такие фигурки — не единичное явление. Для ремесла требуется практика, и, хотя до наших дней дошло лишь несколько этих удивительных произведений искусства, они наверняка отражают повторяющийся процесс, необходимый для передачи навыков ремесла.
Некоторые похожие проявления культуры возникали и до окончательного перехода к современному поведению, но они были мимолетны и редко обнаруживаются археологами. Homo sapiens был не единственным человеком, жившим за последние 200 000 лет, и не единственным культурным человеком. Homo neanderthalensis тоже были людьми, что бы ни утверждала грубая молва. Неправильно изображать их как перемещавшихся на двух ногах человекообразных обезьян, живших в грязи, обладавших примитивным языком и примитивными орудиями, а потом вымерших. Неандертальцы совершенно определенно демонстрировали элементы поведения современных людей: они делали ювелирные украшения, применяли сложную технику охоты, использовали орудия, владели огнем и создавали предметы абстрактного искусства. Мы должны признать, что они были сложными существами в том же смысле, что и наши прямые предки Homo sapiens, что ставит под сомнение уникальность нашего Большого скачка. Мы всегда считали неандертальцев своими родственниками, хотя на самом деле они тоже наши предки. Теперь мы знаем, что наша и их линия разошлись более полумиллиона лет назад и на протяжении большей части этого периода мы с ними были разделены в пространстве. Однако примерно 80 000 лет назад наши предки вышли из Африки и прибыли на территорию, населенную неандертальцами. Мы достигли Европы и Центральной Азии и примерно 50 000 лет назад скрестились с неандертальцами. Их тела отличались от наших, и среди современных людей не встречается таких разновидностей физического строения: подбородок поменьше, грудь пошире, тяжелые надбровные дуги и грубоватые лица. Однако они отличались от нас не настолько, чтобы мы не могли спариваться с ними: мужчины и женщины с обеих сторон занимались любовью и имели детей. Мы знаем это, поскольку в их костях сохранились наши гены, а их гены живут в наших клетках. Очень многие европейцы несут в себе небольшую, но ощутимую долю ДНК, происходящую от неандертальцев, и это подрывает надежду на проведение четкой границы между двумя группами людей, которых мы считали разными видами — т. е. организмами, которые не могут спариваться между собой и рождать способное к воспроизведению потомство. Хотя частично ДНК неандертальцев была удалена из нашего генома по неизвестным нам пока причинам, люди и по сей день несут их генетическое наследство, так же как и гены Homo denisovensis, Денисовского человека, обитавшего восточнее, а возможно, и еще каких-то людей, о которых нам только предстоит узнать.
Венера из Холе-Фельс
Когда мы впервые встретились с неандертальцами и этими другими людьми, им уже недолго оставалось жить на белом свете, и примерно 40 000 лет назад Homo sapiens остались последними из людей. Мы не знаем, совершили ли неандертальцы полный переход к современной форме поведения, которую мы наблюдаем у Homo sapiens, и, возможно, никогда не узнаем, но существуют доказательства, что эти пещерные мужчины и женщины во многих отношениях были такими же, как мы.
Мы выжили, а они вымерли. Мы не знаем, каковы были преимущества Homo sapiens по сравнению с неандертальцами. Вся история жизни — это история длительного вымирания: более 97 % когда-либо существовавших видов уже вымерли. Неандертальцы существовали на Земле гораздо дольше, чем мы представляли себе до сих пор, и нам еще предстоит понять, почему эта свеча угасла 40 000 лет назад. Считается, что численность неандертальцев была невысока и это, возможно, одна из причин их исчезновения. Быть может, мы принесли с собой уже привычные для нас болезни, к которым у нас выработался иммунитет, но для незнакомой с ними популяции они оказались смертельными. Или их линия просто угасла. Однако нам известно, что примерно в это время последняя оставшаяся группа людей начала перманентно и повсеместно проявлять признаки нашего теперешнего поведения.
Мы, совершенно очевидно, по численности превзошли всех ближайших родичей. Homo sapiens рванул вперед и активно размножился. Если ранжирование имеет какое-то значение, по многим параметрам мы являемся доминирующей формой жизни на Земле (хотя бактерии превосходят нас по численности: в теле каждого человека больше бактериальных клеток, чем человеческих; они гораздо более успешны в отношении продолжительности жизни — они существуют на Земле уже четыре миллиарда лет и не собираются вымирать). Сегодня на планете живет более семи миллиардов человек — больше, чем когда-либо в истории, и это число продолжает увеличиваться. Благодаря своей изобретательности, науке и культуре, мы победили многие болезни, невероятно сократили детскую смертность и на десятилетия увеличили продолжительность жизни.
Гамлет восхищается нашими достоинствами, как восхищались ученые, философы и религиозные деятели на протяжении тысячелетий. Однако прогресс знаний преуменьшил нашу исключительность. Николай Коперник выдернул нас из центра мироздания и поместил на планету, вращающуюся вокруг ничем не выдающейся звезды. Астрофизики XX в. показали, что наша Солнечная система — одна из миллиарда солнечных систем нашей галактики, а наша галактика — одна из миллиарда галактик во Вселенной. До сих пор нам известна лишь одна населенная планета, но с тех пор, как в 1997 г. обнаружились первые планеты за пределами Солнечной системы, мы узнали о тысячах небесных миров, и в апреле 2018 г. был запущен новый спутник, задача которого заключается именно в открытии этих неизвестных новых миров. Мы уже хорошо представляем себе, в каких условиях химия переходит в биологию и как из мертвого камня возникает жизнь. Вопрос о возможности существования внеземной жизни теперь звучит иначе; теперь мы бы удивились, если бы где-то еще во Вселенной не оказалось жизни. Но все это в будущем, а пока мы знаем только о жизни на Земле. И мы, похоже, совсем не так уникальны, как думали раньше, и чем дальше, тем это становится очевиднее.
Чарлз Дарвин начал процесс возвращения нас, живущих на Земле, в мир природы, отметая идею креационизма. Он показал, что мы — животные, эволюционировавшие от других животных — произошедшие, а не сотворенные. Все неопровержимые молекулярные доказательства этого основополагающего принципа биологии еще только предстояло найти, когда он явил миру свою идею в 1859 г. в книге «О происхождении видов». В этом великом труде он не говорил о людях, но дал понять, что открытый им механизм естественного отбора вскоре поможет пролить свет и на наше происхождение. В опубликованной в 1871 г. книге «Происхождение человека» он методично, провидчески рассмотрел наше происхождение и определил нас как животных, которые эволюционировали подобно всем другим организмам в истории Земли. Хотя и почти безволосые, мы все же обезьяны, произошедшие от обезьян[5], и наши черты и действия выточены или просеяны естественным отбором.
И в этом смысле в нас нет ничего особенного. Наша биологическая сущность такая же, как у всех остальных форм жизни, и мы, как и все, эволюционировали под действием универсального механизма. Но эволюция снабдила нас набором когнитивных способностей, и они, по иронии судьбы, дают нам ощущение отдельности от остального мира природы, поскольку позволяют создавать и развивать культуру такого уровня сложности, который выходит далеко за пределы возможностей других видов. И это дает нам стойкое ощущение, что мы особенные и созданы специфическим образом.
Но многие черты, которые считались исключительно человеческими, на самом деле таковыми не являются. Мы расширили круг своего влияния на ранее недоступные нам сферы путем использования природы и изобретения технологии. Но многие животные тоже намеренно используют различные предметы. Мы отделили секс от задачи воспроизводства и почти всегда занимаемся любовью ради удовольствия. Ученые не склонны признавать, что животные могут получать удовольствие[6], но при этом большая часть сексуальных контактов между животными не приводит и не может приводить к воспроизводству. Среди нас много гомосексуалов. Когда-то (а иногда и сейчас) гомосексуальность считалась contra naturam — преступлением против природы. Однако сексуальные отношения между представителями одного и того же пола часто наблюдаются в природе, у тысяч видов животных, и, например, преобладают в сексуальной активности самцов жирафов.
Наша способность к общению кажется развитой сильнее, чем у каких-либо других животных, но, возможно, мы пока еще не понимаем, что они говорят. Я пишу книгу, а вы ее читаете, и наш уровень коммуникации намного более продвинутый, чем у других видов. Это, безусловно, отличает нас от остальных, но рак-богомол не стал бы нам завидовать. Он умеет воспринимать 16 разных световых волн, в отличие от нас, воспринимающих лишь три[7], что для него гораздо важнее, чем вся наша культура и самомнение, взращиваемые на протяжении тысячелетий.
Тем не менее книга — это пример того, что определяет разрыв между нами и другими существами. Я могу обмениваться с вами информацией, которую получил от тысяч других людей, по большей части мне лично не знакомых. Я проанализировал их идеи и превратил в инструмент невероятной сложности, так что все мы можем обогатить свой разум за счет этой информации, новой и, надеюсь, интересной любому, кто потрудится ее извлечь.
Эта книга о парадоксальности того, как мы стали такими, какие мы есть. Это исследование эволюции, обеспечившей обычную человекообразную обезьяну невероятно мощным интеллектом, который дал ей возможность создавать орудия, художественные произведения, музыку, науку и технологию. Благодаря древним костям, а теперь и генетике мы понимаем механизмы нашего эволюционного превращения на протяжении эпох (хотя еще очень многое предстоит изучить), но пока еще гораздо меньше знаем о развитии нашего поведения, нашего мозга и о том пути, который только нас превратил в культурных и общественных существ.
Но в то же время эта книга о животных, к числу которых мы относимся. Мы эгоцентристы, и нам трудно не подмечать «наши собственные» свойства и «наше собственное» поведение у других животных. Иногда такие свойства имеют то же происхождение, что и у нас. Но часто это не так. Вне зависимости от происхождения сходных свойств я попытаюсь разъяснить наше поведение, указывая, где еще на Земле можно обнаружить такие же проявления, и отделить то, что принадлежит только нам, от того, что роднит нас с нашими ближайшими эволюционными родичами или только выглядит похожим. Я расскажу об эволюции технологии в человеческом обществе (о приобретении навыков обработки камней и палок и управления огнем сотни тысяч лет назад) и у многих других животных, которые тоже используют орудия. Эволюционные биологи любят тему сексуальных отношений, и я тоже в нее погружусь — не только с целью понять, как мы отделили секс во всех его многочисленных проявлениях от воспроизводства, но и чтобы показать, что сексуальная жизнь животных тоже имеет богатый спектр проявлений и далеко не всегда вызвана биологической необходимостью произвести потомство. Хотя все это одновременно восхваляет и нас, и все удивительное многообразие природы, мы, совершенно очевидно, далеко не всегда ведем себя как ангелы и способны на такие ужасные поступки, как насилие, война, геноцид, убийства и изнасилования. Отличается ли наше поведение от устрашающих проявлений жестокого мира дикой природы с такими элементами вражды и сексуального насилия, которые не показывают в документальных фильмах о животных? В заключительной части книги я проанализирую причины эволюции современного поведения и появления таких людей, которые ведут себя как современные люди. Наши тела приняли современный вид гораздо раньше, чем наш разум, и эта загадка еще не разгадана.
Биологи рассказывают о чудесах эволюции: иногда чтобы понять самого человека, часто — чтобы понять общую схему развития жизни на Земле. Эта книга — беглое знакомство с долгим и непрямым путем, который проделал каждый организм. В конце концов, оценить этот рассказ в состоянии только мы.
Какие мы мастерские создания!
Постулаты биологии крепки: они установлены за два последних столетия и многократно проверены. Мы связали принципы естественного отбора с генетикой — в клетках, заряжающихся энергией по законам химии. Мы рассмотрели эти принципы в историческом аспекте, восстановив картину развития жизни от самого простого начала на дне океана до каждого уголка планеты. Возможно, вы думаете, что работа по изучению жизни на Земле в целом завершена и теперь мы лишь уточняем детали. Но наука никогда не засыпает, поскольку в наших знаниях все время обнаруживаются гигантские пробелы. Большая часть природы нами еще не изучена, и каждый день мы продолжаем удивляться новым открытиям, новым видам и новым признакам животных и других организмов, которых раньше либо не замечали, либо даже не могли себе представить.
Некоторые факты, представленные в данной книге, были открыты только в 2018 г., когда я закончил ее писать. Это может означать, что какие-то подробности еще скудны или наблюдались лишь единожды или в небольшом числе случаев. Это может означать, что эти новые особенности поведения — исключительные, действительно редко наблюдаемые признаки. Другие характерны для многих (или даже для всех) видов организмов. Что-то может оказаться проявлением совсем иного свойства, нежели мы думали ранее. Несмотря на весь великолепный материал, который мы видим в телевизионных фильмах, животные большую часть времени остаются невидимыми для человеческого глаза и живут в таких местах, которые недоступны или опасны для нас. Изучение таких животных важно само по себе, но, кроме того, может пролить свет на наше собственное существование.
Иногда кажется, что какие-то проявления поведения животных и человека имеют общее эволюционное происхождение. Другие существуют только у животных, поскольку, очевидно, необходимы для борьбы за существование и возникали в ходе эволюции несколько раз: так, например, насекомые, птицы и летучие мыши имеют крылья, но их способность летать возникала совершенно независимым образом. Философ Дэниел Деннет называет такие приобретения «полезными трюками», подразумевая, что подобные признаки приносят большую пользу и в ходе эволюции возникают множество раз. Умение летать — полезный трюк, и оно эволюционировало несколько раз у отдаленно родственных видов, но оно также появлялось много раз в одной и той же группе организмов. Эволюция действует весьма экономично: если уже существует план создания какого-то признака, он может быть реализован в разных ситуациях. У насекомых крылья появлялись и исчезали десятки, если не сотни, раз за последние несколько сотен миллионов лет, чтобы позволить насекомым приспособиться к локальным условиям, но генетический механизм, лежащий в основе создания крыла, за это время практически не изменился. Уметь летать полезно только тогда, когда это полезно, но такая способность обходится дорого, так что при отсутствии необходимости она исчезает, а соответствующие гены ждут своего часа, как зимние вещи летом.
На пути изучения эволюции человека существует множество ловушек. Следует быть осторожным и остерегаться объяснять сходство функций общностью происхождения, а также выводить наше современное поведение из тех ситуаций, когда оно, как нам кажется, возникло в первый раз. Существует множество заманчивых мифов о происхождении нашего тела и поведения, которые граничат с псевдонаукой. Позвольте пояснить эту мысль. Все формы жизни эволюционировали. Но это не означает, что все формы поведения можно объяснять с привлечением центральной концепции эволюции, а именно адаптации. Многие формы поведения, особенно нашего, являются побочными продуктами эволюции, а вовсе не имеют специфической функции, помогающей выживанию. Это особенно наглядно видно в отношении нашего сексуального поведения, о котором мы ниже поговорим подробно. Мы видим сходные проявления сексуального поведения у животных, и какие-то из них мы связываем с получением удовольствия, а какие-то — с преступным насилием. Вне зависимости от того, насколько изящным или приятным может быть объяснение, наука рассматривает факты и доказательства и учитывает возможность опровержения любой гипотезы.
Каждый эволюционный путь уникален, и, хотя все живые существа родственны между собой, происхождение каждого — отдельная история, с разными движущими силами отбора и случайными изменениями ДНК, обеспечивающими основу для вариаций, отбора и эволюции. Эволюция слепа, мутации случайны, но отбор не слеп и не случаен.
Метод проб и ошибок консервативен: радикальные биологические изменения обычно кончаются смертью. А некоторые эволюционные приобретения настолько полезны, что не исчезнут никогда. Один такой пример — зрение. Очевидно, что умение видеть давало преимущество тем первым обитателям океана, которые приобрели эту способность более 540 миллионов лет назад: вы можете видеть то, что хотели бы съесть, и приблизиться к нему, а также то, что хочет съесть вас, и от него удалиться. Как только зрение возникло, оно быстро распространилось. И с тех пор генетическая программа фототрансдукции — превращения света в зрительное изображение — сохранилась практически одинаковой у всех видящих организмов. Напротив, ворон, выбивающий из древесной коры жирную добычу с помощью палки, эволюционировал совершенно независимо от шимпанзе, который делает точно то же самое, и у этих вариантов поведения мало общих генетических оснований. Все способности эволюционировали, но это не означает, что у них общие корни. Определять и сортировать сходства и различия в знакомых нам вариантах поведения — необходимое условие для понимания нашей эволюции.
Мы должны отдельно рассматривать все описанные в данной книге признаки человека, даже если каждый из них зависит от остальных. Мы не можем воссоздать порядок их появления. Наш мозг увеличивался, тела меняли форму, навыки оттачивались, социальное поведение развивалось. Мы разжигали и поддерживали огонь, вспахивали землю, сочиняли мифы, создавали богов и приручали животных. Зарождение культуры было связано со всеми этими событиями и подпитывалось обменом информацией и опытом. Мы получили знания не из яблока: яблоки — это продукт нашей сельскохозяйственной деятельности. Мы просто жили. Возникали и разрастались популяции, в которых родственники становились членами общин, а внутри общин происходило разделение труда: появились музыканты, художники, ремесленники, охотники, повара. В обмене мудростью между этими специалистами своего дела — в обмене идеями — зарождалось современное общество. Мы и только мы научились накапливать культурные достижения и обучать им других. Мы передаем информацию не только по вертикали из поколения в поколение в виде ДНК, но во всех направлениях — даже людям, с которыми не состоим в непосредственном биологическом родстве. Мы сохраняем наши знания и опыт и делимся ими с другими людьми. Путем обучения других людей, развития культуры и пересказа историй мы создали самих себя.
Дарвин со свойственным ему предвидением это подозревал:
«Только человек способен к прогрессивному усовершенствованию. Человек бесспорно способен к большему и более быстрому совершенствованию, чем какое-либо другое животное; этим он обязан главным образом способности речи и уменью применять приобретенные знания».
Важно, что мы единственный вид, который тянется к свету и задается вопросом: «Являюсь ли я особенным?» Парадоксально, что ответ на этот вопрос одновременно и положительный, и отрицательный.
За бесконечную череду лет мы перешли от бытия ничем не выдающегося животного до осознания себя в качестве уникального существа, отделенного от всего остального мира природы, и пребываем в некоем квантовом состоянии, в котором одновременно можем занимать обе позиции. Эта книга о том, что очевидным образом обличает в нас животных и в то же время демонстрирует нашу исключительность.
Часть первая
Люди и другие животные
Орудия
Человек — существо технологическое. Это слово в современном мире приобрело специфическое значение. Я пишу эту книгу на компьютере и выхожу в интернет через беспроводную связь. Электронные устройства и возможности такого рода представляются нам воплощением современной технологии. Писатель-фантаст Дуглас Адамс сформулировал три правила, касающиеся наших отношений с технологией.
1. Все, что существовало в мире в момент вашего рождения, является нормальным и обычным и представляет собой естественный элемент в функционировании мира.
2. Все, что было изобретено, пока вам было от 15 до 35 лет, является новым, удивительным и революционным, и, возможно, вы могли бы преуспеть в этом направлении.
3. Все, что изобретено после того, как вам исполнилось 35, противоречит естественному ходу вещей.
Очевидно, новые технологии воспринимаются с подозрением, особенно людьми старшего поколения, которые выражают беспокойство в отношении молодых людей: «кто-то же должен подумать о детях?»
Так было всегда. В V в. до н. э. Сократ выступал против опасностей новой подрывной технологии из страха, что она будет воспитывать «забывчивость в душах учеников, поскольку они не будут пользоваться памятью (…) они будут слушать много разного, но ничего не выучат; они будут казаться всезнающими, но не будут знать ничего; они будут скучны, обладая видимостью мудрости, но не зная истины».
Технология, распространения которой так опасался Сократ, это письменность. Через 2000 лет шведский эрудит, филолог и ученый Конрад Геснер выказывал аналогичную обеспокоенность по поводу другой информационной технологии — печатного станка.
Plus ça change…[8] Современная технофобия родилась из нашего нового способа времяпрепровождения — общения с экраном. В средствах массовой информации (как в печати, так и в интернете) бесконечно обсуждается, сколько времени мы проводим перед экраном и как это может нам повредить. Какие только проблемы в последние годы не связывали с длительным просиживанием у экрана — от подростковой преступности и массовых убийств до аутизма и шизофрении. Обычно это бессмысленные псевдонаучные рассуждения, поскольку проблема плохо определена. Можно ли сравнивать пять часов видеоигры в одиночку с пятью часами чтения электронной книги? Имеет ли значение, есть ли в игре насилие, или задачки для ума, или и то и другое, и не подстрекает ли книга к насилию или созданию оружия? И сравним ли просмотр фильма в кинотеатре с видеоигрой с родителями или братьями и сестрами?
У нас пока нет таких данных, и проведенные на сегодняшний день исследования не позволяют склониться к тому или иному ответу. Отчасти рассуждения сводятся к тому, что мы проводим слишком много времени перед экраном, тогда как могли бы заниматься чем-то более творческим или культурным или выражать себя каким-то образом, не прибегая к помощи технических средств. Однако кисть — это техническое изобретение, как и карандаш, заточенная палочка или ускоритель частиц. Практически нет таких вещей в художественной, творческой или научной деятельности, которые не возникли бы благодаря развитию технологии. Пение, танец и даже некоторые формы легкой атлетики и плавания реализуются без непосредственного использования технических средств. Но когда я вижу, как моя дочь затягивает волосы в пучок и закрепляет их лаком, обрезает стертые ногти на ногах и надевает пуанты, готовясь танцевать, я не могу не думать о том, что мы — животные, чья культура и существование полностью зависят от орудий.
Так что же такое орудие? Есть несколько определений. Вот один пример из известного учебника по поведению животных:
«Внешнее использование неприкрепленного или прикрепляемого предмета из окружающей среды, предназначенное для облегчения изменения формы, расположения или состояния другого предмета, другого организма или самого пользователя, когда пользователь держит орудие и манипулирует им в процессе или до использования и контролирует правильное и эффективное расположение орудия»[9].
Многословно, но, по сути, правильно. В некоторых определениях отражено различие между использованием найденных в природе и модифицированных предметов, что квалифицируется как применение технологии. Основная идея заключается в том, что орудие — это не часть тела животного, а предмет из внешней среды, который используется для совершения физического действия, расширяющего возможности животного.
Орудия — неотъемлемая часть нашей культуры. Иногда мы противопоставляем культурную эволюцию биологической: первая основана на обучении и действует через социальное общение, вторая закодирована в ДНК. Но, на самом деле, эти два процесса неразрывно связаны между собой, и правильнее было бы рассуждать о ко-эволюции генов и культуры. Одна стимулирует другую, и передача идей и навыков требует биологической способности это делать. Биология влияет на культуру, культура меняет биологию.
За миллионы лет до изобретения электронных часов мы уже обладали технологической культурой. И даже отразили это в научной терминологии. Одного из наших древних родственников (а возможно, и предка) мы назвали Homo habilis, буквально «ловкий человек». Эти люди жили в Восточной Африке от 2,1 до 1,5 миллиона лет назад. Ученые нашли лишь несколько образцов, классифицированных как habilis. У этих людей отмечались более плоские лица, чем у ранних австралопитеков, живших около 3 миллионов лет назад, но все еще длинные руки и небольшие головы (размер их мозга был примерно наполовину меньше нашего). Иными словами, Homo habilis больше похож на человекообразную обезьяну, чем на обезьянообразного человека. Вероятно, он был предком более элегантного Homo erectus, с которым, однако, сосуществовал во времени.
Статус ловких эти люди получили в основном по той причине, что вокруг их останков находили изготовленные из камня предметы. Некоторые исследователи считают, что наличие орудий отмечает границу между родом Homo и теми, кто существовал до него, т. е. люди, вообще говоря, определяются по умению использовать орудия. Самая большая коллекция орудий, принадлежавших Homo habilis, происходит из Олдувайского ущелья в Танзании, и поэтому данный тип технологии называют олдувайской культурой. В описании этих орудий и способов их производства используется множество специфических терминов. Один из них — «расщепление камня», под которым подразумевается раскалывание камня (часто кварца, базальта или обсидиана) для заострения или придания определенной формы. Многие археологические данные основаны на обнаружении фрагментов камней, отколовшихся в процессе изготовления орудий, даже если сами орудия оказались утеряны. Обсидиан[10] — камень вулканического происхождения, тип вулканического стекла, который хорошо подходит для изготовления режущих орудий, и его края могут быть настолько острыми, что некоторые современные хирурги предпочитают обсидиановые скальпели стальным.
Такие действия подразумевают наличие умственных способностей, позволяющих выбрать подходящий камень и составить план работы. Нужен отбойник и подставка, опора, чтобы обрабатывать исходный материал. Расщепление камня требует обдуманных и отточенных действий, тем более что изготавливать приходилось разные орудия. Одни предназначались для тяжелой работы, такие как олдувайский чоппер, который, возможно, служил головкой топора. Другие — для более деликатной: скребки для отделения мяса от кожи, камни с острым концом, называемые резцами, и другие орудия для вырезания из дерева. И, опять-таки, разнообразие орудий предполагает наличие умственных способностей, позволяющих выбирать подходящие предметы для разных нужд.
Homo habilis является одним из ранних представителей линии, которую мы считаем линией человека, и отчасти такая классификация основана на использовании орудий. Однако это искусственная граница, и здесь имеется своя предыстория: «человек ловкий» был не первым, кто проявил ловкость. В тысяче километров к северу от Олдувайского ущелья, на западном берегу озера Туркана, находится местечко Ломекви — еще одна ключевая область в истории древнейших людей. В 1998 г. здесь нашли останки кениантропа (Kenyanthropus platyops), что можно перевести как «плосколицый кенийский человек»[11]. Это представитель неоднозначно классифицируемого типа человекообразных обезьян. Некоторые ученые полагают, что он морфологически достаточно близок к австралопитеку, что позволяет не выделять его в отдельный вид. Я затрудняюсь сказать, насколько это важно, потому что наша таксономическая классификация весьма туманна, границы определяются условно и основаны на множестве предположений, поскольку образцов мало и находят их редко: пока найдены фрагменты скелетов более 300 австралопитеков, но всего один кениантроп.
В 2015 г. группа исследователей из Университета Стоуни-Брук из штата Нью-Йорк случайно забрела в Ломекви и заметила на поверхности земли обломки камней, а это говорило о том, что здесь изготавливали орудия. Проведя раскопки, исследователи нашли много других фрагментов камней и сами орудия. Грунт, в котором их обнаружили, удалось достаточно точно датировать, что не всегда легко, но в данном случае датировка основывалась на наличии слоев вулканического пепла и геологическом явлении инверсии магнитного поля[12]. Орудия были не такими сложными, как в Олдувайском ущелье, но гораздо более старыми, вероятно, их возраст составлял около 3,3 миллиона лет. Один осколок удалось совместить с камнем, от которого он был отделен. Вы только представьте себе: когда-то вот здесь сидело обезьяноподобное существо и намеренно, с какой-то определенной целью, долбило камень. Возможно, он или она остался недоволен тем, как раскололся камень, выбросил оба куска и переключился на что-то другое. Или, быть может, его прогнал хищный зверь. И два куска камня пролежали на этом самом месте более трех миллионов лет.
Мы не знаем, кто сидел здесь и мастерил орудия, но мы знаем, что это существо жило до появления людей (рода Homo), возможно, на 700 000 лет раньше, и, вполне вероятно, это был плосколицый кенийский человек. Орудия олдувайской культуры теперь найдены на многих стоянках по всей Африке, включая Кооби-Фора на восточном берегу озера Туркана в Кении и Сварткранс и Стеркфонтейн в Южной Африке. Кроме того, такие же орудия находили во Франции, в Болгарии, в России и в Испании, а в июле 2018 г. на юге Китая были обнаружены старейшие артефакты вне африканского континента. Отрезок времени, на протяжении которого существовала эта технология, огромен, возможно, более миллиона лет.
В ходе развития технологии, в том историческом виде, в котором мы себе его представляем, олдувайские орудия были заменены новым, более сложным набором инструментов. В тысячах миль от Восточной Африки, в местечке Сент-Ашель около города Амьен на севере Франции, в 1859 г. нашли множество головок топоров, давших название самой распространенной индустрии в истории человечества. Это была не первая находка такого рода: в конце XVIII в. аналогичные образцы обнаружили в деревне Саффолк вблизи симпатичного торгового городка Дисс. Но именно французская находка дала имя образцам орудий, которые теперь называют ашельскими орудиями.
Олдувайский чоппер
Ашельские ручные топоры были сделаны более искусно, чем их олдувайские предшественники. Чаще всего они имеют форму слезы с острым концом и уплощенными ребрами, обычно с обеих сторон. Кроме того, они крупнее: их режущий край достигает 20 см по сравнению с 5 см у типичного олдувайского топора. Они представляют собой результат согласованной когнитивной способности изготавливать орудие или оружие и требуют координации глаз и рук и более развитого умения предвидеть и планировать.
Каменные орудия изготавливаются в несколько этапов, включая получение первичной формы и ее вторичную обработку с целью утончить и заострить края. В следующий раз, когда окажетесь на каменистом пляже, попробуйте обтесать гальку. Это трудно и требует навыков. Слишком сильный или неправильно нанесенный удар может разбить камень и повредить пальцы.
Мы наблюдаем усиление симметрии этих резцов по мере увеличения объема мозга в ходе эволюции. Орудия находят в разных точках света и у разных видов. Самые старые ашельские орудия (по состоянию на 2015 г.) были обнаружены в Олдувайском ущелье, давшем жизнь (или по крайней мере название) предшествовавшей технологии, но их также находили в разных уголках Европы и Азии. Такие орудия вытесывали Homo erectus, а также другие первые люди, такие как Homo ergaster, неандертальцы и первые Homo sapiens. Эти орудия использовались для охоты, разделки туш животных, отделения мяса от кожи и костей и выдалбливания костей. Они служили наконечниками копий, а некоторые ученые предполагают, что иногда они могли использоваться не по прямому назначению, а в ритуальных целях или даже как средство обращения при обмене.
Ашельские орудия — преобладающая форма технологии в истории человечества. Хотя со временем появлялись некоторые незначительные усовершенствования, эти топоры просуществовали удивительно долго. Сегодня гораздо больше людей, чем раньше, пользуются телефонами или водят машины, читают при помощи очков или пьют из чашек, но, если говорить о сроке жизни изобретения, ашельские топоры побивают всех. Период палеолита начался 2,6 миллиона лет назад и закончился примерно 10 000 лет назад. Слово «палеолит» означает «старый камень», что немного забавно, поскольку при помощи этих каменных орудий множество предметов было сделано из дерева и кости.
Таким образом, несколько десятилетий назад принадлежность к роду Homo стали определять по использованию орудий. Но теперь мы обнаружили, что более древние человекообразные обезьяны, которых мы не называем людьми, тоже делали каменные орудия. И приходится признать, что это свойственно не только человеку. Как мы увидим, это подтверждается примерами использования орудий современными животными. Животные в качестве технологического материала обычно применяют не камень, а части дерева, и мы не можем исключить, что первые люди тоже использовали дерево. Понятное дело, дерево разлагается, и у нас очень мало физических доказательств использования доисторическими людьми деревянных орудий. В Тоскане, на севере Италии, есть удивительное место, где были обнаружены некоторые из самых замечательных примеров древнего плотницкого мастерства. Это фрагменты самшита возрастом около 170 000 лет, разбросанные в земле рядом с ашельскими орудиями и костями вымершего слона Palaeoloxodon antiquus с прямыми бивнями. Несколько деревянных копий были найдены и в других местах, в том числе у приморского города Клактон в Эссексе, но тосканские находки, похоже, служили для разных целей, и по ним заметно, что для их изготовления применяли огонь. У самшита твердая и плотная древесина, и по этим стержням видно, что кору с них снимали при помощи каменного резака и, возможно, держали над огнем для удаления лишних волокон или сучков. Кто мастерил эти копья и палки-копалки? Время и место напрямую указывают, что это дело рук неандертальцев.
Подобных деревянных орудий, особенно относящихся к этой эпохе, сохранилось мало, и находят их редко. Поэтому, когда речь идет о названии археологических периодов, мы оперируем имеющимися доказательствами. Так что вслед за эпохой «древних камней» наступил 5000-летний период среднего каменного века, или мезолит, за ним неолит, а потом уже современная эпоха.
Палеолит охватывает как олдувайскую, так и ашельскую культуру, и в целом этот период составляет более 95 % истории человеческой технологии. Между двумя типами культуры существует ощутимое различие, но по большому счету набор использовавшихся человеком инструментов почти не менялся на протяжении этих двух периодов, каждый протяженностью более миллиона лет. Никаких значительных технологических прорывов не было. Люди перемещались по миру, достигли Индонезии и разных уголков Европы и Азии. Мы замечаем незначительные изменения их анатомического строения, видового состава и распределения, но их технология остается узнаваемой.
Орудия из Ломекви были созданы примерно 3,3 миллиона лет назад, т. е. эти первые обладавшие технологией люди жили, возможно, через миллион лет после разделения эволюционных ветвей человека и шимпанзе, бонобо и других человекообразных обезьян. Все эти обезьяны и сегодня используют орудия, о чем мы поговорим чуть позже. Однако мы не уверены, что культура использования орудий является преемственной. Люди накапливают знания и умения и проносят их через эпохи, практически не теряя приобретенных умений. Обычно нам не приходится заново изобретать одну и ту же технологию. Использовали ли человекообразные обезьяны орудия непрерывно с момента расхождения наших ветвей или техника владения орудиями забывалась и вновь изобреталась много раз? Мы этого не знаем и, возможно, никогда не узнаем, поскольку у нас мало доказательств, что человекообразные обезьяны умели обрабатывать камень, хотя они могли использовать деревянные орудия, которые плохо сохраняются в земле. Основы олдувайской технологии были заложены древними предшественниками людей после расхождения ветви человекообразных обезьян, которые позднее превратились в людей, и ветви, давшей начало гориллам, шимпанзе и орангутанам. Появление технологии свидетельствует о способности целенаправленно манипулировать предметами для решения специфических задач, и в этом мы намного превосходим любых других животных, включая всех человекообразных обезьян.
Что нужно, чтобы созидать
В контексте обсуждения роли наших технологических навыков в Большом скачке становится очевидным, что масштаб различий между нами и человекообразными обезьянами весьма значителен. Для изготовления орудий требуется предвидение и воображение, которые переводятся в контролируемые моторные движения. А для этого нужен мощный мозг. И с развитием мозга повышается ловкость рук. Говоря о развитии технологии, нужно рассматривать физические возможности и мозга, и тела. Наши руки невероятно сложны. Робототехника пытается воспроизвести ряд степеней свободы, доступных человеческим рукам (порядка 20 или 30), чтобы имитировать самые простые движения. Подумайте об изумительной точности движений рук Чон Кен Хва, исполняющей скрипичный концерт Баха. Или о той смелости, с которой Шейн Уорн закручивает крикетный мяч, так что до удара о землю он поворачивается почти на 900 и обманывает лучших в мире бэтсменов. Такая волшебная сила наших пальцев, ладоней и кистей связана с тонкой неврологической регуляцией не только моторной функции в целом, но и произвольных движений.
У нас необычно крупный мозг. Кроме того, он отличается специфическими буграми и складками, обеспечивающими чрезвычайно высокую плотность межклеточных контактов и большую площадь поверхности коры, с которой обычно связывают поведение современного человека. Мозг можно измерять по множеству параметров, и по большинству из них мы приближаемся к максимальным значениям (но не всегда их достигаем).
У нас не самый крупный мозг, поскольку в целом размер мозга пропорционален размеру тела. Наверное, синие киты — самые крупные из когда-либо существовавших животных, но у кашалотов самый тяжелый мозг с невероятной массой около 18 фунтов.[13] Среди сухопутных существ чемпион по размеру мозга — африканский слон. По абсолютному количеству нейронов он тоже побеждает, поскольку его фантастический показатель 250 миллиардов в три раза выше нашего (86 миллиардов нейронов и второе место). Для сравнения в качестве примера можно привести нематоду Caenorhabditis elegans — излюбленный объект исследований биологов по многим причинам, в том числе потому, что мы смогли воссоздать путь развития каждой клетки тела этого червя от единственной оплодотворенной яйцеклетки. Его нервная система состоит всего из 302 клеток. Однако пусть такая кажущаяся простота не вызывает у вас самодовольства: у этих существ примерно столько же генов, сколько у нас, но они превосходят нас по численности и общей массе, а продолжительность их существования на Земле на сотни миллионов лет больше.
Особый интерес представляет кора головного мозга млекопитающих, отвечающая за мыслительные способности и сложное поведение, но и в этом соревновании мы находимся на втором месте, в данном случае уступая длинноплавниковым гриндам (черным дельфинам): в коре их головного мозга содержится вдвое больше клеток, чем у нас. В этом отношении африканский слон уступает всем человекообразным обезьянам, четырем видам китов, тюленю и морской свинье.
В этой игре мы пытаемся сравнивать подобное с подобным. Вообще говоря, мужчины обычно крупнее женщин, и их мозг также пропорционально крупнее, но, как мы не устаем подчеркивать, это различие никоим образом не влияет на измеряемые параметры когнитивных способностей или поведения. Гораздо более полезным параметром для определения неврологических оснований эффективности мозга является отношение массы мозга к массе тела.
Аристотель считал, что по этому параметру мы занимаем первое место, о чем и сообщил в сочинении с недвусмысленным названием «О частях животных»: «Среди всех животных у человека самый крупный мозг по отношению к размеру тела». Аристотель был великим ученым и философом, но в данном случае он не совсем прав. По этому параметру, опять-таки, мы не на вершине, хотя и близки к ней: нас побили муравьи и землеройки. Нашелся один ученый лучше Аристотеля, который написал об этом в 1871 г. Это был Чарлз Дарвин, а книга называлась «Происхождение человека и половой отбор»:
«Безусловно, что может существовать громадная умственная деятельность при крайне малой абсолютной величине нервного вещества: так, всем известны удивительно разнообразные инстинкты, умственные способности и склонности муравьев, и, однако, их нервные узлы не составляют и четверти маленькой булавочной головки. С этой точки зрения мозг муравья есть одна из самых удивительных в мире совокупностей атомов материи, может быть, более удивительная, чем мозг человека».
Масса человеческого мозга составляет лишь около одного фунта из общих 40 фунтов массы тела. Это такое же соотношение, как у мыши, но намного больше, чем у слона, у которого оно составляет порядка 1:560. Рекордно низкое отношение массы мозга к массе тела принадлежит угревидной рыбе Acanthonus armatus. Если этого унизительного свойства недостаточно, сообщу, что ее обиходное название — костляво-ушастая рыба-задница.
В 1960-х гг. для определения умственных способностей был предложен более сложный параметр. Коэффициент энцефализации (EQ) отражает соотношение между реальной массой мозга и массой мозга, предсказанной на основании размера тела. Этот коэффициент позволяет получить лучшее соответствие с наблюдаемой сложностью поведения животных, и с его помощью мы можем точнее оценить количество мозгового вещества, задействованного в мыслительном процессе: размер мозга не в точности коррелирует с размером тела или сложностью поведения. Этот параметр хорошо работает только в отношении млекопитающих, и здесь наконец-то человек занимает первое место. За нами следуют некоторые дельфины, потом косатки, шимпанзе и макаки.
Проблема заключается в том, что больший размер мозга не означает большее число нейронов. Плотность клеток — один из аспектов физиологии умственной деятельности, но в наших головах содержится множество разных клеток, и все они важны. Часто говорят, что в каждый момент времени мы используем лишь 10 % мозга (при этом подразумевается, что мы могли бы сделать гораздо больше, если бы использовали весь мозг!)[14]. Однако это совершеннейшая бессмыслица, народный фольклор. Все отделы нашего мозга используются, хотя и не с одинаковой интенсивностью, одновременно. В нем нет такого куска, который, как запасной жесткий диск, пребывает в бездействии, ожидая подключения. Сложность мыслей и действий обеспечивается наличием клеток разных типов, функциональная связь между которыми нам еще не до конца понятна, и плотность клеток — не единственный и не главный параметр, определяющий мыслительную способность мозга. В проведенном в 2007 г. исследовании была поставлена под сомнение объективность коэффициента EQ, и выяснилось, что, если вычеркнуть из списка человека, абсолютный размер мозга животных является лучшим предсказателем когнитивных способностей, а сравнительный объем коры играет весьма незначительную роль.
Как и в случае многих других биологических проблем, не существует простого ответа на вопрос, как связаны между собой мозг, разум и орудия. Это одна из самых сложных областей исследований (нейробиология — сравнительно новая наука), особенно в том, что касается установления точной связи между специфическими типами клеток мозга и мыслями и поступками. Такие области, как психология поведения и этология[15], сталкиваются с трудностями при постановке эксперимента: этическая сторона экспериментов на людях и ограниченность наблюдений в природе.
Размер головного мозга, его плотность, отношение его массы к массе тела, количество нейронов — все это важные параметры, и, по-видимому, ни один из них не является тем уникальным параметром, который указывал бы на наше интеллектуальное превосходство. Возможно, вам кажется, что я скептически настроен в отношении этих метрических значений, но я просто с осторожностью отношусь к тому, чтобы выделять любое из них в качестве главного причинного фактора. Безусловно, для сложного поведения необходим крупный мозг. Но дело не только в мозге, по каким параметрам мы бы его ни измеряли. Эволюция организмов происходит в соответствии с внешним давлением на них, и проделанный нами путь усложнения и развития ни в коей мере не был изначально предначертан. Длинноплавниковые гринды с их большим мозгом и высокой плотностью клеток новой коры никогда не изобретут скрипку, поскольку у них нет пальцев.
В этом смысле часть ответа на вопрос о том, каким образом мы развили навыки изготовления орудий, заключается в удачном стечении обстоятельств. Наша среда и наша эволюция показывают, что естественный отбор благоприятствовал развитию ловкости рук и соответствующих способностей мозга, необходимых для того, чтобы смастерить скрипку и научиться на ней играть (причем путь этот был долгим). Как мы вскоре обсудим, орудия и технологию используют многие животные, но только нам посчастливилось достичь столь естественного для нас уровня мастерства. Совместная эволюция мыслительного процесса, мозга и рук позволила нам использовать палку, разбивать камень, оттачивать его осколки и в конечном итоге, после долгого периода застоя, развить технологические способности для ваяния статуй, создания музыкальных инструментов и получения дополнительных ресурсов. Хотя некоторые животные имеют мозг примерно такой же сложности, никто из них за миллионы лет и близко не подобрался к нам по способности использовать орудия.
Животные и их орудия
Вообще говоря, большинство животных совсем не владеют никакой технологией. Животные, применяющие орудия, составляют менее 1 % видов. Но хотя использование предметов из окружающей среды для расширения собственных возможностей встречается крайне редко, разнообразие вариантов применения орудий в разных таксонах весьма велико. Орудиями пользуются представители семи классов животных: морские ежи, насекомые, пауки, крабы, улитки, осьминоги, рыбы, птицы и млекопитающие.
Учитывая приведенное выше определение (орудие — это предмет из окружающей среды, которым манипулируют для расширения физических возможностей животного), интересно посмотреть, как этот 1 % видов животных расширяет свои возможности с помощью технологии. Ниже представлено несколько самых удивительных примеров.
Приготовление пищи
Многие животные используют технологию для получения доступа к пище или ее трансформации во что-то более вкусное. Самое распространенное действие: раскалывание камнями внешней оболочки, в которой содержится пища в природных условиях. Макаки питаются крабами и многочисленными двустворчатыми моллюсками, открывая твердую оболочку с помощью камней. Причем они выбирают камни, подходящие для конкретного типа пищи. Каланы (морские выдры) делают то же самое, плывя на спине и используя в качестве опоры собственный живот. Капуцины, шимпанзе, мандрилы и другие приматы разбивают камнями орехи, а некоторые выбирают из оболочки съедобные кусочки с помощью острых палочек. Шимпанзе, живущие в Гвинее, используют камни для раскалывания и размельчения плодов хлебного дерева, которые по размеру сравнимы с футбольным мячом и примерно такие же жесткие.
Чаще всего животные используют палки — для перемешивания, выдалбливания, перемещения, почесывания, копания, перетаскивания и зондирования. Специалист по этологии приматов Джейн Гудолл более 15 лет руководила работой полевой станции в Национальном парке Гомбе-Стрим в Танзании и впервые наблюдала, как шимпанзе подготавливают палку для последующего использования для получения пищи — в данном случае для ловли термитов. В 1960 г. Гудолл увидела, как шимпанзе, прозванный Дэвидом Грейбердом, снимал кору с прутиков и засовывал их в термитник. Ей стало интересно, и она проделала то же самое и наблюдала, как термиты налипают на прут. Мистер Грейберд их ел. Шимпанзе также используют прутья для извлечения меда из ульев и отгоняют ими разъяренных пчел, пытающихся защитить свои дома и личинок.
Орангутаны любят рыбу и, по-видимому, рыбалку тоже. Иногда они подбирают дохлую рыбу у берега, но иногда бьют живую рыбу на мелководье палкой, а потом вытаскивают лапами. Их также заставали за попытками (насколько нам известно, безуспешными) прибить рыбу в пруду заостренной зубами палкой: возможно, они видят людей, которые ловят рыбу гарпуном, и пытаются воспроизвести их действия. Если это так, то это пример культурного признака, который передается не только между представителями одного вида, но и между разными видами.
Поиски брода
Орангутаны и конголезские гориллы живут в густых лесах, часто вблизи прудов или рек, через которые им приходится перебираться. Из всех человекообразных обезьян только человек является по-настоящему двуногим животным, что означает, что только мы постоянно перемещаемся на двух ногах. Другие ныне живущие человекообразные обезьяны обычно ходят на четырех лапах, опираясь на костяшки передних лап, однако могут, хотя не очень долго и не очень уверенно, перемещаться на задних лапах. Пересекать водоемы на четвереньках непросто, поскольку голова может оказаться под водой, а иногда и опасно, потому что дно невидимое и неровное. Орангутанов и горилл заставали за выбором палок и проверкой глубины водоема в поисках брода. Гориллы также опираются на палки при переходе через водоемы с неровным дном.
Орудия общего назначения
Листья используются так же широко, как палки. Орангутаны любят ветви, покрытые густой листвой, и люди видели, как они используют листья в качестве перчаток, когда берут колючие плоды, в качестве шляпы во время дождя, в качестве подушки, когда пристраиваются на колких ветвях, а также как они готовят ветви для мастурбации. Гориллы машут ветками, чтобы отпугнуть противников перед боем. Шимпанзе используют слой листьев как губку, из которой пьют воду. Слоны аккуратно отрывают хоботом покрытые листьями ветви деревьев и с их помощью отгоняют мух. Для ухода за кожей бурые медведи при линьке трутся о покрытые балянусами камни. Все это примеры использования животными предметов из окружающей среды для расширения своих физических возможностей. Вне зависимости от того, трансформируют ли они эти предметы или используют в исходном виде, мы считаем это примерами применения орудий.
Дельфин с губкой
Всем известно, что дельфины очень умные. Они проделывают всякие трюки и спасают утопающих, а об их готовности помогать людям рассказывают легенды. По всем вышеперечисленным неврологическим метрикам китообразные животные (и особенно дельфины) стоят очень высоко. У них большой объем мозга, сложное социальное поведение, непростые (и отталкивающие) сексуальные отношения, о которых мы вскоре поговорим; дельфины умеют общаться, но у них нет лап.
У всех 40 ныне живущих видов дельфинов имеются передние плавники, кости которых полностью гомологичны костям кистей наших рук, а также костям передних ног лошади и крыльев летучих мышей. Все это указывает на наше общее и относительно недавнее происхождение как млекопитающих[16]. Однако у дельфинов совсем нет мышц, которые позволяли бы двигать пальцами, и плавники используются как плоские весла, хотя в них и заложены эквиваленты костей пальцев. Дельфины могут лишь двигать плавниками вперед и назад, чтобы перемещаться в воде. Конечно, они великолепные пловцы, но мы почти не знаем примеров, как они используют предметы из внешней среды. Из-за плавников дельфины, киты, морские свиньи и другие китообразные не очень в этом преуспели.
Это в очередной раз доказывает, что крупный мозг — необходимое, но недостаточное условие для того, чтобы вид овладел технологическими навыками. У нас есть мозг и руки, и шимпанзе используют лапы, губы и зубы для обработки палок. Китообразные минимально контролируют мышцы челюсти и не имеют рук. Единственный пример использования орудий этими чрезвычайно разумными млекопитающими с крупным мозгом обнаружен в Австралии, и он удивителен и важен.
Бутылконосые дельфины делают кое-что необычное: они используют в качестве орудия другое животное. Губки — простейшие многоклеточные организмы, что означает, что в царстве животных они относятся к наименее сложным. У них нет нервной системы и вообще нет нейронов. Бутылконосые дельфины, обитающие в Акульей бухте, надевают губки на нос. Примерно три пятых от количества дельфинов в этой области носят на носу губку, и ученые думают, что таким образом они защищают нос (правильнее сказать, клюв) при охоте на морских ежей, крабов и другую колючую добычу, прячущуюся на каменистом дне. Дельфины выбирают губки конусообразной формы: вероятно, они лучше держатся и лучше защищают клюв. Одно животное использует второе животное, чтобы съесть третье животное.
Дельфин с губкой
Таким образом, дельфины с губкой и без губки, живущие в одном водоеме, питаются совсем по-разному. Обе группы охотятся в одной и той же зоне, так что мы не можем объяснить эти различия экологическим фактором: как будто они ходят в одно и то же кафе, но берут там разные блюда, поскольку один пользуется китайскими палочками, а другой нет.
Однако использование губки и рацион питания — это лишь небольшая часть истории. Удивительная особенность данной практики в том, что подавляющее большинство дельфинов, использующих губку, это самки. Они спариваются с самцами, которые не используют губки, и их детеныши женского рода тоже носят губки на клюве.
Как уже отмечалось, мы наблюдаем здесь биологическую передачу признака, но также культурную передачу посредством обучения. Какие-то поведенческие признаки закодированы в ДНК, а какие-то приобретаются, но все же определяются генетическим и физиологическим базисом, позволяющим этим признакам развиваться. Ученые, изучавшие местную популяцию дельфинов начиная с 1980-х гг., брали у них ДНК на анализ, чтобы установить, существует ли какая-то генетическая основа для такого поведения, и ничего не нашли. По-видимому, использование губки для охоты не записано у дельфинов в генах. Этому умению обучаются. На основании анализа ДНК ученые также смогли определить их родство, и эти данные показали кое-что интересное. По-видимому, умение использовать губки произошло от одной самки, жившей примерно 180 лет назад (за это время сменилось два или три поколения). Изобретательницу прозвали «Евой с губкой». Мы можем проследить линию родства в этой группе и передачу умения пользоваться губкой и увидеть, что оно не передается на генетическом уровне. Таким образом, это пример культурной передачи способности пользоваться орудиями. И это первый известный пример среди китообразных животных. Дочери учатся применять губку у своих матерей.
Поскольку использование губки — культурная адаптация, в эволюционном плане это загадка, так как оно никак не влияет на воспроизведение дельфинов. Следовательно, такое поведение не приносит ни ощутимой пользы, ни ощутимого вреда. Выясняется, что во всех задокументированных случаях использования орудий животными не было обнаружено никакого влияния на репродуктивную функцию, а это ключевая идея эволюционной биологии: с наибольшей вероятностью отбираются те признаки, которые повышают численность потомства и способствуют его выживанию. В первой половине XX в. теория Дарвина получила подкрепление за счет применения к наблюдаемым явлениям математического аппарата. Уже недостаточно сказать: «у жирафа такая длинная шея, потому что она дает ему преимущество в поисках сочных листьев». Мы должны тщательно изучить данные и смоделировать потенциальные преимущества, анализируя передачу признака между поколениями и его распространение. Насколько я знаю, этот стандарт не работает при определении эволюционных преимуществ умения пользоваться орудиями.
Культурная трансмиссия (или культурное обучение) — очень важный фактор эволюции человека. Кроме человека, до сих пор это явление наблюдалось у дельфинов, у некоторых птиц и некоторых обезьян. Существует искусственное разграничение между биологической эволюцией, под которой обычно понимают передачу генетической информации, и культурной эволюцией, т. е. обучением. На уровне инстинкта мы знаем, что заплесневелая еда может быть опасна для здоровья, а обучение позволяет узнать, что выдержанный сыр с плесенью изумительно вкусен. Эти две грани знания не являются независимыми друг от друга, поскольку поведение, которому мы научились, должно соответствовать биологическим рамкам, которые позволяют принять и обработать новое знание. Чтобы перенять инструкции подобного рода и следовать им, животному нужен крупный мозг.
Культурная трансмиссия также требует инноваций, а это происходит действительно редко. Вскоре мы поговорим о наших выдающихся способностях в этой сфере.
Птицы
Заметьте, что почти все приведенные выше примеры касаются млекопитающих, в основном приматов. У млекопитающих мозг обычно крупнее, чем у других позвоночных животных, а также имеет более развитые лобные доли со специфическими структурами, отвечающими за сложное поведение. Но, как мы обсуждали ранее, размер — это еще не все. В свое время я многократно препарировал мозг свиней, которых считают умными и социальными животными. Их мозг сравнительно невелик — размером со сливу, но окружен черепной коробкой толщиной в несколько сантиметров. Если вам часто приходится биться головой о разные предметы, полезно иметь крепкий череп.
Мозг попугая ара сравним по размеру с грецким орехом, т. е. достаточно крупный для птицы. Птицы образуют большую группу животных, непосредственно происходящих от теропод (хищных динозавров), к которым относились T. rex, еще более страшный гиганотозавр и гораздо более похожий на птицу археоптерикс (ученые относят птиц к авиалам — летающим динозаврам). Мы знаем, что значительное разнообразие птиц и мелких млекопитающих возникло после того, как 66 миллионов лет назад у берегов современной Мексики упал метеорит, положивший конец существованию крупных динозавров. Сегодня насчитывается около 9000 видов птиц, что почти вдвое превышает число видов млекопитающих. Для большой группы характерно и большое разнообразие: самая маленькая птица — колибри-пчелка, которая весит примерно как половина чайной ложки сахарного песка, а самая крупная — страус (мадагаскарские слоновые птицы, которые имели рост десять футов и весили половину тонны, были еще крупнее, однако они вымерли примерно 1000 лет назад, главным образом по той причине, что мы их ели). Все современные птицы имеют оперение, не имеют зубов и откладывают яйца, покрытые твердой скорлупой.
Когда речь заходит о когнитивном поведении, наше внимание концентрируется на наших самых близких родичах и на тех, к кому мы наиболее сильно привязаны. Это означает, что мы изучали приматов, китообразных и слонов в большей степени, чем кого-либо еще. Однако недавно мы переключились на воронов и попугаев, и не без оснований. Во́роны, вороны и грачи в отношении социального общения и использования орудий намного опережают остальных своих собратьев (хищные птицы тоже обладают интересными навыками, и позже мы поговорим об этом).
Новокаледонский ворон — король птичьей технологии. Он известен не только умением использовать палочки для извлечения насекомых из бревен и разлагающейся коры, но и способностью изготавливать для себя орудия. В лабораторных условиях и в дикой природе вороны отделяют веточки длиной четыре или пять дюймов и обламывают их, пока они не станут ровными и прочными, и орудуют ими в поисках пищи. Это инстинктивное поведение: стая выросших в неволе воронов, никогда не видевших других своих собратьев, тоже делает и использует такие палочки. Мы знаем, что крючки удобнее прямых палочек. Вороны делают и используют согнутые палочки для ловли жирной добычи и переносят ее на таких палочках. В экспериментальных условиях, когда одно орудие находится в пределах видимости, но вне пределов досягаемости, вороны используют более короткую палочку, чтобы достать более удобную длинную. Применение одного орудия для перемещения второго чрезвычайно редко наблюдается у животных, так же как и использование одного орудия для улучшения другого («метаорудие»). Такое поведение указывает на удивительно высокую способность к рассуждению по аналогии, позволяющую этим животным продумывать действие на несколько шагов вперед: Я знаю, что с помощью длинной палочки смогу добыть еду; можно ли использовать короткую палочку, чтобы достать длинную?
Хотя выше я упомянул, что в настоящее время мы не можем на количественном уровне оценить эволюционные преимущества использования орудий, в 2018 г. при изучении каледонских воронов было получено несколько полезных цифр. Ученые замечали время, за которое вооруженный согнутой палочкой ворон может вытащить червя или личинку из узкого отверстия или паука из широкого отверстия. При помощи согнутой палочки птицам удавалось извлечь добычу в девять раз быстрее, чем при помощи прямой. Конечно, это лишь косвенная оценка успешности репродукции, однако высокая эффективность добычи пищи и охоты — очень важный положительный фактор при спаривании: вы можете больше времени уделять поискам корма и добыть больше корма, что делает вас более здоровым и более привлекательным партнером для спаривания.
Крюк — важное технологическое изобретение. Спросите любого рыбака. Орангутаны ловят рыбу лапами или простой заостренной палкой, но крюк для этого дела подходит гораздо лучше копья. Может быть, именно так впервые в эпоху палеозоя люди начали ловить рыбу, а не только ее подбирать. О богатой ранней культуре использования даров моря мы знаем благодаря находкам в южноафриканской пещере Бломбос, возраст которых составляет порядка 70 000 лет. Были найдены десятки толстостенных раковин морских моллюсков с аккуратно проделанными дырочками: возможно, они должны были стать бусинами в ожерелье, и, возможно, это самый ранний пример ювелирного искусства. Побережье изобилует съедобной жизнью, и люди тогда, безусловно, ели легко доступных морских животных — тех, которые не плавают, например малоподвижных моллюсков. Но охотникам доступна другая еда. Самые древние крючки обнаружены в Японии, на острове Окинава. Они были тщательно вырезаны из плоских оснований морских улиток трохусов примерно 23 000 лет назад. Из двух имеющихся у нас образцов один представляет собой почти идеально сохранившийся полумесяц с отшлифованным краем, который по-прежнему может резать плоть. Хотя это самые старые образцы и они, вероятно, отражают уже сформировавшуюся технологию, это очень важная находка, позволяющая проследить за нашим развитием: рыболовные крючки, среди прочего, демонстрируют успешную колонизацию человеком островов и развитие способности охотиться на просторах океана, а не только подбирать его дары.
Никто и не думал, что способность вырезать крючки из конических ракушек закодирована в ДНК. Это умение, которому учили и учились и которое передавалось нашими предками из поколения в поколение. Опять-таки, для изучения нашей эволюции необходимо учитывать культурную трансмиссию идей. Этот способ передачи идей не ограничивается только человеком (вспомним дельфинов с губками из Акульей бухты), а также не ограничивается и технологией.
Еще интереснее социально-когнитивное поведение воронов. По-видимому, вороны не только умеют распознавать лица людей, но и понимают, смотрит ли человек на них или в пространство. Вот простой эксперимент, проделанный в 2013 г. в Сиэтле: исследователь подходил к стае ворон, глядя или не глядя на них. Если птицы понимали, что на них смотрят, они гораздо быстрее разлетались в стороны, как понтёры из бандитского бара в субботу вечером. Возможно, это новая адаптация к жизни в больших городах, в непосредственной близости от людей, которые не всегда представляют опасность для птиц. Бегство — дело дорогое, оно требует времени и сил, которые лучше использовать на поиски корма. Голуби и другие птицы с менее развитыми когнитивными способностями, чем вороны, при приближении человека разлетаются в стороны, не пытаясь выяснить его намерения. А вот еще один странный эксперимент, который был проделан с воронами. При приближении к птицам исследователи надевали одну из двух масок. Люди в первой маске просто проходили мимо, а люди во второй бросались на птиц. Идея заключалась в том, чтобы птицы запомнили одного человека как источник угрозы, а другого — как безопасное существо. Через пять лет исследователи вернулись на то место, где все еще жили те же птицы, а также их молодое потомство. Реакция на людей в масках была той же самой. По-видимому, птицы запомнили угрозу и каким-то образом передали эту информацию молодым. Если эти результаты справедливы, нам еще предстоит понять, как передаются такие знания.
Несмотря на все эти данные, выражение «птичьи мозги» все еще считается оскорблением. Происхождение этого выражения неизвестно, но в США оно было в ходу уже в первой половине XX в., то есть до того, как мы начали интересоваться воронами. Возможно, оно связано с тем, что у птиц в буквальном смысле маленький мозг, или с тем, что птицы — непостоянные и нервные создания, а куры способны двигаться даже после обезглавливания. В любом случае это оскорбление уже не работает. Известно, что певчим птицам для исполнения сложных песенных партий или какаду и другим попугаям для забавного подражания требуется большое количество нейронов, что оставалось загадкой для ученых, учитывая небольшой объем мозга птиц. В 2016 г. в рамках эксперимента невиданного ранее масштаба было произведено препарирование мозга птиц 28 видов. Неврологическая основа когнитивной способности птиц оказалась на удивление очевидной: ученые обнаружили, что нейроны в мозге птиц очень плотно упакованы. Передние доли мозга воронов и попугаев имеют такое же отношение к размеру всего мозга, как у человекообразных обезьян, а плотность упаковки нейронов в них иногда выше, чем у приматов. Возможно, здесь кроется причина удивительных способностей этих разумных летающих динозавров. Что же касается уничижительного выражения «птичьи мозги», давайте вспомним ворона и его «Nevermore».
Теперь, когда мы знаем, что многие животные используют орудия, постановка вопроса меняется. Когда мы думаем о наших потрясающих способностях в сфере технологии, столь потрясающих, что они определили наше существование от расщепления камней до портативных компьютеров, нам следует меньше интересоваться самими орудиями и больше интересоваться тем, как мы приобретали свои навыки. Дельфины никогда не обретут ловких рук, и ворон не сможет постучать в мою дверь ничем более сложным, чем обтесанная палочка.
Возможно, нас от них отличает не умение использовать орудия, а умение передавать другим свои знания и способность мастерить орудия.
Пали ангелы в огне[17]
Существует одно особое орудие, или инструмент, о котором стоит поговорить отдельно, поскольку оно, парадоксальным образом, обладает разрушительной силой. Мир горел на протяжении миллиардов лет. Огонь — безжалостная сила природы, химическая реакция, разрушающая все вокруг — от химических связей в поддерживающих горение молекулах до живых существ, погибающих при температуре, которую клетки не могут выдержать. Жизненно важные биологические молекулы деформируются и распадаются на части, в клетках кипит вода. Огонь и жизнь несовместимы.
Однако огонь также часть окружающей нас среды и нашей экологии, и способность адаптироваться к нему, контролировать и использовать эту грозную силу определила нашу эволюцию. Мы живем на земной коре, покрывающей расплавленное ядро, извергавшее из своих недр серу и камни еще до того, как на планете зародилась жизнь. Вообще говоря, сейчас мы думаем, что лава, прорывавшаяся через морское дно четыре миллиарда лет назад, была не только инструментом, но и ключевым фактором в образовании каменистых яслей, в которых химия трансформировалась в биологию и дала начало жизни[18]. Мы не просто приняли огонь: жизнь родилась из огня и сформировалась под его влиянием.
Дарвин считал управление огнем «возможно, величайшим наряду с речью» достижением человека. Наверное, он был прав. Хотя сегодня мы не в такой степени зависим от огня, как во времена разгара викторианской изобретательности, когда он это писал, и не так часто, как он, видим открытый огонь и горящие печи.
Тем не менее мы «пирофилы» — любители огня. Мы сжигаем энергию Солнца, сконцентрированную в соединениях углерода в древесине — как живой, так и мертвой настолько давно, что за это время она превратилась в уголь, — а также в скелетах животных, умерших много лет назад и буквально спрессованных в нефть. Разрушая химические связи в этих когда-то жизненно важных соединениях углерода, огонь высвобождает их энергию. Этот процесс сформировал современный мир, а теперь угрожает его существованию, поскольку углекислый газ, который мы продолжаем выбрасывать в атмосферу, содержит больше энергии, чем другие составляющие воздуха, и парниковый эффект повышает температуру на Земле.
Огонь — это орудие, которое полностью изменило нашу жизнь, причем не только в индустриальную эпоху, но задолго до того, как наш конкретный тип человеческого существа принял свою современную форму. У нас есть доказательства, что Homo erectus, который весьма успешно осваивал Землю в период от 1,9 миллиона до 140 000 лет назад, в какой-то степени умел управлять огнем. Ученые до сих пор обсуждают, когда же люди впервые стали использовать огонь. Просеивать пыль с древних стоянок — дело кропотливое, и хотя мы имеем молекулярные доказательства, свидетельствующие о горении костей и растений примерно 1,5 или 1,7 миллиона лет назад (в разных местах по-разному), следы обнаружены на открытом пространстве, и мы не можем утверждать, что это результат намеренных действий человека, а не последствия природных пожаров или вулканической активности. Некоторые ученые считают, что на основании формы зубов и других морфологических признаков можно утверждать, что Homo erectus готовил еду на огне уже 1,9 миллиона лет назад. Но самые ранние надежные археологические доказательства использования огня относятся к периоду около миллиона лет назад и найдены в Южной Африке, в пещере Вандерверк.
Но вне зависимости от того, как и когда это произошло, человек стал регулярно пользоваться огнем и превратился в «облигатного пирофила». Этот переход, как и все изменения в эволюции человека, практически наверняка происходил медленно и постепенно: искра была не одна, их было много. Археологи до сих пор спорят о самых ранних доказательствах контролируемого использования огня. Но, вообще говоря, археологи спорят по поводу множества разных вещей.
Около 100 000 лет назад мы уже достаточно хорошо управляли огнем. Понятное дело, что в качестве источника тепла и света «красный цветок» оказался преимуществом, как и умение разжигать его из искр. Орангутан Король Луи из мультфильма «Книга джунглей» мечтает быть таким, как мы, и особенно обладать этой уникальной человеческой способностью, а он достаточно мудр. Влияние огня на развитие человечества нельзя сравнить ни с чем. Благодаря огню в качестве источника тепла мы расселились на северных территориях, за пределами зон умеренного и тропического климата, где мы появились на свет. Это дало нам возможность охотиться на других животных — крупных и мелких, готовить из них еду и мастерить орудия, одежду и предметы искусства из их костей и шкур. Как и сегодня, трудно переоценить социальное значение сборищ у костра или очага. Вокруг огня рождались и укреплялись социальные связи, рассказывались истории, передавалось мастерство, готовилась и делилась пища.
Человек — единственное животное, которое готовит еду. Энергия и питательные вещества иногда спрятаны глубоко внутри растительных и животных тканей, и мы высвобождаем их при переваривании. Этот процесс осуществляется за счет химического или механического действия. Зубами можно кусать, грызть и жевать, добиваясь мацерации — размягчения пищи, в результате чего она становится более доступной для действия ферментов, которые расщепляют ее с молекулярной точностью. Многие животные используют дополнительные механические средства, способствующие перевариванию. У птиц нет зубов для измельчения пищи, но есть второй (мускульный) желудок — мышечный мешок в пищеварительном тракте, который заполняется мелкими камешками, перетирающими пищу и облегчающими ее химическое расщепление. Эти желудочные камни называют гастролитами, и их использование является очень древней практикой. В окаменелостях некоторых динозавров мелового и юрского периода обнаружены отшлифованные камни — в тех местах, где располагались мягкие ткани второго желудка.
Человек расширил свои пищеварительные возможности за счет внешних средств. В процессе приготовления пищи химические связи в сложных молекулах разрываются, что облегчает переваривание пищи в желудке. В результате термической обработки мясо становится мягче. Более мягкая пища легче усваивается: мы тратим меньше времени на пережевывание отварной капусты, чем сырой, и получаем более быстрый и эффективный доступ к важнейшим пищевым компонентам. Кроме того, прием пищи — опасное время: когда вы заняты едой, вы не так быстро реагируете на угрозу. Меньше времени потрачено на еду — меньше вероятность быть съеденным.
Поэтому приготовление пищи оказалось важным положительным элементом нашей эволюции. Некоторые исследователи предположили, что мы стали пирофильными приматами, поскольку вокруг нас постоянно случались пожары и мы научились использовать преимущества огня. Возможно, приготовление пищи или хотя бы понимание того, как тепло изменяет пищу, началось еще с человекообразных обезьян, которые обследовали пожарища в поисках съедобного. Довольно сложно идеально поджарить индейку даже в духовке XXI в., так что, скорее всего, сгоревшие на пожарах дикие животные были либо обуглившимися, либо полусырыми. Но вполне возможно, что это первое жареное мясо было той искрой, из которой разгорелась идея использовать тепло для улучшения усвояемости пищи.
Следующее очевидное преимущество находиться вблизи, но на безопасном расстоянии от огня заключается в том, что вы можете быть свидетелем бегства других животных. Если они интересуют вас в качестве пищи, огонь предоставляет бесплатный ассортимент закусок на любой вкус. Считается, что этим пользуются южноафриканские верветки (зеленые мартышки), которые поджидают беспозвоночных животных, выскакивающих из огня — прямо им в рот. По-видимому, мартышки все прекрасно понимают и расширяют свой обычный рацион питания, наведываясь на места пожаров. Это поведение имеет еще одно преимущество. Выглядывая хищников, верветки стоят на задних лапах, чтобы видеть, что происходит выше уровня травы. А если трава выгорела на пожаре, они видят дальше. Поэтому на выжженной земле верветки могут больше времени уделять поискам еды и кормлению подрастающего поколения, а не простаивать на задних лапах, выглядывая, нет ли поблизости кого-то, кто мог бы съесть их самих.
Наши более близкие родственники шимпанзе в саваннах Фонголи в Сенегале тоже живут среди огня, являющегося частью их естественной среды обитания. В саваннах всегда было жарко, но после 2010 г. сезон дождей устанавливается все менее и менее регулярно. С октября начинаются пожары, которые охватывают до трех четвертей территории площадью 35 квадратных миль, где живут обезьяны. Чаще всего это случается в начале сезона дождей, когда на сухой кустарник обрушиваются грозы с молниями.
Ученые наблюдали за этими обезьянами на протяжении нескольких десятилетий, и в 2017 г. было опубликовано сообщение об их отношении к огню. Стоит отметить некоторые факты. Пожары обезьян не беспокоят. По большей части они не обращают внимания на пылающий кустарник, но иногда входят в горящую зону и исследуют участки, потухшие всего несколько минут назад. По-видимому, они часто промышляют на пожарищах по той же причине, что и верветки: увеличивается обзор, и легче обнаружить хищника. Мы знаем, что в заповедниках Мара и Серенгети в Кении крупные травоядные животные, включая зебр, бородавочников, газелей и антилоп топи, собираются в более многочисленные группы на выжженных территориях, чем в здоровой саванне. Возможно, голую землю, покрытую золой от сгоревших растений, пересекать проще и быстрее.
Это специфическое и предсказуемое поведение шимпанзе позволяет предположить, что, хотя они и не могут контролировать распространение огня, но понимают, что такое огонь, и предвидят его поведение. Это важный когнитивный показатель, говорящий, что животные способны осознавать опасность и приближаться к ней, а не выбирать простейший путь спасения, а именно бегство. Кроме того, это достаточно сложная реакция: распространение огня — непредсказуемый и неконтролируемый процесс, который зависит от того, что именно горит, от ветра и множества других факторов и может мгновенно измениться. За секунды температура может стать несовместимой с жизнью; дым и ядовитые газы тоже губительны.
Возможно, верветки и шимпанзе саванн — ключ к пониманию генезиса наших отношений с огнем. Глядя на современную природу, мы проводим параллели и рассуждаем, что наблюдаемая сегодня картина может напоминать далекое прошлое. Но, возможно, это эгоцентрический подход. Все наблюдения полезны, но гипотеза о том, что поведение современных человекообразных обезьян отражает наш путь в настоящее, строится на слишком большом количестве допущений.
Действительно ли мы шли этим путем? Действительно ли современные шимпанзе отражают эволюцию человека 100 000 или миллион лет назад? Ответить на эти вопросы трудно. Следы поведения плохо сохраняются в костях и в земле. Мы можем проследить, как с изменением окружающей среды меняются тела, например подметить крошечные изменения в связи с прекращением жизни на деревьях, и представить себе, какое поведение соответствовало таким телам. Чтобы ответить на вопрос, как нас изменил огонь, нужно больше доказательств, пусть даже они почти так же летучи, как дым. Мы изучаем зарытые в земле обугленные останки или то, что удается извлечь из кухонь и очагов. Мы анализируем морфологию древних людей, чтобы понять, было ли приготовление пищи необходимым условием формирования их тел или хотя бы их твердых частей, сохранившихся для современных исследований. Мы можем проанализировать массу тела и частоту приема пищи, чтобы построить модель для расчета энергии, необходимой для формирования таких тел, и определить особенности пищевых требований. Мы проводим эксперименты с нашими ныне живущими родственниками-приматами и определяем, насколько их поведение соответствуют тому, которое мы наблюдаем в небольших группах обезьян, регулярно встречающихся с огнем.
На этих данных можно построить теорию, но следует быть осторожным. Как правило, крупные человекообразные обезьяны обитают не в саваннах. Большинство шимпанзе, бонобо, горилл и орангутанов живут в густых лесах, где пожары губительны, но, к счастью, редки. У нас мало данных о влиянии лесных пожаров на жизнь крупных человекообразных обезьян, но возгорания торфяников в национальных парках Индонезии (вызванные расширением производства пальмового масла) оказали на жизнь орангутанов исключительно неблагоприятное влияние. В 2006 г. сотни животных погибли в лесных пожарах.
Во время пребывания наших предков в Африке саванны расширялись, леса исчезали, и морфология человека перестала соответствовать жизни на деревьях. Однако для объяснения того, как мы эволюционировали и превратились в тех, кем являемся сегодня, одной причины, скорее всего, недостаточно. Хотя вид Homo sapiens появился в Африке, мы склоняемся к тому, что современный человек — в некотором смысле гибрид, образовавшийся из нескольких ранних типов людей, обитавших там. Самые надежные доказательства найдены на востоке Африки, но на самом деле мы почти не искали в других частях этого обширного материка, и самые древние известные нам Homo sapiens действительно обнаружены в марокканских холмах к востоку от Марракеша. Это означает, что огонь был одной из главных движущих сил в эволюции человека, но не единственной. Наше существование в саванне, где периодически возникают пожары, должно было оказать на нас глубокое влияние. Однако не все наши предки жили на африканских равнинах.
Дарвин писал, что из всех животных только Homo sapiens «использовал орудия и огонь». Тут он ошибался. Действительно, никто, кроме нас, не может разжигать огонь или высекать искры. Однако мы не единственные, кто использует огонь в качестве орудия. Как мы видели, во́роны используют орудия. До 2007 г. мы не знали, что орудия могут использовать и хищные птицы. Хищные птицы — неформальное и широкое понятие. К этой группе относят коршунов, орлов, скоп, канюков, сов и других птиц, и, следовательно, между ними не обязательно существует эволюционное родство. Совы ближе к дятлам, а соколы к попугаям, чем к ястребам или орлам. Однако все они — охотники с искривленными когтями и клювами и прекрасным зрением, а иногда и с потрясающей способностью менять фокусное расстояние глаз, что позволяет им разглядеть крошечных млекопитающих с большой высоты.
Так вот, некоторые хищные птицы — тоже пирофилы. Кормящиеся у огня хищные птицы действуют по тому же принципу, что и верветки. Из горящего кустарника выскакивают вкусные звери, которых легко поймать. Многие хищники питаются падалью, а в золе можно найти множество поджаренных мелких млекопитающих. Об этом поведении в научной литературе писали уже в 1941 г., и оно было замечено в самых разных частях света, включая Западную Африку, Техас, Флориду, Папуа — Новую Гвинею и Бразилию.
Однако некоторые хищники еще умнее. Черные коршуны, коршуны-свистуны и коричневые соколы живут во многих местах, но являются аборигенным видом в Австралии, где они охотятся и подбирают падаль, особенно в выжженных тропических саваннах на севере. Здесь очень жарко и сухо, и пожары возникают регулярно. Австралийские аборигены хорошо это знают и на протяжении тысячелетий умело справляются с огнем. Они используют огонь для выжигания ненужных растений и стимуляции роста съедобных растений и трав, привлекающих кенгуру и эму, мясо которых они употребляют в пищу.
Аборигены хорошо знакомы и с местной фауной. На протяжении нескольких лет местные егеря, а потом и австралийские ученые подмечали очень замысловатое поведение черных коршунов, коршунов-свистунов и коричневых соколов (некоторые результаты этих наблюдений были опубликованы в 2017 г.). На месте пожара птицы подбирают горящую или дымящуюся веточку и уносят в другое место. Иногда они роняют свою ношу, поскольку она слишком горячая, но их задача заключается в том, чтобы перенести свой факел в сухую траву и разжечь новый пожар. Когда трава загорается, птица усаживается на ветку и ожидает поспешной эвакуации из огня мелких животных, а потом устраивает пир.
Огненный ястреб
Австралийские аборигены знают о птицах-поджигателях[19]. Они называют их «огненными ястребами» и упоминают в некоторых религиозных церемониях. Вот цитата из книги «Я — абориген», которая была опубликована в 1962 г. и пересказывала биографию австралийского аборигена по имени Вайпулданья:
«Я видел, как ястреб схватил когтями тлеющую ветку и уронил ее на сухую траву в полумиле от этого места, а затем со своими товарищами ждал бешеного бегства опаленных и испуганных грызунов и рептилий. Когда эта зона обгорела, процесс повторился в другом месте. Мы зовем эти пожары Джарулан… Возможно, наши праотцы научились этому фокусу от птиц».
В небогатой научной литературе об этом невероятном явлении прослеживается историческая дискуссия на тему, преднамеренное это поведение или нет. На основании множества многолетних наблюдений авторы этого последнего исследования, которое по формальным признакам является первым поистине научным, приходят к выводу, что поджигательство преднамеренно.
Насколько мне известно, это единственное задокументированное свидетельство преднамеренного разжигания огня какими-либо животными, кроме человека. Эти птицы используют огонь в качестве орудия. Такое поведение в полной мере соответствует любому из приведенных выше определений. Оно также отчасти объясняет, каким образом огонь может перескакивать через искусственные и природные преграды, такие как уже выжженные земли или небольшие водоемы. Возможно, австралийские аборигены научились вызывать «джерулан» у птиц и стали использовать огонь, пожиравший австралийские земли на всем протяжении истории. Если так, то это прекрасный пример межвидовой культурной трансмиссии. Также возможно, что наши древние предки делали то же самое более миллиона лет назад, когда человек завязал отношения с огнем, ставшие неугасимыми. Или, быть может, это просто «полезный трюк», которому научились только мы и хищные птицы. В любом случае, умение разжигать новый пожар — один из первых этапов на пути к управлению огнем.
Но совсем не обязательно, что за этим этапом последуют другие. Вряд ли соколы постепенно научатся ковать металл или готовить еду. Это знание — дополнительная ступень по сравнению с тем, что делают верветки и шимпанзе из Фонголи. Оно требует понимания поведения огня, включая его опасность. Но оно также демонстрирует умение планировать и рассчитывать возможный риск. В каком возрасте можно разрешить ребенку подержать горящую палку? Соколы и коршуны используют смертельную силу природы, чтобы изменить окружающую среду и добыть еду, которая в противном случае спокойно осталась бы в кустах.
Огонь — часть природы. Мир горел еще до того, как в нем зародилась жизнь, и природа, обладающая удивительной способностью приспосабливаться, многократно погружалась в пекло. Мы сделали несколько шагов вперед и стали полностью зависимыми от этой дикой силы. Употребление только сырой пищи опасно для здоровья. Теперь у нас имеются другие источники энергии, но мы по-прежнему очень сильно зависим от использования давным-давно умерших растений и животных, и в обозримом будущем ситуация не изменится. Использование огня — часть нашей природы, а разжечь огонь без искры невозможно. Мы единственные, кто умеет это делать, но теперь мы знаем, что мы не единственные, кто рассматривает огонь как средство достижения желаемого результата.
Война за планету обезьян
Насилие — естественная часть природы. Животные борются за обладание ресурсами, за самок и добычу. Использование оружия — орудия насилия — тоже является примером технологии для расширения физических возможностей. Нанесение смертельного удара с помощью предмета, который тверже и острее частей вашего тела, делает борьбу более краткой и эффективной, в чем и состоит привлекательность оружия. Среди животных, использующих орудия, есть такие, которые применяют их в качестве оружия. В книге «Происхождение человека» Дарвин писал, что гелады иногда скатывают с холма камни, когда атакуют павианов другого вида, Papio hamadryas. Слоны и гориллы мечут камни в основном в людей (возможно, в нежеланных представителей других видов тоже, но это, понятное дело, увидеть сложнее). Это не какие-то специальным образом обработанные предметы, но предмет для хорошего броска тем не менее следует выбирать.
Краб-боксер Lybia leptochelis подбирает и носит в клешнях пару стрекающих анемонов, чтобы отпугивать врагов (за что он получил еще и другое, менее гордое имя — краб-помпон). За это чудесное украшение краб готов драться с другими крабами, а если имеет только один анемон, разрывает его пополам и выращивает клонированную пару.
Сенегальские шимпанзе, патрулирующие пожарища, охотятся с помощью самодельного оружия, что редко встречается даже среди 1 % животных, использующих орудия. Если шимпанзе находят спящих в гнезде галаго, они подбирают подходящую палку, очищают от листьев и коры, а конец заостряют зубами. В результате получается копье длиной около двух футов. Галаго — ночные животные, так что, если шимпанзе открыто появится перед дуплом, где они мирно спят, разбуженный галаго стремительно убежит. Поэтому шимпанзе застают галаго врасплох, несколько раз быстро нисходящим движением просовывая копье в дупло. Быстрота действия лишает галаго возможности убежать. Шимпанзе делают из галаго шашлык и съедают до костей. На сегодняшний день это единственный известный пример, когда позвоночное животное (кроме человека) мастерит оружие для охоты на другое позвоночное животное.
Но когда дело доходит до демонстрации силы, человек превосходит всех. Мы охотимся успешнее остальных, поскольку придумали специфические орудия убийства — от простейших дубинок до ашельских копий, луков и стрел, бумерангов и разного рода пистолетов, снарядов, бомб и все более эффективных способов уничтожения других животных.
В нашем доисторическом прошлом мы делали более качественные орудия и более мощное оружие, чем другие. Обладая продвинутой военной технологией, мы изобрели более эффективные способы расширять конфликты. Мы общественные существа, и поэтому мы собирались в группы, а эти группы конкурировали за ресурсы. Неизбежно в этой конкуренции мы направляли оружие друг против друга и нашли эффективные способы убивать своих собратьев. В какой-то момент началась эскалация внутривидового насилия. Самое раннее свидетельство группового конфликта — предшественника войны — найдено в Натаруке, в Кении. В 2012 г. ученые обнаружили здесь останки 27 человек, пролежавшие в нетронутом виде примерно 10 000 лет. Тела оказались в лагуне, которая давно пересохла. Здесь произошла настоящая бойня. Были найдены останки восьми мужчин, шести женщин и еще пяти взрослых людей, чей пол установить не удалось, а также шести детей. Одна женщина была на позднем сроке беременности. У нее и еще у троих, по-видимому, были связаны руки. Как минимум на десяти телах остались следы смертельных ран, нанесенных тупым предметом по голове: видны переломы черепов и скул. Оружие такого рода не было частью стандартного охотничьего инвентаря кочевых народов, которые тогда населяли Восточную Африку. Это указывает на подготовленное нападение, шокирующее своей безжалостностью, но мы никогда не узнаем мотивов этого кровопролития.
Бойня в Натаруке — самое раннее свидетельство подготовленного нападения на группу людей. Она случилась за тысячи лет до того, как мы начали записывать свою историю, но мы можем обоснованно предполагать, что групповые конфликты всегда были частью человеческого существования. Мы воевали на всем протяжении истории и примерно столько же времени изучали причины конфликтов. Все войны разные, но во всех есть общее. Каждая битва уникальна по составу участников, уровню технологии, месту конфликта и другим параметрам. Но причины конфликта по сути одни и те же. Один из первых исторических трудов — «История Пелопоннесской войны» — описание более чем двадцатилетней вражды между Спартой и Афинами, составленное великим греческим историком (и афинским генералом) Фукидидом в 431 г. до н. э. Фукидид пишет, что идти на войну нас заставляют страх, честь и выгода.
Эти три стимула отражают разные аспекты эволюции: страх перед нападением хищников позволяет выжить, размножиться и защитить носителей ваших генов; честь, гордость или желание защитить свою группу позволяют сохранить общие гены членов коллектива; защита ресурсов, включая территорию, пищу и — для особей мужского пола — доступ к особям женского пола, также обеспечивает передачу генов. Но я ни в коем случае не считаю, что эти вполне реальные эволюционные основания хоть в какой-то степени могут быть моральным оправданием воинственного поведения людей. На первый взгляд может показаться, что это очевидные мотивы для ведения войны, однако безрассудно и слишком упрощенно использовать эволюционные принципы для объяснения чрезвычайно сложных политических и религиозных причин, из-за которых разгораются войны в реальности. Национализм — нерациональный способ выражения родственных связей, и неправильно думать, что эволюция способствует достижению общей цели выживания населения по той причине, что его представители являются друг другу родственниками и, следовательно, имеют множество общих генов.
Государства — не объединения родственников. Все люди в мире находятся между собой в слишком близком родстве, чтобы произвольные, непостоянные и проницаемые границы государств могли представлять хоть какое-то реальное биологическое основание для действия естественного отбора. И это еще отчетливее видно в конфликтах, разгорающихся на политической или религиозной почве. Протестанты, католики и мормоны или мусульмане сунниты и шииты не имеют между собой значимых генетических различий. Конфликты между этими группами имеют политическую, а не биологическую основу. Хотя люди из разных частей света значительно различаются по генетическому составу, эти естественные различия практически не имеют отношения к границам или верованиям, и наши рассуждения о расах слабо связаны с вариациями генов. Обычно мы относим людей к той или иной расе по таким видимым признакам, как цвет кожи, структура волос или некоторые анатомические особенности вроде формы верхнего века. Эти признаки закодированы в геноме, но они составляют ничтожно малую долю всех генетических различий между людьми, которые невидимы и никак не соответствуют делению на расы. Миллионы людей, которые идентифицируют себя как афроамериканцы, не могут быть объединены в одну группу по генетическим признакам каким-либо значимым или информационно полезным образом, даже если их кожа темнее, чем у американцев европейского происхождения. Большинство генетических различий наблюдаются внутри популяций, а не между ними, и хотя, казалось бы, легко назвать миллиард китайцев восточными азиатами, в биологическом плане это очень разнородная группа, даже если по разрезу глаз они больше похожи друг на друга, чем на остальных жителей Земли. С учетом всего сказанного мы не можем напрямую связать эволюцию и желание воевать, поскольку для этого требуется наличие некоей генетической сущности или чистоты, которых на самом деле не существует[20].
Уничтожение других существ ради передачи собственных генов — неотъемлемый элемент эволюции. Борьба, питание, воспроизводство, конкуренция и паразитизм — все это основные двигатели эволюционных изменений. Но хотя в природе мы наблюдаем применение орудий для демонстрации угрозы или для реального насилия, мы не видим стратегических, подготовленных, затяжных вооруженных конфликтов между группами животных, которые соответствовали бы определению понятия «война».
Впрочем, есть одно важное исключение — шимпанзе. В то время как бонобо с энтузиазмом поощряют сексуальные контакты в качестве меры предотвращения напряженности и конфликтов (мы поговорим об этом позже), их ближайшие родственники шимпанзе систематически прибегают к насилию. Мы знали это на протяжении десятилетий, однако понимание степени насилия в популяциях шимпанзе значительно углубилось как раз после завершения «лета любви».[21] Таким образом контраст между двумя видами рода Pan отразился в лозунге контркультуры хиппи «Занимайтесь любовью, а не войной!»: бонобо занимаются любовью, шимпанзе воюют. На конфликты между шимпанзе первой обратила внимание Джейн Гудолл, работавшая в Национальном парке Гомбе-Стрим в Танзании. В начале 1970-х гг. в ранее едином коллективе шимпанзе наметилось разобщение между «севером» и «югом». Никто не знает, из-за чего это произошло, но начало разногласий совпало со смертью альфа-самца, которого Гудолл называла Лики и которого заменил Хемпфри. Некоторые шимпанзе последовали за Хемпфри, но южане, по-видимому, сочли его недостаточно сильным и предпочли подчиняться двум братьям, прозванным Хью и Чарли. В результате с обеих сторон начались стратегические вылазки на территорию противника с целью убить или поколотить самцов, и насилие перешло в непрекращающуюся войну. Сторонники Хемпфри в конечном итоге победили, и после четырех лет непрерывных конфликтов все мятежники были уничтожены.
Шимпанзе из популяции Нгого живут в Национальном парке Кибале в Уганде. На протяжении десятилетия ученые наблюдали за ними и заметили еще более согласованные и систематические проявления насилия и некую стратегию борьбы. Раз в несколько недель молодые самцы собираются на краю своей территории и, молчаливо перемещаясь вереницей, патрулируют ее границу. Во время 18 таких походов они проникали на соседнюю территорию и забивали до смерти самца из другой группировки, отрывая ему конечности и победоносно прыгая на изуродованном трупе. За 10 лет таких злобных стычек шимпанзе Нгого полностью завладели территориями, на которые совершали набеги.
В горах Махале на западе Танзании одна группа шимпанзе также посягала на территорию соседней группы и в конце концов завладела ею, уничтожив всех взрослых самцов противника. Как при мафиозных разборках, никто не видел нападений и мертвых тел, но считается, что самцы были убиты при набегах[22].
Наши данные разрозненны, но у нас есть множество косвенных свидетельств непрерывных смертельных схваток, которые ученые иногда называют «коалиционной агрессией» (пытаясь избежать тех же терминов, которыми мы описываем военные действия между людьми). Было высказано предположение, что именно люди стали причиной воинственного поведения шимпанзе. Постоянно внедряясь на их территорию, уничтожая леса, распространяя болезни, охотясь, мы вызвали конфликты за ресурсы между группами шимпанзе, и убийство сородичей — это непреднамеренное побочное действие роста насилия, которое выглядит как цель. Например, в парке Гомбе люди на протяжении многих лет раздавали бананы, привлекая шимпанзе в те места, где за ними легче наблюдать.
Гипотезу о том, что поведение человека повлияло на поведение обезьян, можно проверить, что и было проделано в 2014 г. Если повышение уровня насилия среди обезьян связано с деятельностью человека, следует ожидать, что это явление чаще наблюдается при близком соседстве обезьян и человека. Это было невероятное исследование: в 18 местах обитания обезьян регистрировались все акты насилия и убийства за 426 лет суммарных наблюдений. Ученые обнаружили однозначную связь между насилием и конкуренцией за территорию или ресурсы с одной стороны и плотностью популяции (особенно самцов) с другой стороны, а также некоторую слабую связь с близостью человека. В Танзании и Уганде коалиционная агрессия (в первом случае лишь предполагаемая) приводила к захвату значительных территорий. В эволюционном плане это означает больше плодоносных деревьев, больше еды и, следовательно, лучшее здоровье популяции с большим количеством детенышей.
Таким образом, смертоносную агрессию шимпанзе, включая коалиционную агрессию, лучше рассматривать как адаптационную стратегию. По времени отделения от общих предков и по составу генов мы близки и к шимпанзе, и к бонобо, и поэтому до сих пор существует искушение объяснять наше сложное поведение нашим эволюционным родством. Была ли предрасположенность к насилию свойством общего предка этих трех групп и только бонобо удалось ее перерасти? Или наоборот: было нормой разрешать конфликты сексуальным путем, но только бонобо смогли сохранить эту способность? Вполне закономерные вопросы, но у нас слишком мало данных, чтобы на них ответить, и все сравнения нужно делать с осторожностью. Давайте не будем забывать, что за шесть миллионов лет, прошедших после отделения нашей линии от линий других человекообразных обезьян, они тоже эволюционировали; в случае шимпанзе эволюция в сторону применения насилия способствовала их выживанию. Их склонность к насилию следует понимать в контексте их эволюции, а не только как модель для понимания нашего поведения. У нас было достаточно своих войн, так что не нужно полностью объяснять наше поведение поведением шимпанзе.
Этот рассказ о наименее привлекательных свойствах человека и других животных показывает, что насилие — иногда с крайними и смертельными проявлениями — представляет собой часть борьбы за существование и оно универсально. Выживание достигается за счет других существ, не имеющих с вами общих генов. В теории эволюции часто упоминается гонка вооружений: жертва эволюционирует, чтобы спастись от хищника, и хищник эволюционирует в свою очередь. Этот извечный конфликт существует между полами внутри вида и между видами на всех уровнях. Вот симпатичный пример на макроскопическом уровне: ориентирующиеся с помощью эхолокации летучие мыши поедают бабочек десятками. Чтобы избежать этой участи, тигровая бабочка из Аризоны придумала двойную хитрость: она секретирует химическое вещество с неприятным запахом, который не нравится летучим мышам, но также испускает высокочастотный звук, который мыши могут улавливать. Если мышь проглотила такую бабочку и связала неприятные ощущения с сигналом предупреждения, потом она будет его избегать. А на микроскопическом уровне наша иммунная система — не что иное, как система защиты и нападения, позволяющая противостоять беспрерывным атакам организмов, которые хотят продолжить существование за наш счет. Вообще говоря, люди умирают по естественным причинам намного чаще, чем в результате преднамеренных попыток смести самих себя с лица Земли. Самые мелкие существа в живой природе оказывают самое сильное негативное влияние на жизнь человека: это возбудители чумы, испанки, туберкулеза, ВИЧ/СПИДа, оспы и малярии (возможно, самый смертоносный агент в истории человечества).
Впрочем, это не мешает нам постоянно пытаться уничтожить друг друга. Вне всяких сомнений, благодаря нашему мозгу, изобретательности и навыкам в искусстве убийства мы достигаем все большей и большей эффективности — как на уровне отдельных людей, так и глобально. Похоже, время взаимных угроз применить ядерное оружие осталось позади, и не нужно быть эволюционистом, чтобы понять, что это хорошо для наших генов и нашего вида. Причины наших войн трудно оправдать с помощью эволюционной теории, и это подтверждается тем фактом, что только шимпанзе склонны разжигать такие конфликты, которые можно было бы назвать войной. В большинстве культур считается, что убийство других людей неприемлемо, о чем говорится даже в Авраамовом завете, хотя, возможно, эта идея трактуется скорее как общий ориентир, нежели закон, учитывая тот энтузиазм, с которым последователи Христа и Магомета лишают жизни других людей.
Сельское хозяйство и мода
Мы превосходим всех по умению использовать орудия для расширения границ своих физических возможностей. Эти умения в основном приобретаются через обучение, а не наследуются, однако основаны они на биологическом фундаменте, позволяющем им развиваться. У использующих орудия животных какие-то навыки приобретенные, а какие-то закодированы на биологическом уровне. Но никто не приближается к нам по сложности технологии. Стоит упомянуть еще пару особенностей, которые являются очевидной частью нашей культуры, но имеют эквиваленты у других животных. Речь идет не об орудиях как таковых, но обе эти особенности позволяют человеку расширять свои возможности путем глубокого воздействия на окружающую среду. Обе требуют применения орудий, и обе чрезвычайно важны для человечества.
Первая особенность — сельскохозяйственная деятельность. Мы уже видели примеры организмов, использующих в качестве орудий неодушевленные предметы, а также пример животного, которое использует другое животное для охоты на третье (дельфин с губкой). Но у нас есть еще одна технология, помогающая прокормиться: мы выращиваем другие организмы, чтобы получить продукты питания. Мы называем эту практику сельским хозяйством. Сельское хозяйство необратимо изменило жизнь человечества и заложило основы современного мира. За короткий отрезок времени мы превратились из охотников и собирателей в фермеров, которые сами выращивают для себя еду и тем самым крутят колесо цивилизации. Сельское хозяйство было основным производством и технологией человека на протяжении примерно 10 000 лет. С его возникновением появились новые злаковые культуры: рис в Месопотамии, пшеница однозернянка в Леванте. Мы одомашнили диких свиней и овец во многих частях Европы и Азии. Примерно за тысячу лет после окончания последнего ледникового периода ростки сельскохозяйственной деятельности пробились повсюду, где жили люди. Людям больше не нужно было следовать за сменой времен года или мигрирующими животными в поисках пропитания. Можно было поселиться где-то надолго и запасать зерно на будущее. Сельскохозяйственная деятельность требует планирования и понимания, что, как и когда растет. Это само по себе способствует технологическим инновациям: нужны горшки для хранения продуктов, сита для просеивания семян, плуги и лопаты для вскапывания земли. Общий эффект заключается в централизации ценностей и росте численности населения. Возникает экономическое неравенство, а затем и торговля. Этот более стабильный образ жизни постепенно вытеснял собирательство, а в разраставшихся до сообществ семьях оттачивались и передавались навыки мастерства.
Кроме того, сельское хозяйство изменило наши кости и гены. В геноме изменение рациона питания отразилось быстрее, чем во внешних чертах, и в нашей ДНК можно обнаружить последствия перехода к сельскохозяйственной практике: классический пример — употребление молока. Европейцы и недавние переселенцы из Европы пьют молоко всю жизнь. Однако для большинства людей на планете как сегодня, так и на всем протяжении истории употребление молока после выхода из грудничкового возраста вызывает массу разнообразных проблем, поскольку фермент, необходимый для расщепления специфического молочного сахара лактозы, работает только у маленьких детей. Но в какой-то момент, примерно 7000 лет назад, возможно, у жителей северо-западных областей Европы произошла мутация соответствующего гена, в результате чего фермент вырабатывается всю жизнь. К этому времени мы уже начали разводить молочный скот и, возможно, делали из молока сыр (при превращении молока в сыр лактоза удаляется, так что сыр без вреда для здоровья могут есть все люди), но еще не пили молоко. Благодаря мутации и сельскохозяйственной практике мы получили новый источник белков и жиров, который сами производили. Эта способность давала нам очевидные преимущества и подверглась положительному отбору — не только силами природы, но и за счет сочетания нашей жизни и жизни прирученных нами организмов. И теперь эта мутация вписана в нашу ДНК.
В сноске на странице 3 я упомянул, что ни один организм не существует независимо от других (подчеркнув при этом, что вирусы не всегда относят к живым существам). И это, безусловно, справедливо: хищники не могут обойтись без добычи, и пищевые сети в различных экосистемах представляют собой тонко настроенные системы взаимоотношений. Сельское хозяйство — другое дело. Это пример взаимовыгодных отношений в промышленном масштабе — в том смысле, что оно предполагает систематический труд для выращивания продукта. Козы, молоко которых мы стали употреблять 7000 лет назад, изменились в процессе одомашнивания и стали такими, какими мы их сделали.
Сельское хозяйство — важнейший культурный фактор, влиявший на нас на протяжении истории и формировавший нашу цивилизацию. Но мы не единственные фермеры на Земле.
В документальных телевизионных передачах часто показывают муравьев-листорезов, которые тащат огромные куски листьев, срезанных ими с растений. Листья для них — не еда. Им нужен продукт, образующийся в клетках грибов семейства Lepiotaceae, которые они сами же вывели — не напрямую, а в результате взаимовыгодной эволюции: муравьи дают пищу грибам, грибы кормят муравьев. Буквально как обработанная земля, листья служат субстратом для роста грибов, обеспечивающих колонию муравьев необходимой пищей.
Насчитывается около 200 видов муравьев-листорезов, осуществляющих эту практику уже более 20 миллионов лет. Они — «облигатные грибные фермеры», что означает, что их жизнь полностью зависит от этой деятельности, как наша жизнь зависит от производства сельскохозяйственной продукции. Причем эта зависимость двусторонняя: грибы выпускают нити мицелия (гонгилидии), богатые питательными углеводами и липидами, так что муравьям удобнее собирать их для кормления матки и личинок. В свою очередь, гонгилидии могут существовать только в совместном хозяйстве грибов и муравьев.
Но у этого симбиоза есть еще одна удивительная сторона. Срезанные листья легко заражаются другими грибами, которые муравьи выпалывают вручную (на самом деле с помощью мандибул). Кроме того, в специализированных эндокринных железах они переносят бактерии рода Pseudonocardia, которые синтезируют антибиотик, уничтожающий грибковую инфекцию. Это фантастическая комбинация взаимных влияний на нескольких уровнях: животное выращивает грибы, используя бактерии в качестве пестицида, и каждый зависит от других. Эволюция невероятно умна, и нам многому можно научиться у муравьев.
Вторая важнейшая культурная особенность развития человечества у остальных живых существ гораздо реже принимает конкретные формы, а для нас это способ украшения самих себя. Совершенно неправильно считать нашу манеру одеваться или причесываться банальным или малозначимым признаком. Большинству из нас представляемые на подиуме вычурные образцы высокой моды часто кажутся абсурдом, однако внешний вид имеет чрезвычайно большое значение для сигналов, которые каждый посылает другим существам. Половой отбор — важнейший двигатель эволюционных изменений, и мы подробнее поговорим о нем в следующем разделе. Но для начала заметим, что сигналы, сообщающие о здоровье, силе, наличии правильных генов или плодовитости, позволяют особям женского пола (главным образом) отбирать тех, с кем они согласятся спариваться. Особи женского пола гораздо больше энергии затрачивают на производство яйцеклеток, чем самцы на производство сперматозоидов (яйцеклетки крупнее сперматозоидов и стоят дороже, поскольку их меньше). Это неравенство определяет поведение всех представителей царства животных. Наиболее заметное проявление такого поведения — преувеличенная выраженность внешних признаков самцов многих видов животных. Один из самых известных примеров — павлиний хвост. Произвести это немыслимое украшение обходится дорого в метаболическом плане, а убежать от голодной лисы такому хвастливому петуху намного труднее. Но выживание существа в этом помпезном наряде может означать, что у него правильные гены, и самка может решить, что это подходящий вариант для передачи ее собственных генов[23].
В результате мы видим птиц и насекомых разных форм и размеров с нелепыми хвостами и разукрашенными во все цвета телами. Мы наблюдаем сумасшедшие скачки самцов вилорогих антилоп, невозможно громкие призывные крики пих и шумные прыжки длиннохвостых вдовушек в африканских саваннах: прихорашивающиеся самцы демонстрируют свои достоинства.
Самкам пих, вилорогов или павлинов это должно нравиться. Но это, совершенно определенно, не дань моде. Такие преувеличенно выраженные признаки появляются медленно, на протяжении многих поколений. Случайные вариации могут привести к небольшому усилению признака у самца и к некоторому предпочтению к этим более выраженным признакам со стороны самки, и в результате они будут спариваться. Повторение этого сценария из поколения в поколение может привести к тому, что выраженность данного признака достигнет кажущегося абсурда. Но во всех случаях смыслом этого дорогостоящего преувеличения является усиление признака у самцов и увеличение предпочтения к ним у самок.
Некоторые существа себя украшают. Они прикрепляют к телу разные предметы (иногда других существ) с разными целями, но чаще всего для защиты. Это явление, которое отличается от использования орудий, но все же представляет собой один из его вариантов, чаще наблюдается в водной среде. Сотни крабов семейства Majoidea украшают панцирь самыми разнообразными предметами. Это нелегко, но панцирь крабов покрыт тонкими щетинками, которые, как «липучки», помогают удерживать украшения. Иногда это просто камуфляж, но поскольку данный процесс требует времени, а в качестве объектов часто используются зловонные растения или даже неподвижные моллюски, возможно, это также репеллент, так как хищники все же знают, что внутри находится краб. Многие личинки насекомых полностью покрывают себя одеянием, иногда из собственных экскрементов, что может одновременно служить репеллентом, защитой и камуфляжем. Некоторые клопы-хищнецы носят на спине рюкзачок из каркаса жертвы, но считается, что это скорее камуфляж, нежели способ зародить ужас в сердцах врагов.
В отличие от хищнецов и военных, мы следуем моде совсем по другой причине. Возможно, наша манера одеваться исходно была связана с половым отбором, а может, и нет. Некоторые эволюционные психологи пытались объяснить нашу моду в одежде через принципы спаривания, но в целом я в эту версию не верю. Одежда, безусловно, может служить для демонстрации какого-то привлекательного признака, например широких плеч, тонкой талии или широко раскрытых глаз. В невероятно популярной, но неоднозначной в научном плане книге «Голая обезьяна» Десмонд Моррис предположил, что смысл губной помады заключается в том, чтобы сделать губы на лице женщины похожими на набухшие от сексуального возбуждения половые губы. На первый взгляд эта гипотеза может показаться интересной, но при малейшей доле скептицизма она рассыпается в прах по той простой причине, что у нас нет никаких доказательств. Если бы это было правдой, мы могли бы наблюдать отбор женщин, пользующихся губной помадой, и большую успешность их репродукции. Это также не вяжется с изменением стилей и цвета помады и с тем фактом, что на протяжении большей части истории человечества женщины не пользовались помадой, но все же как-то умудрялись рожать здоровое потомство. Это пример научного греха — «просто история», которая звучит привлекательно, но не подлежит проверке или не имеет доказательств.
Зигмунд Фрейд объявил галстук символом пениса. Впрочем, он во многих предметах видел символ пениса. Многие годы люди думали, что фаллический статус делового галстука объясняется тем, что он длинный и тонкий, свисает и буквально упирается в пах, кроме того, его носят уверенные в себе мужчины. Впрочем, это не относится к галстукам-бабочкам или шейным платкам. Кроме того, в наши дни огромное большинство мужчин не носят галстук, завязанный виндзорским узлом. Мужчины не носили его на протяжении большей части истории человечества и, опять-таки, смогли произвести потомство. Несколько столетий в Европе были в моде рафы (гофрированные воротники), которые не утыкались в пах, но Тюдоры неплохо расплодились. Более того, подобные гипотезы не учитывают чрезвычайного разнообразия моды в разных точках земного шара и ее изменчивости на протяжении человеческой истории. Представьте себе, что вы явились на работу с набеленным лицом, в бриджах и гигантском напудренном парике, в небольшом рафе вместо галстука, в дублете и с гульфиком.
То, что в будущем сезоне не будут носить брюки такого же покроя, как в этом, скорее, отражение формальной принадлежности к группе. Мода появляется и исчезает, и это происходит постоянно. Одно время я был поклонником готического стиля, одевался исключительно в однотонное и старался выглядеть мрачным и угрюмым. Но потом увлекся хип-хопом. Оскар Уайльд говорил, что мода — это «форма безобразия, настолько невыносимого, что мы должны менять ее каждые полгода», но при этом почти наверняка носил галстук, меховой воротник, изящную шляпу и лилию в петлице, что вполне могло казаться смешным как теперь, так и тогда. Трайбализм[24] — это очень характерный человеческий признак, и хотя нельзя считать, что он не имеет никакого отношения к эволюции, племена и общества не вечны, и, возможно, трайбализм — хороший пример поведения, посредством которого мы ускользаем из оков естественного отбора. У других животных практически невозможно найти примеры таких не имеющих очевидной цели вариантов поведения, которые были бы аналогичны нашей моде или увлечениям.
Вот пример Джулии. В 2007 г. она ввела новую моду, которая продержалась долго. В то время Джулии было 15 лет, и подрастающая молодая особа уже начинала расставаться с причудами подросткового возраста. Но это не помешало ей попробовать что-то новое. Однажды она решила вставить в ухо соломинку — такая вот прихоть. Она продолжала жить обычной жизнью, но только с соломинкой в ухе. Ее четырехлетний сын Джек обнаружил новую забаву матери и решил ей подражать. Кэти, которая была на пять лет младше Джулии, большую часть времени проводила с ней, отдельно от остального коллектива, и вскоре тоже начала носить в ухе соломинку. Следующей была Вал. За ними потянулись и другие знакомые, всего восемь из 12 членов коллектива. Джулия — шимпанзе. Она умерла в 2012 г., однако ее дело все еще живет в ее группе и даже заразило как минимум два соседних сообщества шимпанзе, с которыми ее группа периодически пересекалась (в общем-то, без тесного общения) в парке дикой природы Шимфунши на северо-западе Замбии. По последним данным от специалистов по приматам, изучающим этих шимпанзе, Кэти и Вал по-прежнему носят в ушах соломинки.
Модная Джулия
У шимпанзе мы наблюдаем многие черты общественного поведения, напоминающие наши собственные, и мы неоднократно будем это обсуждать на страницах книги. Возможно, этот пример — единственное документальное свидетельство наличия у шимпанзе того, что в научной литературе называют «неадаптивной спонтанно возникшей традицией». Иными словами, модой.
Известны и другие примеры, когда шимпанзе копировали поведение своих сородичей по непонятным нам причинам. У взрослого самца Тинка, живущего в заповеднике Будонго в Уганде, парализованы обе руки: он попал в капкан, которые местные охотники регулярно расставляют для ловли кустарниковых свиней и более мелких антилоп дукеров. Его кисти скрючены, почти нефункциональны, сохранилась лишь небольшая подвижность большого пальца левой руки. Кроме того, у него аллергия: на всем теле имеются проплешины и высыпания, скорее всего, вызванные укусами клещей и отсутствием возможности чесаться и снимать с себя насекомых. Он не может выполнять многих нормальных и важных действий (таких как груминг), которые совершают шимпанзе в своей каждодневной жизни и которые имеют как биологическое, так и социальное значение. Однако Тинка изобрел собственную технику почесывания головы: он с силой натягивает ногой зацепившуюся за ветку лиану и трется об нее головой — вперед и назад, как будто пилит.
Это интересно само по себе, поскольку демонстрирует сложную способность использовать окружающую среду для создания необходимых орудий. Опять же, вспомним, что обезьяны, медведи, кошки и многие другие млекопитающие чешут спины о деревья, камни или домашнюю мебель. Однако еще интереснее, что, как только Тинка начал это делать, многие его соплеменники стали ему подражать. Семь полностью владеющих своим телом шимпанзе стали копировать его действия. Все они более молодые, пять из них самки; был зафиксирован 21 эпизод почесывания шимпанзе об лиану, причем Тинка присутствовал при этом только один раз. Так что нельзя сказать, что подражатели подхалимничали перед взрослым шимпанзе. Это просто стало модно.
Таких примеров немного. Возможно, это лишь исключения, странные причуды, не отражающие когнитивного статуса шимпанзе. Но они реальны. Может быть, метод Тинки — лучший способ почесывания головы. Важно, что это, скорее всего, не адаптивное поведение, во всяком случае, не прямая адаптация. Больше похоже на то, что шимпанзе копируют какую-то манеру исключительно чтобы походить на других.
Но в плане использования орудий, оружия и даже моды мы расширили наши возможности в гораздо большем масштабе. Хотя в мире животных мы наблюдаем использование некоторых орудий, вспышки свойственного нам насилия и даже проявления эстетических пристрастий, мы чрезвычайно сильно отличаемся от других животных. Наши познавательные способности и ловкость дали нам возможность производить предметы такой сложности, что мы стали облигатными пользователями орудий. Мы так долго манипулировали окружающей средой, что уже на протяжении сотен тысяч лет полностью зависим от технологии.
Но существует древний набор важнейших практик, которые доставляют человеку особенное удовольствие. Они относятся к поведенческим реакциям, служащим для реализации одного из основных эволюционных принципов, и мы развили их до уровня, который намного превосходит их исходное назначение. В следующем разделе мы поговорим о том, разделяют ли другие животные наш удивительный энтузиазм в области секса.
Секс
Представьте себе инопланетного натуралиста, прибывшего в наш мир, чтобы изучать жизнь на Земле: наблюдать за нами и определить наше место в великой системе природы. Этот ученый увидит изобилующий жизнью мир. Повсюду живые клетки: некоторые организованы в крупные тела, но все передают закодированную информацию, и все связаны между собой. Он может заглянуть в прошлое и увидеть, что жизнь существует на протяжении восьми девятых времени существования планеты и никогда не прерывалась, хотя в ее развитии были некоторые флуктуации. И еще он обнаружит, что никакие клетки или организмы не вечны. Все производят новые версии самих себя, и так продолжается неразрывная цепь жизни.
Инопланетного натуралиста особенно заинтересуют люди — как наша биология, так и наше поведение. Он увидит, что люди — существа крупного размера (но не самые крупные), что они многочисленны (но тоже не чемпионы) и расселились повсеместно (хотя относительно недавно). Мы не самый многочисленный вид в рамках нами же установленной таксономии. Млекопитающие (покрытые шерстью существа, вскармливающие потомство своим молоком) — это небольшая группа организмов, примерно 6000 видов, и пятую часть от этого числа составляют различные летучие мыши. Существует несколько видов приматов, еще меньше человекообразных обезьян. Никто из них не достигает такой численности, как Homo sapiens — единственный сохранившийся представитель «людей», бродивших по Земле на протяжении нескольких последних миллионов лет.
За все время на планете жило несколько видов рода Homo, хотя ученые так и не пришли к окончательному выводу относительно числа этих видов. Некоторые были открыты только в начале XXI в., например крохотные Homo floresiensis, которых называют хоббитами с острова Флорес (Индонезия), или чуть более крупные примитивные люди Homo naledi, останки которых обнаружены в 2013 г. глубоко в черной, как вороново крыло, пещере-лабиринте в Южной Африке. Оба вида пересеклись с нами во времени, а возможно, и в пространстве. Кроме того, были денисовцы,[25] о которых мы знаем лишь по одному зубу и паре костей, но полностью расшифровали их геном. Мы не относим этих людей к отдельному виду, поскольку наш способ классификации живых существ основан на анатомии и этих окаменелостей недостаточно. Но на основании их ДНК мы знаем, что они отличались от нас и от других людей. Из этой древней тьмы явственно проступает только одно: Homo sapiens — последний выживший человек, и поскольку маловероятно, что мы дадим начало новой, несовместимой с нами в сексуальном плане популяции, мы и останемся последними.
Несмотря на нашу кажущуюся успешность и повсеместную распространенность, пытливый ученый обратит внимание, что мы живем на Земле не дольше остальных видов, по крайней мере на сегодняшний день. Мы появились 300 000 лет назад, хотя наша более обширная семья — человекообразные обезьяны — живет на свете гораздо дольше, уже порядка 10 миллионов лет. Для сравнения, динозавры, над которыми мы иногда посмеиваемся, поскольку им не удалось пережить межпланетный коллапс, подобного которому не наблюдалось уже 66 миллионов лет, прожили на Земле гораздо дольше, чем мы; нам не пришлось испытать последствия падения метеорита размером с Париж. На самом деле динозавры жили так долго, что мы, люди, по времени ближе к легендарному Tyrannosaurus rex, чем этот самый Tyrannosaurus rex к знаменитому стегозавру[26].
Пытаясь вывести универсальные правила поведения всех этих организмов, инопланетянин обнаружит широчайший диапазон возможностей и способов существования. Но даже при беглом знакомстве ему трудно будет не обратить внимания на один аспект человеческого поведения. Мы тратим немыслимое количество времени, сил и средств, пытаясь дотронуться до гениталий других людей.
Если наш инопланетный визитер — бесполое существо[27], для него это будет загадкой. Он обнаружит, что человечество в основном состоит из двух типов людей (хотя на протяжении истории во всех культурах были такие, кто по биологическим причинам или по выбору оставался где-то посредине). Он увидит, что большинство людей не проявляют выраженного интереса к сексу в первое десятилетие жизни, но потом практически все начинают этот интерес проявлять. Инопланетянин любит цифры и поэтому отметит, что от момента возникновения интереса до конца жизни большинство представителей нашего вида в среднем имеют до 15 половых партнеров[28]. Кроме того, он узнает, что людям нравится трогать собственные гениталии: практически все люди, способные мастурбировать, это делают.
Таким образом, с точки зрения постороннего наблюдателя, секс — гигантская и важнейшая часть человеческого бытия. Некоторые специфические действия по ощупыванию гениталий практиковались в водной среде задолго до того, как первые покрытые шерстью существа начали перемещаться по суше: на самом деле, это было еще до появления деревьев и формирования современных континентов. Чужеземец может увидеть гигантского, страшного бронированного и зубастого дунклеостея — рыбу девонского периода, жившую примерно 400 миллионов лет назад; эти рыбы спаривались, повернувшись друг к другу животами — так сказать, в ранней версии миссионерской позиции, как до сих пор делают многие акулы, что позволяет осуществить проникновение и внутреннее оплодотворение (как и многие современные рыбы, самцы имели жесткие отростки, «класперы», с помощью которых удерживали самок).
Есть масса способов ощупывания гениталий (при любом сочетании представителей двух полов) как у людей, так и у других животных, но акт проникновения очень-очень древний. И тем не менее это один из способов совокупления, который продолжает доставлять людям удовольствие. Статистик Дэвид Шпигельхальтер заинтересовался численными данными о нашей сексуальной активности и подсчитал, что только в Великобритании ежегодно происходит около 900 000 000 гетеросексуальных контактов — примерно 100 000 в час. Если экстраполировать на семь миллиардов жителей Земли, получится порядка 166 667 контактов в минуту.
Почему эти двуногие существа столько сил и времени уделяют физическому общению такого рода?
Понятное дело, ответ на этот вопрос известен каждому: секс нужен для зачатия. Это так у всех организмов, размножающихся половым путем. Сочетание генетического материала яйцеклетки и сперматозоида закладывает начало роста новой, чуточку отличающейся версии того же организма. Главная цель сексуального контакта — производство детей. Особи женского пола ищут сексуальных отношений с особями мужского пола, а особи мужского пола ищут сексуальных отношений с особями женского пола. Но между этими двумя основными двигателями эволюции таится множество вариаций.
Вряд ли нужно говорить, что не все сексуальные контакты между людьми осуществляются с целью произвести потомство. Для этих отношений у нас есть другие очевидные причины: получение удовольствия, налаживание социальных контактов, сенсорная стимуляция. Однако нашему инопланетянину покажется странным, что при всем обилии сексуальных контактов и количестве затрачиваемых на сексуальные отношения усилий далеко не каждый контакт заканчивается беременностью и появлением маленького человечка. В Великобритании ежегодно рождается 770 000 детей, а если добавить число выкидышей и абортов, мы получим 900 000 зачатий в год.
И это означает, что зачатие происходит только в 0,1 % случаев из 900 000 000 половых контактов между британцами. Из тысячи контактов, которые могут привести к рождению ребенка, только один действительно приводит. В статистике такой показатель назвали бы малозначимым. Причем мы учитываем только гетеросексуальные контакты с вагинальным проникновением, но если добавить число гомосексуальных контактов и сексуальные контакты, которые не могут привести к беременности, в том числе мастурбацию, наши занятия сексом никоим образом нельзя сводить к достижению его первичного назначения. Так можно ли утверждать, что предназначение секса заключается в зачатии?
Люди отличаются от других существ. Вступая в связи, которые непосредственным образом не способствуют нашему выживанию, мы ослабили хомут естественного отбора. Эволюция человека на протяжении нескольких последних тысячелетий определялась сложным переплетением нашей биологии и нашей культуры, которую мы сформировали и усовершенствовали с помощью интеллекта, труда и изобретательности. Это означает, что желание воспроизводиться, т. е. просто служить модулем для передачи генов, усложнялось и изменялось.
Тем не менее никто не возразит против того, что наш вид плодовит. Сейчас на Земле живет больше людей, чем в любой другой момент в нашей истории. До 1977 г. все люди появлялись на свет в результате сексуального контакта между мужчиной и женщиной[29]. Численность населения растет с пугающей скоростью. Порог первого миллиарда мы преодолели в начале Викторианской эпохи, к 1927 г. нас было уже два миллиарда. А промежутки между вторым и третьим миллиардом и далее, до семи миллиардов в наши дни, становились все короче и короче. По большей части это связано с нашей замечательной способностью побеждать болезни и детскую смертность, а не с тем, что мы больше занимаемся любовью. Широкое распространение эффективных противозачаточных средств, по-видимому, не остановило в значительной степени рост населения, хотя, возможно, все же сказалось на наших попытках уравновесить количество ресурсов с нашим желанием заниматься любовью и размножаться. Статистические данные о наших сексуальных контактах весьма ограничены даже для XXI в., не говоря уже о прошлом, но у нас нет оснований предполагать, что сейчас мы занимаемся любовью намного чаще, чем когда-либо.
Секс ради производства потомства составляет непропорционально малую долю всех сексуальных контактов. И если задуматься о наших сексуальных отношениях по сравнению с другими живыми существами, возникает вопрос: а нормально ли это? Мы тратим так много времени на осуществление сексуальных контактов и получаем так мало результатов в виде детей. Секс — биологическая необходимость, но наш интерес к нему, совершенно очевидно, перерос базовый инстинкт. Но ведь мы животные. Делает ли нас наше помешательство на сексе непохожими на остальных?
Птицы и пчелы
Давайте для начала вспомним азы полового размножения. Кажется, в этом процессе нет ничего сложного, но на самом деле в царстве животных он принимает самые разнообразные формы. Какие-то приведенные ниже описания сексуальных отношений покажутся вам знакомыми, но другие, надеюсь, нет. Чтобы разобраться в тонкостях сексуального поведения человека, необходимо кратко остановиться на сексуальной жизни других животных.
Существует много вариантов полового размножения, но в целом все они распадаются на две категории. К первой категории относится размножение видов с системой двух полов, традиционно называемых мужским и женским. У млекопитающих пол определяется специфической упаковкой ДНК в виде хромосом. От каждого из родителей мы наследуем набор из 23 хромосом, которые составляют пары. С одним только замечанием: одна из этих пар действительно является «парой» только в половине случаев: женщины имеют две парные X-хромосомы, тогда как мужчины — одну X- и одну Y-хромосому. Яйцеклетка содержит один набор хромосом, включая X-хромосому, а сперматозоид — другой набор, в котором содержится либо X-, либо Y-хромосома. У пресмыкающихся, птиц и бабочек все наоборот (способ обозначения иной, но это ничего не меняет): самцы имеют хромосомы WW, а самки WZ.
Но есть виды, у которых пол особей определяется другими законами. У некоторых животных принадлежность к женскому или мужскому полу зависит не от наличия тех или иных хромосом, а от условий зачатия. У многих пресмыкающихся пол животного связан с температурой: разница в расположении одной яйцеклетки по отношению к другим, дающая изменение температуры всего на один градус по Цельсию, определяет будущий пол животного. У некоторых видов пресмыкающихся центральное яйцо в кладке чуть теплее остальных, и из него вылупляется особь мужского пола. А у странной новозеландской ящерицы туатары все наоборот. У крокодилов самки родятся из наиболее холодных и наиболее горячих яиц, а самцы — из яиц со средней температурой. И так далее. Наш способ определения пола — лишь один из множества.
Ко второй категории организмов, практикующих половое размножение, относятся виды, имеющие десятки, а иногда и тысячи полов. Большинство из них составляют грибы с плодовыми телами и другие грибы[30], которых мы обычно не считаем половыми существами, но которые тем не менее таковыми являются. Они классифицируются по так называемому типу спаривания: речь идет об участках ДНК, отличающихся у разных особей и указывающих потенциальным партнерам, что этих различий достаточно, чтобы обеспечить возможность полового размножения. Грибам трудно находить партнеров для спаривания, поскольку перемещаются они достаточно медленно и сексуальные контакты у них редки. И если один гриб вдруг встречается с другим одиноким грибом, а тот оказывается одного с ним пола, это полная катастрофа. Поэтому наличие максимального количества возможных полов вполне оправдано, и лучше всего иметь вокруг себя особей с самыми разными типами спаривания, отличными от вашего.
Но все же большинство организмов, практикующих половое размножение, имеют два пола — мужской и женский. В отличие от грибов с их типами спаривания, половое размножение в системе двух полов характеризуется невероятным разнообразием самого акта спаривания. Пенис и вагина — лишь один вариант. Это старая техника, которую практиковали уже упомянутые выше доисторические рыбы Dunkleosteus. Многие насекомые, например постельный клоп Cimex lectularius, не заморачиваются с поисками специфического места для проникновения: самец протыкает брюшко партнерши острым, как кинжал, эдеагусом (эквивалентом пениса), и сперматозоиды находят дорогу к яйцеклетке через внутренние органы. Мы бы назвали это «травматическим осеменением».
Зачастую животные вообще не практикуют секс с проникновением, а используют внешнее оплодотворение. Как и многие другие рыбы, самец и самка чавычи выпускают икру и сперму в воду, а обволакивающая икру овариальная жидкость выступает в роли селективного фильтра. Одни сперматозоиды проникают через этот гель быстрее других, и этот фактор, по-видимому, является определяющим для самок: их овариальная жидкость отбирает лучших и генетически наиболее подходящих пловцов. У птиц обычно не бывает пениса, и поэтому они передают сперму через «ректальный поцелуй»: яйцеклетки и сперматозоиды встречаются вблизи входа/выхода из клоаки и проникают в тело самки. Так происходит у большинства птиц, но не у всех. У селезня аргентинской савки есть пенис, по форме напоминающий штопор, который закручен в противоположную сторону по отношению к спиралевидной вагине утки, что позволяет ей до некоторой степени контролировать происхождение своего потомства.
При наличии жесткой конкуренции за репродуктивные права некоторые аспекты сексуальных отношений объясняются не только необходимостью оплодотворить самку, но и помешать другим самцам стать отцами. Как и во всех спортивных соревнованиях, в этом деле существует стратегия нападения и стратегия защиты. Для защиты многие представители царства животных используют так называемую копулятивную пробку — физический барьер, возникающий после коитуса и не позволяющий другому самцу ввести свою сперму. Придерживаясь стратегии нападения, самцы некоторых насекомых выделяют токсичную сперму, чтобы предотвратить все последующие попытки. Некоторые рыбы и насекомые хранят сперму в специфических отделах тела и могут регулировать ее выделение в зависимости от того, сколько самцов уже имели половой контакт с конкретной самкой и каков шанс стать отцом. Самая простая тактика — подольше не отходить от самки после совокупления или максимально долго оставаться в этом состоянии. Так поступают собаки, и вы могли видеть где-нибудь в парке пару собак, занятых этим делом, когда самка удерживает самца задней частью тела. Пенис кобеля имеет участок эректильной ткани, называемый «луковицей» (bulbus glandis), который утолщается после семяизвержения, в результате чего кобель оказывается на какое-то время «заперт» внутри суки. Смысл этого явления заключается лишь в том, чтобы не позволить другому кобелю занять ту же позицию. Не очень сложно, но весьма эффективно.
Существует масса способов совокупления между особями мужского и женского пола, но многие животные не придерживаются этой двоичной системы. Половое размножение с участием двух полов не обязательно подразумевает наличие двух организмов. Многие существа являются гермафродитами, т. е. совмещают в одном теле признаки обоих полов. К числу таких организмов относятся цветковые растения: их тычинки и пестики — ботанические аналоги яйцеклеток и сперматозоидов[31]. Самые первые примеры полового размножения относятся к водорослям с соответствующим названием Bangiomorpha pubescens: окаменелости этих водорослей возрастом около миллиарда лет обнаружены в составе канадского сланца. На срезах окаменелостей при помощи микроскопа можно увидеть половые споры — эквиваленты яйцеклеток и сперматозоидов.
В некоторых ситуациях самки комодского варана способны воспроизводиться партеногенезом. Это означает, что они могут зачать, не имея контакта с самцом (буквально непорочное зачатие). Без передачи половых хромосом от отцов все детеныши будут самцами. Комодские вараны ведут замкнутый образ жизни и нечасто имеют возможность встретить потенциального партнера. Так что самки могут совокупляться с собственными сыновьями и не испытывают необходимости искать партнера (но этот способ годится только в крайнем случае, и его нельзя использовать на протяжении нескольких поколений; без новой генетической информации от отцов он приведет к глубокой и опасной инбредной дегенерации).
Еще один вид драмы разыгрывают организмы вроде плоских червей. Когда у пары гермафродитов Pseudobiceros hancockanus возникает желание произвести потомство, они сцепляются друг с другом в ожесточенной схватке, подняв оружие: ученые называют это «фехтованием пенисами». Червь-победитель протыкает голову побежденного своим органом-шпагой и принуждает его исполнять женскую роль — принять сперму и выносить яйцеклетки. Вырабатывать сперму проще, чем произвести яйцеклетки и выносить потомство, так что тот, кто умудрился сохранить статус самца, остается свободным и готов вступить в связь с новым партнером. Никакой романтики.
На эволюционном дереве жизни плоские черви отстоят от нас очень далеко, однако «фехтование пенисами» практикуют и наши гораздо более близкие родственники, включая млекопитающих. Многие киты сцепляются друг с другом подобным образом, и даже наши двоюродные братья бонобо «хватаются за копья», чтобы погасить конфликт, завести друзей или просто от возбуждения в предчувствии скорой трапезы (хотя такие «поединки» скорее носят просто соревновательный характер и не заканчиваются полным проникновением).
Рыбы-губаны, груперы и клоуны — последовательные гермафродиты. У них устанавливается строгая социальная иерархия во главе с доминантной самкой, матерью всего потомства. Если доминантная самка рыбы-клоуна исчезает (например, съедена), ее гормоны перестают действовать, и на верхнюю ступень иерархической лестницы поднимается самец (обычно самый крупный), который тут же меняет пол. Его семенники атрофируются, появляются яичники, и в результате за пару дней он превращается в нее. Рыба раздувается, заменяя доминантную самку[32].
В природе социальная структура сообщества во многом определяет функционирование полов. У пчел, ос и муравьев два пола, но равенство — неподходящий лозунг для их коллективов. У самцов этих животных только половина генома, и их существование служит лишь двум целям: они защищают королеву и колонию и вступают в половые контакты с самками по требованию. Они в буквальном смысле находятся в сексуальном рабстве. Эти насекомые далеки от нашей таксономической группы, однако аналогичная система реализуется и у двух видов млекопитающих. Сообщества голых землекопов и дамарских пескороев состоят из самки-производительницы (королевы) и пары фертильных самцов, а остальные члены коллектива — неразмножающиеся особи, которые либо роют туннели, либо идут в солдаты.
Впрочем, попасть в сексуальное рабство, возможно, лучше, чем испытать судьбу самцов австралийского красноспинного паука (другое название — австралийская вдова), чья гениальная эволюционная тактика заключается в том, чтобы служить в качестве праздничной трапезы: непосредственно после семяизвержения самца съедает самка. Пока она ест, она занята и пополняет запасы питательных веществ, которые помогут вырастить паучат, так что она вряд ли будет спариваться с другим пауком, который мог бы вытеснить сперму первого. Эта стратегия называется репродуктивным каннибализмом (пожалуй, самое несексуальное словосочетание из всех возможных).
Но у животных есть и другая модель отношений, получившая у ученых гораздо более веселое название. У видов со строгой социальной организацией такие отношения позволяют самкам время от времени совокупляться не с альфа-самцами, что, впрочем, не всегда легко и может быть смертельно опасно для недоминантного самца. Существует множество способов отвлечь доминантного самца таким образом, чтобы быстренько поиметь сексуальный контакт. Деревенские ласточки издают сигнал тревоги и, пока одураченные птицы улепетывают от несуществующей опасности, быстро и осторожно спариваются. Но самое яркое выражение эта техника находит у каракатиц Sepia plangon. Самцы, ищущие безопасного секса, меняют окраску той части тела, которая направлена в сторону альфа-самца, чтобы быть похожими на самку. Доминантный самец не видит опасности, и временно превратившийся в самку самец может заняться сексом, что при других условиях вызвало бы ярость доминантного самца. Для обозначения этого вероломства существует официальный термин клептогамия («украденный секс»), но так никто не говорит. Знаменитый эволюционный биолог Джон Мейнард Смит дал этому поведению гораздо более подходящее название, которое используют все эволюционисты: стратегия подлого кобеля.
Возможно, вы понимающе киваете или вздрагиваете, настолько это поведение похоже (или не похоже) на то, как ведем себя мы. Возникает искушение признать, что некоторое сходство указывает на общность происхождения. Но нужно быть осторожным. Воспроизводство в системе двух полов, безусловно, имеет долгую историю, однако специфические детали этого поведения у разных организмов могли возникать независимо. Различные аспекты сексуального поведения, которые мы наблюдаем в природе, не обязательно имеют то же происхождение, что и у нас, какими бы знакомыми они нам не казались.
У представителей самых многочисленных и успешно развивающихся доменов жизни (бактерий и архей) вообще не существует пола, и они размножаются просто за счет бинарного деления: разделяются надвое, передавая свои гены следующему поколению[33]. Но для животных (а также растений и грибов) половое размножение — ловкий эволюционный прием, который принял множество форм, иногда кажущихся нам знакомыми, а иногда — совершенно чуждыми.
Аутоэротизм
Главная цель сексуальных отношений — воспроизводство, и хотя в природе существует масса способов произвести детенышей, сексуальная активность людей, как мы видели, крайне редко приводит к деторождению. Возникает вопрос: зачем нужно столько сексуальных контактов, которые, совершенно очевидно, не могут привести к появлению потомства?
В отличие от цветковых растений, коловраток или одиноких комодских варанов под луной, мы не можем опылять самих себя: аутоэротизм не приводит к появлению потомства. Распространенность мастурбации тоже неизвестна; было проведено множество исследований, которые различались по условиям, задаваемым вопросам, возрасту участников опросов и многим другим параметрам. Практически все данные опросов показывают, что большинство активных в сексуальном плане людей в текущем году занимались мастурбацией. По некоторым данным, за истекший год мастурбировали более 90 % мужчин. Можно детализировать эту статистическую информацию, но я предпочитаю привести данные американского исследования сексуального здоровья и поведения, которое показало, что, за исключением трех возрастных групп[34], все мужчины и женщины за текущий год как минимум один раз занимались мастурбацией.
Одна из причин, почему мы скрываем цифры, заключается в традиционном запрете[35].
Хотя великий греческий врач Гален рекомендовал женщинам заниматься мастурбацией, чтобы снимать напряжение в теле, Сэмюэлю Пипсу[36] некомфортно было описывать собственное поведение в часы одиночества, так что он втайне вел зашифрованный дневник. Долгое время от начала XVIII в. мастурбация рассматривалась европейской церковью в качестве великого греха, а многими другими — в качестве чрезвычайно вредной для здоровья привычки. Швейцарский врач Самюэль-Огюст Тиссо в 1760 г. во влиятельном трактате писал о глубокой опасности онанизма; там, в частности, говорилось, что потеря унции спермы гораздо опаснее для здоровья, чем потеря сорока унций крови. Надеюсь, вам не нужно объяснять, что это утверждение очень далеко от истины[37]. Основатель империи хлопьев для завтрака Джон Харви Келлог тоже проявлял беспокойство по поводу растрат ценнейшей для человечества жидкости и одновременно с созданием кукурузных хлопьев изобретал продукты, которые, как он надеялся, помогут справиться с дьявольским искушением мужского самоопыления, а также создал удивительный аппарат против онанизма — металлическую оболочку с шипами на внутренней поверхности, действие которых проявлялось как раз в случае эрекции.
Но сторонники запрещения мастурбации оказались бессильны против этой извечной практики. Какой бы ни была точная статистика, есть основания предполагать, что большинство людей, способных мастурбировать, мастурбируют.
Впрочем, этой индивидуальной деятельностью занимаются не только люди. Хотя проще было бы просто перечислить мастурбирующих животных, поскольку это явление очень широко распространено в природе, я вкратце опишу некоторые наиболее информативные примеры.
Многим родителям приходилось задуматься, что сказать ребенку (или как отвлечь ребенка), когда в зоопарке самец примата мастурбирует у всех на виду. Известно, что к мастурбации часто прибегают самцы примерно 80 видов и самки примерно 50 видов приматов. Ловкость рук помогает в этом, однако, понятное дело, руки для мастурбации не главное, так что многие китообразные животные в неволе трутся гениталиями о твердые поверхности до семяизвержения. Самцы слонов имеют цепкие мускулистые пенисы, позволяющие им продвигаться в длинной и изогнутой вагине слонихи, и с помощью этих мускулов молодые самцы ритмично постукивают себя пенисами по животу до наступления оргазма. Самцы антарктических пингвинов Адели крутят и трут самих себя и в отсутствие самок извергают сперму на землю.
Краткое объяснение распространенности мастурбации у людей заключается в том, что она доставляет удовольствие. Мы не можем узнать у животных, нравится ли им секс в одиночку, и, в любом случае, нам трудно оценить удовольствие, получаемое другими существами. Так что мы пытаемся понять, зачем они это делают.
Морские игуаны с Галапагосских островов имеют очевидную репродуктивную причину для самостимуляции. Самки совокупляются только один раз за сезон, а самцам для семяизвержения нужно ровно три минуты. Крупные самцы часто буквально сталкивают с самки более мелких конкурентов, еще не закончивших свое дело. Но мелкие самцы игуан применяют хитрую тактику. Они эякулируют до начала совокупления и сохраняют сперму в специальном хвостовом мешке, так что в ограниченных временных рамках, когда есть опасность быть согнанными более крупными самцами, они просто впрыскивают жизненно важную жидкость, не дожидаясь истечения трех минут.
Однако часто мастурбация не связана с репродуктивной функцией, и ученые выдвинули несколько интересных версий для объяснения этого явления. Первая версия: удаление лишней или ненужной спермы. Вторая версия: спонтанное семяизвержение — демонстрация сексуальности; африканские антилопы топи (Damaliscus lunatus) извергают сперму, почувствовав присутствие течной самки, но до спаривания. Самцы капских земляных белок делают все наоборот, самостоятельно доводя себя до оргазма во второй раз уже после спаривания с самкой. Эти белки, особенно доминантные самцы, чрезвычайно похотливы. И лучшая гипотеза для объяснения такого поведения заключается в том, что это способ гигиены, с помощью которого самцы защищают себя от заболеваний, передающихся половым путем («прочищают трубы»).
Если эти примеры имеют эволюционный смысл, множество других, кажется, его не имеют. Ученые не склонны объяснять мастурбацию получением удовольствия — что это действие совершается просто по той причине, что оно приятно. Вероятно, дело в том, что удовольствие и эмоции — плоды нашего разума, и нам трудно экстраполировать их на других существ. Люди способны выразить удовольствие словами (конкретно: «это приятно») и считают это ощущение реальностью. Но мы только приблизительно можем оценить эмоциональный статус животных. Иногда все очевидно: урчащий кот и весело подпрыгивающий пес. Неважно, что мы воспитали эти признаки у домашних животных за тысячи поколений и что выражение и поиски удовольствия просто служат для межвидового сближения. Ни одна из таких правдоподобных причин существования эмоций не доказывает, что эти эмоции реальны. У нас очень мало экспериментальных данных, позволяющих научным образом оценить эмоциональное состояние животных. На с. 216 говорится об экспериментальном способе измерения недовольства и сожаления у грызунов, а некоторые исследования показывают, что крысам нравится, когда люди их щекочут. Они издают ультразвуковой сигнал, похожий на смех, и совершают спонтанные прыжки, которые называют «freudensprünge» (буквально «прыгают от радости»). Насколько я знаю, не проводилось исследований, позволяющих ответить на вопрос, доставляет ли животным удовольствие мастурбация.
Я подозреваю, что, отделяя себя от остального мира природы, мы отказываемся признать, что иногда за поведением животных скрываются «человеческие» эмоции. В науке мы любим обобщения и правила, объясняющие множество наблюдений. Мы отклоняем объяснения с позиций антропоморфизма, и я ставлю под сомнение надежность адаптационных объяснений — слишком гладких, слишком панглоссовских. Какие-то формы самоудовлетворения вполне можно присовокупить к многочисленным примерам нерепродуктивного секса, имеющим эволюционное объяснение. Но мастурбация настолько широко распространена и, по крайней мере, у млекопитающих отражает такой творческий подход, что обобщающие адаптационные объяснения полностью отпадают.
Врачи скорой помощи могут рассказать множество историй о пациентах с необычными повреждениями, вызванными нестандартными формами самоудовлетворения. Великий Альфред Кинси, в 1950-х гг. начавший научное и откровенное изучение сексуальных привычек людей, расспрашивал мужчин о мастурбации с введением различных предметов в урерту. Не будем никого осуждать, а в плане находчивости стоит отметить китообразных животных: описан случай самца дельфина, который мастурбировал, обернув вокруг пениса электрического угря[38].
Через рот
Варианты сексуальных контактов не ограничены строением гениталий. Рот — это сложная анатомическая структура со множеством механических элементов: челюсти, губы, язык, зубы. Это очень чувствительный орган с богатой иннервацией, реагирующий на прикосновение, температуру и вкус. Благодаря этим характеристикам ротовое отверстие используется не только для еды или коммуникации, но может служить и для других действий, включая секс. В истории эротики или в античном искусстве Греции и Рима оральному сексу не уделялось большого внимания. Возможно, в этой исторической тенденции какую-то роль играла гигиена. Здесь, опять-таки, сложно получить достоверную статистику, но из одного недавнего опроса с участием более 4000 мужчин и женщин следовал вывод, что более 84 % взрослых людей практикуют минет (фелляцию) или куннилингус, которые не могут привести к рождению ребенка. Характерно ли такое широкое распространение орального секса только для племени людей? На этот вопрос ответ тоже отрицательный.
Для начала давайте кратко обсудим акт орального секса и его анатомические ограничения. В 1927 г. в книге «Исследования по психологии пола» Генри Хэвлок Эллис[39] писал о козлах:
«Один джентльмен, являющийся признанным авторитетом по козлам, рассказал мне, что они иногда берут в рот пенис, вызывая у себя оргазм, тем самым практикуя аутофелляцию».
Это ловкий прием, если вы в состоянии его применить. Человеку так сделать физически непросто, однако Кинси отмечал, что 2,7 % опрошенных мужчин успешно практиковали аутофелляцию. Когда я был школьником, бытовала почти наверняка ложная легенда, что рок-звезда Принс, помешанный на сексе, перенес хирургическую операцию по удалению ребер, чтобы иметь возможность самостоятельно заниматься оральным сексом. Эта идея не чужда человеческой культуре на самом фундаментальном уровне. У всех народов есть мифы о сотворении мира, и не все они такие же приземленные, как в христианстве: Вселенная ex nihilo (из ничего) или вылепленный из глины Адам. В гораздо более захватывающем сценарии создавший самого себя египетский бог Атум совершил аутофелляцию и выплюнул свою сперму, из которой возникли боги воздуха и воды. Очевидно, люди думали об этом уже давно.
Люди нечасто практикуют аутофелляцию, но аутокуннилингус уже почти за гранью физических возможностей человека (как показывают мои личные исследования, поскольку на этот счет нет научной литературы). Но в целом оральный секс — распространенная и популярная версия нерепродуктивных сексуальных контактов между партнерами. Мы делаем это, поскольку нам приятно, но мы далеко не единственные, кто этим занимается. Оральный секс широко распространен в мире животных, и понять причины этого явления гораздо сложнее. Гетеросексуальный оральный секс практикуется достаточно широко. Удивительный пример — фруктовые летучие мыши Cynopterus sphinx: самки лижут основание пениса партнера во время коитуса, который осуществляется дорсовентральным способом (спина к животу), при этом они висят вниз головой. Хотя это может показаться странным, возможно, таков способ продления сексуального контакта. Существует множество научных гипотез для объяснения такого поведения летучих мышей, но ни одна из них не сводится к тому, что они делают это просто потому, что физически способны. Продление контакта может повышать вероятность зачатия, а может быть проявлением тактики охраны партнера, поскольку препятствует совокуплению самки с другим самцом. Кроме того, возможно, это способ предотвращения заболеваний, передающихся половым путем: слюна летучих мышей может содержать противогрибковые и противобактериальные компоненты, так что добавление слюны к вагинальной смазке в процессе коитуса помогает защищаться от хламидий и других инфицирующих агентов.
Самцы лесной завирушки Prunella modularis часто поклевывают клоаку самок, чтобы удалить сперму соперника, хотя ввиду анатомического строения птиц такое поведение нельзя в полном смысле слова назвать оральным сексом. Эти довольно невзрачные воробушки вступают в сексуальный контакт до сотни раз на дню, и такая невероятная активность лишь отчасти объясняется тем, что длительность контакта не превышает десятых долей секунды.
Если эти примеры орального секса кажутся в какой-то степени функциональными и осмысленными, первое сообщение об оральном сексе у бурых медведей отражает совсем иную картину. В 2014 г. было подробно описано, как два неродственных друг другу самца в Загребском зоопарке в Хорватии на протяжении шести лет по нескольку раз в день занимались оральным сексом. Дающая и принимающая сторона никогда не менялись местами, и акт протекал по одному и тому же предсказуемому ритуалу. Один медведь приближается к другому лежащему медведю. Дающая сторона физическим движением раздвигает задние лапы принимающей стороны и начинает фелляцию, издавая гудящий звук. Обычно процедура занимает от одной до четырех минут и, судя по мышечным спазмам, заканчивается семяизвержением у принимающей стороны. Эти медведи выросли в неволе, и, вполне вероятно, такое поведение не является нормой для диких медведей, среди которых не было замечено контактов подобного рода. Исследователи предполагают, что эти отношения могли возникнуть из-за невозможности сосать мать, поскольку медведи остались сиротами в юном возрасте. Но с чего бы все ни началось, вполне вероятно, что эти контакты продолжаются, поскольку доставляют удовольствие.
В удовольствии заключается причина орального секса между людьми. Но, опять-таки, как и в случае мастурбации, ученые не спешат делать вывод, что у животных и человека одни и те же мотивы для нерепродуктивного секса. Трудно сказать, насколько обоснованны эти сомнения, однако у нас действительно очень мало примеров (таких как с хорватскими медведями), когда частью объяснения может быть получение удовольствия. Мы можем предполагать, что какое-то поведение животных (сексуальное или другое) связано с получением удовольствия, но нам нужно научиться оценивать удовольствие у животных. Пока у нас такой возможности нет, будем считать, что удовольствие от секса получаем только мы, ну, может быть, за редкими исключениями.
Большая-большая любовь
Аутоэротизм, фелляция, аутофелляция… Список вариантов нерепродуктивного секса можно продолжать и продолжать. Множество проявлений сексуального поведения в природе превосходит наше воображение, и мы сколько угодно можем удивляться этому разнообразию, но важно понять, что секс для большинства животных, включая нас, эволюционировал не только как необходимый элемент воспроизводства. Это не означает, что все варианты сексуальных контактов служат для одной и той же цели, а похожие действия имеют одно и то же эволюционное происхождение. Вполне вероятно, что некоторые действия, в частности аутоэротизм, существуют лишь по той причине, что доставляют удовольствие. Следует избегать ошибочного вывода, что все варианты поведения имеют какую-то специфическую эволюционную функцию: животным тоже может нравиться сенсорная стимуляция. Крысам нравится, когда их щекочут, кошки мурлычут, а хорватские бурые медведи, кажется, получают удовольствие, делая друг другу минет.
Люди используют множество сексуальных приемов, большинство из которых не приводят к рождению ребенка, и некоторые из них существуют также у животных. Мало кто возразит, что здоровые сексуальные контакты между людьми помогают поддерживать стабильные отношения между партнерами, будь они гомо- или гетеросексуальными, моно- или полигамными или какими-то еще. Таким образом, хотя получение удовольствия — одна из важнейших составляющих сексуальных контактов, дополнительная функция секса заключается в укреплении социальных связей, главным образом в парах. Столь же широкий репертуар любовных игр с таким же энтузиазмом, как мы, использует лишь один вид животных, и этологов и психологов интересует, делают ли они это по той же причине, что и мы. Бонобо (Pan paniscus) — одна из пяти сохранившихся групп гоминид, к числу которых, кроме нас, относятся также гориллы (Gorilla gorilla), орангутаны (Pongo pygmaeus) и шимпанзе (Pan troglodytes). Бонобо очень похожи на шимпанзе, так что их еще называют карликовыми шимпанзе; эти две группы обезьян отнесли к разным видам только в 1950-х гг. Вообще говоря, бонобо лишь немного мельче своих ближайших родичей и слегка отличаются по морфологическим признакам: бонобо живут исключительно на деревьях, мелкими группами и только в одном покрытом лесами регионе вокруг реки Конго в Демократической Республике Конго, где их осталось менее 10 000 особей. Они менее мускулистые, чем шимпанзе, с более покатыми плечами и немного более длинными руками и в целом изящнее своих собратьев. У них розово-красные губы и темные лица, а клочковатая шерсть на голове часто разделена пробором.
Как и у других гоминид, общество бонобо имеет строгую иерархию. Что не типично, в нем царит матриархат. Доминантные самки управляют социальными группами животных, а статус самцов определяется их отношениями со старшими самками. Эти самки образуют сплоченные коллективы, контролирующие поведение самцов, особенно в отношении проявления агрессии и в спаривании. Также необычно для приматов, что повзрослевшие самки уходят из группы родичей и с согласия старейшины начинают жить в другом клане.
Один из способов налаживания контактов между самками заключается в активном трении гениталиями (в научной литературе это называют генитально-генитальным трением, или GG-трением). Две самки сближаются и на протяжении минуты ритмично трутся друг о друга теми местами, где, по нашему разумению, у них расположены клиторы. Клиторы набухают, и время от времени обезьяны визжат. Частота этих действий разнится, но некоторые наблюдатели сообщают, что они могут совершаться практически каждые два часа. В культуре бонобо такие сексуальные контакты между самками — весьма обычное дело. Это один из способов, с помощью которого самки встраиваются в новую социальную группу.
Вне всякого сомнения, бонобо — самые похотливые среди всех живых существ. GG-трение практикуют не только самки. Это действие совершается во всех возможных комбинациях, вне зависимости от пола, возраста и даже половой зрелости. Самки делают это с самцами, самцы с другими самцами, те и другие — с детенышами. Самцы чаще контактируют не лицом к лицу, а взгромождаются один на другого и трутся возбужденными пенисами. Иногда, повиснув на ветвях деревьев лицом к лицу, они занимаются «фехтованием».
При статистическом анализе сексуального поведения людей кое-что приходится додумывать, но, мне кажется, немногие из нас по несколько раз в день участвуют в групповом сексе. А вот для бонобо это обычное дело.
И при этом самки бонобо беременеют и рождают детенышей не чаще, чем шимпанзе: один раз в пять или шесть лет. Таким образом, при десяти сексуальных контактах в день на протяжении пяти лет (что вполне соответствует наблюдаемой ситуации) к деторождению приводит лишь один контакт из 18 250. Это не совсем совпадает с приведенными выше статистическими данными, в соответствии с которыми у гоминид к рождению детеныша в среднем приводит только один сексуальный контакт из тысячи, но нам приходится оперировать отрывочными наблюдениями. Эти показатели говорят о том, что мы и наши ближайшие родственники демонстрируем общность поведения, которая могла бы удивить инопланетного натуралиста: мы, совершенно очевидно, отделили сексуальные контакты от воспроизводства.
Нам многое известно о сексуальных контактах бонобо, что понятно, поскольку это наши близкие родственники и их сексуальная жизнь больше напоминает нашу, чем, скажем, жизнь фруктовых летучих мышей или голых землекопов. В связи с исключительной частотой их оргазмов мы любим повторять, что бонобо живут по принципу хиппи, занимаясь любовью, а не войной. И это радостное впечатление контрастирует с впечатлением от образа жизни шимпанзе с их культурой патриархата, насилия и убийства. Как обычно, истина сложнее.
Самцы шимпанзе силовым путем борются за иерархический статус и убивают соперников. Совсем иная ситуация у бонобо, где доминирующее положение занимают самки, а статус самцов определяется статусом их матерей, с которыми они не расстаются и зависят от них всю жизнь. Однако не совсем справедливо утверждать, что бонобо — миролюбивые существа, для которых секс — вежливый ответ на все происходящее вокруг. Описаны случаи смертельных схваток между бонобо, но этих обезьян чаще изучают в неестественных для них условиях в зоопарках, что может влиять на их поведение. В таких условиях некоторые самки занимают сверхдоминантное положение и ведут себя чрезвычайно агрессивно в конфликтных ситуациях. Иногда в зоопарках встречаются самцы бонобо без пальцев передних или задних лап, а у одного самца в Штутгартском зоопарке две вышестоящие на иерархической лестнице самки откусили половину пениса.
Мы все время пытаемся интерпретировать поведение животных с человеческой точки зрения, и существует искушение предположить, что наше нерепродуктивное сексуальное поведение связано с нашим эволюционным происхождением. Но у нас нет для этого достаточных оснований. Нельзя сделать окончательное заключение, что наше поведение имеет такое же эволюционное происхождение и те же самые корни, что и поведение бонобо, мартышек, дельфинов, выдр или ящериц тегу (о которых мы вскоре поговорим). Бонобо, как и шимпанзе, не являются нашими предками.
Часто при обсуждении наших ближайших эволюционных родственников подразумевается, что поведение этих животных может объяснять наше поведение. Да, гоминиды состоят между собой в более близком родстве, чем, скажем, с выдрами, но они не произошли друг от друга. Гоминиды трех видов — человек, шимпанзе и бонобо — имеют общих предков. Эволюционная история бонобо поистине удивительна. Конго — широкая река, петляющая по просторам Центральной Африки. Бонобо живут исключительно на левом берегу. Только недавно ученые задумались над тем, как они сюда попали. Мы знаем, что эволюционные ветви, давшие начало родам Homo (люди) и Pan (шимпанзе и бонобо), разделились где-то в Африке примерно шесть или семь миллионов лет назад. От этого периода осталось мало окаменелостей, но одним кандидатом на роль нашего последнего общего предка является сахелантроп (Sahelanthropus tchadensis), который был гораздо больше похож на шимпанзе, чем на человека. Это запутанное время в истории эволюции человекообразных обезьян, и пока у ученых нет единого мнения по поводу того, как, где и когда разошлись наши линии и насколько это разделение было окончательным.
Через какое-то время наши генеалогические ветви все же действительно разошлись, и шимпанзе с бонобо оказались на другой ветви, нежели люди. Как мы смогли восстановить историю человеческой популяции с помощью ДНК, точно так же с помощью генетики (сравнивая ДНК ныне живущих шимпанзе и бонобо) мы можем определить, кто, когда и с кем спаривался. Выясняется, что как минимум на протяжении полутора миллионов лет между шимпанзе и бонобо не происходило обмена генами (иными словами, они не спаривались между собой). Анализ придонных отложений реки Конго показывает, что она сформировалась примерно 34 миллиона лет назад, а ее ширина вполне достаточна, чтобы служить непреодолимым барьером для большинства наземных животных и их генов. Естественные флуктуации уровня воды при постоянном изменении климата привели к тому, что около двух миллионов лет назад уровень воды понизился и небольшая дочерняя популяция обезьян пересекла реку. Но затем пилигримы навсегда остались изолированными на другом берегу, и с момента отселения этой «транспонтинной»[40] популяции в ней появились все специфические черты бонобо.
Так происходит образование многих видов: от большой группы отделяется малая группа, которая, однако, не обязательно является репрезентативным отражением вариаций в исходной популяции. Виды могут возникать в результате изменения поведения (одна группа начинает питаться плодами, созревающими в другое время) или пространственной локализации — вот вам билет в одну сторону через непреодолимую реку. Отделившись от основной группы, эти особи начинают скрещиваться между собой, и пул генов в новой дочерней популяции может изменяться. Можно догадаться, какие небольшие изменения у первых предков бонобо привели к их последующему сексуальному раскрепощению. У самок шимпанзе эструс проявляется явно, включая яркое окрашивание и набухание гениталий в период наивысшей фертильности. Самки бонобо по внешним признакам кажутся фертильными намного дольше, чем они есть на самом деле. У людей не существует явных внешних признаков фертильности, которая в среднем достигает пика через несколько дней после завершения менструации[41]. Тот факт, что бонобо расширили демонстрацию фертильности, выйдя за пределы очевидных сигналов, является ключом к пониманию нашей сексуальной жизни. Можно себе представить, что в дочерней популяции предков бонобо естественные генетические вариации проявлений эструса усилились под влиянием естественного отбора.
Хотя я с осторожностью отношусь к интерпретации подобного сходства, это очень важная информация для понимания нашей эволюции. У нас есть общие признаки с обоими представителями рода Pan, с которым мы имели общего предка, жившего задолго до эволюции Pan или Homo. Эти два вида разошлись как в генетическом, так и в поведенческом плане. На основании исследований можно заключить, что небольшие генетические изменения в дочерней популяции бонобо вызвали радикальные изменения в поведении и структуре сообщества: Pan paniscus менее агрессивны, чем Pan troglodytes, и для улаживания конфликтов и установления социальной иерархии используют сексуальные контакты, а не насилие.
Мы поступаем иначе. Бонобо удивительны, но их можно отнести к «островным» видам, а «островные» виды часто эволюционируют необычным путем. По причинам географической изоляции они могут иметь как генетические, так и поведенческие особенности. Это не означает, что их образ жизни не имеет никакого отношения к пониманию нашего, но давайте согласимся, что сексуальная жизнь бонобо очень сильно отличается от нашей сексуальной жизни и даже от наших сексуальных фантазий: нам она кажется изматывающей. С помощью сексуальных контактов бонобо решают совершенно иные задачи, чем мы. И даже если пропорция нерепродуктивных сексуальных контактов у бонобо может быть сравнима с нашей и их генетическое основание сходно с нашим, у нас разная мотивация и разная эволюционная история. Мы не хватаемся за гениталии других людей с целью улаживания конфликтов, для приветствия или в предвкушении хорошей трапезы, по крайней мере в цивилизованном обществе. Нужно тщательно исследовать наши сексуальные пристрастия, склонности и девиации, но, возможно, все дело просто в том, что они доставляют нам удовольствие.
Гомосексуальность
Из всех возможных вариантов сексуальных контактов только один приводит к рождению ребенка. В этом деле не может быть переходного состояния: зачатие либо возможно, либо нет. У тех организмов, которым для зачатия требуется участие двух разнополых индивидов, один гарантированный способ не забеременеть заключается в сексуальных контактах между представителями одного и того же пола. В будущем станет возможным создавать генетически модифицированные яйцеклетки или сперматозоиды, пригодные для нового варианта зачатия. Оба вида клеток в организме полностью дифференцированы: это зрелые клетки, в которых ДНК перемешалась и уполовинилась в ожидании встречи с комплементарной клеткой для достраивания полного набора генов и начала новой жизни. Но вскоре мы сможем изменить процесс созревания и перенаправить дифференцировку клеток, превратив их во что-то иное, например, чтобы сперматозоид стал яйцеклеткой, или наоборот. В результате две женщины или двое мужчин теоретически смогут зачать ребенка, передав ему по половине генома от двух родителей одного пола.
Но пока однополые пары не имеют генетической возможности для оплодотворения яйцеклетки и беременности. Таким образом, гомосексуальность — это сексуальная практика, не связанная с эволюционной необходимостью воспроизводства.
Я мог бы привести десятки разрозненных данных относительно численности гомосексуалов в человеческой популяции, поскольку единой статистики не существует. Не существует и некоей общей картины поведения, позволяющей дать четкие определения и представить демографические данные. Кажется, что одни люди с юных лет имеют гомосексуальную ориентацию, другие — исключительно гетеросексуальную. Многие находятся где-то посредине, так что в основном придерживаются либо одного, либо другого пути, но время от времени или регулярно имеют и гомосексуальные, и бисексуальные, и гетеросексуальные контакты или фантазии. Некоторые исследования показывают, что 20 % взрослых людей испытывают сексуальное влечение к людям одного с ними пола, однако количество людей, вступающих в однополые контакты, в среднем в два раза ниже.
Точные цифры не имеют большого значения в эволюционном масштабе. Гомосексуальность существует, и сотни миллионов людей считают себя гомосексуалами. Поскольку однополые сексуальные контакты не могут привести к зачатию ребенка, на первый взгляд кажется, что этот вариант сексуальных отношений не способствует адаптации.
При поиске эволюционных объяснений того или иного типа поведения возникает проблема. Почему так широко распространено сексуальное поведение, не приводящее к появлению потомства? Не пример ли это поведения, определяющего границу между людьми и другими животными?
По-видимому, нет. Гомосексуальные отношения часто встречаются в природе. Некоторые случаи я уже упомянул, хотя бонобо, наверное, не самый лучший пример, поскольку они вступают в сексуальный контакт постоянно и со всеми членами коллектива по всевозможным поводам, как англичане обсуждают погоду.
Но давайте рассмотрим в качестве примера жирафа. По целому ряду причин жирафы являются излюбленным объектом внимания эволюционных биологов. Конечно же, они отличаются от всех животных самым высоким ростом, и первая причина интереса ученых — как раз их длинная шея. Традиционно эта преувеличенно длинная шея служила примером эволюции в рамках ныне непопулярной теории. Жан-Батист Пьер Антуан де Моне, шевалье де Ламарк, не был первым человеком, который рассуждал на тему эволюции (о том, как животные меняются со временем), но он одним из первых глубоко исследовал эту тему. Жирафы, или камелопарды[42], как их называли до XIX в., играли в его теории важную роль. В 1809 г., в год рождения Чарлза Дарвина, Ламарк опубликовал «Философию зоологии», в которой изложил свою теорию, объяснявшую, почему животные со временем изменяются. Он считал, что жираф «получил в подарок длинную и гибкую шею», поскольку пытался достать до самых сочных листьев акации[43]. При этих действиях к его шее приливала некая «нервная жидкость», и шея в результате росла. Это постепенное удлинение шеи жираф передавал своим детям, и процесс продолжался далее.
Через 50 лет вышла книга «О происхождении видов», в которой идея наследования приобретенных признаков полностью опровергалась[44]. Жизненный опыт не вызывает изменений в ДНК, передающихся следующему поколению, и поэтому не влияет или почти не влияет на гены, на которые действует естественный отбор. Дарвин считал Ламарка одним из крупных, важных и дотошных ученых, которые ошибались. Идеи Ламарка были вытеснены величайшей научной теорией, выдвинутой величайшим биологом. Все ученые должны ошибаться как можно чаще, поскольку только тогда мы поймем, в чем мы правы, и слегка приблизимся к истине. В Ботаническом саду Парижа стоит памятник, на котором дочь Ламарка обращается к старому и слепому отцу со словами: «Потомки будут восхищаться Вами, отец, они отомстят за Вас».
Ламарковскую теорию эволюции убили данные. Идея наследования приобретенных признаков ошибочна по нескольким причинам, в первую очередь потому, что не удалось обнаружить механизм, с помощью которого приобретенная информация могла бы передаваться следующему поколению. Мы не наблюдаем у следующего поколения модификаций, приобретенных в результате жизненного опыта предков: полярные медведи и в зоопарках остаются белыми, хотя не проводят много времени на снегу. Еще прозаичнее то, что жирафы в основном объедают листья на уровне плеч и не заметно, чтобы они вытягивали шеи в поисках теоретически более сочных верхних листьев. И все же шея жирафа удивительно важный пример для иллюстрации дарвиновской теории эволюции. Общность происхождения жирафа и других млекопитающих подтверждается одинаковым количеством позвонков, таким же, как у нас и у мыши. Но у жирафа каждый позвонок, конечно же, намного крупнее. Кроме того, через шею проходит возвратный гортанный нерв (он есть у нас и даже у наших очень дальних родственников рыб). У жирафа этот нерв представляет собой гигантскую петлю длиной около 15 футов, которая следует вдоль главной артерии, отходящей прямо от сердца. То же самое и у нас, только у жирафа из-за длины шеи эта петля довольно бесполезно растянута вверх и вниз. Тот факт, что анатомическое расположение этого нерва одинаково у нас и у жирафа, является доказательством слепой и неэффективной эволюции в природе, которую сам Дарвин называл «неуклюжей, разорительной, неумелой».
Возвратный гортанный нерв жирафа
Происхождение этой прекрасной шеи связывают с половым отбором. Она экстравагантна и несколько абсурдна, как хвост павлина, и вполне может быть одним из тех преувеличенных признаков, которые мы наблюдаем у многих размножающихся половым путем животных. Сексуальная жизнь жирафов действительно интересна. Шея играет важнейшую роль в их сексуальном и социальном поведении. С 1958 г. бои между самцами жирафов называют борьбой шеями («necking»). Они обвивают друг друга шеями и с силой бьют. Это невероятное зрелище: шеи животных поворачиваются и изгибаются почти под прямым углом, и природная грация жирафов заменяется неуклюжей агрессией и неловкими движениями, в отличие, например, от изящества и мощи сталкивающихся рогами оленей.
Подобные «объятия»,[45] как у подростков, часто являются прелюдией к более серьезным делам. Это напоминает стычки между самцами, предшествующие совокуплению с самками. Самцы дерутся, и кто-то один побеждает. Главное отличие жирафов заключается в том, что после тяжелого боя самцы часто совокупляются с другими самцами. Как и в отношении многих других примеров интересного поведения диких животных, которое мы наблюдаем и силимся понять, в этом случае у нас тоже не очень много данных. Нам не хватает информации, и трудно сделать однозначные выводы. Но вполне возможно, что большинство сексуальных контактов между жирафами начинается с борьбы шеями, за которой следует анальный секс[46]. Не все бои заканчиваются успешными или безуспешными попытками совокупления, но во многих случаях у сражающихся самцов пенисы эрегированы.
Большую часть времени самцы и самки жирафов живут раздельно. Борьба шеями происходит почти исключительно в группах самцов. В одной статье, основанной на 3200 часах наблюдений за три года в Национальных парках Танзании, было зафиксировано 16 случаев садок самцов на самцов, девять из них — с эрегированным пенисом. Сначала исследователи сочли, что это были акты доминирования, но не обнаружили никаких признаков (обычно выражающихся определенными позами), которые могли бы подкрепить эту идею. За тот же период только один раз было зарегистрировано совокупление самца и самки. Шестнадцать раз из семнадцати составляет порядка 94 %.
Мы не знаем, почему жирафы ведут себя подобным образом. За тот же период в этой группе жирафов родилось 22 детеныша, как мне кажется, все же в результате гетеросексуальных контактов. Это означает, что бо́льшая часть совокуплений между самцами и самками осталась незамеченной людьми, впрочем, как и совокуплений между самцами. Эти и другие данные позволяют предположить, что самцы жирафов не очень часто вступают с половой контакт с самками. Когда они это делают, они обнюхивают и лижут мочу самки и следуют за своей избранницей на протяжении нескольких дней. Самки многократно прерывают попытки садки со стороны самца путем применения изумительно простой тактики — они уходят вперед. В конце концов, если они в настроении, они останавливаются.
Таким образом, даже в рамках строгих научных представлений можно утверждать, что бо́льшая часть сексуальных контактов у жирафов происходит между самцами. Логично предположить, что гомосексуальный вид не может просуществовать очень долго. Однако соотношения один к десяти достаточно для продолжения рода, и, вообще говоря, 22 детеныша за три года — это совсем неплохо. Самки жирафов фертильны и доступны для сексуального контакта только несколько дней в году, а период беременности длится у них до 15 месяцев, так что они не очень оборотисты в смысле воспроизводства. Гомосексуальные контакты у жирафов имеют некое социальное значение и, по-видимому, не обязательно связаны с установлением иерархических отношений. Но пока мы больше ничего об этом не знаем.
Нам известно о наличии гомосексуальных контактов и у многих других животных, включая крыс, слонов, львов, макак и как минимум 20 видов летучих мышей. Относительно гомосексуальных контактов между самками данных меньше, однако у нас вообще меньше данных о сексуальности женщин и особей женского пола в целом. Как и во многих других областях науки, исторически сложилась тенденция изучать главным образом поведение мужчин. Но на основании известных данных об однополых отношениях между особями женского пола мы можем кое-что сказать о биологических механизмах в основе этих отношений. Фермеров совершенно не беспокоят гомосексуальные контакты между козами, овцами и курами, а садки коров даже воспринимаются в качестве признака их фертильности. Хлыстохвостые ящерицы могут размножаться путем партеногенеза — тем же способом «непорочного зачатия», который мы наблюдаем у комодских варанов, и садка самки на самку может служить для индукции овуляции. Гиены, как и бонобо, живут в условиях матриархата. Самки у них доминантные и более агрессивные и сильные, чем самцы. Кроме того, у них необычные гениталии: они имеют эректильный клитор гигантского размера — лишь немного меньше пениса. Самки часто вылизывают друг другу клиторы, что служит для налаживания социальных связей и установления иерархии.
Гомосексуальность представляет собой загадку эволюции, хотя существует множество гипотез относительно того, как может сохраняться это поведение. У людей обнаружено несколько участков ДНК, которые могут быть связаны с гомосексуальностью мужчин. Это не «гены гомосексуальности», как порой утверждается в прессе, поскольку не существует отдельных генов, ответственных за сложные поведенческие признаки. Правильнее сказать (хотя данных пока немного), что некоторые версии ДНК чаще встречаются у гомосексуалов, чем это можно объяснить случайным распределением. Такая слишком уклончивая или осторожная форма объяснения связана с современным состоянием генетических исследований сложного социального поведения. Почти не существует человеческих признаков, которые определялись бы внезапным изменением ДНК, напротив, большинство признаков зависят от множества генетических факторов, взаимодействующих между собой и оказывающих лишь слабый эффект в соответствии с жизненным опытом[47].
Но кроме прямого генетического анализа было проведено множество исследований гомосексуальности у мужчин на модели близнецов. Идентичные близнецы имеют почти идентичную ДНК, так что любые различия в поведении, скорее всего, определяются не генетическими, а внешними факторами. В разных исследованиях получены различающиеся количественные данные, но большинство из них показывает, что, если один из идентичных близнецов является гомосексуалом, второй придерживается этой же ориентации с большей вероятностью, чем это наблюдается в парах неидентичных близнецов. Также имеются данные, что наличие старшего брата-гомосексуала повышает вероятность гомосексуальной ориентации у младшего брата.
У нас нет сомнений, что гомосексуальность имеет генетическую составляющую, поскольку все поведенческие признаки имеют генетическую составляющую. Биологические признаки зависят от действия многих генов в сочетании с факторами окружающей среды. Варианты генов, снижающих успешность воспроизводства, в конечном итоге, удаляются, поскольку их носители вытесняются из популяции. И для эволюционных биологов остается загадкой, почему гены, связанные с гомосексуальностью, сохранились. Мужчины-гомосексуалы с меньшей вероятностью оставляют потомство, так что, на первый взгляд, соответствующие гены должны постепенно удаляться из генома.
Первый возможный вариант ответа заключается в том, что люди с исключительно гомосексуальной ориентацией редко встречаются в популяции. Существует терминологическая проблема, связанная с тем, что мы рассматриваем сексуальное поведение с точки зрения современного западного человека. Сегодня мы говорим о гомосексуальности скорее как о характеристике личности в целом, а не как об особенности сексуального поведения. На страницах книги я многократно пренебрегал этим различием, но не могу о нем не упомянуть, когда речь идет о гомосексуальности у людей. В данном случае я говорю о том, что на современном языке мы бы назвали гендерным несоответствием. Сексуальная связь с человеком того же пола не всегда рассматривалась в том же ключе, как в нашей современной культуре; возможно, лучше думать об этом признаке как о том, «что люди делают», а не о том, «что они собой представляют». Учитывая вышесказанное, вспомним, что однополые сексуальные отношения описаны у древних греков и римлян, у американских и японских аборигенов и во многих других исторических общностях людей, но воспринимали их всегда по-разному.
Во многих случаях этот тип отношений не исключает других контактов, что обеспечивает возможность зачатия и передачи генетической информации для различных типов сексуального поведения. Хотя у животных гомосексуальные отношения встречаются повсеместно, у них они тоже редко являются единственным типом отношений. Описано лишь несколько случаев исключительно однополого секса у животных: около 8 % домашних баранов совокупляются только с другими баранами. Для объяснения этого наблюдения выдвинуто множество гипотез, но, как часто бывает в науке, ответ может состоять в их комбинации.
Одна из ключевых концепций эволюционной биологии заключается в отборе родичей. Она основана на том, что природа отбирает не особей, группы или даже виды, а гены. А лучший способ для гена сохраниться в будущем — заключить соглашение с другими генами с той же эгоистической мотивацией. При этом функция организма состоит лишь в обеспечении воспроизведения таких генов. Это важнейший постулат, краеугольный камень эволюционной теории, который объясняет поведение всевозможных социальных существ, особенно пчел, ос и муравьев, самцы которых практически не воспроизводятся. Они имеют ту же ДНК, что и их мать, которая производит огромное потомство; так эволюционировала система, где стерильные самцы помогают плодовитой самке выжить и распространить их общее генетическое содержание.
Было выдвинуто предположение, что отбор родичей — тот механизм, который объясняет существование гомосексуальности на всем протяжении эволюционной истории, несмотря на кажущееся отсутствие адаптации к условиям эволюции. Для объяснения сохранения в популяции гомосексуального поведения у мужчин рассматривают два варианта механизма отбора родичей. «Гипотеза гей-дяди» предполагает, что наличие близкого по крови мужчины-гомосексуала повышает вероятность выживания племянников или племянниц, поскольку близкий родственник помогает их воспитывать, оберегать и кормить. В биологическом плане важно, что они близки по генетическому содержанию, так что гены дяди передаются следующим поколениям, хотя сам он не имеет детей. Похожая ситуация наблюдается и у других размножающихся половым путем организмов, когда некоторые особи помогают выращивать чужое потомство, имеющее с ними близкое генетическое родство. В этом смысле роль «гей-дяди» напоминает роль еще одного важного в эволюционном плане члена семьи: речь идет о «гипотезе бабушки», которая используется для объяснения смысла менопаузы. После выхода из репродуктивного возраста женщины не слабеют и умирают, а остаются в семье и могут помогать выращивать внуков, в геноме которых содержится четверть их собственной ДНК. Это популярная и, возможно, справедливая гипотеза, хотя в отношении людей у нас недостаточно данных. Возможно также, что она подходит для объяснения поведения косаток, живущих в сложно организованных социальных группах в условиях матриархата и относящихся к одному из трех видов животных, у которых есть менопауза (третий вид — короткоплавниковые гринды)[48]. «Гипотеза гей-дяди» — это гомосексуальный эквивалент «гипотезы бабушки». Проблема лишь в том, что для подтверждения этих идей у нас пока нет достаточного количества данных.
Существует другое объяснение, для которого у нас больше доказательств. В 2012 г. было опубликовано исследование, где говорилось, что бабушки и тети мужчин-гомосексуалов имеют значительно больше детей, чем бабушки и тети гетеросексуальных мужчин. Повышение плодовитости этих женщин, по-видимому, компенсирует отсутствие детей у самих мужчин. На этом основании был сделан вывод, что генетическая основа гомосексуальности мужчин может заключаться в том же механизме, который способствует повышению плодовитости их родственниц. Здесь не обязательно имеется причинная связь, но, возможно, наблюдается изменение баланса, которое статистически компенсирует кажущееся прерывание генетической линии. Это интересная гипотеза, и представленные данные вполне убедительны, однако исследование пока находится на начальной стадии. И хотя выборка образцов вполне достаточная, это только одна работа, и нам нужно гораздо больше результатов. Так что мы пока не знаем, объясняет ли эта гипотеза исключительную гомосексуальность баранов.
Можно приводить множество примеров гомосексуального поведения животных. Важно подчеркнуть, что пока мы не знаем причин гомосексуальности жирафов или каких-то других животных и не должны исходить из предположения, что они такие же, как у людей. Известны случаи гомосексуальных отношений между мужчинами, которые носят ритуальный характер, а не являются проявлением сексуальной активности людей, считающих себя гомосексуалами. Члены племени самбия, живущего на Восточных Высотах в Папуа — Новой Гвинее, считают проглатывание спермы важнейшим ритуалом для превращения мальчика в мужчину. До достижения полового созревания на протяжении многих лет мальчик практикует оральный секс со старшими мужчинами, пока не встречает девушку, которая также на протяжении нескольких лет делает ему минет. После этого одни мужчины прекращают сексуальные контакты с представителями своего пола, другие нет. Антропологи полагают, что эта гомосексуальная практика исключительно ритуальная и в ней нет эротики, однако мне это утверждение не кажется убедительным, учитывая, что обязательным условием для семяизвержения является сексуальное возбуждение.
Мужчины племени маринд-аним из Новой Гвинеи практикуют анальный секс с другими мужчинами на протяжении всей жизни и считают, что семя обладает магическими свойствами: спермой смачивают наконечники стрел и копий, чтобы помочь им найти цель, кроме того, мужчины, женщины и дети употребляют ее в составе всяких снадобий. Считается, что сперма, попадающая внутрь тела при анальном сексе, усиливает мужественность.
Наличие множества вариантов сексуальных контактов у людей и животных говорит о том, что сексуальные отношения, совершенно очевидно, предназначены не только для воспроизводства. Иногда мы ошибочно предполагаем, что какое-то поведение животных является эволюционным предшественником нашего поведения или, напротив, возникло параллельно как «полезный трюк». Невероятное разнообразие сексуальной практики в природе показывает, что секс играет в жизни важную роль и эволюция находит способы применения уже имеющихся средств для решения новых задач. Многие слышали выражение биолога Франсуа Жакоба, назвавшего естественный отбор «луддитом». Мне же нравятся слова президента США Тедди Рузвельта: «Делай то, что можешь, тем, что у тебя есть, там, где ты находишься».
Методом проб и ошибок эволюция изобретала отдельные элементы целого, и эти элементы можно использовать для новых действий в постоянно изменяющихся внешних условиях. Понятно, что половое размножение полезно иметь в арсенале доступных средств[49], и оно существует в природе уже как минимум миллиард лет — с тех самых времен, когда сложным формам жизни еще только предстояло освоить океаны, землю и небеса. С тех времен механизм производства потомства от двух родителей внедрялся бесконечное число раз для создания новых возможностей, повышающих вероятность выживания.
Мы можем попытаться разобраться в сущности гомосексуального поведения человека. Мы можем выделить биологические и социальные факторы, заставляющие людей предпочитать конкретного человека или даже конкретный «тип», вне зависимости от того, идет ли речь о светлых волосах, доброжелательности и атлетическом сложении, о доброжелательном светловолосом атлетически сложенном индивидууме одного с вами пола или даже о культурной традиции превращения в мужчину у папуасов. Как любое поведение, сексуальность запрограммирована не только генами или окружающей средой, но и неясными связями между биологией и опытом.
В этой связи неизбежно возникают вопросы политического плана. Среди животных гомосексуальные отношения встречаются повсеместно. На первый взгляд кажется, что это противоречит основным принципам эволюции. Но чем больше мы вглядываемся в этологию сексуальных отношений, тем менее противоречивым это поведение кажется с научной точки зрения.
Забавный факт: в ноябре 2017 г. в ответ на подкрепленное фотографиями сообщение о том, что два крупных льва в заповеднике Масаи-Мара занимаются анальным сексом (что они часто делают), кенийский чиновник[50] ответил, что львы копируют поведение людей, делающих то же самое. Представьте себе, что он подумает, когда узнает о жирафах.
Как ни забавно все вышесказанное, мужчины и женщины с гомосексуальной ориентацией подвергаются преследованиям, арестам, пыткам и убийствам во многих странах мира, включая Кению, и повсюду страдают от предубеждений. Оправданием этого предубеждения служит исторически сложившаяся уверенность, что гомосексуальное поведение contra naturam — противоречит природе. Но на чем бы ни основывалось мракобесие гомофобов, наука не на их стороне. Как мы видим, гомосексуальное поведение абсолютно естественно и распространено повсеместно.
И у смерти не будет власти
Наконец, давайте кратко поговорим еще об одной практике сексуальных отношений, которая на 100 % исключает возможность зачатия: речь идет о некрофилии.
О распространенности этого явления в мыслях и на деле в человеческом обществе нет достаточного количества данных (гораздо больше людей воображают секс с мертвыми, чем занимаются им), но в большинстве стран это запрещено законом.
Юридическая ответственность за некрофилию в мире определяется очень по-разному: в Великобритании соответствующий закон был принят только в 2003 г., а в США единого государственного закона не существует, каждый штат решает дела такого рода по своему усмотрению.
Сексуальный контакт с мертвым рассматривается как парафилия — сексуальное отклонение, проявление патологии психики[51]. Это кажется очевидным, но данная практика наблюдается у десятков видов животных.
Поведение животных в зоопарках может быть странным: в неволе животные могут вести себя иначе, чем в природной среде, где их не беспокоят люди. И все же многие обитатели зоопарков занимаются такими делами, которые посетители вряд ли рассчитывали увидеть: например, в 1960-х гг. было замечено, что самцы гринды пытаются совершить половой акт с мертвыми самками.
Впрочем, это происходит не только в неестественных условиях в неволе. Некрофилия распространена в природе. О сексуальных контактах пингвинов Адели с мертвыми особями было известно с первых дней покорения Антарктики; об этом писал ученый, участвовавший во второй, гибельной экспедиции капитана Скотта. Поведение пингвинов казалось «удивительно порочным» и слишком неприглядным для людей эдвардианской эпохи. Сообщение было вырезано из более объемного отчета, написано на греческом языке и доступно лишь для крепких разумом джентльменов из британской научной среды[52].
В 2013 г. в Бразилии два самца ящерицы тегу вида Salvator merianae на протяжении двух суток совокуплялись с мертвой самкой, хотя она уже начала раздуваться и разлагаться[53]. Биологическое тяготение, возможно, вызванное сигналами феромонов, которые испускают самки для демонстрации своей сексуальной доступности, имеет такую силу, что самцы лягушек и змей пытаются совокупляться с обезглавленными или раздавленными машиной самками.
В 2010 г. был опубликован жестокий репортаж о том, как самцы морских выдр многократно и успешно принуждали самок к совокуплению, иногда притапливая их, а иногда нанося такие тяжелые увечья (разрыв вагины и брюшной полости), что самки впоследствии умирали. После этого самцы на протяжении нескольких дней совокуплялись с трупами. Еще более странно, что они делали это не только с самками одного с ними вида, но и с тюленями.
Возможно, сейчас наилучший момент, чтобы повториться и отметить, что поведение животных не обязательно родственно поведению человека. Какие патологии ни лежали бы в основе некрофилии у человека, они не связаны с мотивацией других животных, которую мы можем обсуждать в научном ключе или воспринимать скептически.
Некрофилия отвратительна, но через нее, в тщательно продуманном эксперименте, мы можем понять некоторые аспекты биологии. Ранее я упоминал о том, что конкуренция между спермой разных самцов может быть важным механизмом борьбы за самку, реализующимся не через конфликты между особями, а через соревнование между их сперматозоидами. По-видимому, самцов некоторых видов птиц не очень беспокоит, жива их партнерша или нет, и ученые использовали это отсутствие чувствительности для изучения репродуктивной биологии. Они подбирали недавно умерших самок птиц и закрепляли их на ветках. Самцы спаривались, деловито вводили сперму путем «поцелуя клоаки» и улетали, как бы выполнив свою биологическую функцию, позволяя ученым извлечь сперму для лабораторного анализа.
Секс и насилие
Секс подразумевает физический контакт между особями, и по описанным выше причинам склонность к такому контакту у самцов и самок может быть выражена в разной степени: метаболические затраты на производство яйцеклеток и сперматозоидов различны, и на этом основана стратегия в выборе полового партнера. Эта эволюционная сила объясняет очевидные физические различия между полами, включая размер тела, строение гениталий, способы украшать себя и поведение. Несовпадение сексуальных императивов и необходимость телесной близости объясняют, почему сексуальные контакты нередко сопровождаются физическим насилием.
При обсуждении данной темы приходится тщательно выбирать терминологию, и все равно она может показаться грубой. Но нам достаточно сложно находить слова для описания поведения животных. Мы используем некоторые специальные термины, обозначающие специфическое человеческое поведение, которое, как нам кажется, имеет близкую аналогию в мире животных. Например, «коммерческий секс» у пингвинов Адели, самкам которых для строительства гнезд нужны камни: они вступают в сексуальный контакт со свободными самцами, а затем забирают у них несколько камней. В прессе такое поведение называют «проституцией». В нескольких исследованиях сообщалось, что макаки резус готовы расплатиться водой за возможность посмотреть на изображения обезьян с более высоким статусом, а также на фотографии гениталий течных самок; об этом поведении в прессе сообщалось, что «обезьяны любят платные порнографические снимки».
Секс у животных часто может показаться насильственным, но следует быть осторожным в оценках. Сексуальное насилие у людей — одно из самых тяжких преступлений, а изнасилование рассматривается как грубое насилие и нарушение прав личности. Однако это поведение так же старо, как сама человеческая культура, и описания сексуального насилия встречаются в самых древних текстах. В качестве примеров можно привести изнасилование Геры, Антиопы, Европы и Леды Зевсом, Персефоны Аидом, Одиссея Калипсо. В ветхозаветной Книге Бытия сказано, что Лот готов был отдать на изнасилование беснующейся толпе двух своих девственных дочерей, но толпа не приняла девственниц и была ослеплена ангелами. Ангелы сожгли Содом, а Лот с семейством бежал, но жена Лота оглянулась и превратилась в соляной столб.
Некоторые психологи полагают, что изнасилование — одна из эволюционных стратегий человека[54]. На мой взгляд, это результат болезненного воображения, возможно, самый разрушительный и противоречивый пример «просто истории». Вне зависимости от важных социальных последствий идеи, что насилие дает эволюционные преимущества, это лишь предположение, для которого у нас нет реальных научных подтверждений[55]. В эволюционной психологии часто исходят из идеи, что сегодня мы наблюдаем остатки того поведения, которое эволюционировало в доисторические времена и поддерживалось естественным отбором: мужчины, насиловавшие женщин в эпоху плейстоцена, произвели больше детей, чем те, которые совокуплялись с женщинами по взаимному согласию, поэтому генетическая склонность к принудительному сексу распространилась в популяции и существует до сих пор. В подтверждение этой идеи приводят несколько аргументов: во-первых, жертвами изнасилования часто становятся молодые девушки в начале репродуктивного периода, т. е. мужчины выбирают жертв так, чтобы повысить вероятность беременности; во-вторых, женщины этого возраста с большой вероятностью оказывают сопротивление, поскольку защищают свою репродуктивную функцию и возможность выбора партнера, и поэтому являются наиболее привлекательной мишенью для насильника.
Эти чудовищные аргументы совершенно беспочвенны и разваливаются от первого же дуновения ветерка. В первом аргументе множество неувязок. Изнасилование — один из самых плохо задокументированных типов преступлений: статистические данные разнятся, но они дают понять, что подавляющее большинство случаев остаются незарегистрированными в официальной статистике, поскольку жертвы не обращаются в полицию. Например, считается, что в 2017 г. в Великобритании зарегистрировано только 15 % изнасилований. В результате практически невозможно утверждать, что мужчины насилуют в первую очередь женщин на пике репродуктивности, а это и есть центральный тезис данного аргумента. Множество насильников нападают на женщин старшего возраста, уже вышедших или выходящих из репродуктивного периода, а также на детей, которые еще не способны зачать. Значительная доля изнасилований происходит между супругами или давними моногамными партнерами, хотя надежной статистики на этот счет тоже не существует. Тем не менее насильственный секс между супругами противоречит идее, что изнасилование — более эффективный способ распространения генов, чем секс по взаимному согласию. Даже если бы какие-то из этих аргументов подтверждались фактами, для подведения под них эволюционного базиса требовалось бы главное доказательство, свидетельствующее об эволюционной успешности: мужчины-насильники должны иметь больше детей, чем другие мужчины. У нас нет никаких данных и даже никаких намеков на то, что это так.
Причем люди, которые считают изнасилование эволюционной стратегией, поддерживают и контраргумент против своей же гипотезы: если изнасилование не имеет прямого эволюционного основания, то это побочный продукт эволюции. Это тоже пустое заявление, поскольку, как мы видели, любое поведение является побочным продуктом эволюции. Но это не обязательно адаптации, подвергавшиеся положительному отбору. Талант к танцам на льду или погружению с аквалангом не мог подвергаться и не подвергался естественному отбору и, следовательно, является побочным продуктом эволюции нашего мозга, разума и тела. Поскольку этот аргумент так слаб, подразумевается, что силен аргумент о роли естественного отбора. Однако и это не так. Утверждение, что изнасилование имеет эволюционную историю, непосредственно связанную с биологической стратегией, это упадочничество эволюционной психологии. И если мы иронически назовем эту гипотезу «просто историей», мы лишим ее интеллектуального правдоподобия.
Проблемы возникают, когда мы обращаемся к рассмотрению сексуального поведения других животных. В мире животных существует множество примеров насильственного или кажущегося насильственным секса, но трудно ответить на вопрос, можно ли какие-то варианты подобных отношений назвать изнасилованием. Слово «изнасилование» имеет специфический юридический смысл и в соответствии с большинством определений предполагает отсутствие согласия со стороны жертвы. По этой причине оно описывает поведение человека, и применять его к поведению других животных следует с большой осторожностью, поскольку мы не всегда можем приложить к ним концепцию сознания.
Тем не менее насильственный секс у животных встречается часто и проявляется в нападении самцов на самок (обратная ситуация наблюдается редко). Кажущееся насильственным спаривание описано для самых разных животных — от гуппи до орангутанов. Самки сопротивляются совокуплению, самцы это сопротивление игнорируют. Чтобы принудить самок, самцы шимпанзе кусаются, бросаются на них, визжат и раскачивают ветки.
Но встречаются и более изощренные варианты принуждения. При спаривании самцы и самки тритонов вступают в своеобразную борьбу-объятия (так называемый охват), как многие животные с внешним типом оплодотворения, но у зеленоватого тритона Notophthalmus viridescens это действие само по себе не является совокуплением. После объятий самец откладывает сперматофор — небольшую капсулу со спермой, которую самка может принять или оставить. Однако самцы стараются перетянуть чашу весов на свою сторону, во время объятий покрывая тело самки гормональным секретом, в результате чего самка с большей вероятностью впитает сперму клоакой: самцы эффективно одурманивают самок.
Существует также тактика запугивания, хотя, пожалуй, правильнее было бы называть ее сексуальным буллингом. У самок водомерки Gerris gracilicornis, в отличие от многих других водомерок, гениталии скрытые (природная версия «пояса невинности»). Самки могут совокупляться с самцами, только если по собственному желанию откроют доступ к гениталиям. Эта физическая преграда эволюционировала как защита от насильственного секса, когда самец просто усаживается на самку, и ей остается либо пытаться сбросить его, что утомительно, либо покориться. По этой причине для водомерок данного вида насильственный секс невозможен. Но эволюция умнее нас и часто развивается окольными путями. Самцы водомерок бьют по поверхности воды с определенной частотой, привлекая внимание более крупных водяных клопов, гребляков, которые поедают водомерок. Самки водомерок отвечают на эту угрозу тем, что позволяют самцам усаживаться на них и, следовательно, прекращать стучать по воде и навлекать смертельную опасность.
Подобные примеры насильственного секса иллюстрируют фантастический путь, который проделала эволюция в попытках уладить противостояние самцов и самок. Опять-таки, хотя это поведение может в какой-то степени напоминать поведение человека и описываем мы его тем же языком, его нельзя считать гомологией. В общем и целом самки придирчивы, а самцы неразборчивы, и комбинация этих качеств объясняет соответствующее поведение. Так и должно быть: харассмент, запугивание и принуждение дорого обходятся самкам и могут снижать их репродуктивную способность в результате физических повреждений, повышенного риска быть съеденными или просто отсутствия времени на спаривание с избранным партнером. И какой бы ни была стратегия, тактика самок обычно направлена на то, чтобы минимизировать насилие.
Не все примеры сексуального насилия легко объяснить. В описанном выше случае с морскими выдрами резонно предположить, что самки хотят избежать насильственного совокупления настолько, что предпочитают погибнуть. Однако эту эволюционную стратегию трудно понять. Самки платят высшую цену, но и самцы ничего не выигрывают: мертвая самка не может зачать, и гены самца не передаются следующему поколению. Загадка еще более усложняется тем, что самцы выдр ведут себя так же агрессивно по отношению к тюленям — животным другого вида, с которыми не могут произвести потомство и для которых последствия тоже летальны. Убийство, пожалуй, можно объяснить конкуренцией за ресурсы, но совокупление с трупами остается загадкой.
Как писал лорд Альфред Теннисон в поэме «Памяти А. Г. Х.», «У природы окровавленные зубы и когти». Я подозреваю, что он не имел в виду тритонов или водомерок. В этой ставшей известной строчке, написанной еще до эпохи Дарвина, Теннисон подчеркнул бессердечие природы. Природа не жестока, она безразлична, и поведение животных демонстрирует скорее равнодушие к другим, чем злой умысел. Только люди могут быть жестокими, и сексуальное насилие и изнасилование аморальны и преступны. Описывая одним и тем же языком поведение человека и других животных, мы представляем насилие банальным.
Что уж говорить о дельфинах, сексуальное поведение которых так широко обсуждается и так нас удивляет. У людей с дельфинами странные отношения. Нас поражает их разум, дружеское расположение и те фокусы, которые они проделывают для нас в природе и в неволе. Дельфинами в обыденной речи называют представителей нескольких разных групп китообразных животных, включая океанских дельфинов и дельфинов трех разных классов, обитающих в пресной речной воде и солоноватой воде устьев рек на территории Индии и Нового Света[56]. Это умные животные с крупным мозгом (см. с. 43), живущие в сложно организованных группах, особенно бутылконосые дельфины (но не только), которых подробнее всего изучали в Акульей бухте в Австралии. Два или три самца объединяются в группу, которую называют парой или трио «первого порядка», и вместе охотятся. Иногда две такие группы объединятся между собой, образуя альянсы «второго порядка».
Дельфины из Акульей бухты невероятно агрессивны. При наступлении сезона размножения между самцами разгорается жестокое соревнование за самок, как у многих видов животных, размножающихся половым путем. Чаще всего в природе между собой соревнуются отдельные самцы, но у бутылконосых дельфинов иная тактика, поскольку они образуют группы. Эти группы — важнейший стратегический элемент в сексуальном поведении дельфинов. Особи из группы «первого порядка» выбирают самку, набрасываются на нее и отгоняют от стаи, чтобы насильственным путем принудить к совокуплению (вообще говоря, это предположение, поскольку свидетельств не так уж много). Самки пытаются увернуться, и им это удается в среднем в одном случае из четырех. Самцы предотвращают попытки самок вырваться на свободу, нападая на них, избивая хвостами, тыкая мордами, кусая и заставляя подчиниться. Самцы из альянсов «второго порядка» делают то же самое, однако в данном случае на одну самку приходится пять или шесть самцов. Обычно самцы в таких группах приходятся друг другу родственниками, так что эта тактика передачи генов следующему поколению вполне согласуется с эволюционной теорией. Иногда дельфины образуют «суперальянсы», объединяющие множество банд «второго порядка» (до 14 самцов), и нападают на одну самку. Самцы в таких группах уже не обязательно состоят в близких родственных отношениях.
Насколько мне известно, прямых свидетельств насильственного совокупления не существует. Есть наблюдения за поведением, предшествующим совокуплению, и доказательства физического насилия над самками. Многие люди полуигриво рассказывают, что дельфины, несмотря на наше отношение к ним как к милым и разумным существам, совершают нападения. Без сомнения, насильственный секс является частью их репродуктивной стратегии, как и у многих других существ, а их поведение агрессивно, но нам следует воздерживаться от антропоморфизма в описании этого поведения, каким бы милым, разумным или ужасающим оно ни казалось.
У дельфинов встречается еще одно неприятное явление — детоубийство, которое в популярной прессе было классифицировано как убийство, хотя следует заметить, что самцы и самки многих видов животных убивают детенышей других особей своего же вида в рамках репродуктивной стратегии. Львицы выкармливают детенышей молоком дольше года и в это время не спариваются. Львы (в одиночку или иногда группами) убивают детенышей, чтобы вернуть львицу к фертильному состоянию и произвести от нее потомство. В Танзании матери и дочери шимпанзе по непонятным причинам убивают и поедают детенышей других родителей. Доминантные самки сурикатов убивают детенышей подчиненных самок, чтобы те могли помогать выкармливать потомство доминантной самки. Самки гепардов решают подобные проблемы, спариваясь со многими самцами, так что их сперма смешивается и все детеныши одной самки происходят от разных отцов.
Многократно сообщалось о выброшенных на берег детенышах дельфинов с тяжелейшими повреждениями. В 1990-х гг. в одном исследовании говорилось о девяти детенышах, погибших от тупых ударов с переломом ребер и разрывом легких, а также от глубоких проникающих ран, которые могли быть результатами укусов взрослых дельфинов.
Что же, дельфины — убийцы и насильники? Нет, поскольку мы не можем использовать наши юридические термины для описания поведения животных. Кажется ли нам такое поведение отвратительным? Да, но, опять же, природе безразлично, что мы думаем.
Этот краткий экскурс по темным закоулкам мира природы служит для напоминания о том, что природа может быть жестокой. Борьба за существование подразумевает конкуренцию, а конкуренция завершается конфликтами и иногда смертоносным насилием. Мы узнаём это поведение, поскольку люди тоже конкурируют между собой и тоже могут быть чудовищно агрессивными. Но нас не принуждают к насилию. Эволюция нашего разума позволила нам создавать орудия убийства. Но она также предоставила нам такие возможности, которых нет у других животных. Мы не такие же, поскольку благодаря нашему современному поведению мы вывели борьбу за существование за пределы жестокого мира природы, так что нам не нужно убивать других или принуждать женщин к сексу насильственным путем, чтобы обеспечить собственное выживание. Интересно понять, как же это произошло.
Часть вторая
Венец всего живущего
Каждый особенный
В книге «Происхождение человека» Дарвин сравнивал разум человека и других существ. Он рассуждал о познавательных способностях гипотетической обезьяны и замечал, что, хотя обезьяна могла бы разбить орех камнем, она не могла изготовить из этого камня орудие. И также не могла бы «следить за ходом метафизических рассуждений, или решать математическую задачу, или размышлять о боге, или восхищаться величавой картиной природы».
Но Дарвин предполагал, что «эмоции и способности, как любовь, память, внимание, любопытство, подражание, рассудок» в какой-то зачаточной форме проявляются и у других животных. Он писал, что различие между разумом человека и других животных только «количественное, а не качественное».
Этот фрагмент текста — замечательный образец прозы, который стал знаменит далеко за пределами эволюционной биологии как пример описания свойств, различающихся не на фундаментальном уровне, но лишь по положению в спектре возможностей.
Но что касается исходного смысла этого фрагмента для описания нашей эволюции, я уже не уверен в его справедливости. Как мы видели, по технологическим способностям, сексуальному поведению и моде мы отличаемся от других животных. Но вывод о том, что наше отличие от них заключается только в нашем относительном положении на общей шкале, спорно. Наша способность использовать орудия развита настолько сильнее, чем у ворона, или дельфина, или даже у шимпанзе, что кажется невозможным объяснить это только нашим относительно более продвинутым положением в спектре. Наши сексуальные желания и склонности могут напоминать таковые у других животных, но необузданное сексуальное поведение бонобо мотивировано совсем другими социальными задачами, даже если какие-то физические проявления имеют явное сходство с нашим поведением. И, напротив, может быть, мы получаем такое же удовольствие от орального секса, как те двое необычных мишек в Загребском зоопарке? А веточка в ухе Джулии — лишь более простая и ранняя версия нашей современной моды?
Наша культура не просто превосходит культуру всех других животных по сложности, ее вообще не существует у других организмов, и тот способ, которым наши знания распространяются среди современников и передаются следующим поколениям, не просматривается за пределами рода Homo.
Возможно, высказывание про «количественное, но не качественное» различие является слишком простым, слишком бинарным, чтобы описать историю нашего вида. Может быть, лучше просто радоваться сложности нашей эволюции и без лишней гордости и превосходства признать, что мы другие?
Как это произошло? Почему мы стали другими? Мы старательно и пока безрезультатно ищем ответ на вопрос о том, где тот переключатель, который изменил нашу сущность и сделал нас людьми. В нашей истории и в какой-то степени даже в науке мы ищем триггеры. Мы хотим понять и надеемся получить удовлетворяющий нас связный ответ, и именно в этом поиске мы откроем историю нашего становления.
Но тут-то и возникают сложности: эволюция происходит иначе. Не обнаружено никакого реального поворотного момента, который можно было бы упомянуть, хотя бы в качестве метафоры, в рассказе о нашем происхождении. Безусловно, в истории развития жизни на Земле случались поворотные моменты. Их было немного, но какие-то отдельные события действительно изменяли ход эволюции. Например, появление сложных клеток примерно два миллиарда лет назад: одна клетка попала внутрь другой, и в результате появились все сложные существа на дереве жизни. По-видимому, это произошло лишь однажды. Всего одно падение метеорита положило конец истории динозавров, длившейся 150 миллионов лет, и в результате освободились среды обитания, в которых стали процветать мелкие млекопитающие и птицы. Это поворотные моменты в истории, после которых жизнь стала совсем другой, но в целом жизнь эволюционирует сложно и медленно, в том числе и наша с вами. В ней бывают ключевые события, но в целом каждый из нас является продуктом четырех миллиардов лет общего развития природы и нескольких лет жизни среди других организмов в конкретных условиях.
Нам нелегко описать собственную историю. От доисторических времен осталось мало свидетельств, и наш рассказ о прошлом строится на отдельных фрагментах. Проследить за нашей эволюцией сильно мешают два обстоятельства. Против нас играет понятие времени. Те временные рамки, в которых происходит эволюция, непостижимы для нас и не имеют почти никакого отношения к жизни отдельного человека. Мы можем осмысленно рассуждать о двух или трех поколениях вперед и назад — о наших прадедушках или правнуках. Но если говорить об образовании нашего вида, приходится иметь в виду тысячи поколений и больше. В частности, Homo habilis появился более двух миллионов лет назад, и с того времени сменились сотни тысяч поколений.
Есть и другая помеха. Нам легче воспринять отдельные моменты истории или отдельные причины, чем единую непостижимую систему, созидавшуюся на протяжении миллионов лет. Наука косвенным образом развила у нас модульный и линейный подход к анализу сложных систем, поскольку только так мы можем понять такие интегрированные системы, как наши тела, наш разум или наша эволюция. Мы находим в тысячелетней пыли один зуб или одну подъязычную кость и пытаемся извлечь из них все возможные данные, а затем совместить их с общей картиной жизни древних людей. Или выбираем один ген и следим, как он изменялся у разных людей и откуда он взялся. Каждый из этих элементов — лишь одна деталь в гигантском четырехмерном пазле: четырехмерном по той причине, что живые организмы существуют не только в пространстве, но и во времени. Все, что мы делаем в качестве отдельного вида, уникально, но то же самое относится ко всем представителям царства природы.
И так мы постоянно копаемся в себе, вводя новые идеи или данные и пытаясь игнорировать или спрятать предрассудки или груз, который мешает нам понять нашу собственную историю.
Но почему мы действительно другие? Разделяя биологическую и культурную эволюцию, мы создаем между ними искусственную границу, хотя на самом деле они тесно переплетены между собой (биология стимулирует культуру и наоборот), нужно только разглядеть отдельные кусочки пазла до того, как мы опять сложим из них общую картину. Давайте сначала поговорим о биологии, под которой в эволюционном контексте подразумевается ДНК.
Гены, кости и разум
Гены — это единицы наследуемости, которые отбираются природой и передаются следующим поколениям. Природа отслеживает физические проявления генов (фенотип), и, если они повышают шансы организма на выживание, ответственная за них ДНК наследуется и передается следующим поколениям. Гены — это матрица, на которой выстроена жизнь.
Представления о том, как ДНК превращается в живую материю, коренным образом изменились буквально за несколько последних лет. По двум причинам. Первая: последовательное изучение механизма функционирования генетического кода, генетических различий между людьми, их распределения в популяции в прошлом и в настоящем, а также связи между дефектными генами и болезнью. Генетический код в форме генов содержит биологическую информацию; гены рассредоточены среди трех миллиардов букв в составе ДНК, разделенной на 23 хромосомы и находящейся в маленьком ядре в центре большинства клеток. Все люди имеют один и тот же набор генов, но последовательность генов у разных людей может немного различаться, и именно эти различия определяют все естественные вариации человеческих признаков. Хотя нам еще многое предстоит узнать, мы уже хорошо представляем себе, как устроен геном и как последовательность букв ДНК превращается в жизнь. Чем ближе родственная связь между особями, тем больше сходство между их геномами. Это правило применимо к семьям, к особям одного вида и к представителям разных видов. Поскольку у нас одинаковые гены, мы можем сравнивать различия в последовательностях, чтобы понять, имеют ли они какое-то значение. В американском и британском вариантах английского языка встречаются разные формы написания одних и тех же слов, но выражения colour grey и color gray[57] на обоих берегах Атлантики означают одно и то же. Напротив, слова appeal и appal[58] отличаются всего одной буквой, но их смысл почти противоположен. Со временем ДНК изменяется за счет генетического эквивалента опечаток — орфографических ошибок, закрадывающихся в текст при неточном копировании и невнимательной проверке белками, ответственными за вычитывание последовательностей ДНК после репликации. Эти ошибки накапливаются почти с постоянной скоростью, так что различия в последовательностях генов разных людей и разных видов можно использовать для отсчета времени на часах, запущенных в тот момент, когда конкретная опечатка возникла в сперматозоиде или яйцеклетке предка и была передана его ребенку. Небывалые успехи в секвенировании генома за последние годы сделали расшифровку биологического кода легкой, быстрой и дешевой, и теперь у нас есть петабайты ДНК миллионов людей и животных.
Вторая причина революционного изменения генетики за последние годы также связана с техническими достижениями, но в приложении к расшифровке генома людей, умерших годы, десятилетия, столетия или даже сотни тысячелетий тому назад. ДНК — невероятно стабильная форма хранения информации. В живых клетках она активно поддерживается в надлежащей форме с помощью белков, которые проверяют и редактируют ее при каждом копировании, максимально снижая количество ошибок. В мертвых клетках никакого редактирования не происходит, но в правильных условиях (в сухой и прохладной атмосфере и в присутствии минимального количества других организмов) ДНК может сохраняться тысячелетиями. На основании генов мертвых мы можем установить генетические связи, которые в противном случае были бы потеряны во времени.
Эти два прорыва в генетике привели нас к новому пониманию наследственности и позволили перерабатывать горы информации в форме последовательностей геномов; из нее с помощью мощных статистических методов можно извлечь даже едва заметные закономерности. Вооружившись этими новыми инструментами, мы продвигаемся в понимании того, как древние люди превратились в современных людей.
24–2 = 23
Принадлежность к виду организмов определяется по морфологическим признакам, а не по ДНК. Такая таксономическая классификация используется по историческим причинам — мы обозначаем организмы в соответствии с этой системой с тех пор, как Линней в XVIII в. ввел биноминальную номенклатуру: название рода, потом название вида (Homo и sapiens, Pan и troglodytes). Геном каждого человека уникален, но геномы всех людей достаточно похожи, чтобы всех нас отнести к одному виду. Важно, что ныне живущие люди в большинстве своем имеют одинаковое количество хромосом[59]. Хромосомы — это длинные последовательности ДНК, в которых содержатся гены (у каждого из нас порядка 20 000). Все наши гены распределены по 23 парам хромосом. У горилл, шимпанзе, бонобо и орангутанов 24 пары хромосом.
Хромосомы различаются по размеру, например, хромосома 2 — одна из самых длинных: она содержит 8 % всей нашей ДНК и примерно 1200 генов. Она такая большая, поскольку в какой-то момент, быть может шесть или семь миллионов лет назад, у одного из представителей общих предков всех человекообразных обезьян родился ребенок с серьезной хромосомной аномалией. В процессе образования яйцеклетки и сперматозоида, слияние которых дало начало этой новой жизни, при репликации хромосом две из них каким-то образом сцепились между собой. При сравнении хромосом всех гоминид хорошо видно, что гены, содержащиеся на нашей хромосоме 2, у шимпанзе, орангутанов, бонобо и горилл распределены между двумя хромосомами.
Большинство мутаций такого плана являются летальными или вызывают ужасные заболевания, но этой обезьяне повезло — она родилась с полностью функциональным геномом, который в значительной степени отличался от генома ее родителей. С этого самого момента началась линия организмов с 23 парами хромосом, которая протянулась до нас с вами.
Теперь мы знаем последовательности геномов неандертальцев и денисовцев, но, к сожалению, на основании тех фрагментов ДНК, которые мы извлекли из их костей, мы не можем сказать, сколько у них было хромосом. Мы предполагаем, что эти наши родственники тоже имели по 23 пары хромосом, но точно не узнаем, пока не выделим из редких содержащих ДНК костей образцы более высокого качества. Известно, что мы скрещивались с этими людьми, а разное количество хромосом часто является препятствием для репродукции, хотя и не всегда: представители единственного современного рода «лошади» из семейства лошадиных, куда относятся лошади, ослы и зебры, могут спариваться друг с другом, хотя количество хромосом у них варьирует от 16 пар до 31 пары. Впрочем, никто не понимает, как это возможно.
Нам не удалось выделить ДНК из многих образцов костей древнейших представителей человеческой линии и, возможно, никогда не удастся, поскольку большинство наших древнейших предков жили в Африке, где жарко и ДНК сохраняется очень плохо. Вполне вероятно, что после отделения линий предков шимпанзе, бонобо, горилл и орангутанов остальные гоминиды имели 23 пары хромосом.
Гены транслируются в белки, а белки делают всю работу в организме. Буквально всю — от формирования волос и мышечных волокон до синтеза компонентов жировых и костных клеток или осуществления каталитической функции в переработке пищи, энергии и отходов жизнедеятельности. Едва заметные вариации последовательности генов могут приводить к изменению формы или активности белков, и именно поэтому у одних людей глаза голубые, а у других карие[60], некоторые люди сохраняют способность переваривать молоко после выхода из младенческого возраста, хотя большинство ее теряют, у кого-то после употребления в пищу спаржи моча имеет специфический запах, а у кого-то нет (и кто-то чувствует этот запах, а кто-то нет). Генетические различия отражаются в физических. Специфические последовательности ДНК мы называем генотипом, а кодируемые ими физические характеристики — фенотипом.
Изменения в ДНК происходят случайным образом и являются предметом отбора в зависимости от того, обеспечивают ли они фенотипические преимущества или недостатки для выживания организма. Со временем неудачные мутации обычно вымываются из генома, поскольку снижают приспособленность организмов, а удачные распространяются. Некоторые мутации могут одновременно обеспечивать как преимущества, так и недостатки: наличие одной дефектной копии гена бета-цепи гемоглобина защищает от малярии, наличие двух копий приводит к развитию серповидно-клеточной анемии. А некоторые (нейтральные) мутации, от которых организму не хорошо и не плохо, просто дрейфуют в популяции.
Хотя у человека и человекообразных обезьян почти все гены одинаковые, некоторые в небольшой степени различаются, а какие-то появились только в нашем геноме. И поэтому мы отличаемся от других. Существует множество механизмов, посредством которых за несколько поколений гены и геномы могут изменяться и генерировать новую информацию. Такие гены могут подвергаться отбору и через какое-то время создать некую комбинацию, которая послужит основой для формирования нового вида. Я не буду описывать все эти механизмы, поскольку в различных организмах их существует множество. Но некоторые механизмы возникновения мутаций важны для понимания человеческого генома, и о них стоит поговорить подробнее.
Дупликация (удвоение)
Представьте себе, что вы сочиняете симфонию и записываете ноты вручную на нотном листе. Причем только в одном экземпляре. Если вы хотите поэкспериментировать с какой-то темой, вряд ли вы решитесь писать поверху единственной имеющейся у вас копии с риском испортить рабочую версию. Вы снимете копию и для экспериментов используете второй экземпляр, будучи уверенным, что первый остался цел и невредим. Примерно так можно представить себе дупликацию генов. Работающий ген должен оставаться полезным и не может мутировать случайным образом, поскольку мутации с большой вероятностью нарушат его функцию. Но если вы скопируете фрагмент ДНК, содержащий этот ген, одна из копий может измениться и, возможно, приобрести новую функцию, но при этом организм не лишится исходной функциональной версии. Именно так наши предки приматы перешли от дихроматического зрения к трихроматическому. На X-хромосоме есть ген, который кодирует белок сетчатки, реагирующий на свет со специфической длиной волны, что обеспечивает восприятие соответствующего цвета. Примерно 30 миллионов лет назад произошла дупликация этого гена, и в одной из копий возникла мутация, добавившая к нашему цветовому восприятию возможность видеть оттенки синего. Чтобы новая функция сохранилась, процесс дупликации должен был произойти в ходе мейоза, при образовании сперматозоидов и яйцеклеток, поскольку в таком случае новая мутация появляется в каждой клетке ребенка, в том числе в тех, которые станут сперматозоидами и яйцеклетками.
Судя по всему, у приматов, и особенно у человекообразных обезьян, дупликация генов происходит достаточно часто. Примерно 5 % нашего генома возникло в результате дупликаций фрагментов ДНК, а примерно треть из них характерна только для человека. Участки генома, образовавшиеся в результате дупликации, сложно анализировать — по той причине, что они являются копиями и очень похожи друг на друга. Но терпение и труд постепенно позволили генетикам научиться их анализировать, и благодаря этому мы начинаем понимать, почему в нашем геноме так много копий, и есть ли среди них те, которые обеспечивают нам такие способности, каких нет у наших ближайших родственников человекообразных обезьян.
На настоящий момент найдено лишь несколько генов, дупликация которых произошла только у нас. И все они имеют удивительно скучные названия. В июне 2018 г. среди множества очень похожих генов была обнаружена слегка отличающаяся версия человеческого гена NOTCH2NL, которой, что очень важно, нет у шимпанзе. По-видимому, ранняя версия NOTCH2NL удвоилась у общего предка всех человекообразных обезьян, но примерно три миллиона лет назад в нашей линии она внезапно изменилась, а у шимпанзе осталась бессмысленным грузом. Мы точно не знаем, что именно делает эта версия гена в геноме человека, но, похоже, она способствует росту мозговых клеток, называемых радиальной глией, которые пронизывают кору и создают новые нейроны, стимулируя рост мозга. О функции гена можно многое узнать, если отключить его при помощи мутации, и, как выяснилось, одно из заболеваний, связанных с мутацией гена NOTCH2NL, — это микроцефалия, уменьшение размера мозга.
В геноме человека содержатся четыре копии гена SRGAP2, тогда как у других человекообразных обезьян всего одна. Мы можем определить, когда именно происходило удвоение гена: первый раз это случилось 3,4 миллиона лет назад, а затем новая версия удвоилась еще дважды — 2,4 миллиона лет назад и примерно один миллион лет назад. Далее ученые выяснили, в каких тканях данный ген проявляет активность. И вот что интересно: первое и третье удвоение, похоже, не сыграли никакой важной роли, и образовавшиеся копии просто тихонько ржавеют в нашем геноме, но второе удвоение дало начало гену, который выполняет в нашем мозге определенную функцию. По-видимому, этот ген способствует повышению плотности и длины разветвляющихся отростков нейронов коры, называемых дендритами. Нейроны такого типа существуют только у людей: в мозге мыши их нет, но, если встроить в геном мыши человеческую версию гена, у нее вырастают крепкие и плотные дендриты. Эта версия гена, SRGAP2C, появилась 2,4 миллиона лет назад, как раз тогда, когда мозг наших предков значительно увеличился в размере. Примерно в это же время мы начали расщеплять камни и превращать их в олдувайские орудия.
Связь кажется очевидной, но это лишь мои рассуждения. Хотя, возможно, не такие уж безумные. Возникает сильное искушение связать между собой эти три вещи: рождение нового гена, его предполагаемую функцию в головном мозге и одновременное появление новых способностей. Но пока это все, что нам известно. Не этот единственный ген сделал нас такими, какие мы есть, но он мог быть одним из нескольких, даже если мы пока точно не знаем, в чем заключается их функция. Эти гены стали ключом к выявлению важнейших различий между нашим мозгом и мозгом других существ, а со временем мы найдем и другие генетические подсказки. Ни одна из них не была единственным триггером, но лишь частью общей картины нашей эволюции.
Гены «нового образца»
Удвоение генов и перенос из других источников — это примеры того, как природа умеет применять уже существующие инструменты (эволюция — луддит). Но она также умеет создавать с нуля. Мы называем это мутациями de novo: кажущиеся бессмысленными участки ДНК мутируют и превращаются в читаемые фразы.
Генетический код устроен следующим образом. Алфавит ДНК состоит из четырех букв, организованных в трехбуквенные «слова», каждое из которых кодирует одну аминокислоту; аминокислоты связаны между собой в строгом порядке, определяющем структуру белка. Если использовать аналогию с языком, у нас есть буквы (например, в английском языке их 26), слова (которые могут быть любой длины) и предложения (тоже любой длины). В генетике есть только четыре буквы, а все слова состоят из трех букв. В таком случае гены — это предложения, и, как в языке, они могут быть любой длины. Если ген создается с нуля, он должен эволюционировать. В отличие от дупликаций и инсерций (вставок), возникших из уже существовавших последовательностей, гены de novo не встраивались в наш геном в рабочем виде. В книге каждое слово зачем-то нужно, а в геноме содержится огромное количество ДНК, не являющейся словами или предложениями — это просто случайный наполнитель. Допустим, у нас есть последовательность букв:
НАШОМБЫЛМАЛНАШПЕСБЫЛМИЛ
Если напрячься, можно обнаружить в этой последовательности простое предложение. Вставим после третьей буквы букву Д и прочтем:
НАШДОМБЫЛМАЛНАШПЕСБЫЛМИЛ
А если между трехбуквенными словами вставить пробелы, мы получим следующее:
НАШ ДОМ БЫЛ МАЛ НАШ ПЕС БЫЛ МИЛ
Эта фраза имеет смысл только в том случае, если буквы стоят в правильном порядке. В генетике мы называем такой порядок открытой рамкой считывания. В генах между словами нет пробелов, но клетки умеют распознавать трехбуквенные структуры. Возникновение генов de novo происходит тогда, когда набор букв случайно превращается в осмысленное предложение, которое прочитывается клеткой и транслируется в белок, а этот белок каким-либо образом используется. И тогда приобретший его организм передает этот новый ген своим потомкам.
В 2011 г. было идентифицировано 60 генов, возникших только в геноме человека, и это число может увеличиться. По большей части мы пока не знаем, зачем они нужны, но обычно это короткие гены, что понятно, если учесть, как они возникли: чем длиннее предложение, тем выше вероятность, что открытая рамка считывания сдвинется. Хотя эти гены есть только у человека, они не являются нашей определяющей генетической характеристикой. Возможно, они не совершают никакой важной работы; в нашем геноме гораздо больше генов, которые, хотя и мутировали уникальным для человека образом, но были унаследованы от предков или возникли в результате дупликации.
Инвазия
Еще одна важная деталь, о которой стоит сказать: в генетическом плане мы не полностью люди, примерно 8 % нашего генома не унаследовано нами от предков. Эта ДНК встроилась в наш геном усилиями других существ, пытавшихся наладить собственную репликацию. Вирус можно сравнить со взломщиком, который врывается на фабрику и подменяет рабочую схему своей собственной, в результате чего фабрика начинает производить то, что нужно ему, а не хозяину фабрики. Когда вирус взламывает стены наших клеточных фабрик, он приносит туда свою ДНК (или РНК)[61] и может встроить ее в наш геном, и тогда наши клетки начинают исполнять приказы вируса и производить новые вирусы. Чаще всего такие инсерции (вставки) вредны для организма. Многие симптомы простуды и других вирусных заболеваний связаны с тем, что наша иммунная система реагирует на вторжение чужеродной материи или наши клетки по команде вируса убивают сами себя. Иногда вставки встраиваются в середину гена, ограничивающего частоту деления клетки, и тогда начинается неконтролируемое деление — развивается опухоль. Но иногда вирусные гены просто сидят в нашем геноме и ничего не делают. ДНК вируса встроилась, но на организм это никак не повлияло. В ходе эволюции человека такое происходило множество раз, и именно так возникло 8 % нашей ДНК. Для сравнения, это гораздо больше, чем количество ДНК в составе наших генов, и больше размера некоторых хромосом, включая Y-хромосому. Если так рассуждать, мужчины в большей степени вирусы, чем мужчины.
Чужеродная ДНК отвечает за некоторые функции в нашем организме, но один пример выделяется на фоне остальных: речь идет о формировании плаценты. В теле существуют специализированные ткани с изумительным названием синцитий. Они содержат множество ядер и образуются при слиянии клеток в процессе развития некоторых тканей мышц, костей и сердца. В плаценте клетки синцития формируют высокоспециализированную и важную ткань с еще более великолепным названием синцитиотрофобласт. Это своего рода шиповидные выросты развивающейся плаценты, которые внедряются в стенки матки и обеспечивают контакт между телом матери и эмбрионом; через них происходит обмен жидкостями, питательными веществами и отходами жизнедеятельности. Эта же ткань подавляет иммунный ответ матери, что предотвращает отторжение растущего плода как чужеродной материи. Эти клетки — центральный элемент репродукции человека, необходимый для зарождения одной жизни внутри другой. Гены, обеспечивающие их рост, не являются человеческими генами. Примерно 45 миллионов лет назад приматы приобрели их у вируса. Вирусу они нужны для слияния с хозяйской клеткой, и они тоже подавляют иммунный ответ на инфекцию. Но они были захвачены нашим геномом и стали необходимыми для успешного протекания беременности. Понятное дело, млекопитающие обзавелись плацентой гораздо раньше, чем 45 миллионов лет назад, и это очередная невероятно таинственная и удивительная история в эволюции. Мыши, у которых тоже есть синцитиотрофобласт, имеют очень похожий набор генов, приобретенный от вируса, но только от другого. Это невероятный пример конвергентной эволюции на молекулярном уровне. В ходе эволюции генетическая программа вируса несколько раз почти идентичным способом применялась для развития млекопитающих.
Кисти и стопы
У человека есть специфические сочетания дуплицированных генов, а также версии генов, характерные только для него. Можно поговорить о том, что эти специфические гены делают в нашем организме.
Мы уже сравнивали поведение человека с поведением других животных, и такое сравнение можно продолжить на генетическом уровне. С другими организмами нас роднит множество генов, возникших миллиарды лет назад. В основном они кодируют фундаментальные биохимические процессы. Существуют гены, общие для всех животных, или для всех млекопитающих, или для всех приматов, или только для человекообразных обезьян. Генетическая генеалогия отчасти напоминает построение семейных эволюционных деревьев, но есть отличия. В значительной степени это связано с тем, что эволюционные деревья на самом деле не имеют формы деревьев. Если отступить назад всего на несколько поколений, можно обнаружить, что деревья превращаются в запутанные сети, поскольку наши предки появляются в нашей родословной более одного раза. Вот пример из доисторического прошлого: линии Homo sapiens и Homo neanderthalensis разошлись примерно 600 000 лет назад. Далее обе ветви эволюционировали независимо, но примерно 50 000 лет назад, когда Homo sapiens вторглись на территорию неандертальцев, мы скрестились с ними. Мы это знаем, поскольку нам известна последовательность генома неандертальца, и, если вы европеец, у вас совершенно точно есть ДНК неандертальцев, которая встроилась в наш геном именно в это время. Через несколько тысяч лет неандертальцы исчезли, но их ДНК осталась жить внутри нас. Она оказывает некоторое влияние на биологию европейцев: это касается пигментации кожи и волос, роста, характера сна и даже предрасположенности к курению[62], хотя это изобретение появилось лишь через несколько сотен тысяч лет после исчезновения неандертальцев. Таким образом, из-за интрогрессии ДНК неандертальцев в ваш геном (если вы европеец) на вашем эволюционном дереве имеется петля. А на деревьях обычно не бывает петель. Хотя в семьях гены в основном передаются по вертикали, семейные деревья могут иметь спутанные ветви, и гены могут вливаться в семейную линию из других источников — от дальних предков или даже, как мы видели, от вирусов. Кроме того, со временем гены могут теряться в результате естественного процесса перемешивания, происходящего всякий раз при образовании яйцеклеток и сперматозоидов.
Несмотря на сложность нашего происхождения, мы вполне можем сравнить нашу ДНК с ДНК денисовцев, неандертальцев и других гоминид и попытаться установить, насколько важную роль играют различия в ДНК.
Участок ДНК под названием HACNS1[63] не является геном в полном смысле слова. Этот фрагмент ДНК длиной 546 знаков называется энхансером, причем 16 из них у нас не такие, как у шимпанзе. Данная последовательность не является геном, поскольку она не кодирует белок, однако энхансеры (как и некоторые другие фрагменты некодирующей ДНК) регулируют работу генов. Во всех клетках, имеющих ядро, содержится полный набор генов, но не все клетки нуждаются во всех генах в любой момент времени. Энхансер обычно располагается перед последовательностью гена и содержит инструкции для его активации. Мы читаем предложения по порядку, от начала до конца, двигаясь слева направо (по крайней мере, в английском языке). Гены рассыпаны по всему геному и могут читаться в любом направлении, в любом порядке, с любой хромосомы, поскольку, в отличие от книги, их никто никогда не записывал в один присест по какому-либо плану. Ген на хромосоме 1 может активировать ген на хромосоме 22. Энхансеры и другие регуляторные последовательности ДНК контролируют этот кажущийся хаос.
Чтобы установить функцию энхансера, можно проверить, где и когда он активен, и экспериментальным путем проанализировать действие человеческой версии и версии шимпанзе в мышином эмбрионе. Человеческий энхансер HACNS1 активен во многих тканях мыши, включая головной мозг, но наибольшую активность он проявляет в развивающихся передних конечностях, особенно на концах отростков, которые постепенно превращаются в лапы. В таком же эксперименте с версией HACNS1 шимпанзе усиленной активности в этом участке обнаружено не было. Аналогичная ситуация наблюдается и в зачатках задних конечностей. Поскольку этот фрагмент ДНК является энхансером, а не геном, усиление активности в развивающихся кистях и стопах указывает на его функцию в качестве регулятора активности генов, которые в передних и задних конечностях, по-видимому, разные. Ловкость кистей рук чрезвычайно важна для изготовления орудий, и эта способность у нас развита намного сильнее, чем у других гоминид, в частности умение вращать большой палец (он у нас сравнительно длинный по отношению к другим пальцам). А недостаточно ловкие стопы с довольно короткими пальцами были важны для ходьбы на двух ногах. Вот такая удивительная теория о том, что быстрая эволюция этого короткого фрагмента ДНК сыграла важную роль в изменении морфологии наших кистей и стоп, отличающих нас от других существ.
Я могу привести еще несколько примеров генов, которые, возможно, являются генетической основой уникальных человеческих характеристик, но достаточно скоро будет обнаружено еще больше таких генов. Особый интерес вызывают гены, связанные с развитием мозга, поскольку мозг у нас большой и сложный, и поэтому за рост и функционирование нервных тканей у нас отвечает гигантское количество генов. Некоторые способствуют росту новых нейронов, другие стимулируют связи между нейронами. Какие-то гены активны в специфических отделах мозга, особенно в новой коре, в значительной степени определяющей наши способности и личностные качества. Многие гены — кандидаты на эту роль, отвечают не только за эти, но и за другие способности, поскольку эволюция — луддит, а адаптировать и подгонять то, что уже существует, проще и эффективнее, чем изобретать заново.
Удивительных генов множество (хотя многие выполняют скорее скучную работу), и мы продолжаем искать ответы на вопросы, как работают они, а также все 20 000 человеческих генов, как они эволюционировали, как взаимодействуют с другими составляющими нашей биологии и что происходит, когда в них возникают ошибки. Мы также должны понять, как они взаимодействуют друг с другом в контексте функционирования организма.
Легко и без запинки
Есть один ген, о котором стоит рассказать подробнее. Он многое может сообщить об истории нашего вида, об эволюции, о том, как мы рассуждаем об эволюции, — по той причине, что этот ген чрезвычайно важен для нашей способности говорить. Эта история началась в 1990-х гг. в Лондоне, в больнице Грейт-Ормонд-стрит. Членов одной семьи (условно названной KE) обследовали в связи с редкой формой вербальной апраксии: многие представители семьи испытывали трудности в сложении звуков в слоги, слогов в слова, слов в предложения. Эти симптомы проявлялись у 15 человек в трех поколениях, ярче всего у детей, которые, например, произносили «bu» вместо «blue» или «boon» вместо «spoon». Углубленные исследования показали, что эти люди испытывали трудности не только при артикуляции, но и в целом при выполнении некоторых специфических движений лица и рта. Когда какое-то нарушение просматривается в нескольких поколениях, мы составляем семейное дерево и помечаем на нем носителей этого порока развития. Можно предположить, что случайное перемешивание генов при формировании сперматозоидов и яйцеклеток не приводит к вымыванию этого повреждения из генома и оно сохраняется у некоторых представителей семьи. Характер наследования в семье KE указывает на то, что причиной дефекта является один-единственный ген. Сейчас ситуация в генетических исследованиях усложнилась невероятным образом, но в тот период развития клинической генетики большинство идентифицированных заболеваний действительно были связаны с единственным генетическим дефектом. Это, в частности, касается таких заболеваний, как кистозный фиброз, болезнь Хантингтона или гемофилия. В те времена для охоты на дефектный ген исследователи использовали подобные семейные деревья, и в 1998 г. Саймон Фишер с коллегами выявили единственную причину речевых проблем у представителей семьи KE. Этот ген получил название FOXP2 и стал символом генетики и эволюции.
Ген FOXP2 кодирует транскрипционный фактор[64]. Транскрипционные факторы — это белки, функция которых заключается в связывании с очень специфическими последовательностями ДНК (например, как описанный выше энхансер HACNS1). Таким образом, один ген может контролировать активность второго гена, второй — третьего и т. д., и этот сложный каскад позволяет активировать специфические клетки и ткани в развивающемся эмбрионе. Все гены в геноме важны, но какие-то важнее остальных, и к этой группе как раз относятся транскрипционные факторы. За то время, пока эмбрион находится в матке, он из единственной клетки превращается в существо из триллионов клеток разного типа, организованных в виде специфических тканей со специфическими функциями. Транскрипционные факторы играют в этом процессе важнейшую роль. Они выполняют функцию контролеров или бригадиров, налаживающих важные строительные работы, например определяют, какая часть бесформенного сгустка клеток станет головой, а какая — хвостом. Когда ориентиры расставлены, к делу подключаются другие транскрипционные факторы, определяющие более тонкие детали: «мозг будет здесь», «в этой части мозга располагаются глаза», «в этой части глаза находится сетчатка», «в этой части сетчатки сгруппированы фоторецепторные клетки», «эти фоторецепторные клетки будут палочками». По мере развития эмбриона происходит все большая детализация и дифференцировка тканей, достигающих зрелого состояния. Ген FOXP2 относится к числу генов, которые функционируют в середине этой общей схемы развития эмбриона, и его функция заключается в стимуляции роста большого числа клеток. Его активность обнаруживается в отдельных участках по всему мозгу, он направляет рост различных нейронов, включая нейроны моторных цепей, базальных ганглиев, таламуса и мозжечка.
Поиск участка функционирования гена — лишь один инструмент в арсенале генетиков. Кроме того, можно выделить соответствующий белок и посмотреть, с чем он взаимодействует, — отправиться на своеобразную «молекулярную рыбалку». Если удить на FOXP2, оказывается, что на него клюют многие, но одна из «рыбок» дает повод для интересных рассуждений: это короткая последовательность ДНК, названная CNTNAP2, которая также связана с речевыми нарушениями.
Таким образом, мы имеем ген, дефект которого вызывает нарушение речи и который активен в различных участках ткани, связанной с речевой функцией. Многие животные общаются звуками, но по уровню сложности речи мы оторвались от остальных на недосягаемое расстояние[65]. Учитывая, что человек — единственный вид, пользующийся сложным синтаксисом и грамматикой, генетические основы наших речевых способностей часто обозначают как демаркационную линию, отделяющую нас от других животных.
Ген FOXP2 не возник в нашем организме de novo. На самом деле, это очень старый ген, как и многие транскрипционные факторы. Сходные версии имеются у млекопитающих, рептилий, рыб и птиц, многие из которых общаются с помощью звуков. Например, в головном мозге самцов певчих птиц ген FOXP2 активируется, когда они обучаются у других самцов петь песни, чтобы привлекать самок.
Версия белка FOXP2 у шимпанзе отличается от нашей только двумя аминокислотными остатками из 700, но последствия этих различий весьма значительны: мы разговариваем, а они нет. У неандертальцев был такой же ген, как у нас, но другие участки их ДНК могли определять отличия в функционировании этого гена. У мышей, с которыми мы разошлись от последнего общего предка примерно за девять миллионов лет до того, как вымерли динозавры, версия белка Foxp2 отличается от нашей всего на четыре аминокислоты. А при развитии головного мозга мышиный ген Foxp2 активируется точно в тех же местах, что и у нас. Когда у мыши экспериментальным путем удаляли одну копию гена, проявлялись некоторые аномалии, в частности сокращалось количество ультразвуковых сигналов, обычно издаваемых мышатами (если удалить обе копии, мышата умирают через 21 день после рождения).
То, что ген FOXP2 важен для нашей речи, отличается от аналогичного гена у мыши и шимпанзе, а также подвергался положительному отбору у Homo sapiens, указывает на его важнейшее значение для человека. Это также иллюстрирует, что один конкретный ген может быть чрезвычайно важным, но в одиночку он не определяет все различия.
Мы можем анализировать функции тела на самом разном уровне, и генетика работает на уровне ультрамикроанатомии. Если менять масштаб, следующим полезным уровнем разрешения может быть анатомия в реальном размере. Вообще говоря, гены кодируют белки, которые формируют клетки, из которых состоит наше тело. Анатомия существ меняется с возрастом: эмбриология изучает превращение единственной оплодотворенной яйцеклетки в эмбрион, а генетика развития исследует задействованные в этом процессе гены. Мы обычно обсуждаем речевой аппарат взрослых людей, но вряд ли нужно говорить, что дети родятся неразвитыми, и это важно учитывать при изучении речевой функции. Язык как анатомическая структура — это крупная мышца со множеством функций, а не просто часть ротовой полости, снабженная вкусовыми сосочками. Корень языка находится глубоко в гортани и является средоточием большого количества нервов, контролирующих движения и ощущения. Язык новорожденного ребенка почти полностью располагается во рту, так что проходящий через гортань поток воздуха направляется в нос, и младенец может дышать носом, пока сосет молоко. По мере взросления ребенка язык начинает опускаться в гортань, и появляется возможность произносить гласные звуки, такие как «и» и «у».
У нас в глотке есть очень важная косточка в форме подковы, которая называется подъязычной костью. Она расположена под подбородком, так что концы подковы обращены назад, и движется вверх и вниз при глотании. Это очень сложная косточка, о чем можно судить на том основании, что она связана с 12 разными мышцами. У птиц, млекопитающих и рептилий разные варианты подъязычной кости, но наша устроена сложнее других, что отражает сложность анатомической структуры, необходимой для произнесения широкого диапазона звуков, дающихся нам так легко, а также для тонкой настройки мышц лица и гортани. Похоже, что у неандертальцев была такая же сложная подъязычная кость, по крайней мере об этом свидетельствует один образец, обнаруженный в пещере Кебара в Израиле. Общее анатомическое строение неандертальцев отличалось от нашего — не очень сильно, но достаточно, чтобы предполагать, что их подъязычная кость могла выполнять не совсем такую же функцию, как у нас. Но это не мешает думать, что неандертальцы могли разговаривать: их генетическое, неврологическое и анатомическое строение было похоже на наше. Но пока это все, что нам известно.
Ген FOXP2 сыграл важную роль как в эволюции человека, так и в эволюции науки. Он был одним из первых охарактеризованных генов, связанных с конкретным неврологическим дефектом, и поэтому на вполне законном основании отнесен к группе генов, которые в большей степени, чем остальные, определяют природу человека. Его восторженно стали называть «геном речи» и даже причиной формирования современного человека. Мы чуть позже поговорим о значении речи для нашего поведения, но сейчас необходимо подчеркнуть, что связь генетики с анатомией и поведением чрезвычайно сложна и пока малоизучена. Мы видим, что ген FOXP2 играет важную роль, но он активен во множестве клеток мозга и, следовательно, оказывает влияние и на другие биологические функции. У представителей семьи KE были и другие проблемы, кроме дефектов речи. Они плохо справлялись с лексическими задачами, такими как разграничение между реальными словами и бессмысленными сочетаниями букв, подчиняющимися общим правилам английского языка. А это уже психолингвистический дефект, что вновь указывает на сложное взаимодействие между моторными и когнитивными функциями.
Самая сложная подъязычная кость
Крупнейший лингвист XX в. Ноам Хомский в романтических красках описал этот скачок — искру, от которой в нас разгорелось пламя языка, тогда как все другие существа могли только хрюкать и жестикулировать. Его временна́я шкала охватывает тысячи поколений, но она подразумевает линейное развитие событий, вызванное единственным триггером.
Эволюция происходит иначе. Современная генетика показывает, что люди перемещались гораздо активнее, чем мы думали раньше, и скрещивались между собой как в Африке, так и за ее пределами, что противоречит идее линейности нашей эволюции. Кроме того, речь — комплексная способность. Физическая возможность говорить, подкрепляемая соответствующим атомическим строением и его нервной регуляцией, неотделима от нервной регуляции речи. Человек — сложная система из множества связанных между собой мелких деталей и шестеренок. Необходимо понять, как развивается мозг и что делают гены в этом процессе. Нервные ткани имеют узкую специализацию и содержат сотни типов клеток, обладающих собственной генетической идентичностью. Клетки разрастаются в нервную ткань и на этом пути перемещаются и обзаводятся аксонами и дендритами, а также синапсами, связывающими их с соседними клетками или с клетками, расположенными на расстоянии нескольких миллиметров или сантиметров (а для нейрона это дальний путь). После вашего рождения ваш мозг на протяжении многих лет, до начала полового созревания, находился в процессе синаптического пруннинга (синаптической обрезки), при этом связи между нейронами были сокращены или усилены, чтобы увеличить эффективность мышления и обучения. Эти процессы контролируются генами при их взаимодействии с внешними сигналами. Важно, что вовлеченные в этот сложный процесс гены с большой вероятностью влияют на развитие многих тканей и таких генов десятки, если не сотни.
Речь — это воспринимаемый на слух результат десятков сложных взаимосвязанных биологических процессов. Ген FOXP2 важен, но не он один. Подъязычная кость с тонкой архитектурой необходима, но недостаточна. Неврологическая база, включающая в себя тонкую настройку движений мышечных волокон гортани, языка, челюстей и рта, а также психологические основы восприятия, абстрактного мышления и описательной способности совершенно необходимы, но их тоже недостаточно. Кроме того, когда мы говорим, мы заставляем перемещаться частицы воздуха, которые воздействуют на наши барабанные перепонки и запускают не менее сложный процесс слухового восприятия. Не будь ушей или воздуха, не было бы речи. Гены — это матрица, мозг — структурная основа, а внешняя среда — канва. Мы разделяем эти составляющие для анализа общей картины, но не стоит думать, что они возникли одновременно.
Более эффективный способ выяснить происхождение речи, да и вообще любых эмерджентных признаков человека, состоит в моделировании отбора и генетического дрейфа, а также в изучении изменяющегося взаимодействия между культурой и генами; например, мутация FOXP2 создала условия для начала развития речи. Мы не знаем, были ли такие же условия у неандертальцев. У нас есть основания предполагать, что были, учитывая сходство их материальной культуры с нашей, их морфологию и наличие такой же, как у нас, версии гена FOXP2, отличающейся от версии шимпанзе. Я подозреваю, что неандертальцы разговаривали, но для прояснения этого вопроса нужен очень тонкий эксперимент, который я пока не в состоянии предложить.
Говорим сейчас
Трудности в изучении происхождения речи связаны с тем, что речь не сохраняется в окаменелостях.
Биология речи достаточно сложна, но, как мы видели, речь обеспечивается не только физической возможностью. Сложные способы коммуникации играют очень важную роль в так называемой поведенческой современности, описывающей то, какие мы есть сегодня, по сравнению с тем, какими были до того и как стали такими, как сейчас. Мы скоро подойдем к этому вопросу.
Наша речь биологически запрограммирована. У нас есть неврологические, генетические и анатомические основы для развития речи. У нас есть врожденная способность обучаться речи, копируя звуки, издаваемые окружающими людьми. Некоторые птицы тоже обладают этой способностью: они обучаются любовным песням у других птиц. У каждого вида птиц есть небольшой набор песен, так что при некоторой тренировке можно научиться идентифицировать виды птиц по издаваемым ими звукам, хотя существуют и местные диалекты (такая же ситуация наблюдается у китов). Напротив, современные люди говорят более чем на 6000 языков, которые постоянно эволюционируют (а многие постепенно исчезают), и каждый из нас знает и может употреблять несколько десятков тысяч слов. Мы также обучаемся у окружающих людей синтаксису и грамматике, поскольку наш мозг имеет специфическую программу обучения языку. Все, у кого есть дети, знают, какие смешные грамматические ошибки они допускают по той причине, что, не получив конкретных инструкций, во всех случаях применяют общие правила. Моя четырехлетняя дочь использует слово «swimmed» как форму прошедшего времени от глагола «swim», поскольку ее мозг усвоил, что в прошедшем времени к глаголам обычно добавляют окончание «ed».[66] Нам приходится заучивать исключения из правил, но у нас есть врожденная способность применять грамматические правила к новым словам. Это фантастически мощная мозговая программа.
Кроме того, смысл слов со временем изменяется. К нашему лексикону для его расширения (embiggen) постоянно добавляются «кромулентные»[67] слова, смысл которых заключается в дополнительном уточнении или создании хитроумных конструкций, другие же слова сбрасываются в лингвистическую мусорную корзину. Сердитые педанты утверждают, что язык деградирует и отходит от некоей воображаемой догматической формы, и не признают, что речь и слова постоянно эволюционируют и что исходный смысл слова и его современный смысл не всегда совпадают. Лингвисты достойно (nobly) и успешно выстраивают эволюционные деревья (trees) слов и языков, что сделать гораздо труднее, чем выстроить биологическое эволюционное дерево, поскольку слова не сохраняются во времени, как кости в камнях. Тем не менее мы можем установить исторические связи между языками и построить соответствующие эволюционные деревья. Они могут иметь широкий охват: гипотетический праиндоевропейский язык дал (gave) начало европейской ветви, объединяющей славянские, германские и романские языки, а также индоиранской ветви, от которой произошли иранский и анатолийские языки и еще сотни других языков и диалектов. Деревья такого типа не учитывают связанный с перемещением людей постоянный горизонтальный обмен словами, выхваченными (looted) из других языков.
В предыдущем абзаце я использовал английские слова, заимствованные, трансформированные или адаптированные из хинди, англосаксонского языка, норвежского языка, латыни и «Симпсонов»[68]. Английский язык пережил массивное вторжение иностранных слов после победы Вильгельма Завоевателя в 1066 г. Пока Британские острова подвергались набегам викингов, бриттов постоянно накрывал поток слов из старонорвежского языка, а римляне принесли с собой латынь. Так что наш невероятно богатый язык — это сборная солянка, соответствующая нашей генетической и культурной истории. По мере того как генетики продвигаются в изучении миграции древних народов, мы обнаруживаем удивительные связи между тем, кем мы являемся и что мы говорим. По-видимому, аборигены островов Вануату примерно в 400-х гг. до н. э. были полностью вытеснены другой популяцией с архипелага Бисмарка, но передали ей свой язык. В этом редком примере культурная трансмиссия языка никак не связана с генами.
Символы в словах
Все слова и значения, которые хранятся в вашем мозге или которые вам только предстоит выучить, не просто собраны в одну справочную таблицу, чтобы воспользоваться ею при необходимости. Вы понимаете смысл слов. Если вы смотрите на нос, вы сознаете, что это нос, поскольку по опыту знаете, как выглядят носы. Когда вы читаете слово «нос», вы не видите носа, но все равно понимаете, что я имею в виду. Кроме того, я могу ввести дополнительные слова и определения, чтобы усилить свою мысль. Если вы представляете себе огромный красный нос, вы связываете три независимые концепции (цвета, размера и предмета) и воспринимаете их не только в качестве символического описания воображаемого предмета, но и как абстракцию, которая не связана с реальным предметом, но которую вы в состоянии понять. Пластичность символизма очень сложна и тонка.
За исключением случая ономатопеи (звукоподражания), лингвисты обычно полагают, что символы слов выбираются произвольным образом. Звучание слова buzz[69] соответствует его смыслу, однако слова deux, zwei, ni, tse pedi, rua, nunpa и tsevey[70] обозначают количественное числительное больше одного и меньше трех, но нет никакой причины, почему эти слова обозначают одно и то же.
Вспомните кита, непонятно как возникшего над планетой Магратея в книге «Автостопом по галактике». Удивленный собственным появлением, он начинает обдумывать смысл слов, как он их чувствует:
«Ух, ты! Оба-на! Что это движется ко мне так быстро? Очень, очень быстро. Такое большое и плоское! Ему нужно очень красивое и звучное имя, например… ля… мля… земля! Точно! Хорошее название. Интересно, мы с ней подружимся?»
Бедный старый кит. Парадоксальным образом, он использовал широкий диапазон слов, выбирая новое слово для обозначения планеты, принесшей ему смерть. Идея в том, что в слове «земля» исходно заложен физический смысл.[71] Проведенное в 2016 г. исследование показало, что некоторые слова могут иметь необъяснимое, но универсальное происхождение. Лингвисты проанализировали сотню слов из так называемого базового лексикона из 62 % мировых языков. В числе этих слов были глаголы движения, существительные для обозначения частей тела и природных явлений, например, «ты» и «я», «плавать» и «ходить», «нос» и «кровь», «гора» и «облако». Анализ был вероятностным, что означает, что исследователи с помощью статистических методов пытались установить, не встречаются ли в этих словах в разных языках одни и те же звуки чаще, чем в результате случайного совпадения. Английское слово «red» используется для описания зрительно воспринимаемого электромагнитного излучения с длиной волны от 620 до 750 нм. В других европейских языках, возникших примерно в то же самое время, в словах для обозначения красного цвета тоже содержится звук «р»: rouge, rosso, røt. Более того, этот звук также с большей частотой, чем просто в результате случайности, является важной составляющей слова «красный» в языках, не относящихся к индоевропейской группе. Слово, используемое для обозначения выступающей части лица с двумя дырочками, предназначенной для дыхания и определения запахов, во многих языках мира содержит носовой звук или звук «н».
Это не обязательно означает, что слова с похожим звучанием имеют общее происхождение, но это может говорить о том, что неврологическая основа нашей речи определяет некую основополагающую грамматику, в результате чего некоторые слова содержат характерные звуки. Возможно, наш мозг тихонько подталкивает нас к выбору звуков, которые каким-то образом соотносятся с предметами, описываемыми этими словами.
Впрочем, такой эффект в неродственных языках просматривается очень слабо, и для его выявления необходим углубленный анализ. В словах не обязательно заложен какой-то символизм. Возможно, слова, используемые в разных языках для обозначения носа, действительно содержат носовые звуки, но выбор слов nez, Nase, hana, nko, ihu, pȟasú и noz — только результат договоренности.
Таким образом, любой язык основан на способности связывать одно понятие с другим. С помощью десятков тысяч слов, которыми вы владеете, вы можете создавать упорядоченные синтаксические конструкции с определенным смыслом, и вы делаете это каждый раз, когда говорите, а не выдаете белиберду. Разве это не умно? Я употребил слово «белиберда» как раз с целью использовать редкое слово, но, даже не зная его смысла, из общего контекста вы совершенно точно можете понять, что оно означает.
Слово — символическая смысловая единица речи, описывающая предмет, действие или эмоцию. Слушая болтовню попугая, мы не думаем, что издаваемые им звуки что-то символизируют. Это просто копирование. Кроме того, мы общаемся невербальным способом, с помощью символики жестов: жест не обязательно имитирует действие, которое за ним последует. Некоторые наши жесты демонстративны и указывают на необходимость действия, например подзывающий жест рукой, означающий «иди сюда». Другие, совершенно очевидно, имеют иной смысл, и их значение определено культурой. Поднятая рука с направленной наружу ладонью во многих культурах означает либо «стоп», либо «привет». Именно этот жест демонстрирует голый мужчина на пластинках из золота и алюминия, размещенных на борту межпланетных космических станций «Пионер-10» и «Пионер-11» на тот случай, если, пересекая Млечный Путь, они встретятся с внеземной жизнью. Мне всегда это казалось немного странным, поскольку для обладающего руками инопланетянина, незнакомого с нашими земными договоренностями, этот жест может означать «сейчас как врежу тебе ладонью по лицу» или даже «пожалуйста, изнасилуй меня, а потом истреби мой вид».
Такие мысли зарождаются при изучении невербального символического общения между шимпанзе и бонобо. Захват верхней части передней лапы у бонобо может означать «залезай на меня», а у шимпанзе, особенно молодых, «перестань делать то, что ты сейчас делаешь». Интенсивное почесывание верхней части предплечья может означать «начинай груминг» у бонобо или «пошли со мной» у шимпанзе. Поднятая лапа может означать «я залезаю на тебя» для бонобо, но «возьми вот эту вещь» для шимпанзе.
Обычно большинство жестов бонобо означают призыв к совокуплению или GG-трению; наиболее очевидный жест — демонстрация гениталий с широко раскинутыми задними лапами, что, кажется, в буквальном смысле означает: «интересует?» Остается надеяться, что инопланетяне, которые обнаружат «Пионеров», не столь похотливы, как бонобо. Шимпанзе не в такой степени сексуально озабочены, однако и при их относительном целомудрии раскачивание веток или прикосновение к плечу другой особи для обоих видов рода Pan может означать призыв к совокуплению. Можно с полным основанием утверждать, что жесты символичны и им обучаются, причем не только потому, что жест не обязательно напоминает то действие, которое подразумевает (хотя демонстрация гениталий имеет вполне очевидный смысл), но поскольку для разных видов они обозначают разные вещи.
Мы знаем, что другие млекопитающие способны обучаться звуковым символам. Луговые собачки и верветки при виде хищников издают специфические сигналы тревоги и реагируют на них соответствующим образом. У мартышек глухое ворчание указывает на подлетающего орла, и, услышав этот звук, они оглядываются и прячутся под деревьями. Шумное дыхание указывает на приближение леопарда, и мартышки немедленно взбираются на самые высокие ветки, способные выдержать их вес, но не вес леопарда. Пронзительный визг предупреждает о змее, и правильная реакция заключается в том, чтобы замереть на задних лапах и внимательно смотреть на землю.
Но звуковыми символами пользуются не только приматы. Сверчки и тысячи других животных издают стрекочущие звуки путем сильного трения разных частей тела, предупреждая о своей сексуальной доступности. Эти звуки не просто означают «я здесь и готов», многие насекомые используют разные звуковые тона для мечения территории, предупреждения об опасности или выражения готовности к сексу. И раз уж мы заговорили о насекомых, знаменитый виляющий танец медоносных пчел — не что иное, как беззвучный символический жест, указывающий направление к источнику воды или сладкого нектара и расстояние до него.
Нас уже не удивляет, что животные общаются между собой. Изучение коммуникации между ними показало, что способность передавать информацию с помощью сигналов или символических жестов широко распространена. Но существующие на сегодняшний день данные показывают, что способности других животных несопоставимы с нашими, по меньшей мере, по количеству смысловых единиц в словаре. Впрочем, как я уже неоднократно упоминал, мы наблюдаем лишь малую долю происходящих в природе событий, и нам следует смиренно принимать тот факт, что многое нами еще не открыто. С середины 1980-х гг. нам известно об испускаемых слонами ультразвуковых сигналах, с помощью которых они общаются с другими слонами на недоступных нашему слуху частотах: преимущество таких сигналов заключается в том, что они передаются на многие мили почти без искажений. Мы начинаем понимать, как дельфины и некоторые киты превращают вибрацию воздуха в передающиеся по воде сигналы; эти животные имеют некоторое сходство с нами по строению гортани, но мы пока не знаем, как это устроено у других китоообразных, например из семейства гладких китов.
В неволе многие человекообразные обезьяны обучаются словам или жестам у работающих с ними ученых. Некоторые знаменитости, такие как бонобо Канзи, родившийся в Университете штата Джорджия в 1980 г., или горилла Коко, которая родилась в зоопарке Сан-Франциско в 1971 г. (и умерла в июне 2018 г.), усвоили сотни слов простейшего лексикона. Было ли это просто механическим воспроизведением, или они понимали смысл слов, нам по-прежнему точно не известно. Собака начинает волноваться, когда слышит слова «гулять» или «парк», хотя не знает, что речь идет о посещении приятного зеленого пространства для отдыха, просто в результате многократного повторения эти слова ассоциируются у нее с веселой прогулкой. Мы с женой называли мороженое французским словом glace, чтобы не возбуждать детей. Но, как собаки, даже без знания французского, дети вскоре начали понимать, что за произнесением этого слова в парке часто появляется мороженое.
Упомянутые выше человекообразные обезьяны, жившие в неволе, имели значительный словарный запас, порядка сотен слов, что соответствует словарному запасу трехлетнего ребенка. Однако человекообразные обезьяны, в отличие от человека, не имеют никакого представления о грамматике или умении строить предложение, тогда как трехлетние дети обычно легко составляют предложение из четырех слов: «Я правда хочу мороженое». Никакие другие приматы не могут структурировать общение или использовать временные конструкции. То, на что способны дети, сильно отличается от того, на что способны обезьяны. Гены, мозг, анатомия и окружение обеспечивают канву, по которой дети обучаются сложным, абстрактным и символическим словам, грамматике, синтаксису и другим законам языка, причем делают это без усилий.
Вербальные или, по крайней мере, звуковые символы, а также жесты используются не только людьми. Но, как и в случае других примеров из этой книги, следует избегать вывода, что сходство поведения человека с поведением животных объясняется общностью эволюционного происхождения. Изучение гена FOXP2 у нас и у других издающих звуки животных показывает, что генетика, нейробиология и анатомия, позволяющие нам издавать звуки ртом, совершенно очевидно, имели прецеденты в эволюционном прошлом — от птиц до обезьян и дельфинов (насекомые отличаются от нас, поскольку издают звуки конечностями и другими частями тела). По-видимому, некоторые виды животных вкладывают смысл в эти символы (звуки и жесты), однако мы намного опережаем всех по диапазону и сложности наших возможностей.
Нам нужно говорить, нужно описывать разные вещи, нужно уметь абстрагироваться, а также предсказывать события и обмениваться информацией, передавать наши мысли и мысли других людей. Возможно, в дикой природе, за пределами нашего вмешательства, гориллы общаются между собой гораздо более сложным образом посредством пока не известного нам механизма. Их общение развивалось в соответствии с их эволюцией, а вовсе не как эволюционная и неврологическая модель для понимания того, что и почему делаем мы. На сегодняшний день мы не знаем других живых существ, пользующихся речью.
Хотя, возможно, неандертальцы тоже разговаривали. Может быть, когда-нибудь мы узнаем, что разговаривали и денисовцы, если сможем разыскать какие-то другие их бренные останки.
Символы за пределами слов
Мы разговариваем, и для этого у нас есть все необходимое оборудование и программное обеспечение. Не было никакого «переключателя», повернув который мы стали такими, какие мы есть, отличными от всех других гоминид. Ученые полагают, что наша речевая функция полностью сформировалась примерно 70 000 лет назад, поскольку именно тогда появилась африканская диаспора, и все разбредшиеся по миру популяции уже обладали сложной речью. Если мы правы и неандертальцы и денисовцы тоже обладали сложной речью, следует рассмотреть одну из двух возможностей: либо речь существовала до того, как эти три вида людей разошлись от общего предка примерно 600 000 лет назад, либо физическая способность к сложной речи была у них и у нас, а говорить мы начали независимо.
Каким бы путем у человека ни возникли язык и речь, это был постепенный, а не революционный процесс: все необходимые, но недостаточные элементы приобретались случайным образом и подвергались отбору. Но мы пока не можем сказать, насколько долгим он был. Отделение нашей ветви от ветви других гоминид произошло шесть или семь миллионов лет назад. Мы знаем, что речь появилась позже. Наш мозг значительно увеличился в размере примерно 2,4 миллиона лет назад и продолжал расти, и речь, совершенно точно, появилась после этого, поскольку мозга небольшого размера, по-видимому, не хватало для возникновения полностью функциональной речи и языка. Вид Homo sapiens появился примерно 300 000 лет назад, если судить по образцам из Марокко и Восточной Африки, а 100 000 лет назад строение человеческого тела практически не отличалось от современного.
40 000 лет назад мы уже овладели изобразительным искусством. Это гигантский шаг вперед в освоении символизма. К тому времени люди в разных уголках планеты начинали демонстрировать так называемый полный набор способностей, характеризующий поведение современного человека. В южной части острова Сулавеси (Индонезия) есть пещеры, где люди жили на протяжении нескольких тысячелетий. В одной из них, в восьми шагах от входа, находится стена с полутораметровым панно с доисторическими рисунками. Здесь видны изображения 12 ладоней (точнее, их контуры): красная охра, продутая через трубочку, обводит руку давным-давно умершего человека. Рядом изображение толстой свиньи и «свинооленя» бабируссы. Эти рисунки сделаны примерно 35 000 лет назад, а возраст самого старого отпечатка руки составляет 39 000 лет.
В Европе примерно в это же время люди создавали произведения искусства такого же плана. На юге Франции обнаружено множество пещер с невероятно красивыми рисунками, выполненными с удивительным мастерством; они создавались с того самого времени вплоть до современной эпохи. Наверное, наиболее известна пещера Ласко в коммуне Монтиньяк. Там находится галерея рисунков эпохи плейстоцена (гораздо более позднего периода, около 17 000 лет назад), содержащая свыше 6000 изображений: сцены охоты с лошадьми, бизонами, дикими кошками, вымершим гигантским оленем Megaloceros giganteus и абстрактные символы, смысл которых остается неизвестным. Люди рисовали углем и гематитом, нанося их на стены в виде суспензии с глиной или животными жирами. От этого зрелища захватывает дух.
К западу от Ласко находится пещера Шове с самыми старыми в Европе наскальными рисунками, опять же, изображающими животных и сцены охоты: пещерные львы, гиены, медведи, пантеры. Невероятно! Результаты последних исследований, выполненных в 2016 г., говорят о том, что самые старые рисунки сделаны 37 000 лет назад.
А еще есть Löwenmensch — человек-лев из пещеры Штадель. Среди холмов между Нюрнбергом и Мюнхеном в Баварии находятся пещеры, в которых обнаружено одно из величайших когда-либо созданных произведений, выполненное руками неизвестного мастера. Примерно 40 000 лет назад где-то здесь в пещере или рядом с ней, среди обломков костей, сидел человек — женщина или мужчина. Этот человек взял кусок слоновой кости (бивень шерстистого мамонта) и понял, что это неплохой материал, подходящий по форме и размеру для того, чтобы воплотить его идею. Ныне вымершие пещерные львы в то время были страшными хищниками, которые угрожали людям, но люди на них охотились и ели. Тот человек думал о львах, о том, какие это замечательные животные, и, возможно, о том, каково иметь силу льва в человеческом теле. Возможно, люди этого племени почитали львов из-за благоговейного страха. Но какой бы ни была мотивация мастера, он взял бивень мамонта, каменный нож и старательно вырезал из бивня мифическое существо.
Это химера — фантастическое существо, состоящее из частей разных животных. Химеры существовали в разных человеческих культурах на протяжении большей части истории: от русалок, фавнов или кентавров до победоносного бога-обезьяны Ханумана, японской женщины-змеи Нурэ-онны или немыслимого злобного баварского вольпентингера — одновременно белки, утки и зайца с рогами и зубами вампира. Сегодня наш 40 000-летний интерес к гибридным существам достиг апогея в генно-инженерном проявлении: мы переносим элементы одного животного на другое и, например, получаем кошек, светящихся в темноте благодаря генам глубоководной медузы Aquorea victoria, или коз, в молоке которых содержится белок шелковой паутины пауков-кругопрядов.
Человек-лев из пещеры Штадель
Так вот, Löwenmensch — самая древняя известная нам химера. Это удивительное изделие высотой около 12 дюймов, изображающее человека с головой льва, представляет собой важный элемент для понимания нашей эволюции. Оно демонстрирует глубокие навыки своего создателя, великолепный контроль двигательной функции, умение выбирать подходящий материал и планировать воплощение своей идеи, а также понимание природы и осознание роли животных в той экосистеме, с которой была связана жизнь людей. Важно, что здесь мы видим желание вообразить вещи, которых не существует в реальности.
Фигурка изображает мужчину, что видно по гениталиям, с семью полосами на левом предплечье, напоминающими татуировку. Ее нашли глубоко в пещере Штадель в 1939 г., в маленьком хранилище, где были обнаружены и другие предметы: резные рога, подвески и бусы. Очевидно, это были ценные предметы, возможно, обладавшие церемониальным значением. Неподалеку, в пещере Вогельхерд, были найдены фигурки мамонта и дикой лошади и искусно вырезанная голова пещерного льва. Возможно, пещерные львы в то время были предметом церемониального культа, и отметки на предплечье означали что-то важное для этого мифического существа. Возможно.
В нескольких милях к востоку был найден старейший предмет другого рода — речь идет о Венере из Холе-Фельс (см. иллюстрацию на с. 16). Нам известно много примеров доисторических скульптур, изображающих женские тела. Обобщенно их называют «Венерами» после обнаружения первой такой фигурки в 1860-х гг. в департаменте Дордонь. Нашедший ее Поль Уро, восьмой маркиз де Вибре, обращая внимание на глубокий надрез, обозначавший вульву, назвал ее Vénus Impudique — «Венера распутная». Венера из Холе-Фельс — самая древняя из этих фигурок, вероятно, ее возраст достигает 40 000 лет. Это первое известное нам изображение человеческого тела.
Эта Венера — тоже абстракция. Очевидно, что скульптура изображает человеческое тело, но сильно видоизмененное, с нереалистичными чертами. Груди огромные, а голова малюсенькая. Широченный таз и припухшая вульва. Гипертрофированные половые признаки характерны и для некоторых других палеолитических Венер, что наводит на мысль, что это амулеты плодовитости, или даже богини плодовитости. Впрочем, некоторые предполагают, что это порнографические изделия. Хотя у нас нет недостатка в сексуальных женских изображениях, мы не знаем, что двигало скульптором, создававшим древнюю Венеру. Сходство между несколькими известными фигурками Венер действительно указывает на сексуальный аспект, и предположение о том, что они были амулетами плодовитости, не более и не менее спекулятивно, чем то, что они — просто предмет фантазии палеолитического скульптора. Мы не знаем, почему у этих статуэток часто маленькие головы: возможно, это перспектива, поскольку никто на самом деле не видит собственную голову, так что самому человеку она кажется маленькой, а груди при взгляде вниз кажутся непропорционально большими. Однако такое предположение не учитывает, что автор видел головы и тела других людей. Возможно, это был художественный прием. Если через миллион лет кто-то найдет вырванный из контекста портрет работы Френсиса Бэкона или гобелен из Байё,[72] он тоже может задуматься, что было в голове у авторов. Мы никогда не узнаем, о чем думали палеолитические скульпторы. Зато нам известно, что мышление у них было такое же, как у нас.
Кроме того, на территории Германии обнаружены духовые инструменты типа флейты, относящиеся к тому же периоду: это полые трубочки с отверстиями для пальцев, вырезанные из костей лебедей, мамонтов или грифов. Вполне вероятно, что до этого уже существовали перкуссионные инструменты, поскольку воспроизведение ритмичных ударов не требует такого же воображения, как изготовление многотональных свистков с отверстиями для пальцев (приношу мои извинения всем барабанщикам мира).
По поводу точного датирования этих событий существуют некоторые разногласия. Методы датирования камней и изделий из камня не всегда дают одинаковые результаты, причем разброс может составлять несколько тысячелетий. Но для описания общей схемы эволюции человека точные даты не так уж важны. Примерно 40 000 лет назад уже существовало фигуративное искусство во множестве форм, являющееся очевидным доказательством наличия воображения, абстрактного мышления, музыкальных и моторных навыков у его создателей. Человеческое существо каким-то образом изменилось.
Географическое распространение этих изменений имеет большое значение, и не только само по себе, но и по той причине, что расстояние от Индонезии до Европы очень велико. Произведения искусства, обнаруженные в пещерах Европы и Индонезии, были сделаны приблизительно в одно и то же время, и это означает одно из двух: либо умением создавать такие вещи обладали общие предки индонезийских и европейских художников, жившие еще на десятки тысяч лет раньше, либо индонезийцы и европейцы начали рисовать независимо друг от друга. Из-за малого количества художественных артефактов, сохранившихся в геологических отложениях, более аккуратным представляется второе объяснение. Чтобы подтвердить идею общности происхождения художественных навыков, нужно найти еще более древние произведения искусства на всем географическом пространстве от Европы до Индонезии.
Описанные выше артефакты несут отчетливый отпечаток современного поведения. Эти художники уже обладали «полным набором» способностей. У них была богатая культура и уважение к окружающему миру, что подразумевает эмоциональное восприятие своего места в природе и в собственном племени. Они задумывались о сексуальных отношениях и воображали нереальных существ, которые что-то сообщали им об их собственном существовании. Такое поведение распространилось по миру за десять или двадцать тысяч лет, но не обязательно всюду имело одни и те же корни. Доказательства появления «полного набора» способностей в последующие тысячелетия найдены в Сибири, Северо-Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Австралии, но не следует думать, что люди приобрели эти навыки от общих предков — они могли возникнуть независимо там, где жили эти люди. Но эти умения появились повсеместно, и у тех первых творцов уже была музыка, изобразительное искусство и мода. Они были нами.
До 2018 г. предполагалось, что мы — единственные такие же, как они. На Кантабрийском побережье на севере Испании существует множество пещер, и в глубине одной из них, называемой Эль-Кастильо, найдены крупные каменные квадраты, похожие на восемнадцатидюймовые рамки, окрашенные в черный и красный цвета. В одной рамке видны очертания задних ног какого-то животного, предположительно быка, но точно сказать невозможно. В другой — изображение головы животного, опять-таки то ли бизона, то ли лошади. Здесь также начерчены линии, геометрические формы и нарисована непонятная фигура, отдаленно напоминающая человеческую, — странная реминисценция к силуэту Дон Кихота на рисунке Пикассо, сделанном в 1955 г.
В начале 2018 г. наскальные рисунки из этой и двух других испанских пещер датировали, и во всех случаях возраст произведений был оценен в 64 000 лет. Но единственный представитель человеческого рода, живший в это время в Европе, не принадлежал к виду Homo sapiens. Это был Homo neanderthalensis. В результате межвидового скрещивания неандертальцы стали предками современных европейцев — в малой степени, но в большинстве случаев. Они пришли в Европу первыми, за сотни тысяч лет до того, как наши непосредственные предки начали покидать пределы Африки. Неандертальцы думали об охоте и изображали дичь на стенах пещер еще за 20 000 лет до того, как кроманьонцы вторглись на их территорию.
Самые ранние примеры фигуративного искусства — дело не наших рук, а рук наших родственников. Нам известно, что у неандертальцев была культура, а ранее мы уже обсудили их речевые способности. Пещеры под Гибралтарской скалой — богатый источник материала о жизни неандертальцев, из которого мы узнали об их культуре и питании, а также о некоем варианте изобразительного искусства. На стенах пещеры Горама обнаружена серия царапин, напоминающих гигантскую игру в крестики-нолики. Эти царапины выполнены очень старательно, одна из них образовалась в результате как минимум 50 ударов, нанесенных примерно 40 000 лет назад. Ученые, изучавшие удивительные пещеры Гибралтара, попытались воспроизвести эти действия и понять, не являются ли они побочным результатом разделки мяса или шкур. Нет, эти линии прочерчены намеренно и без какой-либо очевидной цели.
Можно еще немного отодвинуться назад во времени. Нам известно несколько ярких примеров современного поведения, проявлявшегося за десятки тысяч лет до того, как неандертальцы покинули этот мир и мы остались последними из людей. Насколько нам известно, неандертальцы никогда не бывали в Африке. Возвышающаяся над водами Индийского океана пещера Бломбос в Южной Африке является важным источником материала о современном поведении людей, живших более 70 000 лет назад: об изготовлении костяных орудий, специализированных методах охоты, использовании источников воды, торговле с отдаленными племенами, создании украшений из бусин и раковин, применении пигментов, а также о декоративном искусстве, в частности о крестообразных геометрических рисунках, тщательно выполненных охровой глиной. Неподалеку, в пещерах в районе Пиннакл-Пойнт, обнаружены тончайшие кварцитовые резцы и красно-охряные пигменты, предназначенные неизвестно для чего. Возраст этих древнейших находок составляет порядка 165 000 лет. Но можно двигаться и еще дальше в прошлое: в местечке Триниль на острове Ява обнаружены окаменевшие раковины пресноводных моллюсков с прочерченными с двух сторон остроугольными бороздками-каракулями. Возраст этих находок точно определить не удается, но он составляет от 380 000 до 640 000 лет. То есть они старше, чем любые другие артефакты, созданные преднамеренно и не имеющие утилитарного назначения. Единственными людьми, жившими в то время на Яве, были представители Homo erectus — наши эволюционные родичи из глубочайшего прошлого.
Нам известно множество примеров современного поведения и навыков, относящихся к гораздо более давним временам, чем период так называемой когнитивной революции, произошедшей около 45 000 лет назад. Но в контексте археологических данных это отдельные всплески, а не перманентное состояние. Перманентной материальная культура становится примерно 40 000 лет назад — плюс-минус несколько тысячелетий. К этому времени неандертальцы уже исчезли. И 20 000 лет назад у нас все уже было: изобразительное искусство, ювелирные изделия, инструменты для нанесения татуировки, оружие, включая копья, бумеранги и зазубренные гарпуны. И все это распространилось по всему миру.
Если бы ты только мог увидеть то, что я видел твоими глазами
Для искусства, ремесла и культуры нужен сложный разум. Нужен язык, позволяющий обсуждать абстрактные вещи с родственниками и в широком социальном кругу. Мы не знаем, в каком порядке мы приобретали необходимые способности, и вряд ли стоит рассуждать об этой эволюции как о поступательном процессе. Изменения происходили медленно, постепенно, едва заметно, но в какой-то момент были собраны все составляющие нашего теперешнего существа.
Прогресс в освоении речи можно сравнить с тем, как учится говорить ребенок, но, в отличие от эволюционного процесса, ребенок развивается в уже сформировавшихся условиях. Тем не менее, сначала вы называете предмет (пещерный лев), а затем описываете совершаемое им действие (приближается пещерный лев). Далее вы можете вводить уточняющие детали и другую полезную информацию (приближаются два крупных пещерных льва). В обществе такой обмен информацией играет важнейшую роль, как крики обезьян-верветок, предупреждающих о появлении орла. Вы осознаете происходящее, и вам полезно знать, что кто-то другой тоже это осознает (ты в курсе, что приближаются два крупных пещерных льва?), так как он может добавить полезные детали, которые помогут вам сберечь ценные ресурсы (два приближающихся крупных пещерных льва сыты, поскольку только что съели Стива).
Понимание мыслительного процесса других людей играет ключевую роль в нашем когнитивном развитии, и речь для этого тоже очень важна, поскольку обеспечивает обмен сложной информацией между индивидуумами и группами индивидуумов. Новорожденные дети почти сразу обучаются распознавать лица, в первую очередь матери и отца. Для маленьких детей зрительный контакт — совершенно естественная вещь. Мы можем проследить за тем, как долго они задерживают взгляд на каком-то предмете или человеке, и на этом основании заключить, что их больше всего интересует. Дети предпочитают смотреть в глаза и за несколько месяцев после рождения учатся распознавать на лицах других людей разные эмоции: радость, злость, грусть, страх, отвращение. Мимикой и голосом они передают собственное эмоциональное состояние и в какой-то момент перестают объединять боль, голод и усталость в общую категорию «неправильных ощущений» и начинают выражать полную гамму человеческих эмоций. Овцы очень хорошо умеют распознавать людей. В 2017 г. были проделаны эксперименты[73], показавшие, что овец можно приучить распознавать лица (включая лицо Барака Обамы), впрочем, овцеводы знают об этом давно. Мы уже обсуждали, что чрезвычайно умные каледонские вороны могут улавливать на лице человека угрозу или расположение и запоминать эту информацию на долгие годы. Как знает каждый владелец собаки, эти животные хорошо понимают эмоциональное состояние хозяина, а в экспериментах было показано, что выражение их морды меняется, если они замечают, что на них смотрит человек.
Способность оценить эмоциональное состояние другого существа — это чтение мыслей. Вы пытаетесь понять, чего хочет другой разум или в чем он нуждается. Сделать это без использования слов сложно. Кроме того, коммуникация без слов сводится к обсуждению настоящего, но люди функционируют иначе. Конечно, животные думают о будущем и помнят прошлое. Они заботятся о репродукции, вскармливании потомства и его выживании. Птицы и другие животные, например белки, задумываются о будущем, запасая пищу на потом, а затем вспоминают, где спрятали орехи. Лососи возвращаются точно к месту рождения, хотя большую часть жизни проводят в океане.
Но их память отличается от нашей. Мы обладаем несравненной способностью мысленно перемещаться во времени. Мы думаем о прошлом — и не просто формально или в заученном виде. Только что я подумал о Стиве — человеке, жившем 40 000 лет назад. Мне нетрудно представить себе ход его мыслей, когда он встретился с пещерным львом, ставшим причиной его кончины: наш ход мысли сегодня был бы практически таким же. Я могу попытаться представить, о чем думали люди, вырезавшие статую человека-льва или грудастых Венер. Мы можем думать и о будущем. И не только о предстоящем обеде, но и планировать подготовку ко дню рождения мамы, который мы празднуем в июле, или обдумывать тему следующей книги. Мне нравится думать о том, какая музыка будет звучать на моих похоронах, и я надеюсь, что присутствующим она понравится.
Эти путешествия вперед и назад во времени позволяют нам распознавать мысли других разумных существ. Концепция сознания пока еще точно не определена, и для разных людей это понятие означает разные вещи, включая ощущение самого себя, чувствительность, способность сопереживать или что-то другое. Часто возникает вопрос, обладают ли сознанием животные, но ответ зависит от того, что вы подразумеваете под сознанием. Безусловно, животные чувствуют и реагируют на окружающую среду. Многие животные узнают самих себя и могут понимать мысли других существ одного с ними или другого вида. Есть ли у них невыразимый духовный мир? Сможем ли мы установить неврологические принципы нашего сознания и сравнить его с неврологическими принципами сознания других животных? Все это темы для новых исследований и новых книг.
Пока, даже если понятие сознания не имеет четкого определения, мы признаем наличие сознания у других людей и часто думаем, что им обладают и некоторые животные, хотя не знаем, так это или нет. На самом деле мы настолько чувствительны к сознанию других существ, что наше воображение рисует нам его повсеместно. Мы настолько зациклены на лице как отражении разума, что в воображении снабжаем личностными качествами даже таких животных, которые не попадают ни под какое определение сознательных существ: насекомых, тихоходок, крабов. Парейдолия — это психологический феномен, заключающийся в том, что люди видят лица в неодушевленных предметах: изображение Иисуса в кусочке поджаренного хлеба, человеческое лицо на поверхности Марса. Наш мозг знает, что лица важны, и поэтому узнает изображение лица даже там, где за ним не может быть разума. Мы также настолько зациклены на сознании, что обнаруживаем чью-то волю там, где ее нет. В опасной ситуации чрезвычайно важно выявить чье-то влияние и подстроить под это свое поведение. Животные могут делать это многими средствами: млекопитающих с самого рождения отпугивают химические молекулы в моче хищных лисиц или койотов, птицы боятся пугала. Мы умнее птиц, но у нас нет такого нюха, как у кролика, так что нам часто приходится полагаться на зрительные и слуховые сигналы. Обнаружение недавно изувеченного тела Стива наводит на мысль: «Это похоже на работу пещерного льва, нужно бежать!», — а не просто на констатацию факта: «Стив не очень хорошо выглядит».
Бедный старый Стив. Поскольку наш разум так тонко настраивается на поведение других людей, мы не только всюду видим лица, но и приписываем разум природным явлениям. Мы боимся скрипа половиц ночью, когда дом остывает и дерево сжимается, поскольку наш мозг инстинктивно пытается обнаружить за этими звуками чье-то вмешательство, а не обдумать термодинамику системы. Я не хочу глубоко погружаться в эту сферу, поскольку она скорее спекулятивная, чем строго научная, но меня искушает мысль, что отчасти подобные явления объясняют существование религии. Наш разум ищет проявления другого сознательного разума, а не просто действия природных сил — живых или неодушевленных. Это мощная сила, способная заставить нас поверить в привидения; она также может быть достаточно плодотворной, чтобы произвести на свет богов.
К счастью, «полный набор» способностей, которыми снабдила нас эволюция, также позволяет нам преодолевать эту когнитивную помеху и искать реальную причину событий, происходящих без очевидного вмешательства чьей-то воли. Хотя мы и создали богов, тщательно поразмыслив, мы можем их низвергнуть.
Познай самого себя
Еще одна деталь «полного набора» когнитивных способностей заключается в том, чтобы понять не только других существ, но и самого себя и признать, что вы личность, обладающая свободой воли и самоопределением.
Эксперименты с зеркалом являются стандартным приемом современной этологии. Понимаете ли вы, что отражающийся в зеркале образ — не движущаяся картинка или какое-то существо, имитирующее ваши движения, а действительно вы сами? Этот эксперимент позволяет определить способность распознать свой собственный визуальный образ. В каких-то вариантах эксперимента на лоб участников тайно наносят каплю краски и следят за тем, пытаются ли они дотронуться до этого места на своей голове. Проделывая это, люди признают, что краска на лбу у существа в зеркале на самом деле находится на их собственном лбу. Примерно в двухлетнем возрасте дети в такой ситуации начинают дотрагиваться руками до лба. Если у вас есть маленький ребенок, начиная с шестимесячного возраста вы можете проделывать этот удивительный и простой эксперимент.
Некоторые животные тоже проходят этот тест, что вызывает бурную реакцию у людей. Например, его могут проходить бутылконосые дельфины и косатки, а морские львы не могут. Когда на головах трех слонов нарисовали невидимые без зеркала красные кресты, лишь один из них, по кличке Хэппи, обнаружил это и многократно пытался дотронуться до пятна хоботом[74]. Среди самых умных птиц пока только сороки продемонстрировали способность распознавать в отражении в зеркале самих себя.
Я не знаю, насколько велико значение экспериментов с зеркалом для прояснения общей схемы когнитивной эволюции. Безусловно, эти эксперименты показывают уровень мышления, связывающий абстракцию с реальностью («это я, но все же это не совсем я»), но я не уверен, что их стоит широко экстраполировать. Они выявляют способность зрительного распознавания, но для многих организмов зрительные сигналы не самый важный источник информации. Наверняка собаки лучше справлялись бы с заданием в эксперименте с «отражением запаха». Кроме того, это надуманный эксперимент. Вероятно, животные видят и идентифицируют части собственного тела, не пользуясь никакими зеркалами. Означает ли это, что они в какой-то степени на количественном уровне обладают менее развитым самосознанием? Я так не думаю. Гориллы не проходят этот тест, хотя, возможно, гориллы, живущие в неволе и хорошо знакомые с людьми, могли бы его пройти. Опять-таки, визуальный контакт для горилл обычно является проявлением крайней степени агрессии, поэтому эксперимент с разглядыванием изображения в зеркале не отражает их когнитивные способности. В 1980 г. психолог Б. Ф. Скиннер поставил под сомнение значение экспериментов с зеркалом, активно обучая голубей. Сначала с помощью угощения голубей заставляли повернуть голову и увидеть метки на своем теле, а потом они могли обнаружить их с помощью зеркала. Через несколько дней тренировки голуби находили пятна на теле, просто посмотрев в зеркало. За горстку зерен они научились проходить этот тест.
Я не говорю, что эксперимент с зеркалом не имеет смысла. Безусловно, осознание самого себя является проявлением когнитивного разума, но оно выражается множеством способов, а не только через распознавание собственного отражения в зеркале. Это в некотором роде «антропоцентрический» тест, поскольку он основан на предположении, что способность узнавать себя в зеркале — важный показатель состояния мозга. Вернувшись во влажную нору, жабы очень долго сидят совершенно неподвижно, но мы не считаем эту выдержку важным научным показателем неврологической активности, хотя для жаб, совершенно очевидно, это имеет чрезвычайно большое значение. Мы привыкли говорить о пяти чувствах, но на самом деле сенсорных ощущений гораздо больше. Важную роль играет проприоцепция — способность оценивать положение собственного тела в пространстве, а также интероцепция — восприятие своего внутреннего состояния (попробуйте сесть совершенно неподвижно, как жаба, и подсчитать частоту сердцебиений исключительно посредством внутреннего ощущения). Это тоже важные показатели ощущения независимости вашего тела от окружающего пространства.
Самосознание важно для признания того, что вы — отдельное от остального мира существо. Это часть осознанного опыта бытия для человека и для некоторых других животных.
Je ne regrette rien[75]
Осознанный опыт позволяет нам переживать психофизиологические состояния, составляющие самую суть человеческого существования, и наслаждаться ими. Обычно люди называют эти состояния «чувствами». Возникает искушение приписывать эмоции и другим животным. Наши домашние любимцы иногда выглядят веселыми и счастливыми, а иногда вялыми и несчастными. Одна из наших кошек, Мокси, жуткое существо — злая, отчужденная, угрюмая и не имеющая никакого желания со мной общаться: я для нее просто презренный раб. Другой кот, Лушкин, больше похож на собаку — постоянно веселое и обычно счастливое, ласковое и слегка сумасшедшее существо. Но посмотрите, я ведь описываю их в терминах антропоморфизма. На самом деле я не имею не малейшего представления ни об их эмоциональном состоянии, ни о том, что они думают о своем личном опыте. Мы не знаем, что значит быть другим животным: кошкой, летучей мышью или даже другим человеком. Мы ошибаемся, предполагая, что их опыт похож на наш, а их эмоциональное состояние проявляется так же, как у нас.
Дарвина в XIX в. очень интересовали эти вопросы, и в 1871 г. он написал книгу на эту тему. С тех пор на протяжении многих лет специалисты по поведению животных пытались понять эмоции животных и оценить их рациональным образом. Одна стратегия заключалась в том, чтобы отделить базовые эмоции от более сложных: ощущение счастья, грусти, отвращения и страха — простые интуитивные эмоции, тогда как ревность, презрение или сожаление — более сложные и задействуют рассудок. Состояние горя и печали наблюдалось у многих приматов и некоторых слонов, описания скорбящих по усопшим горилл разрывают сердце, а в 2008 г. в газетах появились ставшие знаменитыми фотографии из Мюнстерского зоопарка в Германии, на которых одиннадцатилетняя горилла Гана носила безжизненное тело своего детеныша.
Нужно быть бездушным рационалистом, чтобы не признавать этих подтверждений сложного эмоционального состояния животных. Но нам по-прежнему мешает то, что мы не можем спросить у них, что они чувствуют, а они не могут передать нам свои сложные эмоции. Но мы живем в эпоху с таким уровнем развития нейробиологии, что пытаемся читать в головах и составлять научные представления о внутреннем эмоциональном статусе животных. С помощью новых технологий мы начинаем понимать, насколько их опыт похож на наш. Это совсем новая область исследований, но один пример стоит обсудить.
Быть может, французская певица Эдит Пиаф действительно не сожалела ни о чем, но большинство из нас сожалеет о многом. Сожаление — специфический и сложный комплекс эмоций, заключающийся в разочаровании по поводу принятого решения, которое, при внимательном анализе, оказалось неоптимальным. Многие люди презирают сожаление, как Пиаф, на том основании, что нелепо порицать себя за совершенные в прошлом действия. Леди Макбет перефразировала еще одно французское выражение, на этот раз из XIV в.[76], когда заявляла:
«Что пользы
Тужить о том, чего не воротить?
Что сделано, то сделано».[77]
Как бы привлекательно ни звучало это заявление, дела Макбетов пошли не очень хорошо. Другие люди предполагают, что сожалеть следует лишь о том, что не сделано, а не о том, что сделано. Звучит возвышенно, но на деле не очень реально и весьма поверхностно. Я скорее соглашусь с Кэтрин Хепберн:
«Я сожалею о многом, и я уверена, что все остальные люди тоже. Вы сожалеете о глупостях, которые делаете… если хоть что-то соображаете, а если не сожалеете, возможно, вы глупы».
Очевидно, что сожаление — негативная эмоция: это разочарование при мысли, что все могло бы быть по-другому, если бы вы в прошлом действовали иначе, грусть или тоска по поводу неудачи или принятия неверного решения. В чувстве сожаления присутствует моральный аспект: вы могли и должны были поступить иначе. «Тогда мне это казалось правильным» — мне нравится эта фраза, отражающая суть сожаления по поводу мгновенного банального решения («еще один стакан вина, и я отправляюсь домой») и его далеко идущих последствий.
Для прочувствованного понимания смысла подобной фразы требуется сложное осознанное мышление. Здесь проявляются два аспекта мысленных перемещений во времени. Во-первых, восприятие прошлого с признанием, что в тот момент существовал выбор, и способность вообразить возможные последствия при разном ходе событий. Во-вторых, требуется способность вообразить различные ситуации в будущем. В целом функция чувства сожаления не сводится к тому, чтобы страдать по поводу совершенных ошибок, но — вынести урок о свободе выбора: «В следующий раз я поступлю иначе, и пользы будет больше, или, по крайней мере, будет меньше вреда». Мы думаем так постоянно. Эта эмоция основана на многих человеческих качествах. Но выясняется, что крысы тоже испытывают сожаление.
Опять-таки, следует быть очень аккуратными и не пытаться утверждать, что сходство в поведении животных и человека объяснятся нашим родством. Насильственное и агрессивное сексуальное поведение животных нельзя считать изнасилованием, хотя, как обсуждалось выше, мы видим поразительные аналогии, например, у некоторых дельфинов и морских выдр. Пока мы не можем спросить животных, что они думают и чувствуют, мы должны быть чрезвычайно осторожны в выводах и воздерживаться от идеи, что они чувствуют то же самое, что и мы в подобной ситуации, особенно если речь идет о сложных ощущениях. В таких случаях может помочь правильно спланированный эксперимент.
Один из примеров — ресторан Row, придуманный психологами Адамом Стайнером и Дэвидом Редишем из Университета Миннесоты. Это восьмиугольная площадка с четырьмя обеденными зонами в противоположных углах, которая немного напоминает ресторанную зону в большом коммерческом центре, где сконцентрировано несколько ресторанов с кухней разного типа. Крысам в ресторане Row предлагают на выбор еду со вкусом банана, шоколада, черешни или обычный корм. Крысы, как и мы, не любят долго ждать, а каждый тип еды появляется после некоторого неизвестного заранее времени ожидания. Но есть звуковой сигнал, который подсказывает время: чем выше исходный звук, тем дольше придется ждать. Крысы проникают в обеденную зону и пытаются оценить высоту звука, время ожидания и тип пищи.
Все крысы, участвовавшие в эксперименте, имели врожденное пристрастие к одному из четырех типов пищи. В условиях эксперимента крысы могли долго ждать любимую еду, но также имели возможность гораздо быстрее получить что-то другое. Допустим, крыса любит черешню и знает, что получит ее через 20 секунд. Но это долго, и через 15 секунд крыса не выдерживает. Она отправляется к кормушке с едой со вкусом банана, надеясь, что сможет получить ее раньше. Но выясняется, что ждать эту еду придется еще 12 секунд, так что в сумме крысе приходится ждать 27 секунд и получить не то, что хотелось изначально. Нетерпеливая крыса идет на риск и проигрывает. Представьте себе, что вы в коммерческом центре, вы голодны и хотели бы съесть суши. Но вам не хочется ждать, а очередь в суши-бар длинная, поскольку приготовление занимает много времени. Тогда вы меняете решение и идете покупать пиццу, поскольку там очередь меньше, и именно в этот момент видите выдачу большой порции суши. Суши проданы, вы еще не купили пиццу и сожалеете о своем решении.
Крысы тоже сожалели. Откуда нам это известно? Они смотрели на ту еду, которую предпочитают, но которую не смогли получить. Сказать, что они с жадностью глядели на другую еду, значит, склониться в сторону антропоморфизма, но они действительно поворачивали головы и внимательно смотрели. В каких-то случаях они ждали меньше, соглашаясь на менее вкусную еду: пицца готовится быстрее, и, хотя вы предпочли бы суши, вы все равно съедите пиццу. В данном случае вы испытываете скорее разочарование, нежели сожаление. Если крысы были лишь разочарованы, они не поворачивали головы.
Но гораздо важнее, что в следующий раз в подобной ситуации крысы выжидали. Они осознали, что нетерпение наказывается, и подчинялись правилам игры.
Если вам все еще кажется, что мы интерпретируем поведение крыс по аналогии со сложным поведением человека, давайте посмотрим, что обнаружили Стайнер и Редиш в головном мозге обедавших крыс в таких ситуациях. Известно, что когда мы испытываем сожаление, активируются нейроны в так называемой орбитофронтальной коре (ОФК) головного мозга. В хитроумных экспериментах добровольцам предлагалось сделать ставки в игре. Когда ставки были сделаны и игра проиграна, участникам показывали, что при другом выборе они бы выиграли. Таким образом, ученые разработали эксперимент, позволявший вызвать у участников чувство сожаления. Люди с повреждениями этой области головного мозга не испытывают сожаления и сообщают об этом при негативных последствиях неудачного решения. Вы не можете узнать у крысы, что она чувствует, но ученые проследили за активностью ОФК при выборе крысами еды в ресторане Row. При мыслях о еде каждого типа, включая любимую еду, в мозге крыс активизировались специфические клетки. Те же самые клетки возбуждались, когда животные отказывались от любимой еды, слишком долго ждали и видели то, что им не досталось. Любители черешни все еще думали о черешне, когда не выдерживали и получали бананы.
Хотя это кажется лишь забавным экспериментом, понимание корреляций между активностью нейронов крыс и сложными человеческими эмоциями имеет медицинское значение. При некоторых психических нарушениях человек не испытывает сожаления, угрызений совести или следующих за ними эмоций, таких как тревога, которые позволяют в будущем принимать другое, возможно, более правильное решение. Чтобы найти способ коррекции, сначала нужно понять, активность каких именно нейронов повреждена или изменена.
Тот факт, что у двух видов млекопитающих, связанных лишь отдаленным родством, при сожалении возбуждаются одни и те же области мозга, может указывать на древнее происхождение механизма этой эмоции. Нас с крысами разделяют десятки миллионов лет эволюции, однако из этих результатов не следует, что все находящиеся между нами виды тоже выражают сожаление аналогичным образом, — нам это просто неизвестно. С другими животными нужно проводить новые исследования. Ну а пока, если сожаление заставляет нас изменить поведение при аналогичной ситуации в будущем, мы знаем, что крысы, по крайней мере, испытывали бы такие же чувства.
Научи деревню удить рыбу
Как мы уже обсудили, по физическим параметрам жившие 100 000 лет назад мужчины и женщины мало отличались от нас с вами. Мы почти с абсолютной уверенностью можем утверждать, что речь появилась еще до того, как человек получил «полный набор» своих современных возможностей. Наш мозг мало отличается от мозга людей, которые только-только начали овладевать искусством, и даже от мозга художников, относившихся не к нашему виду, а к неандертальцам. Признаки современного поведения начали проявляться за десятки тысяч лет до наступления современной эпохи. В различных местах в Европе и в Индонезии обнаружены артефакты примерно 40 000-летней давности, подтверждающие это. Через несколько тысячелетий современное поведение начало проявляться в Африке и в Австралии. По этой причине генетическая версия происхождения таких изменений кажется маловероятной, поскольку люди из разных частей света не взаимодействовали между собой и не обменивались генами. Если мы соглашаемся, что все расселившиеся по миру люди происходили из Африки и походили друг на друга в генетическом плане, маловероятно, что они независимым образом приобрели одни и те же мутации в ДНК, которые способствовали развитию сложного мыслительного процесса. Если палеолитические люди всего мира имели сходство в биологическом плане, возникает вопрос: почему современное поведение так долго не возникало, если физически мы были готовы к этому уже тысячи лет?
В общей картине остается еще много расплывчатых фрагментов. Сейчас начинают активно развиваться новые области исследований, такие как теория разума и природа сознания. Эти темы на протяжении десятков и сотен лет ждали своего часа в философском плену, но теперь появилась возможность проанализировать их с помощью более точных научных методов XXI в. По мере сближения этих тем с проблемами нейробиологии мы начинаем все лучше и лучше в них разбираться.
В последние годы возникла одна очень важная, как мне кажется, идея, которая пока еще не обсуждается повсеместно, но я надеюсь, это скоро произойдет. Это идея связи между изменением размера и структуры популяции и началом формирования современного поведения. «Полный набор» человеческих способностей возник в результате организации общества.
Действительно, в период формирования современного поведения численность человеческой популяции во многих местах начала расти. Это происходило в Африке 40 000 лет назад, а также в Австралии, скорее всего, около 20 000 лет назад. Увеличение численности населения может быть связано с локальными изменениями: улучшился климат, и жить стало легче. Кроме того, оно может быть отражением массовой миграции. Никакие другие существа не мигрировали в таком масштабе за такой короткий период времени: через 20 000 лет после выхода из Африки мы уже обустроились в Австралии.
Мы видим и обратную ситуацию — регресс сложной культуры в тех популяциях, которые не росли, не мигрировали или не отщеплялись от более крупных популяций. Например, около 10 000 лет назад, когда растаяли ледники и поднялся уровень мирового океана, Тасмания стала островом и отделилась от Австралии проливом, который европейцы называют проливом Басса. За несколько тысяч лет эпохи неолита оказавшиеся в изоляции жители Тасмании сохранили лишь 24 типа инструментов и лишились навыков изготовления десятков других. Аборигены континентальной Австралии за тот же период придумали более 120 новых инструментов, включая костяные гарпуны со множеством зубьев.
Рыболовный крючок с острова Ява
Археологические данные показывают, что жители Тасмании постепенно разучились делать изящные костяные орудия, шить теплую одежду и, что еще важнее, утратили искусство рыбной ловли. Среди археологических находок перестали появляться крючки и гарпуны для ловли хрящевых рыб и рыбьи кости (однако жители Тасмании продолжали собирать и есть ракообразных животных и малоподвижных моллюсков). Когда сюда в XVII в. прибыли европейцы, местные жители выказали одновременно и удивление, и отвращение при виде того, как колонизаторы ловили и ели крупную рыбу, хотя еще 5000 лет назад это была важнейшая часть их собственного рациона и культуры.
Ученые[78], интересующиеся приобретением «полного набора» способностей, предложили модель, описывающую связь передачи культурных навыков с размером и структурой популяции. Модель позволяет проанализировать, как и почему появлялись и исчезали признаки современного поведения, отразившиеся в археологических находках. Были составлены уравнения, которые моделируют распространение идей и навыков в обществе. Они учитывают предполагаемую численность и плотность населения и уровень развития навыков для решения какой-то гипотетической задачи (например, изготовления наконечников стрел или игры на дудочке) и позволяют смоделировать передачу этих навыков между людьми. Математические модели такого рода содержат множество технических деталей, но, по сути, помогают ответить на следующий вопрос: «Есть люди со специфическим набором навыков, которые могут быть переданы другим людям. Как размер популяции влияет на эффективность обучения?»
Ответ на этот вопрос, по-видимому, такой: влияет чрезвычайно сильно. В популяциях большого размера передача сложных культурных навыков происходит более эффективно, чем в небольших сообществах. Сохранение навыков в значительной степени зависит от размера популяции (который, в свою очередь, зависит от миграции). Как показывают модели, небольшие популяции, особенно изолированные, теряют навыки в результате неэффективной передачи. При росте популяции культурные навыки накапливаются быстрее. И это происходит только у нас. Нам известны примеры передачи культурных навыков у других животных, однако мы делаем это постоянно.
Связь между демографией и формированием современного поведения человека далеко не очевидна, и, возможно, именно поэтому на данный фактор не обращали должного внимания. Но когда мы анализируем человеческую сущность, эта связь приобретает смысл. Мы — социальные существа: это означает, что наше благополучие зависит от взаимоотношений с другими людьми. Мы передаем культурные знания, т. е. такие знания, которые не закодированы в ДНК. Мы передаем их не только по вертикали, но и по горизонтали, что означает, что мы обучаем не только своих детей, но и современников, которые вовсе не обязательно состоят с нами в близком генетическом родстве. У нас есть различные навыки, мы занимаемся творчеством, но эти способности распределены в популяции неравномерно: у одних людей есть умения, которых нет у других, и когда мы хотим узнать, как что-то сделать, мы спрашиваем у специалистов.
Есть вторая причина, почему эта идея была не так популярна, как, по моему мнению, должна. На протяжении многих лет на начальных этапах развития эволюционной биологии ученые яростно спорили по поводу важнейшего постулата в теории Дарвина, а именно постулата о роли естественного отбора: что именно подвергается отбору?
Существует множество возможных ответов: гены, отдельные особи, семьи, более обширные группы и целые виды. В середине XX в. мы однозначно решили, что речь идет о генах. Ген кодирует фенотип (физическое проявление фрагмента ДНК), и различия в этих физических проявлениях в популяции видимы для природы и являются основой для отбора наиболее эффективного способа функционирования. Ген, кодирующий конкретный фенотип, передается от поколения к поколению и является единицей наследуемого материала. Ген, позволяющий взрослому человеку переваривать козье молоко, подвергался отбору и вытеснил ген, который не позволял расщеплять этот питательный продукт. Отдельные особи — лишь носители генов, и их репродукция просто-напросто обеспечивает непрерывность передачи генов.
Это «геноцентрическое» представление об эволюции было предложено и развито несколькими титанами биологии XX в., такими как Билл Гамильтон, Джордж Гейлорд Симпсон, Боб Триверс, и другими, и отразилось в одной из самых знаменитых работ в области научно-популярной литературы — в книге Ричарда Докинза «Эгоистичный ген». Это правильная книга, ныне ставшая учебником. Но новая модель предполагает, что отбирается также способность передавать культурные навыки, которые являются адаптивными и, следовательно, имеют для нас очень большое значение, но этот отбор определяется не генами, а популяцией. Биологи разумно освободились от идеи группового отбора, поскольку она неверна: данные не подтверждают, что эволюция происходит на групповом уровне. Но передача культурных навыков не закодирована в ДНК и не связана с точными механизмами формирования яйцеклеток и сперматозоидов, каковые механизмы определяют генетические различия в популяции и следуют дарвиновской эволюции.
Все эти идеи подводят к заключению, что демографическая структура общества является ключевым фактором, способствующим передаче информации и навыков внутри групп. Эффективность развития любой группы людей зависит от ее внутренней организации. Модели показывают, что наше современное состояние («полный набор» способностей, определяющий, какие мы есть на сегодняшний день) зависит от нашего умения накапливать культурные навыки и передавать их другим, причем в таком обществе, которое настроено на общий успех его представителей.
В настоящее время ведутся активные исследования в этом направлении. Я думаю, это в целом правильная модель, хотя предстоит еще большая работа. Пока мы раскопали лишь очень тонкий слой нашего прошлого. Мы выделили некоторые гены наших предков. Как обычно в науке, мы никогда не получаем полные ответы и продолжаем отливать и оттачивать идеи и отбрасывать их, если они не согласуются с реальными данными, или развивать, если согласуются. Идея о том, что в нашем восхождении важную роль сыграла демография, пока еще молода.
Забавно, что полтора столетия назад Дарвина посетили очень похожие мысли. В книге «Происхождение человека» он писал следующее:
«Когда человек подвигается вперед по пути цивилизации и небольшие племена соединяются в бо́льшие общества, простой здравый смысл говорит всякому, что он должен распространять свои общественные инстинкты и симпатии на всех членов того же народа, хотя бы они лично и не были знакомы ему. Когда человек уже достиг этого пункта, ему остается только победить одно искусственное препятствие, чтобы распространить свои симпатии на людей всех народов и рас».
Венец всего живущего
Большую часть книги я написал, сидя в итальянском кафе неподалеку от дома. Сейчас ранний вечер пятницы, и здесь шумно. У меня немного нелепый вид: одинокий человек, сидящий с четвертой чашкой кофе и кипой книг. Мне кажется, рестораны — прекрасное место для наблюдения за эволюцией «полного набора» человеческих способностей. Тут недалеко есть школа, так что в кафе заходят и учителя, и ученики. Здесь царит семейная и дружеская атмосфера. Кто-то воркует с младенцем: наверное, дедушка или вовсе посторонний человек. С помощью металлических инструментов люди отправляют в свои невероятно сложно устроенные рты выращенную ими и приготовленную на огне еду. У влюбленной пары более важные события развернутся ближе к ночи. Распорядитель наблюдает за поварами, которые взаимодействуют с официантами, а те, в свою очередь, общаются с посетителями. И все разговаривают.
В следующий раз, когда окажетесь в кафе, улучите минутку и посмотрите, что происходит. Каждое действие — обмен информацией. И всё вместе — результат биологической и культурной эволюции этого конкретного вида гоминид. Наши сексуальные пристрастия и действия многообразны и избирательны, но сравнимы с тем, что мы наблюдаем у других животных. Мы отделили занятия любовью от репродукции и редко пересекаем эту границу. Мы довели технологию до такого уровня сложности, что ее трудно отличить от волшебства.
Наш мозг увеличился и обеспечил нам эти возможности; они иногда различаются по уровню, иногда по качеству, хотя в целом выглядят похожими. Наш разум вышел за пределы нашего мозга, по крайней мере в метафорическом плане, поскольку люди — социальные существа, которые передают идеи через время и пространство, и лишь совсем немногие животные делают это столь же эффективно. Но наиболее сильно мы отличаемся от остальных по умению накапливать и передавать культурные навыки. Многие животные обучаются. Но только человек обучает.
Передача культурных навыков существует у некоторых других видов: использование орудий самками австралийских дельфинов, способных обучать других дельфинов; возможно, передача информации между каледонскими воронами о том, кто опасен, а кто нет. Но таких примеров мало, хотя со временем мы наверняка обнаружим новые. Люди обмениваются информацией постоянно и делают это уже на протяжении миллионов лет. В связи со спецификой моей работы я ежегодно общаюсь с тысячами людей и рассказываю им о том, что узнал. С большинством из них меня не связывают никакие родственные отношения. Мы накапливаем знания и передаем их другим. Именно в этом смысл данной книги и вообще всех книг.
В этом и состоит секрет: я никогда сам не проделывал экспериментов, о которых писал. Я никогда не был в Индонезии и не видел отпечатков ладоней наших древних предков. Я никогда не наблюдал за шимпанзе, использующими природные пожары в сенегальских саваннах. Я не был в Акульей бухте и не видел дельфинов с губками на морде. Надеюсь, что когда-нибудь увижу. Но кто-то из вас видел, и какие-то ученые видели, и они наблюдали за этим, чтобы удовлетворить собственное любопытство, а заодно и наше. Они написали об этом, и применили накопленные за 10 000 лет данные, чтобы проверить свои гипотезы, и поделились своими мыслями с окружающими (тоже чтобы проверить), и в результате люди смогут узнать о чем-то, о чем не знали раньше. Я читал эти работы (перечисленные в списке литературы) и использовал свой опыт преподавания и обучения, чтобы переварить эти идеи, создать на их основе какое-то новое знание и воспроизвести общую картину. Я записал все это, а другие ученые и мои издатели использовали свои знания и опыт, чтобы проанализировать мои слова и мысли и придать им такую форму, чтобы другим людям было легче их воспринимать. Дизайнеры и наборщики соединили все это, а Элис Робертс использовала свои знания и умения, карандаши и чернила и создала несколько великолепных рисунков. В результате возник тот предмет, который вы держите в руках, а цель всех этих действий лишь одна — обмен идеями.
Любой путь любого человека основан на накопленных за тысячелетия знаниях и миллиардах лет эволюции. Наша культура — часть нашей биологической эволюции, и неправильно пытаться их разделить. Наш разум эволюционировал по той причине, что это было нужно и давало преимущества, и отбор наших когнитивных способностей и мышления был важен только в тех условиях, в каких они эволюционировали. Мутации наших генов привели к физиологическим изменениям, обеспечившим возникновение речи и ее использование для развития сложных способов общения. Это помогало усложнять наш мыслительный процесс и формировать такой сознательный разум, каким мы обладаем сегодня, исходя из необходимости восприятия мыслей других мыслящих существ. И все это произошло не из-за какой-то вспышки молнии или искры; не было какого-то уникального события, запустившего череду процессов. Наш разум эволюционировал, а эволюция — процесс медленный, путаный и непрямой. Разум, способный переноситься во времени и понимать мысли других существ, речь, ловкость рук, мода, удовольствие от сексуальных контактов — все это результат неравномерного, но непрерывного изменения, это эмерджентные свойства, вызванные к жизни силой эволюции.
Живой организм — интегрированная система. Хотя кажущееся катастрофой слияние двух хромосом в действительности дало начало такой невероятной вещи, как человеческий геном, не было какого-то уникального генетического изменения, которое сделало из нас Homo sapiens. Вот, например, автомобиль: он не стал автомобилем в результате присоединения коробки передач, руля или какой-то другой детали. Все детали вкупе составляют автомобиль: одни более важные, другие менее важные, но ни одна не является определяющей. Вы можете потерять ногу в результате несчастного случая или родиться с дополнительной хромосомой, но все равно останетесь человеком. А ведь мы намного сложнее автомобиля, даже если у нас примерно столько же генов, сколько у автомобиля деталей. Мы все больше и больше убеждаемся в том, что гены имеют множество функций. Не существует гена речи, хотя ген FOXP2, безусловно, совершенно необходим для речевой функции. Нет генов творчества, воображения, умения метать стрелы, ловкости рук, сознания или передачи культурных навыков. Не было такого момента времени, когда мы не были Homo sapiens, но вдруг один ген мутировал, и мы ими стали. Наш геном — только наш геном, и он стал основой, на которой возникли наши человеческие качества.
В христианской культуре есть понятие грехопадения, в результате которого человечество запятнало себя, сбросив оковы Творения. Меня эта история не очень беспокоит. Если мы и падаем, то падаем вверх, медленно и постепенно, и удаляемся от бессознательной жестокости природы. Господь знает, что у человека множество грехов, но мы почти полностью отторгаем примитивные побуждения, которые могли унаследовать за четыре миллиарда лет индифферентной эволюции, и чаша весов склоняется в сторону гамлетовских ангелов. Мы крайне редко убиваем, мы крайне редко насилуем, мы все время создаем и обучаем и почти с такой же скоростью обучаемся.
Чем больше мы узнаем, тем сложнее становится картина нашего превращения в тех, кто мы есть. Я подозреваю, что вскоре мы обнаружим другие виды людей, которые жили одновременно с нами за последние 300 000 лет, виды, с которыми мы спаривались. Следует приветствовать эту сложность и радоваться, что только мы одни способны ее понять.
Эволюция слепа, «эволюционного прогресса» не существует; естественный отбор вылепливает и отбрасывает в соответствии с постоянно изменяющимся положением вещей. Как все живые существа, мы боремся за жизнь, но мы также пытаемся облегчить борьбу других.
«Мы должны признать, что человек со всеми его благородными качествами, сочувствием, которое он распространяет и на самых отверженных, доброжелательством, которое он простирает не только на других людей, но и на последних из живых существ, с его божественным умом, который постиг движение и устройство Солнечной системы…»
Чарлз Роберт Дарвин написал эти слова в 1871 г. Он мой кумир в силе и в слабостях, и хотя он был абсолютно прав в отношении важнейших из когда-либо существовавших идей, как все ученые, в чем-то другом он ошибался. Он был прав относительно эволюционного пути человечества, но одновременно прискорбно неправ относительно эволюции женщин, которых считал стоящими ниже мужчин по уровню интеллектуального развития. Отчасти благодаря его невероятному наследию теперь мы знаем, что это не так.
И все же, используя слово «мужчина» в значении «человек», Дарвин заключает начатую фразу такими словами: «человек (…) тем не менее носит в своем физическом строении неизгладимую печать своего низкого происхождения».
Наши гены и тела не отличаются принципиальным образом от генов и тел наших ближайших родичей среди животных, наших предшественников или даже глубоких предков. А что касается низкого происхождения, так это как судить. Мы — порождение эволюции, выкованные, вырезанные и выгравированные неподвластными нам силами, как и все другие живые существа. Да, нас формировали эти силы, но мы взяли на себя работу эволюции и через обучение создали самих себя и превратились в животное, которое больше суммы составляющих его частей.
Вспомним инопланетного натуралиста, явившегося на Землю, чтобы нас изучать. В романе Карла Сагана «Контакт» вымышленный инопланетный разум изучает человечество, наблюдая за нами на протяжении тысячелетий. В этой истории мы в соответствии с инструкциями инопланетян высылаем к ним женщину-ученого, при встрече с которой инопланетянин произносит такие слова:
«Вы интересный вид. Интересная смесь. У вас прекрасные мечты и жуткие сны. Вы чувствуете себя такими потерянными, такими отрезанными от остальных, такими одинокими, но при этом таковыми не являетесь. Видите ли, во всех наших изысканиях мы нашли единственную вещь, которая делает пустоту выносимой, — это другие существа».
Жизнь на Земле непрерывна, бесконечное число самых прекрасных форм. В эту непрерывность мы пытаемся ввести некую классификацию, чтобы помочь самим себе понять планету, брызжущую жизнью на протяжении вечности. Вы располагаетесь в какой-то точке на этом пути и уникальны в попытках установить свое местоположение. В начале этой книги нет посвящения, поскольку она посвящается лично вам.
Впишите ниже свое имя и прокручивайте назад:
Вы __________________________
Вы Homo sapiens
Вы гоминид
Вы обезьяна
Вы примат
Вы млекопитающее
Вы позвоночное
Вы животное
Вы венец всего живущего
Благодарности[79]
Ниже я перечислил всех, кто каким-либо образом внес вклад в написанное мною на этих страницах, и я чрезвычайно благодарен им, даже тем, кого не существует: Алексу Гарленду, Эндрю Мюллеру, Аойф Маклайсет, Беатрис Резерфорд, Бену Гэрроду, Кэролайн Доддс Пеннок, Касс Шеппард, Кэт Хобайтер, крикетной команде Celeriacs, Дэвиду Шпигельхальтеру, Элспет Мерри Прайс, Франческе Ставрокополу, Ханне Фрай, Хелен Льюис, Генри Маршу, Июэну Томасу, Джеймсу Шапиро, Дженнифер Рафф, Джону Оттуэю, Йону Пейну, Кейт Фокс, Линси Мэтью, Марку Томасу, Мишель Мартан, Натану Бейтману, тренерам клуба OAs Elite, Рейчел Харрисон, Робби Мюррею, Руфусу Хаунду, Саре Фелпс, Саймону Фишеру, Стивену Килеру и Тому Пайперу. А также самой лучшей на свете Джорджии Резерфорд.
Особую благодарность я выражаю невозможно талантливой Элис Робертс за ее высокоразвитые в эволюционном плане руки и за руководство моими руками. Мэттью Коббу — за удовольствие получать его редакторскую помощь. Уиллу Френсису — за наше продолжающееся путешествие. А больше всего — Дженни Лорд и Холли Харли — самым вдумчивым, интересным и замечательным людям, с которыми можно обмениваться мыслями и сочинять истории.
Список литературы
Douglas Adams, The Salmon of Doubt, William Heinemann, 2002; в русском переводе: Адамс Д. Лосось сомнений, АСТ, 2018.
Anil Aggrawal, A new classification of necrophilia, Journal of Forensic and Legal Medicine 16 (6): 316–20 (August 2009).
Biancamaria Aranguren et al., Wooden tools and fire technology in the early Neanderthal site of Poggetti Vecchi (Italy), PNAS 115 (9): 2054–9 (27 February 2018).
M. Aubert et al., Pleistocene cave art from Sulawesi, Indonesia, Nature 514: 223–7 (8 October 2014).
Jeffrey A. Bailey et al., Genome recent segmental duplications in the human, Science 297 (5583): 1003–7 (9 August 2002).
Francesco Berna et al., Microstratigraphic evidence of in situ hire in the Acheulean strata of Wonderwerk Cave, Northern Cape province, South Africa, PNAS 109 (20): E1215–E1220 (15 May 2012).
«The Incredibles» («Семейка», фильм), Pixar Studios, 2004.
Damián E. Blasi et al., Sound-meaning association biases evidenced across thousands of languages, PNAS 113 (39): 10818–23 (27 September 2016).
Mark Bonta et al., Intentional fire-spreading by «firehawk» raptors in northern Australia, Journal of Ethnobiology 37 (4): 700–718 (December 2017).
D. H. Brown, Further observations on the pilot whale in captivity, Zoologica 47 (1): 59–64.
Osvaldo Cair, External measures of cognition, Frontiers in Human Neuroscience 5: 108 (4 October 2011).
Nathalie Camille et al., The involvement of the orbitofrontal cortex in the experience of regret, Science 304 (5674): 1167–70 (21 May 2004).
Andrea Camperio Ciani and Elena Pellizzari, Fecundity of paternal and maternal non-parental female relatives of homosexual and heterosexual men, PLoS ONE 7 (12): e51088 (5 December 2012).
Ignacio H. Chapela et al., Evolutionary history of the symbiosis between fungus-growing ants and their fungi, Science 266 (5191): 1691–4 (9 December 1994).
Nicola S. Clayton et al., Can animals recall the past and plan for the future? Nature Reviews Neuroscience 4: 685–91 (1 August 2003).
Malcolm J. Coe, «Necking» behaviour in the giraffe, Journal of Zoology 151 (3): 313–21 (March 1967).
R. C. Connor et al., Two levels of alliance formation among male bottlenose dolphins (Tursiops sp.), PNAS 89 (3): 987–90 (1 February 1992).
G. Cornelis et al., Retroviral envelope syncytin capture in an ancestrally diverged mammalian clade for placentation in the primitive Afrotherian tenrecs, PNAS 111 (41): e4332–E4341 (14 October 2014)
M. Dannemann and J. Kelso, The contribution of Neanderthals to phenotypic variation in modern humans, American Journal of Human Genetics 101 (4): 578–89 (5 October 2017).
Charles R. Darwin, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (John Murray, 1871); в русском переводе, например: Ч. Дарвин, «Происхождение человека и половой отбор», Сочинения, т. 5, Изд-во АН СССР, Москва, 1953.
R. D’Anastasio et al., Micro-biomechanics of the Kebara 2 hyoid and its implications for speech in Neanderthals, PLoS ONE 8 (12): e82261 (18 December 2013).
Gypsyamber D’Souza et al., Differences in oral sexual behaviors by gender, age, and race explain observed differences in prevalence of oral human papillomavirus infection, PLoS ONE 9 (1): e86023 (24 January 2014).
Robert O. Deaner et al., Monkeys pay per view: Adaptive valuation of social is by rhesus macaques, Current Biology 15: 543–8 (29 March 2005).
Robert O. Deaner et al., Overall brain size, and not encephalization quotient, best predicts cognitive ability across non-human primates, Brain, Behaviour and Evolution 70: 115–24 (18 May 2007).
Volker B. Deecke, Tool-use in the brown bear (Ursus arctos), Animal Cognition 15 (4): 725–30 (July 2012).
Megan Y. Dennis et al., Evolution of human-specific neural SRGAP2 genes by incomplete segmental duplication, Cell 149 (4): 912–22 (11 May 2012).
Dale G. Dunn et al., Evidence for infanticide in bottlenose dolphins of the Western North Atlantic, Journal of Wildlife Diseases 38 (3): 505–10 (July 2002).
Nathan J. Emery, Cognitive ornithology: The evolution of avian intelligence, Philosophical Transactions of the Royal Society B 361 (1465): 23–43 (29 January 2006).
Karin Enstam Jaffe and L. A. Isbell, After the fire: Benefits of reduced ground cover for vervet monkeys (Cercopithecus aethiops), American Journal of Primatology 71 (3): 252–60 (March 2009).
Robert Epstein et al., «Self-Awareness» in the pigeon, Science 212 (4495): 695–6 (8 May 1981).
C. Esnault, G. Cornelis, O. Heidmann and T. Heidmann, Differential evolutionary fate of an ancestral primate endogenous retrovirus envelope gene, the EnvV syncytin, captured for a function in placentation, PLoS Genetics 9 (3): e1003400 (28 March 2013).
Ian T. Fiddes et al., Human-specific NOTCH2NL genes affect notch signalling and cortical neurogenesis, Cell 173 (6): 1356–69.e22 (31 May 2018).
Simon E. Fisher and Sonja C. Vernes, Genetics and the language sciences, Annual Review of Linguistics 1: 289–310 (January 2015).
Emma A. Foster et al., Adaptive prolonged postreproductive life span in killer whales, Science 337 (6100): 1313 (14 September 2012).
Masaki Fujita et al., Advanced maritime adaptation in the western Pacific coastal region extends back to 35,000–30,000 years before present, PNAS 113 (40): 11184–89 (October 2016).
Cornelia Geßner et al., Male — female relatedness at specific SNP-linkage groups influences cryptic female choice in Chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha), Proceedings of the Royal Society B 284 (1859) (26 July 2017).
J. Goodall, The Chimpanzees of Gombe: Patterns of Behavior, Belknap Press, 1986.
Kirsty E. Graham et al., Bonobo and chimpanzee gestures overlap extensively in meaning, PLoS Biology 16 (2): e2004825 (27 February 2018).
Kristine L. Grayson et al., Behavioral and physiological female responses to male sex ratio bias in a pond-breeding amphibian, Frontiers in Zoology 9 (1): 24 (18 September 2012).
Daniele Guerzoni and Aoife McLysaght, De novo origins of human genes, PLoS Genetics 7 (11): e1002381 (November 2011).
Michael D. Gumert and Suchinda Malaivijitnond, Long-tailed macaques select mass of stone tools according to food type, Philosophical Transactions of the Royal Society B 368 (1630): 20120413 (17 October 2013).
Chang S. Han and Piotr G. Jablonski, Male water striders attract predators to intimidate females into copulation, Nature Communications 1, article number 52 (10 August 2010).
Sonia Harmand et al., 3.3-million-year-old stone tools from Lomekwi 3, West Turkana, Kenya, Nature 521 (7552): 310–15 (20 May 2015).
Heather S. Harris et al., Lesions and behavior associated with forced copulation of juvenile Pacific harbor seals (Phoca vitulina richardsi) by southern sea otters (Enhydra lutris nereis), Aquatic Mammals 36 (4): 331–41 (29 November 2010).
B. J. Hart et al., Cognitive behaviour in Asian elephants: Use and modification of branches for fly switching, Animal Behaviour 62 (5): 839–47 (November 2001).
Joseph Henrich, Demography and cultural evolution: How adaptive cultural processes can produce maladaptive losses: the Tasmanian case, American Antiquity 69 (2): 197–214 (April 2004).
C. S. Henshilwood et al., Emergence of modern human behavior: Middle Stone Age engravings from South Africa, Science 295 (5558): 1278–80 (15 February 2002).
Christopher Henshilwood et al., Middle Stone Age shell beads from South Africa, Science 304 (5669): 404 (16 April 2004).
Thomas Higham et al., Testing models for the beginnings of the Aurignacian and the advent of figurative art and music: The radiocarbon chronology of Geißenklösterle, Journal of Human Evolution 62 (6): 664–76 (June 2012).
Catherine Hobaiter and Richard W. Byrne, Able-bodied wild chimpanzees imitate a motor procedure used by a disabled individual to overcome handicap, PLoS ONE 5 (8): e11959 (5 August 2010).
D. L. Hoffmann et al., U-Th dating of carbonate crusts reveals Neandertal origin of Iberian cave art, Science 359 (6378): 912–15 (23 February 2018).
S. Ishiyama and M. Brecht, Neural correlates of ticklishness in the rat somatosensory cortex, Science 354 (6313): 757–60 (11 November 2016).
Josephine C. A. Joordens, Homo erectus at Trinil on Java used shells for tool production and engraving, Nature 518: 228–31 (12 February 2015).
Hákon Jónsson et al., Speciation with gene flow in equids despite extensive chromosomal plasticity’, PNAS 111 (52): 18655–60 (30 December 2014).
Juliane Kaminski et al., Human attention affects facial expressions in domestic dogs, Scientific Reports 7: 12914 (19 October 2017).
Dean G. Kilpatrick et al., Drug-facilitated, Incapacitated, and Forcible Rape: A National Study, National Crime Victims Research & Treatment Center report for the US Department of Justice (2007).
Michael Krützen et al., Contrasting relatedness patterns in bottlenose dolphins (Tursiops sp.) with different alliance strategies, Proceedings of the Royal Society B 270 (1514) (7 March 2003).
Michael Krützen et al., Cultural transmission of tool use in bottlenose dolphins, PNAS 102 (25): 8939–43 (21 June 2005).
M. Mirazón Lahr et al., Inter-group violence among early Holocene hunter-gatherers of West Turkana, Kenya, Nature 529: 394–8 (21 January 2016).
Greger Larson et al., Worldwide phylogeography of wild boar reveals multiple centers of pig domestication, Science 307 (5715): 1618–21 (11 March 2005).
David J. Linden, The Compass of Pleasure: How Our Brains Make Fatty Foods, Orgasm, Exercise, Marijuana, Generosity, Vodka, Learning, and Gambling Feel So Good, Penguin, 2011.
Mark Lipson et al., Population turnover in remote Oceania shortly after initial settlement, Current Biology 28 (7): 1157–65 (7 April 2018).
C. W. Marean et al., Early human use of marine resources and pigment in South Africa during the Middle Pleistocene, Nature 449: 905–8 (18 October 2007).
S. McBrearty and A. S. Brooks, The revolution that wasn’t: A new interpretation of the origin of modern human behavior, Journal of Human Evolution 39 (5): 453–63 (November 2000).
Aoife McLysaght and Laurence D. Hurst, Open questions in the study of de novo genes: What, how and why, Nature Reviews Genetics, 17: 567–78 (25 July 2016).
John C. Mitani et al., Lethal intergroup aggression leads to territorial expansion in wild chimpanzees, Current Biology 20 (12): R507–R508 (22 June 2010).
Smita Nair et al., Vocalizations of wild Asian elephants (Elephas maximus): Structural classification and social context, Journal of the Acoustical Society of America 126 (5): 2768 (November 2009).
James Neill, The Origins and Role of Same-Sex Relations in Human Societies, McFarland & Co., 2011.
Hitonaru Nishie and Michio Nakamura, A newborn infant chimpanzee snatched and cannibalized immediately after birth: Implications for «maternity leave» in wild chimpanzee, American Journal of Physical Anthropology 165: 194–9 (January 2018).
Sue O’Connor et al., Fishing in life and death: Pleistocene fish-hooks from a burial context on Alor Island, Indonesia, Antiquity 91 (360): 1451–68 (6 December 2017).
H. Freyja Ólafsdóttir et al., Hippocampal place cells construct reward related sequences through unexplored space, Elife 4: e06063 (26 June 2015).
Seweryn Olkowicz et al., Birds have primate-like numbers of neurons in the forebrain, PNAS 113 (26): 7255–60 (28 June 2016).
C. Organ et al., Phylogenetic rate shifts in feeding time during the evolution of Homo, PNAS 108 (35): 14555–9 (30 August 2011).
A. Powell, S. Shennan and M. G. Thomas, Late Pleistocene demography and the appearance of modern human behavior, Science 324 (5932): 1298–1301 (5 June 2009).
Shyam Prabhakar, Accelerated evolution of conserved noncoding sequences in humans, Science 314 (5800): 786 (3 November 2006).
Shyam Prabhakar et al., Human-specific gain of function in a developmental enhancer, Science 321 (5894): 1346–50 (5 September 2008).
D. M. Pratt and V. H. Anderson, Population, distribution and behavior of giraffe in the Arusha National Park, Tanzania, Journal of Natural History 16 (4): 481–9 (1982).
D. M. Pratt and V. H. Anderson, Giraffe social behavior, Journal of Natural History 19 (4): 771–81 (1985).
Helmut Prior et al., Mirror-induced behavior in the magpie (Pica pica): Evidence of self-recognition, PLoS Biology 6 (8): e202 (19 August 2008).
Jill D. Pruetz et al., Savanna chimpanzees, Pan troglodytes verus, hunt with tools, Current Biology 17 (5): 412–17 (6 March 2007).
Jill D. Pruetz and Nicole M. Herzog, Savanna chimpanzees at Fongoli, Senegal, navigate a fire landscape, Current Anthropology 58 (S16): S337–S350 (August 2017).
Jill D. Pruetz and Thomas C. LaDuke, Reaction to fire by savanna chimpanzees (Pan troglodytes verus) at Fongoli, Senegal: Conceptualization of «fire behavior» and the case for a chimpanzee model, American Journal of Physical Anthropology 141 (14): 646–50 (April 2010).
Kay Prüfer et al., The bonobo genome compared with the chimpanzee and human genomes, Nature 486: 527–31 (28 June 2012).
Anita Quiles et al., A high-precision chronological model for the decorated Upper Paleolithic cave of Chauvet-Pont d’Arc, Ardèche, France, PNAS 113 (17): 4670–75 (26 April 2016).
Joaquín Rodríguez-Vidal et al., A rock engraving made by Neanderthals in Gibraltar, PNAS 111 (37): 13301–6 (16 September 2014).
Douglas G. D. Russell et al., Dr. George Murray Levick (1876–1956): Unpublished notes on the sexual habits of the Adélie penguin, Polar Record 48 (4): 387–93 (January 2012).
Anne E. Russon et al., Orangutan fish eating, primate aquatic fauna eating, and their implications for the origins of ancestral hominin fish eating, Journal of Human Evolution 77: 50–63 (December 2014).
Graeme D. Ruxton and Martin Stevens, The evolutionary ecology of decorating behaviour, Biology Letters 11 (6) (3 June 2015).
Angela Saini, Inferior: How Science Got Women Wrong, Fourth Estate, 2017.
Ivan Sazima, Corpse bride irresistible: A dead female tegu lizard (Salvator merianae) courted by males for two days at an urban park in south-eastern Brazil, Herpetology Notes 8: 15–18 (25 January 2015).
Y. Schnytzer et al., Boxer crabs induce asexual reproduction of their associated sea anemones by splitting and intraspecific theft, PeerJ 5: e2954 (31 January 2017).
Helmut Schmitz and Herbert Bousack, Modelling a historic oil-tank fire allows an estimation of the sensitivity of the infrared receptors in pyrophilous Melanophila beetles, PLoS ONE 7 (5): e37627 (21 May 2012).
Erin M. Scott et al., Aggression in bottlenose dolphins: Evidence for sexual coercion, male — male competition, and female tolerance through analysis of tooth-rake marks and behaviour, Behaviour 142 (1): 21–44 (January 2005).
Agnieszka Sergiel et al., Fellatio in captive brown bears: Evidence of long-term effects of suckling deprivation? Zoo Biology 9999: 1–4 (4 June 2014).
William Shakespeare, The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, Folio 1, 1623; в русском переводе, например: У. Шекспир. Трагическая история о Гамлете принце Датском//У. Шекспир. Сочинения. М.; Л.: ГИХЛ, 1933.
Michael Sporny et al., Structural history of human SRGAP2 proteins, Molecular Biology and Evolution 34 (6): 1463–78 (1 June 2017).
James J. H. St Clair et al., Hook innovation boosts foraging efficiency in tool-using crows, Nature Ecology & Evolution 2: 441–4 (22 January 2018).
A. P. Steiner and A. D. Redish, Behavioral and neurophysiological correlates of regret in rat decision-making on a neuroeconomic task, Nature Neuroscience 17 (7): 995–1002 (8 June 2014).
Peter H. Sudmant, Diversity of human copy number variation and multicopy genes, Science 330 (6004): 641–6 (29 October 2010).
Hiroyuki Takemoto et al., How did bonobos come to range south of the Congo River? Reconsideration of the divergence of Pan paniscus from other Pan populations, Evolutionary Anthropology 24 (5): 170–84 (September 2015).
Min Tan et al., Fellatio by fruit bats prolongs copulation time, PLoS ONE 4 (10): e7595 (28 October 2009).
Alex H. Taylor et al., Spontaneous metatool use by New Caledonian crows, Current Biology 17 (17): 1504–7 (4 September 2007).
Randy Thornhill and Craig T. Palmer, A Natural History of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion, The MIT Press, 2000.
K. Trinajstic et al., Pelvic and reproductive structures in placoderms (stem gnathostomes), Biological Reviews 90 (2): 467–501 (May 2015).
Faraneh Vargha-Khadem et al., Praxic and nonverbal cognitive deficits in a large family with a genetically transmitted speech and language disorder, PNAS 92 (3): 930–33 (31 January 1995).
Sonja C. Vernes et al., A functional genetic link between distinct developmental language disorders, New England Journal of Medicine 359: 2337–45 (27 November 2008).
Elisabetta Visalberghi et al., Selection of effective stone tools by wild bearded capuchin monkeys, Current Biology 19 (3): 213–17 (10 February 2009).
Jane M. Waterman, The adaptive function of masturbation in a promiscuous African ground squirrel, PLoS ONE 5 (9): e13060 (28 September 2010).
Randall White, The women of Brassempouy: A century of research and interpretation, Journal of Archaeological Method and Theory 13 (4): 250–303 (December 2006).
Martin Wikelski and Silke Bäurle, Pre-copulatory ejaculation solves time constraints during copulations in marine iguanas, Proceedings of the Royal Society B 263: 1369 (2 April 1996).
Michael L. Wilson et al., Lethal aggression in Pan is better explained by adaptive strategies than human impacts, Nature 513: 414–17 (18 September 2014).
Zhaoyu Zhu et al., Hominin occupation of the Chinese Loess Plateau since about 2.1 million years ago, Nature (11 July 2018), https://doi.org/10.1038/s41586–018–0299–4.
~
