Не только музыка к словам… Мемуары под гитару бесплатное чтение
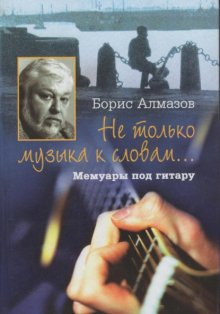
«И падал я в душные травы…»
В конце шестидесятых, когда высоко стояли звезды Окуджавы, Галича, Высоцкого, когда движение, именуемое сегодня авторской песней, уже определилось в жанровых границах и набирало мощь, в общежитии ВГИКа у знатоков и поклонников этого жанра появилась необычная пленка. Сквозь все несовершенство записи, сделанной на какой-то вечеринке, зазвучали такие песни, которые если не покоряли слушателя сразу, то уж никак не оставляли его равнодушным, а главное – резко отличались от всего, что в ту пору с магнитофонных лент звучало.
Отличались всем! Студенты – консерваторцы удивлялись мелодиям, утверждая, что они исходят из южнорусского фольклора, о котором тогда редко кто слышал. Причем, неизвестный автор не стилизует свои песни, но развивает, и очень естественно, в музыке народные традиции.
Слушателей сведущих поражала хватающая за душу искренность, боль и правда, звучавшая в каждом слове. Просто и точно певец говорил о таком, о чем многие в те годы не догадывались, а догадываться решались немногие. Но это было не только гражданское бесстрашие, это был своеобразный, глубокий поэтический мир. Песни становились широко известны, к сожалению, в очень узких кругах. Это подливало масла в огонь слухов. А слухи ходили самые невероятные: и что автор давно умер, и что он живет в Канаде, и что его настоящая фамилия Чернов, и он существует на положении "гусляра" у Шолохова… Каждый новый слух опровергал предыдущий. Одно только не подвергалось сомнению: автор – из казаков. С этим было трудно спорить: так горько человек мог петь только о своем, личном, прочувствованном, пережитом. Долгое время оставался он, уже любимый многими, «неизвестным автором». Нельзя сказать, что не делались попытки отыскать сведения о нем, но искали не там.
Проще всего было открыть справочник Союза писателей СССР и обнаружить там не только библиографию Бориса Александровича Алмазова (это его настоящая фамилия, а не литературный псевдоним), но и домашний адрес.
Самое удивительное в этой истории "с неизвестным", что писатель, журналист, искусствовед, автор – ведущий нескольких цикловых телепередач Борис Алмазов широко известен. Он успел столько «наработать» в самых разных областях творчества, что возникает впечатление, будто это не один человек, а целый цех производит любимые детьми и взрослыми книжки выдает сотни статей по разным вопросам, пишет пьесы, читает лекции, живет напряженнейшей общественной жизнью. А тут еще песни… Не может быть! Оказывается, может! Оказывается, в наш узко специализированный век, можно быть человеком энциклопедических и какой-то ренессансной одаренности. Недаром Алмазов тяготеет к написанию энциклопедий: о конях, о хлебе… А каждый его концерт – своеобразная энциклопедия русской песенной культуры, хотите казачьей XVI века, или цыганской, или студенческой, солдатской, тюремной, революционной…
Каждое его выступление – яркий законченный спектакль, поскольку по утверждению самого Бориса Алмазова, авторская песня – это театр, где в нераздельном триединстве сплавляются собственные стихи, собственная музыка и собственное исполнение.
Когда же Алмазов начинает петь, сразу вспоминаешь, что он родом оттуда, из степных краев и образованность, интеллигентность только усилили в нем все то, что досталось от предков. Не даром сам он, хоть и прячется за иронией, но с гордостью именует себя "пеньком" – так за упрямство или за стойкость прозывались казаки Хоперского округа Донского войска, отличавшиеся этими качествами даже среди своих соплеменников. Оттуда, от той крови и трудоспособность, и одаренность и бесстрашие и боль. "Мой дед" и "Окраина" – это песни 60-х годов!
Оттуда и исключительная требовательность ко всему, что он делает в литературе или в музыке. По его собственному признанию, выход сценической продукции один к десяти. Остальное – в корзину! За двадцать пять лет около ста песен, но за каждую из них не стыдно.
Почему же автора, который уже четверть века известен знатокам жанра, песни которого транслируют радиостанции Канады и Японии, изучают школьники Франции, мы только открываем в своем Отечестве ?
Отчасти виновато в этом время, в которое создавались эти песни, отчасти и позиция самого Бориса Алмазова. Он никогда не заботился о популяризации своего творчества. Может быть, причиной тому была правда, которая всегда, в любые годы, ясно звучала в них, может быть занятость, может быть, то, что при всей своей внешней общительности Борис Александрович Алмазов ведет крайне замкнутый образ жизни: дети, семья, работа. Сам же он, на вопрос, почему редко выступает, отвечает так:
– Боюсь заболтаться! Авторская песня, как и поэзия вообще требует обнаженного сердца. Боюсь сделать это ремеслом…
– А вас не смущает, что вы малоизвестны?
Нисколько. Древние говорили: «Слово, сказанное в пустыне, найдет слушателя, если это слово правды». Вот это заботит меня действительно. Это и правда факта, и правда мысли, и правда чувства. Знать правду и не бояться ее говорить. В любые времена.
Виктор Семенюк. Кинорежиссер.
«Хранителю, мой, святый»
Я родился на Дороге Жизни, так сказать, «в результате прорыва блокады», поскольку отец был на Ленинградском фронте, а мама на Волховском. Мое рождение было освящено любовью и укреплено расчетом, хотя и то и другое в казачьем стиле, то есть достаточно трагично и на много градусов крепче, чем у людей благополучных.
Отец был влюблен в мать с десяти своих лет. Они были из одной станицы. Чудо, что на фронте они встретились. Отец был благодарен войне потому, что именно война способствовала возникновению этого краткого союза, который при иных обстоятельствах, вряд ли, был бы возможен – мама была на тринадцать лет его старше. Кроме того, она происходила из станичной интеллигенции, а отец из старинной, родовитой, но ничем уже к двадцатому веку не выдающейся казачьей семьи. Мой дед, со стороны матери, был священником и учителем в станичной школе, а дед со стороны отца – его учеником, что тоже создавало иллюзию пропасти между семьями. Да и любовь то, скорее всего, была односторонняя – отец любил мать, а она его – не знаю…
Расчет же состоял в том, что отец был уверен в своей близкой смерти, поскольку был артиллерийским корректировщиком, (эту воинскую специальность описал Г.Бакланов в своих повестях «Третья ракета», «Батальоны просят огня», «Горячий снег», «Им было девятнадцать») и, стало быть, думать, о послевоенной жизни, о семье, где жена старше мужа – незачем.
За время их краткой семейной жизни отец смотрел на мать снизу вверх, хотя в прямом смысле, это сделать было очень трудно. Он был ростом 2 метра, 2 сантиметра. Мама, в трофейных французских туфлях с каблуками в мужскую четверть, которые отец принес ей из разведки, едва доставала макушкой до его подмышки. Маленькая моя мама, наверное, казалась девочкой рядом с огромным сутуловатым и совершенно седым, в 24 года, человеком.
В отличие от мамы, которая не могла получить высшего образования, потому что, как дочь священника и казачка, входила в значительный процент населения бывшей Российской Империи, которых большевики лишили прав. Отец же до войны был студентом не то ростовского музыкального училища, не то консерватории. После Сталинской Конституции 1935 года все ограничения на образование и трудоустройство для лиц непролетарского происхождения были формально сняты. Казакам было вменено в обязанность: носить лампасы и т. д. Но к этому времени от 4,4 миллионного казачьего населения России мало что осталось, а те, что остались, не верили в благодеяния, исходившие от властей.
Однако, отец учился. У него был красивый бас – сильно напоминавший бас Реброва. Я слышал отцовский голос у бабушки Дарьи – матери отца – на пластинке, а вот самого отца никогда не видел. Он исчез в колоннах шрафников, после победы над Германией и над Империалистической Японией. После смерти мамы, я нашел у нее под подушкой два отцовских письма. « Я так виноват перед вами, но мальчика нужно было кормить, а как вы там без меня…Я уже не харкаю кровью и меня расконвоировали… По Кенигсбергу ходим вольно, в цивильном…Говорят, вернут награды и отпустят домой… Ради Бога, пришлите фотографии, я забываю ваши лица…Ради Бога,…»
По воспоминаниям тех, кто его знал на фронте, он был человеком ледяной храбрости. Немцы на его глазах убили деда, и потому он был беспощаден и не ценил ни свою жизнь, ни чужую. Мама говорила, что «личный счет» его был более семидесяти…
Даже если списать половину на фантазию писарей, все равно получается страшная цифра. Кроме того, начав войну добровольцем кавалеристом, он закончил ее артиллерийским разведчиком – то есть наводил огонь тяжелой артиллерии, находясь в боевых порядках противника видел результаты …
Это не прошло ему даром. Когда его везли из взятого Берлина на Дальний Восток, через Ленинград, он забежал к нам, повидать меня, потому что я уже родился. И когда мама, по старинному казачьему обычаю, протянула ему меня, (чтобы он трижды поднес меня к иконе со словами «мой сын, мой род, моя кровь» – что считалось официальным признанием отцовства даже если в семье рождался негр), он вдруг отшатнулся с криком – «Погодите! Испачкаю!». Ему показалось, что он в крови, и может меня замарать. Через мгновение он опомнился, но обряд не удался, и я вырастал, помня странный рассказ бабушки о том, что отец не смог взять меня на руки. «Потому что кровь, даже кровь врагов, пролитая по всей справедливости, при соблюдении всех законов воинской чести, «вопиет от земли» и сжигает пролившего ее, ибо сказано: «Не убий!»
В детстве мне часто снился человек, в белой гимнастерке, с огромным, будто фартук, пятном крови на груди, который меня жалел… Но, там , во сне, я никогда не мог рассмотреть его лицо.
Самое первое впечатление детства – страшный бабушкин крик и ревущий примус, который ползет на меня по накренившейся столешнице. Я тогда, наверное, почувствовал дыхание смерти. Разумеется, все можно объяснить тем, что про этот случай мне многократно рассказывала бабушка: как она испугалась, когда я, едва вставший на ноги десятимесячный ползун, повис на краю стола и накренил незакрепленную столешницу. Но почему же, когда сердце мое зашлось от страха на учениях, где пехоту обкатывали танками, в какую то долю секунды я вдруг ясно увидел гудящий примус и гладкое латунное дно его, и торчащую сбоку, похожую на шприц, шляпку насоса. Это было так похоже на днище танка, наползавшего во весь край окопа.
Когда мне было лет пять, я разгуливал по трамвайным путям подкладывал гвозди на гладкие блестящие рельсины и срывался скорее поднимать их, расплющенные и горячие, когда трамвай проходил. Старшие мальчики говорили со страхом, что если на высокий, похожий в верхней части на шляпку гриба, рельс положить железнодорожный костыль, то трамвай сойдет с путей, а родителей, положившего костыль, посадят в тюрьму.
И вот, когда мы разложили на рельсе гвозди и уселись на травяном откосе, похихикивая от сознания, что делаем нечто опасное, запретное и потому особенно привлекательное, я вдруг увидел, что чуть поодаль от наших гвоздей, на белой сверкающей накатанной полосе лежит черный костыль…
Трамвай разболтанный и дребезжащий, качаясь, выкатывался из за поворота, уже виднелась лампочка в его застекленном пупе – фаре и вагоновожатый, растопыривший руки: левую – на ручку, похожую на ручку мясорубки, правую – на штурвал тормозного колеса. Я съехал вниз на скользких подошвах сандалий, с отрезанными носами – ноги росли быстрее, чем снашивалась подошва – столкнул костыль и лег ничком между рельсов. Трамвай прокатился надо мною. Мне стало очень холодно.
Я помню, как сбегались и кричали люди, как плакала мама. Свистел, невесть откуда взявшийся, милиционер. Я держался за мамину руку изо всех сил, и радовался, что трамвай не сошел с рельсов, и маму не посадят.
Как же так! Ведь надо же! – кричали вокруг.
Но мы с бабушкой знали, что меня спас мой Ангел Хранитель, как спасал он меня много раз и потом, когда, например , я уронил свою драгоценную, почти что настоящую, бескозырку с ленточками и надписью «моряк», и она покатилась – покатилась под горку к реке, а я за ней. По самой доске мостков, и я за ней, конечно. И там она остановилась, покачалась и превратилась из черного колеса в блин, на самом краешке замшелой трухлявой доски. И я, качаясь на зыбких мостках, прошел над мутной водой, стремительно несущейся под скользкими досками, и достал ее, на глазах у обмершей бабушки, на которую напал столбняк. Справедливо, хотя и в шутку, сказано: "мужчина – это мальчик, которому кдалось выжить в детстве"
Я молился Ангелу в церкви, где он был нарисован на парусах сводчатого потолка (прекрасное лицо и сильные густые крылья, гораздо больше лебединых), прижимая крепко сложенное троеперстие ко лбу, груди, правому и левому плечу, словно запахиваясь широким ангельским крылом.
Я молился перед сном и ночью, когда вдруг просыпался и смотрел в потрескавшийся потолок. А слева, пристроив к моей постели широкую доску на стульях (иная мебель в нашей комнатушке не помещалась) спала мама, вздрагивая и постанывая во сне, прижимая меня к своему теплому боку, даже там, во сне, закрывая меня собою от напастей, бед и страхов. Я слушал ее дыхание и смотрел в темноту. Я никогда не боялся темноты и много другого, чего боялись мои сверстники, потому что всегда чувствовал присутсвие Ангела Хранителя, данного мне Господом при крещении.
Я чувствовал его спиною, как чувствуют толщину и мощь нерушимой крепостной стены, хотя и не касаются ее, но знают, что она есть и защитит. Я чувствовал щеками и висками теплоту его охранительных крыл только лицо мое студил холодок опасности. Потому так широко открывались сами собою глаза. Наверное, поэтому на всех моих детских фотографиях мальчонка, про которого я знаю только, что это я – много лет назад, глядит так широко открыв глаза прямо в объектив, упрямо набычив голову.
"Что зенки вылупил?!" – злобились в драке мальчишки с нашего двора, прижимая меня в парадной. "Прикрой бельма – выхлестнет!" – кричал старшина, стоя спиной к раскрытой ревущей бездне люка транспортно-десантного самолета.
Но я не могу ни отвернуться, ни прикрыть глаза от страха. Это так просто – глядеть прямо в глаза, и знать, что любая опасность отступит пока Ангел Хранитель со мной.
А когда раскроется передо мною та неотвратимая пропасть, куда навсегда уходит человек, я твердо верую, что в последнюю, земную минуту, храня мою душу, Он сам прикроет мне глаза милосердным и ласковым взмахом бесшумного крыла.
Ангеле, Божий,
Хранителю мой святый, на соблюдение
мне от Бога с небесе данный, прилежно
молю Тя: Ты мене днесь просвети и
от всякого зла сохрани, ко благому
деянию настави и на путь спасения
направи.
Аминь.
…Написал я это вступление к своим мемуарам лет двадцать назад, а потом подумал: «А с какой стати кто-то будет их читать?» Мемуары – это такой литературный жанр, который нужно заслужить, причем, по большей части не литературной жизнью. Это жанр биографический, и нужно, чтобы интерес был к биографии. Вот, скажем, мемуары Черчилля или де Голля. Но с другой стороны: «Детство, отрочество, юность» Льва Толстого – тоже мемуары… Страдая этой двойственностью, (ну, например, как Н. В. Гоголь, про которого в одном школьном сочинении было написано, что «Он страдал двойственностью, потому что одной ногой стоял в прошлом, а другой приветствовал будущее!») я с одной стороны мечтал написать воспоминания, потому что было ч т о вспомнить. Я ведь был знаком со многими замечательными людьми, многих выдающихся событий был, если не участником, то свидетелем. Я ведь жил в то время, про которое совсем недавно, по-моему, художник Анатолий Белкин сказал: «Мы жили тогда, и нам было невдомек, что в шестидесятые годы – Ленинград был центром мировой культуры» Может быть не так круто, но я бы сказал нечто подобное. Это было потрясающее время, когда на Малой Садовой на одной скамеечке сидели рядом и будущие «нобелеанты», и классики литературы, и художники, и политические деятели, до нынешнего президента включительно… Случаи такого уникального сосредоточения всего на временном и пространственном «пятачке» за всю историю европейской цивилизации можно сосчитать на пальцах одной руки. Вот только центральное действующее лицо, то есть я, – «комплексовал» и, как древний воспитанный китаец, приседая и кланяясь, отходил от темы со словами: «Не достоин, не достоин, не достоин..» Но хотелось рассказать, хотелось…
Валялось, среди других дежурных рукописей, так «исключительно – замечательно» и «восхитительно – прекрасно», как говорила одна моя знакомая критикесса, написанное начало. Так бы ему и пропасть – «совершенно – буквально», если бы не мои лекции – концерты, где я рассказывал все, что знал о песнях. Рассказывал, потому что меня прямо-таки распирало от информации и огорчало, что широкому кругу трудящихся она неизвестна.
«Прошли годы…» Есть еще замечательные слова, после которых произведение можно дальше не читать: «Вечерело» или «Смеркалось» – это еще лучше… Моя редакторская практика подтверждает, что после этих слов, как правило, следует голое графоманство и густая ахинея, так, что с чистой совестью и увлажненным взором, можно отправлять рукопись в корзину.
Но годы все – таки прошли. И хотя я все же не решаюсь говорить «как давно это было», а говорю: «это было двадцать или тридцать килограммов тому назад», когда я, радуясь новому анекдоту, еще не двигал стол животом, и пуговицы от рубахи не летели во все стороны как пули, теперь, когда:
« И седина виски мне холодит –
И мама на меня из зеркала глядит…»,
и жанр авторской песни, одним, из основоположников которого меня считают, (так и сказали на концерте: « А сейчас выступит основоположник» – я, на минуточку, потерял сознание…), жанр, вроде бы, закончился. Поэтому о нем уже можно рассказывать. Он ведь был, пожалуй, знаком, поэтической концентрацией всего, что творилось в то время.
И вот обладая опытом «рыночной экономики», о которой так много и постоянно, как большевики когда-то о неизбежности победы коммунизма, говорят демократические СМИ, я решил сделать некий продукт, который бы нес в себе черты и мемуаров, и занимательно – популярного жанра. Такой, знаете ли, компот: «Мемуары с музыкой».
В центр я засадил своего лирического героя, который в мемуарах отождествляется с автором, хотя на самом деле мемуары не досье – и герой такой, каким его видит автор. Иной о себе сплошные сливки с трюфелями напишет, другой оговорит себя, как старая дева на исповеди. Сказано ведь: «Врет, как очевидец!» Мемуары – тоже литература, но создаваемый в них автором мир, по сравнению с другими жанрами, более историчен, приближен к реальности. Мемуарист опирается на факты, пишет о существовавших людях, и это делает мемуары, относительно, достоверными.
Учитывая все вышеизложенное, я и «наваял» то, что вы держите в руках.
В англоязычной литературе есть понятие «the book» то есть просто «книга», вот по –моему это, то есть «зибук», и получилось. Так что, кроме того, что я «основоположник», я еще и «первопроходец»!
Почему такое название? В восемнадцатом веке, о котором у нас речь впереди, в России выходили сборники стихов, или как бы сегодня сказали: «текстовок к песням», где перед каждым стихотворением указывалась популярная в то время песня, на мелодию которой их следовало исполнять. Назывались сборники «Слова к музыке»…
Ну, а остальное – вослед…
И как в летописи могу только добавить только: «Егда присах – писах»…
Не просто музыка к словам,
Не только к музыке слова,
А это жизнь моя была..
Была, да вот прошла
По ноте, взятая у всех,
По слову розданная всем –
Она растаяла как снег,
Когда он тает по весне.
Живут отдельно от меня
Слова и музыка к словам…
А жизнь? Что жизнь… Она была!
Была, да вот прошла…
Серебряный конь, золотые копыта
Город был ещё полон минувшей блокадой. Ещё чернели прогоревшими окнами тёмные пустые дома. Ещё заносили лихие метели горы мусора в провалах улиц, и мы, послевоенная безотцовщина, не знавшие прекрасного довоенного города, катались с этих горок – развалин человечьего жилья, на разболтанных стареньких санках.
По утрам, когда мама вела меня в детский сад, нашу дорогу пересекала колонна военнопленных, и нам приходилось долго ждать, когда бесконечная серо-зелёная, многоногая гусеница в длинноухих картузах освободит перекрёсток.
Немцы всегда пели. Почему? Теперь я думаю, что им было страшно идти по изуродованным улицам города, который они три года штурмовали, бомбили, расстреливали, морили голодом, а он выстоял и победил их! Может быть, распевая вальсы и марши в полупустом Ленинграде, они старались заглушить голос совести? Может быть, и так. Но, скорее всего, срабатывала многолетняя неискоренимая привычка петь в строю. Пой, маршируй и ни о чём не думай!
Шарканье и грохот их сапог и ботинок гулко отдавались в коробках развалин. Немцев в колонне были тысячи, но я не помню ни одного лица. Они не вызывали у меня ни страха, ни любопытства. Мы просто стояли и ждали, когда они пройдут, словно нашу дорогу пересекал длинный медленно идущий железнодорожный состав.
Я держал маму за руку, и её рука была тепла и спокойна. Моя щека касалась её колючего пальто, перешитого из фронтовой шинели…
По утрам было темно, фонари горели слабо и было не видно, что изменилось на улице. А менялось многое, и менялось постоянно – каждый день. Когда мы шли домой из детского сада, я с любопытством и радостью искал глазами эти перемены и всегда находил их. Вот на углу поставили новый киоск «Союзпечать», вот местная пожарная команда залила ребятам каток, и теперь половина нашей улицы с визгом и хохотом носится по голубому льду, звонко чиркая самодельными деревянными коньками или довоенными «снегурками», прикрученными с помощью палки и верёвки к разбитым залатанным валенкам.
Но самым потрясающим событием было открытие универмага. Его долго красили, навешивали буквы – огромные, гремящие железом. Там вспыхивала молния электросварки, и невидимые люди колдовали в завешенных холстом витринах. А когда холст убрали, мы ахнули: в огромных окнах со свежевымытыми цельными стёклами стояли манекены в немыслимых шубах, костюмах и шляпах.
Здесь была тётя в туфлях на высоких каблуках, в узкой юбке с оборкой, напоминавшей русалочий хвост, в короткой меховой шубке, именуемой возвышенно и загадочно —«манто», с длинными перчатками в руке и в огромной шляпе с пером. Рядом стоял дядя в зелёной велюровой шляпе, в огромном пиджаке с ватными плечами, застёгнутом на все пуговицы, в широком галстуке, в широких брюках с отворотами и ботинках с тупыми носами. Дядя был ещё более необычен, чем тётя, потому что довоенные туфли с высокими каблуками у моей мамы были, и она их надевала на 7 Ноября и на 1 Мая, и в праздничные дни была такая же красивая, как тётенька из витрины, хоть и не было у неё этого загадочного «манто», а вот дяденьку, подобного манекену, я видел только на огромном плакате «Кто куда, а я в сберкассу! Накопил – машину купил!». Ни в нашем доме, ни на нашей улице таких дяденек не было. Немногие мужчины, населявшие наш район, были либо военными, либо донашивали военную форму, то есть все были в сапогах. Ботинки на манекене рождали во мне ощущение какой-то новой необыкновенной заграничной жизни.
Здесь же в витрине стоял мальчик, с такой же, как у его родителей-манекенов, стеклянной улыбкой и с широко, словно для объятий, раскрытыми руками. Мальчик был одет как принц! На нём была бескозырка и… предел мечтаний всех мальчишек с нашей улицы – детский, специально, видать, для него сшитый, суконный матросский бушлатик.
Если тётенька и дяденька вызывали у меня почтительное недоумение, то мальчик-манекен, при всей его роскошной экипировке и блеске шевронов и якорей – некоторое презрение: в руках у него был обруч и палочка, и я удивлялся, как в такой героической одежде – в морском бушлате! – он может заниматься таким никчёмным делом: гонять колесо.
По дороге из детского сада я специально останавливался перед витриной и всё ждал, когда же он одумается и займётся чем-нибудь стоящим. Из раскрытых дверей универмага доносилось пение радиолы, запахи одеколона и ещё какие-то ароматы другой – богатой и непривычной для меня жизни… Мальчик был оттуда, из этой жизни. Потому он и смотрел поверх моей головы, выискивая не моргающими глазами неведомые мне удовольствия. С каждым днём он вызывал во мне всё меньше интереса… Но вот однажды!
Однажды, рядом с ним в витрине появился… Я сначала не поверил своим глазам… Рядом с мальчиком и его заграничными родителями стоял серебряный конь! Конь был прекрасен! Рядом с его золотой шёлковой гривой, с его лаковым крупом в серых яблоках, жарко открытыми розовыми ноздрями, красным седлом и золотыми копытами померк даже матросский бушлатик.
Конь! Седло с настоящими стременами! Мысленно я прикинул его рост – конь был моего размера. Если бы я сел в это седло, если бы я взмахнул деревянной шашкой, которую очень здорово сделал и сам себе подарил к Новому году, я был бы совсем как мой папа на довоенной фотографии, где на высоком сером коне он прыгает через горящее препятствие!
«Зачем! – подумал я. – Зачем мальчику в витрине этот конь. Он же в бушлатике! Он же моряк! А я… Я, у которого и папа, и дедушка, и прадедушка, и все были кавалеристами… Я – донской казак… мне даже на синенькие трусики, по великой моей просьбе, бабушка пришила алые лампасики… У меня, который так хорошо себя ведёт в детском саду, и первым идёт пить рыбий жир, и ещё ни разу, ни разу (!) не стоял в углу… у меня нет такого коня!
Зачем этому пустоголовому мальчику конь, если он до сих пор не может расстаться с обручем?
Конь нужен мне! Я бы поил его! Я бы кормил его травой!
Я бы отдавал ему всё, даже котлеты! Не говоря уже о клюквенном киселе! Я бы чистил его бабушкиной платяной щёткой, я бы мыл его золотые копыта! Может быть, я даже и не садился бы на это пунцовое седло, чтобы не испортить.. Только бы этот конь был мой! Мой!»
Я знал, что мы бедные. Что мы еле-еле можем прожить на мамину зарплату медсестры и бабушкину пенсию, которую она получает за убитого сына, поэтому я никогда ничего не просил… Но тут я не выдержал…
– Мама… – прошептал я. – Ты мне купишь такого коня?.. Хоть когда-нибудь!..
И мама, повернув моё лицо к себе, и заглянув в самые глаза, сказала:
– Нет, сынок. Я не смогу этого сделать…
Она всю жизнь потом сокрушалась.
«Конь стоил ровно мою месячную зарплату! – говорила она мне – взрослому. – Но лучше бы я сидела на одних сухарях… Влезла бы в долги! Ведь через месяц ты потерял бы к этому коню интерес! И вот теперь я могу тебе купить что угодно, а тебе не нужно…»
А я знаю другое! Слова мамы потрясли меня тогда. Я видел её дрожащие губы, видел глаза с набегающими слезами. Я понимал, как трудно ей сказать мне правду, но она мне её сказала! Потому что я – взрослый! Меня не надо обманывать, как маленького! Я – взрослый.
Может быть, поэтому колючий ком слез, который стоял у меня в горле (ведь я знал, что коня мне не купят, и спросил уж так… Для очистки совести, как говорится…) – этот ком куда-то исчез. Плакать совсем не хотелось.
Мы шли домой, и я вдруг словно бы впервые увидел разбитые дома на нашей улице, немцев, разбиравших развалины, я почувствовал мамину хромоту – след фронтовой контузии…
Но не подавленность, не растерянность появилась во мне, наоборот! Я почувствовал себя опорой и заступником двух маленьких и больных женщин: мамы и бабушки. Я почувствовал себя сыном этого многострадального города, который терпит разруху как долгую болезнь и ждёт, когда я приду ему на помощь…
Я – вырос и потому стал достоин правды.
«Господи! Зачем я тогда его не купила!» – много лет спустя вздыхала моя старенькая мама. А я считаю по-другому. Как правильно! Как справедливо было, что мне его не купили! Самый дорогой, самый прекрасный, он бы так и остался в моём детстве, пусть любимой, пусть незабываемой, но всё же игрушкой. А не купленный, он стал этапом моей биографии, той тугой и тяжёлой дверью, что приоткрылась тогда передо мною, – дверью во взрослую жизнь, в которую я вступил мужественно и достойно.
Я ещё несколько раз потом останавливался перед витриной, но ни золотые копыта, ни настоящие стремена, ни шёлковая грива уже не вызывали у меня спазмов восторга, а мальчик со стеклянной улыбкой и обручем в гипсовой руке – ненависти.
Конь ещё долго торчал в витрине, пылясь и выгорая на солнце, пока его не убрали, и не поставили на его место, сверкающий лаком и никелем, мотоцикл.
Тонкая рябина
Полвека назад жизнь была совсем другой. Ещё во всем чувствовалась недавно окончившаяся война. Вечерами часто гасло электричество – не хватало угля и торфа для электростанции, и наша коммунальная квартира, где в двенадцати комнатах проживало пятнадцать семей, погружалась в темноту "И у вас нет света? Нет, это не пробки… Теперь надолго … Теперь до утра…" – слышались в коридоре голоса соседок.
Не сговариваясь, жители нашей коммуналки зажигали керосиновые лампы свечки, а ещё чаще, хранившиеся с блокадных времен коптилки, и натыкаясь на многочисленные шкафы, сундуки, ящики с картошкой, что громоздились у дверей каждой комнатушки, шли на кухню. Там было и теплее и светлее, и конечно, же мы, ребятишки вымаливали разрешения нести светлячки коптилок на кухню, а потом затаившись, чтобы не погнали спать, сидели тихонечко, слушая взрослые разговоры о жизни, о любви, о войне, о нас – детях.
Хорошо было сидеть на огромной ещё тепло кухонной плите, среди погашенных примусов и керогазов. В живом свете коптилок кухня не казалась такой громадной и пугающе голой, по стенам её двигались волшебные тени, в сказочные узоры складывались трещины, и пятна, отвалившейся штукатурки, на потолке.
И было чувство одной огромной семьи. Днем на кухне вели примусы и воняли керосинки, крикливо, переругивались женщины, а сейчас было тихо, и никому бы в голову не пришло выяснять, чья очередь выносить помойное ведро или делить плату за свет в местах общего пользования… Может быть виноват в этом первобытный волшебник – огонь, может – темная ночь за окнами, но объединяла нас тогда древняя как мир любовь. Нет, не та, что показывают в кино, не та, что отличается от подлинной любви, как жевательная резинка от краюхи хлеба, а изначальная, что даёт людям почувствовать себя нераздельным единством, духовная любовь, которая не противопоставляет человека – человеку, а человечество – природе, но все согревает, все одушевляет и творит.
Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Головой склоняясь,
До самого тына…"
выводила тоненьким голосочком Танечка Грищенко белобрысенькая голубоглазая хохлушечка, сидя на руках у отца – офицера, который все кашлял, все шаркал ночами по коридору… Он единственный сидел с нами на кухне. Остальные офицеры, что жили в нашей квартире и в нашем доме, почему -то этих спевок избегали. А он уже отличался от всех… Потому шептались женщины «Его демобилизовывают по здоровью.»
Я не знал что это такое, но понимал, что если его демобилизуют, то сразу и выселят из нашего дома, потому что дом для военных…
Нас тоже постоянно грозили выселить, несмотря на то, что мама была на фронте офицером медслужбы… Но война-то кончилась, и она была демобилизована. Мамин брат – был начальником штаба полка и спас этот полк, ценою своей жизни, выведя его из окружения.
– Это мало кого волнует! – сказали бабушке, в штабе части, которой принадлежал наш дом. И бабушка согласилась: война кончилась и то, что ее сын спас полк уже никто не помнил, и в полку все сменились.
Да и вообще, как говорил наш сосед дворник и пьяница :
– Пузо старого добра не помнит.
– Так ведь человек ни из одного живота состоит! Есть еще сердце, разум, наконец!....– возражала бабушка.
– Эх, Олимпиада Осиповна! – вздыхал дворник – Старорежимная вы женщина… Москва слезам не верит!
И бабушка поджимала губы – мы были "чуждые", как кричала однажды наша пьяная соседка:
– Интеллигенция недорезанная! Белогвардейцы! Погодите, мы вас всех передушим.
– За что они нас так ненавидят? – спрашивал я бабушку.
И она серьезно ответила:
– Нас победили… И мы должны терпеть… Пока
– Кто победил?
– Хамы.
На этом разговор кончился. И я уже больше не спрашивал почему все готовят на кухне, а мы в комнате,…Почему мальчишки во дворе, дети этих самых офицеров, которые были либо старше ,либо моложе.( В сорок четвертом году никто не рождался.) Они кричали мне: "Тебе мать отчество выдумала."
Не мог же я им ответить: "У меня в метриках прочерк – потому что папа погиб в штрафном батальоне" – было бы еще хуже. Я – внук священника и казачьего офицера, сын лишенки и штрафника, … «Нас победили, и мы должны терпеть!»
А через дорогу,
За рекой широкой,
Так же одиноко
Дуб стоит высокий…
– пела Танечка. Она была тихая девочка и когда приходила в нашу комнатушку, то останавливалась, в изумлении, перед сундуком, на котором стояли мои игрушки, и ничего не трогала, а только смотрела своими небесными глазами. За это я любил ее еще сильнее. И когда она пела, в свете коптилок на кухне, я не выдерживал и подхватывал:
Как бы мне рябине
К дубу перебраться
Я бы тогда не стала
Гнуться и качаться.
Больше всего на свете я любил петь. И все хвалили мой голос и слух, и я знал, что пою хорошо. Но самое главное не знал никто, кроме меня. Того счастья, что я испытывал, наполняясь музыкой от макушки до кончиков пальцев на ногах, когда голос заполняет грудь и ты, кажется, сейчас взлетишь от красоты, силы и самозабвения… Когда я пел, то казался себе большим и сильным, способным защитить и маму, и Танечку Грищенко и ее сутулого отца в фуражке с тусклым козырьком и потертом мундире с облупленным орденом Красной звезды на груди и ее тихую словно выцветшую маму. Они всегда сидели вместе, тесно прижавшись друг к другу. Тоненьким голоском пела Танечка, осторожно вторила ей мама, иногда хрипловатым баском подтягивал, не в силах сдерживаться, отец, но тут же начинал кашлять, и песня обрывалась.
– Грищенко демобилизовали – сказала как-то утром бабушка – услышавши эту весть на кухне. Квартира притихла. Никто не собирался больше по вечерам петь на кухне.
Недели через две я проснулся от топота и громких голосов в коридоре.
– Две недели тебе было сроку! Две недели, – громко говорил твердый уверенный голос.
– Ну, куда ж я пойду? Нашего и села – то нет! Погодите, обустроюсь – съеду! – услышал я голос танечкиного отца.
Я выскочил в коридор, но тут же был схвачен бабушкой за рубашку и втащен назад в комнату, и все же я кинулся подглядывать в щель приоткрытой двери Красивый крепкий офицер, весь в ремнях, грозно говорил:
– Комната выделена мне, а ты задерживаешь! Есть приказ!
Что-то закричали соседки, напирая на солдат, стоявших тут же в коридоре.
– Вяжите его! – скомандовал офицер – Сержант, выносите вещи на улицу!
Солдаты кинулись к Грищенко. Он покорно заложил их за спину и глядя небесными как у Танечка глазами, сказал:
– Что ж ты делаешь, Коля… Мы же с тобой всю войну под одной шинелью…из одного котелка…
В коридоре воцарилась такая тишина, словно всех выключили.
.Красивый офицер стал белым, как потолок, начал рвать ворот гимнастерки и захрипел:
– А как нас в тридцать втором? А?.. Как нас !.. А? – и вдруг заплакал.
Солдаты остановились и Грищенко, высвободив руки, скрутил веревку, молча отдал ее сержанту.
Мы уйдем, – сказал он, – мы уйдем… Только цирк-то не устраивай! Детей не пугай.
Бабушка оттащила меня от двери и заперла ее на ключ,
Сиди! Сегодня их, а завтра нас!
Я готов был кинуться на защиту Танечки и ее отца, но меня ошарашили слезы красивого офицера.
Вечером, за стеною, где прежде помещались Грищенки, зашипел патефон, и рыдающий голос Руслановой запел:
"Степь да степь кругом…"
Новый жилец, заводил и заводил эту пластинку… Ночью мы слышали как он, шаря руками по стенам , проходил в уборную и обратно.
– Он пьет! – сказала бабушка, и я понял, что этот человек для нее больше не существует.
Никто теперь не собирался на кухне, не пел "Тонкую рябину", и в притихшей коммуналке, по ночам только слышался тоскливый распев "Как в степи глухой умирал ямщик…"
По утрам красивый офицер, твердо топая каблуками, начищенных до зеркального отражения, сапог, проходил по коридору. Он был бледен, затянут ремнями. Лицо его было уверено и неподвижно. Но я помнил его хватающим воздух раскрытым в крике ртом, и как он рвал на груди гимнастерку, мотал головой, и как во все стороны летели его слезы: «А как нас в тридцать втором… А?»
– Нас тоже! – сказала бабушка маме, когда они, уверенные, что я сплю и не слышу, обсуждали происшедшее между собой, – Нас тоже столько раз и расказачивали, и раскулачивали, так что же после этого облик человеческий терять?
К нашему новому соседу вскоре приехала жена, и патефон перестал играть одну и ту же песню "Степь да степь кругом". Когда офицер уходил, его жена заводила совсем другую музыку,– "Вальс цветов", "Брызги шампанского" "Рио-риту"… По вечерам они ругались и даже дрались. Потом его куда-то перевели, и в его комнате поселился раскосый киргиз…
Причем тут песни? Да при том, что, во-первых, они так и остались у меня в сердце рядом: «Рябина» и «Степь да степь»…, во вторых, потому что они одного автора – Сурикова
Но это я узнал много позже, когда в третьем классе стали учить наизусть
"Вот моя деревня,
Вот мой дом родной"
Я был уже помешан на книгах, а тут такое счастье – в соседний дом переехала библиотека, и я мог просиживать там, в читальном зале, все свободное время. Там меня никто не трогал, не донимал. И тогда, если мы проходили стихотворение Сурикова, я брал в библиотеке, все что находил этого поэта и читал, читал.... Как помешанный! Конечно же, я глотал книги. Но, клянусь, томик Сурикова я прочитал в четвертом классе, когда мне было одиннадцать лет! И тогда я обнаружил там и "Рябину" и "Смерть ямщика"…
Мы еще только начали проходить то, что пробалтывали в одно слово "устное народное творчество"… Еще тогда я, бодро отвечая на уроках истории и литературы, твердил, как попугай: «народ – творец истории» "народ создатель – великих произведений" …
Но возвращаясь домой, я видел этот безликий народ, что под гудки Охтенского химического, отравлявшего желтым дымом все вокруг, шел домой. И не мог себе представить как народ, пивший и валявшийся у пивных, мог сочинить "Тонкую рябину " и "Ямщика"?
Когда мы проходили Некрасова, со мной приключилась болезнь, и я попал – первый раз – в больницу. Мама бегала ко мне каждый день и однажды принесла три маленьких томика Некрасова, которые я читал с утра до ночи. И там я вычитал в поэме о железной дороге, спор автора и старого генерала: когда тот спрашивает автора, что же Святого Стефана в Риме, и Аполлона Бельведерского – тоже народ сотворил?
Некрасов- то генерала переспорил, а я тогда, грешник, был на стороне генерала…
У меня были доказательства. Стоило мне порыться в библиотеке, я обнаруживал, что у каждой песни, про которую говорили: она – "народная" то есть, следуя школьному учебнику, создана народом, безымянным и талантливым, как я обнаруживал автора стихов, а в примечаниях имя композитора!
Повторяю, примерно с пятого – шестого класса, я был убежден, что песни, любимые народом, не безымянны! Они имеют авторов, которых народ – великий и могучий, не помнит…
И мне было обидно за авторов, а народ не вызывал у меня симпатии, потому, что именно народ устроил революцию и все что потом произошло.
Именно народ раскулачивал и расказачивал, поэтому мы живем в комнатушке с одним окном, едим одну картошку и еще счастливы, поскольку мы "гнилая интеллигенция" и "недорезанные", а я еще хуже: я – безотцовщна!
Я помню все свои тогдашние мысли и чувствования, и мне жаль того мальчика, что смотрит на меня с фотографий. Потому что он страдал, и потому что все это было от жалости: – к маме, к бабушке, к Танечке Грищенко, к ее отцу, ко всем униженным и оскорбленным – которые и есть народ. Народ, обездоленный во всем. Народ, не безликая человеческая масса, вроде той, что валила по улицам во время первомайской демонстрации, а состоящий из людей, тех, что переживают, умирают в песнях и трагедиях, что это видят и говорят о них поэты. Поэт – мысль и голос народный. Он облекают жизнь народа в словесные образы…Он подсказывает народу слова! А то, что народ не помнит имен многих поэтов так это – высшая награда и слава. Как в церкви, как в Писании говориться " из земли восстав, в землю же и пойдем" – это – награда. А имя – это гордыня… Пыль на ветру вечности…
И все же знать имена поэтов нужно! Знать, и снимать шапку перед их памятью, перед сердцем способным вместить такой вселенский размах боли от "Рябины" до " Ямщика"… Перед словами, которые рождены этим страдающим сердцем, найденными с такой пронзительной точностью, что народ причислил их к своему языку.
Какая мука и какое счастье подсказывать народу слова! Поистине это удел титанов! Каким же надо быть поэтом, чтобы и кашляющий, выселяемый Грищенко, и весь в скрипучих ремнях Стороженко, (так, кажется, звали того офицера ) оба вмещались в Сурикова. Хотя чему тут удивляться – оба были жертвы! Только одной жертве выпало еще побыть палачом.
Я видел его почти каждый день, когда он шел, после вечерней поверки, впереди свой батареи, где зычный голос запевалы помогал держать строй.
Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой!
Мы в смертный бой идем за честь страны.
Пылают города, охваченные дымом,
Гремит в лесах суровый бог войны!»
И батарея, чеканя шаг, подхватывала:
Артиллеристы! Сталин дал приказ.
Артиллеристы! Зовет отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей,
За слезы наших матерей.
За нашу Родину! Огонь! Огонь!
– тоже замечательная песня: слова В.Гусева, музыка Т.Хренникова. Как сошла с экрана из кинофильма "В шесть часов вечера после войны", так полвека и гремит, и, я верю, будет греметь во славу русской артиллерии, и никакие перестройки и модернизации не заставят меня забыть тогдашние, первые грохочущие слова:
Узнай родная мать, узнай жена подруга!
Узнай родимый край и вся моя семья
Как жжет и бьет врага стальная наша вьюга
Как волю мы несем в родимые края!»
И это тоже песня моего детства! Тем более, что первый салют в честь победы на Курской дуге прозвучал ровно за год до моего рождения – 5 августа 1943 года, но это другая история.
Я увидел лошадь первый раз
Как это было – я не помню, потому что был мне от роду год. У казаков, из которых наша семья происходит, есть такой обычай: когда мальчишке исполняется год, его сажают в седло. И со мной так было. Друг моего деда (они еще в первую мировую вместе служили) привел лошадь и посадил меня, а все соседи, родственники и знакомые смотрели, что я буду делать. Мне потом не раз в подробностях все это рассказывала бабушка, потому что я не заревел, а уцепился изо всех сил за гриву, что считалось хорошей приметой. Вторая встреча произошла лет пять спустя и могла вообще отбить у меня охоту подходить к лошади. Я попал в колхозную кузницу, где подковывали старую рабочую конягу. Лошадь была привязана в специальном станке, чтобы не могла ударить кузнеца.
Кузнец Алексей Касьяныч, глухой после фронтовой контузии, подмигивая мне и улыбаясь, длинными щипцами выхватил из огня раскаленную докрасна полоску железа и резкими ударами молотка стал делать из нее подкову.
Хозяин лошади поочередно поднимал ей ноги и специальным ножом с острым лезвием зачищал копыта, чтобы на каждом было что-то вроде клина, похожего на римское V. Лошадь нервно переступала, трясла всей кожей, и хозяин кричал на нее страшным голосом. Новую подкову специальными четырехгранными гвоздями – «ухналями» – приколотили к самому краю копыта, чтобы животному было не больно. Но лошадь все равно боялась и нервно пофыркивала. Еще бы не бояться: молот стучит, в горне огонь полыхает, и черный кузнец что-то там делает с твоим копытом, зажав его между колен!
Я далеко стоял, меня не подковывали, и то было страшновато. Поэтому лошадь мне стало жалко. Когда ее, мокрую от пота, вывели из кузницы, привязали к телеге, где был насыпан ячмень с овсом, и она стала жадно им хрупать, я подошел к ней, благо возница увел ковать вторую лошадь, и тихонько погладил по задней ноге и животу – выше я достать не мог. И тут лошадь ударила меня новенькой подковой! Прямо в грудь! Когда я вырос, то понял, что лошадь была старая, умная и только тихо оттолкнула меня. Ударь она как следует, мне бы не писать этой книги. Но тогда я задохнулся от боли и от обиды. Отлежавшись в траве, наплевавшись вдоволь розовой слюной, я пошел домой, дав себе слово никогда не подходить к этому неблагодарному «зверю». Но слово это я скоро нарушил.
Зиму мы жили в Ленинграде, а весной опять двинулись на Дон. Было трудное послевоенное время: вокзалы набиты людьми, попасть на поезд – подвиг. И вот после толкотни, истерик в толпе, давки и духоты в вагонах мы выходили на тихой станции. И дед Хрисанф, тот, что сажал меня на коня, отдавал нам честь, приложив левую руку к козырьку казачьей фуражки. Правой руки у него не было – оторвало в гражданскую, поэтому казалось, что дед все время ходит боком.
Скрипела телега. Под впечатлением того, что мы приехали из Ленинграда, дедушка запевал: «Как в столице Петербурге, в Зимнем каменном дворце. там при каждом при покое караул донцы несуть..” Я очень люблю эту песню. Дед ее замечательно пел и еще свистел в конце каждого куплета, а мама, сняв платок, подпевала ему низким голосом, каким никогда не пела в городе. Она делалась сразу красивее, и даже седина ей шла. Так изморозь не портит степную траву. «…И-и-их, да там при каждом при покое стоять казаки на часах…» – выводил дед умопомрачительной сложности мелодию. А дальше рассказывалось, как «царица Катерина выходила погулять», как она увидела «молодого кавалера при дворцовых при дверях». И был он такой бравый и красивый и так стоял – не шелохнувшись, – что царица остановилась и спросила: «Из какого, казак, войска? Из станицы из какой?» Но казак устав помнил твердо. «Ничего ей не ответил. потому как службу знал, ничего ей не ответил, даже глазом не сморгнул». И тогда царица, тоже, вероятно, вспомнив устав караульной службы, «положила к его ногам медаль»…Дед пел, а мне казалось, что это он про себя, что он—молодой, статный конвоец в красном чекмене, в белой мохнатой папахе —стоит в роскошной дворцовой зале…
Вокруг нас медленно поворачивалась весенняя степь. Сочная, до синевы с белым налетом. трава исполосована ярко-алыми маковыми реками. Они, как сказочные дороги, убегали за горизонт, а там уже показывался багрово-оранжевый край солнца.
И вдруг в это весеннее великолепие из-за холма вылетели два коня. Один – снежно-белый. второй – гнедой. На них не было никакой сбруи, они шли широким галопом, алые маки взлетали красным облаком из-под копыт и плавно кружились на фоне ослепительного синего неба. И меня охватило такое ощущение свободы и счастья, что я тоже запел во всю силу голосовых связок. И уже тогда я почувствовал, что никогда не забыть мне ни этих коней, ни этой степи, ни всей нашей прекрасной земли. .. А кони все скакали, скакали, словно уплывали в мои сны. ..
Прости меня!
Настоящего голода, какой переживала моя мама на Ленинградском фронте, а бабушка в блокаду, я не помню, но голодные времена застал. После войны в Ленинграде мы перемогались, получая хлеб по карточкам, и всё мечтали: вот приедем на Дон…
Возвращаясь после многочасовых стояний в очередях за мукой, которую только начали продавать, после давки, духоты, истерических слухов: «Кончилось! Больше давать не будут!», мы приносили домой три пакета – бабушкин, мамин и мой, и вот тут начинались воспоминания о каких-то сказочных временах, о невиданных урожаях и пышных казачьих калачах. Мне эти рассказы казались фантастическими, как легенда, про золотые яблоки! Разве могут быть яблоки из золота? Но я мечтал. Мечтал и надеялся!
И, наконец, мы поехали туда – в голубые степи, в края ковылей и маков, прозрачных рассветов, пшеничных караваев и всех плодов земных! А когда добрались до нашего хутора – тут-то нас голод и настиг!
И всё оказалось неправдой! Степь была не голубой, а пожухлой, удушающее-пыльной. На её иссечённой трещинами голой земле, как спицы, неподвижно стояли пустые колосья, и над всем этим горело тусклое от жары солнце в белесом мареве засухи.
Коровы с выпирающими мослами, лошади, глядящие по-человечьи измученно и покорно… Мужчины, в основном инвалиды, вернувшиеся с войны, с ввалившимися глазницами, обтянутыми потрескавшейся кожей скулами и лихорадочным блеском в глазах. До сих пор я помню их ссутуленные плечи и огоньки бесконечных самокруток, угольками вспыхивающие в чёрных кулаках. Женщины, плоскогрудые, с опущенными руками, с тонкими, горько поджатыми губами и тёмно-коричневыми лицами под низко надвинутыми платками. Ребятишки, молчаливые, пузатые, тихо выискивающие по канавам и у поваленных плетней какие-то съедобные корешки, щавель, постоянно жующие какую-то траву.
Нас спасали два мешка сухарей, накопленные в Ленинграде. Ежедневно утром и вечером оттуда извлекались два сухаря, и бабушка внимательно следила, как я их ем: «Чтобы по-людски, за столом, не торопясь, чистыми руками, обязательно прихлёбывая из миски отвар свекольной ботвы. Не в сладость, а в сытость»
Боже мой, а что же они с мамой ели? Что вообще ели взрослые, если детей кормили лепёшками из лебеды?
И вот однажды, когда я искал с соседским мальчишкой какие-то «каланчики» и ел их на огороде, его сестрёнка, бледная как бумага даже при степном солнце, с белыми косицами, в выгоревшем до белизны платье, явилась среди пустых грядок и позвала меня:
– К вам дяденька на бричке приехал!
И точно. В нашем дворе стояла таратайка, и лошадь дёргала кожей на животе, отгоняя мух. И уже здесь я почувствовал идущий от тележки запах. Я взлетел на крыльцо и наткнулся на целый пласт этого аромата. Он стоял как раз на уровне моего носа. Из сеней запах потащил меня в комнату к бабушкиному комоду – там, во втором ящике, под старенькой простыней, я увидел четыре огромных, душистых, масляно блестевших корочкой, с высокими пористыми боками белых каравая. От их запаха у меня кружилась голова, но впиться в хлеб, разламывать его, кусать – я не посмел. – С великой натугой я закрыл комод.
– Ничо! – доносился из соседней комнаты мужской голос. – По крайности, войны нет – сдюжим!.. А в июле сколь-нибудь соберём! Местами хлеб есть…
– Егорушка, – ахала бабушка. – Да что ж ты к нам, у тебя своих пятеро!
– А у меня ещё есть! Это нам артельный на трудодни зерно выдал, дай бог ему здоровья: и где взял? А я так думаю… – сказал он, поворачиваясь ко мне. – У моих-то отец есть! Вот он, с руками и ногами, а ему кто, сироте, даст?
Это была самая больная струна в моём сердце, и он потянул за неё – этот незнакомый голубоглазый и весь какой-то вылинявший на солнце Егор.
– Всё же вы гости! Из Ленинграда! В родные как-никак места возвернулись, и тут голодовать… Негоже так-то! Это и дедушке твоему от меня благодарность! – Он протянул ко мне руку, и я сжался, как от удара: «Сиротку жалеет! Добренький!» – Бывало, придёт твой дедушка в класс, – гудел Егор, – высмотрит, кто совсем пропадает, да и сунет ему тишком сухарика от своего пайка. Мне сколь разов перепадало. Святой был человек, я с его грамоты пошёл…
Я возненавидел Егора! Меня затрясло от его белозубой улыбки и жалостных глаз. И как я, пятилетний недомерок, сообразил, чем больнее ударить его?!
– А что это у нас в доме так навозом тянет? – «Вот так тебе! – подумал я. – Пришёл, расселся тут. Жалеет. Разговаривает!»
Запах от Егора шёл густой, в нём мешались конский и овечий пот, махорка и духота овечьего закута.
Егор заморгал белыми ресницами, нахлобучил бесформенную папаху и суетливо заторопился.
– И то! И то… – забормотал он. – Спим-то посреди отары… Принюхавши… Вы уж извините… Надо бы сперва в баню… Но я хлебца вам тёплого, из печи чтобы, хотел…
Когда я ел божественно пахнувший ломоть, грыз хрустящую корку, тонул в белопенном мякише, чувствуя щеками его живое тепло, – я не понимал, какой поступок совершил!
И только потом, когда томление сытости стало склеивать мне веки, я удивился, почему это после ухода Егора ни мама, ни бабушка не сказали мне ни слова. Мама сидела, забившись в угол старенького диванчика, а бабушка гремела посудой.
– Это же надо – взрослому человеку… – наконец проронила она, убирая в буфет тарелку с куском, который я не смог одолеть весь, – Стыд – какой!
– Как стыдно! Как стыдно! – Мама поднялась и стала ходить по комнате, ломая пальцы. – Он в степи, под градом и холодом, под молниями и суховеями, круглый год один, среди овец…
– У него своих детишек голодных пятеро, а он тебе первому… Я – плохая бабушка! Я не умею тебя воспитать! – Это была самая страшная фраза.
Через час такой пытки я уже рыдал, понимая весь ужас совершённого мною.
– Что же мне делать? – закричал я, захлёбываясь слезами.
– Сам набедил – сам и поправляй!
– Да как же! Как же я у него прощения попрошу, если он уехал?
– А что ты думал, когда его обижал? Ты же нас всех, нас всех – и дедушку, и папу, и нас с мамой – на всю жизнь опозорил…
– Он недалеко живёт!—обронила мама.—За оврагом, у кладбища.
– Так ведь уже темно! – кричал я, леденея от мысли, что придётся переходить овраг, где и днём-то страшно. – Меня бугай затопчет!
– Бугай давно в сарае спит.
– Меня волки съедят!
– Пусть! – отрезала бабушка. – Пусть лучше моего внука съедят волки, чем будет внук – свинья неблагодарная!
– Он ведь хлеб! Он ведь хлеб тебе привёз, – прошептала мама.
На улице было действительно совсем темно. Всё, что было привычным и незаметным днём, выросло и затаило угрозу: и плетни вдруг поднялись, как зубчатые стены, и белёные стены хат при луне вдруг засветились мертвенно и хищно.
Спотыкаясь и поскуливая, вышел я к оврагу, где темень лежала огромным чернильным пятном. Я пытался зажмуриться, но глаза от страха не закрывались, а норовили выскочить из орбит. Рыдая, опустился я на дорогу, где под остывшим слоем пыли ещё таилось дневное тепло. Домой повернуть было невозможно: «Ты нас всех опозорил!».
– И пусть! – шептал я. – Пусть меня сейчас волк съест, и не будет меня у них!
И я представил, как все по мне плачут. Но картина не получалась, потому что я знал:
вина-то моя не прощённая! И виноват я по уши! «У него своих детишек пятеро голодные сидят, а он тебе хлеб привёз!»
Из темноты вдруг высунулась огромная собачья голова, ткнулась холодным мокрым носом в мой голый, втянутый от страха живот, потом пофырчала мне в ухо и скрылась.
Как во сне поднялся я, перешёл чёрный овраг и, стараясь не смотреть в сторону кладбища, вышел к Егорову куреню. Окна не светились… И тогда я зарыдал в голос, потому что всё было напрасно: Егор спит, а завтра он уедет и никогда не простит меня!
– Кто здесь? – На огороде вдруг осветилась открытая дверь бани.
– Дядя Егор! – закричал я, стараясь удержать нервную икоту. – Это я! – И, совсем сомлев от страха, от стыда, почему-то совершенно замерзая, хотя ночь была жаркой, ткнулся во влажную холщовую рубаху овчара и, заикаясь, просипел: – Дядя Егор! Прости меня!
За всю мою жизнь не испытывал я большего раскаяния, чем в тот момент.
– Божечка мой! – причитал Егор. – Да закоченел весь! Милушка ты моя!
Потом он мыл меня, потом мы шли домой, всё той же бесконечной ночью. И только много лет спустя, мама рассказала мне, как они с бабушкой шли за мною по пятам, обливаясь слезами. Мама несколько раз порывалась подбежать ко мне, больно маленький я был и очень горько плакал, но бабушка её останавливала: «Терпи! Никак нельзя! Сейчас пожалеешь – потом не исправишь…»
Были у нас потом и праздники, и изобильные столы, и весёлые рыбалки с дядей Егором. Были длинные ночные разговоры под чёрным и бездонным небосводом, но навсегда осталось у меня чувство вины перед тем, кто дал мне хлеб…
Перед Егором – Георгием – Земледельцем – так это имя переводится с греческого.
Вот ведь какая символика получается…
Первая премия
То, что я не забыл этот случай, – не удивительно! Это ведь была самая первая награда в моей жизни. Удивительно, что я всё помню до мельчайших подробностей, словно это произошло вчера, а ведь было мне тогда, всего пять лет.
Мы жили на Ржевке – сорок лет назад это была отдалённая и грязная окраина Ленинграда. С одной стороны нашего четырёхэтажного дома – самого высокого дома в округе – тянулся глухой забор военного городка, а с другой, были химические заводы, которые время от времени выпускали такой вонючий и ядовитый жёлтый дым, что не только гулять во дворе не хотелось, но и в нашей огромной коммуналке, где и без химического производства запахов хватало, дышать было нечем.
«Он погибает без воздуха! Он погибает!» – говорила мама моей бабушке. Я не считал, что погибаю, но с удовольствием смотрел, как бабушка надевает панамку, кладёт в сумочку два бутерброда и берёт старый зонтик с костяной ручкой: это означало, что мы с ней отправляемся в замечательные места – в Таврический сад, в Летний или совсем за тридевять земель, в ЦПКиО на целый день!
В парках я копался со своими сверстниками в песочнице, бегал по аллеям, а бабушка, сидя на скамеечке, разговаривала с такими же, как она сама, старушками, в панамках, матерчатых туфлях, длинных юбках и тёплых кофточках.
Иногда мы ходили в молочную столовую, где ели простоквашу из пузатеньких баночек. Простокваша мне нравилась, но я стыдился, что бабушка всегда заворачивала недоеденную мною вафлю или коржик в салфетку и брала с собой – «на потом».
Но больше всего мы любили слушать военные духовые оркестры, что по праздникам и в воскресные дни играли в раковинах открытых эстрад на Елагином острове.
У бабушки в маленькой записной книжечке была выписана программа этих бесплатных концертов на весь месяц, и мы старались не пропустить ни одного.
Мы приезжали на трамвае задолго. Усаживались на длинные белые скамейки с литыми боковинами и гнутыми спинками перед разинутой полусферой эстрады и рассматривали пузатые барабаны, торжественно поблёскивающую латунь и серебро духовых, строгие чёрные футляры, из которых извлекали их музыканты. Сами оркестранты в отутюженных военных мундирах ходили по сцене, двигали пюпитры, перелистывали ноты, негромко разговаривали между собой, иногда пробовали проиграть какую-то фразу из ещё не родившейся музыки…
Но вот выходил деловитый подтянутый капельмейстер, скамейки вспыхивали короткими аплодисментами. Парой чаек взмывали над оркестром его руки в белых перчатках, и сердце моё замирало от восторга.
При звуках вальса бабушка чуть заметно покачивала в такт головой, и было легко представить её молодой красавицей в огромной шляпе с вуалью или совсем юной гимназисткой, кружащейся на серебряных «снегурках» по льду катка. Когда играли марш «Прощание славянки», бабушка всегда плакала, вытирая слезы кружевным платочком, – папа, дядя и дедушка под этот марш уходили на фронт. И не вернулись…
Мне нравились военные марши. Особенно «Памяти „Варяга"»! Их музыка рождала во мне твёрдую уверенность, что вот я вырасту, стану сильным и смелым, как герои «Варяга», и тогда смогу защитить всех! И мама, и бабушка будут мною гордиться!
А когда играли «Сказки венского леса» Штрауса, мне чудились какие-то волшебные рощи с кружевной листвою старых деревьев, пугливые олени с добрыми глазами, кони с лебедиными шеями и стаи прекрасных белых птиц, что плывут над осенними полями в голубой вышине, мне виделись озёра с прозрачной водой, камыш под ветром, сосны на морском берегу… Всё то, чего я ещё никогда не видел! Только слышал про это по радио да рассматривал на картинках в книжках.
Но мне так хотелось туда! Музыка вела меня в ту страну, которая называлась длинно и притягательно: «Когда я вырасту большой!»
И вот однажды, когда мы торопились с бабушкой на концерт оркестра Балтийского флота и очень беспокоились, поглядывая на серое небо – как бы дождик не испортил нам долгожданного праздника, у эстрады мы увидели огромную толпу пионеров. А на сцене вместо обожаемых мною моряков и блеска инструментов стоял стол, накрытый красной скатертью; за ним сидели какие-то тётеньки, а с краю единственный дяденька.
Он был одет в странную куртку не то из брезента, не то из какой-то другой непромокаемой ткани, на голове у него была пупырчатая кепка.
Он сидел, нахохлившись, засунув руки глубоко в карманы коричневых брюк с большими отворотами, и покачивал закинутой на ногу ногой в крепком ботинке с круглым носом.
Дяденька заметно скучал, глядя куда-то вдаль поверх голов бесновавшихся пионеров. Мне кажется, он даже что-то насвистывал, сложив длинные губы трубочкой под щёточкой усов.
Тётенька в чёрном костюме и пионерском галстуке что-то выкрикивала сорванным голосом, и пионеры с воем вздымали руки, трясли ими в нетерпении, вскакивали с мест, топотали ногами… Гвалт стоял ужасный!
Бабушка, крепко держа меня за руку, подошла поближе к эстраде, чтобы спросить, будет ли концерт, и я оказался совсем близко от дяденьки в кепке. Его ботинок качался чуть ли не у меня над головой, были видны все гвозди в подошве.
Дяденька посмотрел на меня с высоты, как на муравья, насупился и надулся. Я понял, что он меня передразнивает: у меня была такая привычка смотреть исподлобья.
Так, чтобы не видела бабушка, я показал ему язык. Дяденька развеселился. Его круглые, чуть отвислые щёки поехали в стороны, и он мне подмигнул. Подмигивать я уже умел и не замедлил с ответом. А ещё я скосил глаза к носу и надул щёки. Дяденька вытащил руки из карманов и показал, что сам так не умеет и что он потрясён моим искусством. Я загордился!
В этот момент тётенька повернулась к нам и, поблёскивая очками, прокричала:
– А теперь назовите три произведения советских писателей о животных!
При этом она выразительно посмотрела на дяденьку, с которым я перемигивался.
Пионеры завыли. Я подумал и тоже поднял руку.
– Думаем! Думаем хорошенько! – поддавала азарта тётенька.
– А вот тут товарищ что-то хочет сказать! – кивнул на меня дяденька.
– Он не первый! Он не первый руку поднял! – заорали пионеры. – Так не честно!
В нашем дворе было много таких мальчишек. Они никогда не принимали меня в свои игры. Дразнили. А при случае и колотили! И вот теперь такие же безжалостные ребята не дают мне показать этому хорошему человеку, что я не лыком шит, что я тоже знаю много книжек, в том числе и про животных!
– Уступим товарищу! – поднял руку дяденька и встал. – Уступим! Он же маленький!
– Я не маленький! – сказал я. – Мне уже почти, что пять лет!
Бабушка смеялась и дёргала меня за руку.
– Извини. Солидный возраст, – сказал дяденька. – Так что же ты нам хотел сказать? Пионеры притихли.
– Я знаю три произведения советских авторов: про золотую рыбку, про золотого петушка и «Сверчок»!
– Неправильно! – заорали пионеры. Бабушка, смеясь, пыталась меня увести.
– Нет, позвольте, – сказал дяденька, грузно опускаясь на краю сцены на корточки. – Кто сказал, что золотая рыбка не животное?! Дайте товарищу договорить. А кто про золотую рыбку написал и про золотого петушка, знаешь?
– Знаю! Пушкин. Александр Сергеевич! Его убили на дуэли из пистолета.
– Неправильно! – бесились пионеры. – Он при царе жил! Неправильно!
– Ну и что, – сказал я, – что при царе! Такие хорошие стихи!
– Вот именно! – сказал дяденька. – Совершенно, советские стихи!
– А про сверчка я вообще наизусть знаю! – ободрился я.
– Замечательно! – сказал дяденька, легко наклоняясь ко мне и поднимая меня на сцену. – Ух, ты! Вес петуха-подростка! Читай!
«Папа работал! Шуметь запрещал!
Вдруг под диваном сверчок затрещал!
– Замечательно! – сказал дяденька и первым захлопал в ладоши, когда я громко дочитал стихотворение до конца. – Просто Качалов! Просто: «Дай, Джим, на счастье лапу…» – тоже, кстати, про животных! Нет, тут нужна первая премия! За художественное чтение хотя бы и за патриотическое мировоззрение! Знание литературы само собой!
Он стал рыться на столе, где лежали всякие книги.
– Вот беда! Ни одной моей не осталось! Знал бы – из дома бы прихватил! Это тебе всё не по возрасту… «Овод» – рановато! А вот без этого шедевра, – сказал он, откладывая что-то в сторону, – ты будешь жить гораздо счастливее и много дольше… Так!
Он растерянно шарил по столу, тётеньки, как могли, помогали ему, то есть, суетились. Пионеры орали, а я стоял и ждал премию. Я не знал, что это такое!
– А как ты сюда попал? – спросил дяденька, чтобы я не стоял истуканом.
– Мы с бабушкой пришли слушать военный оркестр.
– Ах, военный!
Человек хлопнул себя по лбу. Он сунул руку в карман своей необыкновенной куртки, которая, казалось, вся состоит из карманов, и вытащил оттуда маленькую книжечку в бумажной обложке.
– Вот! – сказал он, протягивая её мне. – «Рассказы о Суворове». Ты знаешь, кто такой Суворов?
– Знает! Знает! – торопливо подсказала бабушка. Она крепко держала меня за щиколотки.
– Знаю! – сказал я. – Это великий русский полководец.
– Замечательно! Вот тебе книга, про великого русского полководца Суворова. Из библиотеки журнала «Советский воин». Ты советский воин?
– Да! – сказал я, – Я – советский воин!
– Поздравляю тебя, советский воин, с первой твоей премией! Ты замечательно отвечал на вопросы литературной викторины! Расти большим и счастливым!
– Вы подпишете? – сунулась к нему тетенька с авторучкой.
– Ну, я же не Суворов, – сказал дяденька. – Как же я буду подписывать? Ещё раз поздравляю! – И моя рука утонула в его тёплой ладони, – Поаплодируем товарищу!
Я шёл от эстрады, провожаемый завистливыми взглядами пионеров, под барабанный грохот аплодисментов.
– Кто это? – спросила бабушка дежурного пионера, показывая глазами на дяденьку, подарившего мне книжку.
Ха! – сказал высокомерно пионер с красной повязкой на рукаве. – Это же Виталий Бианки!
– Интересно! – сказала бабушка. – Какая фамилия итальянская! – Чувствовалось, что фамилия ей ничего не говорит.
Буквально, на следующий день мы отправились в библиотеку и принесли оттуда целую пачку книг Виталия Валентиновича. И он обрушился на меня.
В нашей тесной комнатушке зашумели леса, закурились туманами болота, посыпали снегом полярные зимы, засновали куницы и белки, засвистели крылья диких гусей. Огромный мир живой неповторимой природы раскрыл передо мною свои милосердные объятия. Насекомые, птицы, звери и даже рыбы заговорили со мной, и в их речах явственно слышались интонации силы, понимания и доброты, зазвучал голос самого Бианки.
Бабушка считала, что не следует учить меня грамоте, пока я не пойду в школу, иначе мне будет скучно на уроках и я стану лениться. Поэтому я был уверен, что читать не научусь никогда, и умучивал бабушку до полуобморочного состояния, заставляя в сотый раз перечитывать «Нечаянные встречи», или «Мышонка Пика», или «Лесные были и небылицы». Я стал прилежным слушателем «Вестей из леса» по радио, потому что это тоже был Бианки. День, в который я безошибочно отличил следы собаки от следов кошки на первом снегу, стал днём моего торжества и уверенности в собственных силах.
А когда я пошёл в школу и быстро научился читать и писать, то тут же решил стать писателем Бианки.
Я сэкономил денег на четыре тетрадки. Каждую из них, в подражание «Лесной газете», озаглавил: «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима» и собрался писать книгу. Но дальше первой строчки дело не пошло.
Мне вдруг открылась главная истина: прежде чем начать писать, нужно прожить большую жизнь, многое увидеть, запомнить, причём увидеть так, как не видел никто до тебя. Нужно многому научиться, многое обдумать, постигнуть и понять и только тогда браться за перо.
Поэтому в моей литературной деятельности наступил длительный перерыв. Больше двух десятков лет я учился, работал, овладевая самыми разными профессиями в самых разных местах страны, и забыл, что когда-то в первом классе собирался быть «Виталием Бианки». И только взрослым человеком решился сесть за рукопись, твердо зная, что если я этого не скажу, то никто не скажет,.
Я никогда не был учеником Бианки. Больше того, я никогда не встречал его больше. Строго говоря, я не был с ним знаком. Но я читал его книги, а стало быть, он меня учил. Может быть, поэтому не случайно, что первая моя книга о самых прекрасных животных – о конях!
И вот теперь я, пожалуй, могу сказать: книги Бианки были моим букварём. Человек не учится у букваря всю жизнь, но это первая и самая главная книга любого из нас. И кто знает, не повстречай я случайно сорок лет назад весёлого и доброго человека в странной куртке и пупырчатой кепке, с тёплыми и добрыми руками, как бы сложилась моя судьба.
Скрипачонок
По Невскому ходил трамвай, и мы приехали на трамвае. Он вроде бы сворачивал на тогдашнюю улицу Желябова, ныне опять Большую Конюшенную. Я помню это точно, потому, что в тот летний день начали снимать трамвайные рельсы с Невского и с какой -то улицы, около здания, удивившего меня мелодичным как нота взятая камертоном названием «капелла».
Мы с мамой, собственно, ехали в Эрмитаж, потому что у нее был выходной, но зачем -то соединили нашу поездку с заходом в эту капеллу, где сын соседки, он был старше меня на полтора года, и стало быть поступал в первый класс, проходил конкурсный отбор.
Я его не любил, потому что он был сильнее и считал, что поет лучше меня. А поет лучше, потому что он украинец , а «украинцы все певучие» . Разумеется это ему напели дома ,чтобы повысить его конкурсную боевитость ,но парень он был действительно горластый. Орал на всех концертах в соседней воинской части ,где был наш детский хор ,но мне было тяжело его слушать ,потому что он постоянно ,как говорила моя бабушка «сдорил» – слушок то у него был паршивенький. А фальшивое пенье можно сравнить только со скрипом ножа по тарелке или еще с чем – нибудь тошнотворным.
Думаю, что в капелле я потерялся, а взрослых просто не пустили в большой зал ,где собирались принаряженные конкурсанты в вельветовых костюмчиках, некоторые с бантами на гриди. Как я попал в эту толпу? Не исключено, что поддавшись детсадовскому рефлексу, когда велели простроиться парами, я – построился. и пошел наверх по лестнице в большой зал вестибюль. Здесь нас разбили на стайки по десять человек и развели по кабинетам. Я удивился, что в том, куда мы пришли, за роялем сидел дяденька. Мужчину за музыкальным инструментом я видел первый раз( если не считать солдата, который играл на гармошке в нашем хоре) и считал это дело сугубо женским.
Дяденька заставил нас по очереди петь за ним ноты. Сашка, так звали моего соседа, как всегда, сфальшивил.
– Да нет же! – раздраженно сказал дяденька. Вид у него был измученный: – фа, фа!.
Сашка покраснел, взмок и опять промахнулся.
– Фа! – рявкнул дяденька.
И тогда, чтобы помочь Сашке, как я помогал ему всегда в хоре, куда нас водили мамы, я тихонечко подпел-подсказал: « Фа…»
Дяденька повернулся ко мне с таким видом, точно хотел меня раздавить, как паровой каток.
– Громче! – заорал он.
Я спел громче.
– Громче! – не унимался он.
Я двинул так, что перекрывал шум отбойных молотков на улице.
– До – ми- соль -до! – закричал дяденька, грохоча по клавишам.
Я запел за ним, но не запомнил нот и сбился.
– Что! – закричал дяденька, – Разве не ясно?
– Я такого слова не знаю, – сказал я, памятуя бабушкины слова: «никто не смеет на тебя орать! Никто!»
– Какого слова? – спросил, будто из воды вынырнул дяденька.
– Которое вы кричите: про домик и про фасоль
– Ха ха-ха, – громко и отчетливо сказал дяденька, не меня выражения лица и я понял, что он так смеется, – Ха-ха-ха .. Пой просто «Ааааа»
Я запел. Он стал бабахать по клавишам и я почувствовал, что под его грохот петь удобнее. Нужно просто опираться на главные звуки.
– За мной! – закричал дяденька, – Пой за мной. «Горные вершины спят во тьме ночной» …
Я слышал эту песню по радио, и она мне нравилась. Чувствуя прилив того счастья, которое всегда овладевало мною при пении, я вдохнул и, как говориться, выдал во всю мощь…
Я пел и чувствовал, что получается хорошо, потому что вдруг с половины куплета, дяденька красивым, словно не своим, голосом стал подпевать: «Горные вершины…» Его мелодия шла в другую сторону. Я словно карабкался по эти неведомым мне горам, а он шел со мною рядом, заботясь, чтобы я не упал. « Не пылит дорога, не дрожат листы…» и когда мы, наконец, добрались до вершины, где «подожди немного, отдохнешь и ты…» Я полез в такую высоту, самостоятельно повторяя финал, что дяденька, отстал где-то по дороге. Но я спел чисто, и это, позванивая хрусталиками, подтвердила мне люстра, висевшая под потолком.
– Так!– закричал дяденька, – Всем стоять! Стоять молча! Я сейчас.
Он схватил меня за руку и как был без пиджака, поволок меня, куда-то по коридорам. Мы прибежали в другую комнату, где тоже был рояль и сидело человек десять взрослых и старичков, и старушек.
Мой растолкал всех и стал что-то говорить, стукая меня пальцем в макушку.
– Ну-ко, ну – ко, – потирая руки, подскочил ко мне маленький старичок – Что будем исполнять? Ну-ко.
– «Возьмем винтовки новые»
– А что-нибудь более мирное?
– «Слыхали львы»
– Что-что? спросила какая то старушка, приставляя ладонь к уху. -
– Львы, – пояснил я, – Львы слыхали.
– Ну, и что же они слыхали? – тряся над моей головою огромным животом, синея от смеха, спросил грузный человек с чубом и лицом красным, как срез окорока в колбасном отделе.
– За рощей глас ночной…
– Глаз, надо полагать, совиный? – спросил он, изнемогая от смеха.
– Не .., – сказал я, – это по – старинному так говорили. Глас это голос.
– Ну, раз голос, – сказала старушка, садясь к роялю, – давайте послушаем.
– Слыхали-ль вы, за рощей глас ночной, певца любви, певца моей печали… Когда поля в час утренний молчали свирели звук унылый и простой…
По лицам этих замечательных старичков и старушек я понял, что делаю что- то очень им приятное, поэтому я остановился и смело сказал:
– Там две тети поют.
– Желаете дуэтом? – спросил старичок.
– Угу, – сказал я, глядя на того толстого, краснолицего, но он только трясся и махал руками.
– А какую ты будешь петь партию? – спросила старушка за роялем – то-есть, за какую тетю?
– А хоть за ту, хоть за ту…
– Придется помогать, – какая то очень большая дама, подошла к нам и, прижав мою спину к своему животу, сразу начала петь, голосом такой глубокой красоты, что я задохнулся от счастья.
Я думаю, что мы очень хорошо пели, потому что тот, кто привел меня стоял посреди комнаты, уперев руки в бока, глядел мне в рот, и губы у него шевелились, будто он пел вместе с нами.
– Уникум! – закричал толстый и зааплодировал, когда мы перестали петь
Я поклонился пониже в пояс, – мне было приятно, что он назвал меня «умником»
– Я не могу! – кричал он, хохоча и утирая лицо платком, – Брать! Немедленно брать! Просто подарок!
Меня схватили за руки и поволокли вниз по широкой лестнице, где стояла плотная толпа взрослых
– Чей ребенок? – закричал тот, без пиджака, не выпуская моей руки, точно боялся, что я куда то упорхну.
– Что он сделал? – сквозь толпу протискивалась мама, – Мой.
Она попыталась оторвать меня от этого, без пиджака, но он не пускал.
– Сколько ему лет?
– Пять, – сказала мама, – Пять с половиной. Даже восемь месяцев…
Дяденька застонал.
– То-то я гляжу, больно он маленький какой-то – сказал ласковый старичок, который бежал за нами вприпрыжку из зала, где мы пели.
– В дирекцию! Как исключение! – рычал тот, что привел меня.
– Что ты натворил? – спрашивала мама меня.
– Я пел.
– Какие слова? – волновалась мама, – Вообще то он у меня не озорной, – говорила она старичкам и дяденькам, которые шли с нами толпой.
– Пять лет! – стонал тот, без пиджака, – Пять! Какая жалость!
– Почти шесть, – говорила мама, извиняющимся голосом.
Нас привели в большую, светлую комнату, где за печатной машинкой сидела красивая, молодая тетя. Она дала мне чаю с конфетой, пока мама уходила куда -то за высокую темную резную дверь.
Скоро она высунулась оттуда и позвала меня
– Иди – покажись! – вид у нее был испуганный и одновременно гордый.
Я вошел. В кабинете за огромным письменным столом сидел (сразу было видно) начальник. Он улыбался и кивал мне, но сказал:
– Не выдержит. Мал.
– Но может быть, в виде исключения… – стали просить старичок и тот, без пиджака.
– Товарищи! – веско положив огромную руку на стол, сказал начальник, – Существует установка – от семи до восьми. И это согласовано с медициной. А ему еще шести нет. А он вон еще субтильный какой! И вы уважаемая даже не знаете о чем просите … Это же адская жизнь! Ка- тор-га!
– Да я ни о чем и не прошу! – краснея, сказала мама, – Мы, вообще, сюда случайно зашли, со знакомыми.
– Приходите через годик! – сказал начальник. – Через годик сколько ему будет?-
Шесть с половиной! Ну вот, тогда еще можно будет о чем –то разговаривать.
Я не помню, попали мы в тот день в Эрмитаж или нет. Думаю, что нет.
Помню, как мы шли по Невскому, мимо какой –то студии звукозаписи. И мы зашли туда. Там разные мелкие мальчишки и девчонки пели и читали стихи, а их записывали на пластинку, а пластинку можно было взять себе. Но голоса на пластинке были совершенно не похожи на те, которыми пели или говорили ребята. Поэтому мы не стали записываться. Так сказала мама. Но я думаю, что у нас просто не было денег.
Весь вечер мама разговаривала с бабушкой.
– Может быть это его судьба? В конце концов, у нас все пели. И у тебя был голос, если бы не война… – говорила бабушка.
– Но ведь это интернат! Нужно будет его отдать! Отдать навсегда! – говорила с ужасом мама.
И я замирал от страха: – Как это меня отдать? Кому?
– Возить его со Ржевки, ежедневно, к восьми утра – немыслимо. Мы его потеряем! – говорила мама.
– Господь все управит Сам, ко благу..– закончила разговор бабушка: – Все в Его воле. На Него и положимся. И нечего себе голову дурить…Станем жить, как жили. Господь разберется.
И она оказалась права. Осенью я заболел коклюшем. И кашлял, выворачиваясь на изнанку как варежка, месяца два.. После чего у меня голос не то чтобы пропал, но так изменился, что уже никого не поражал и петь мне еще долго было трудно.
О капелле мы не вспоминали, хотя мама и бабушка говорили иногда:
Стало быть, судьба такая… И слава Богу … А жизнь еще не вся… Еще все только начинается.
Я потихоньку плакал. Мне было жалко пропавшего голоса и того счастья, что ушло вместе с ним, и все это сливалось для меня в прозрачное и печальное, будто стук дождевых капель по стеклу, слово «капелла»…
А летом вдруг в нашей коммуналке появился тот, что пел со мною про Горные вершины. Я бегал по двору, когда мальчишки прибежали и закричали:
– Борька, к вам дядька какой-то приехал, в шляпе!
И я помчался домой, замирая от мысли, а вдруг это приехал мой отец или его, может быть его фронтовой друг, потому что я знал – отца уже нет на свете. Но мало ли что…
И уж никак не ожидал я увидеть в нашей комнатушке того – из капеллы.
– Ну вот … сказал он: – Ну вот… А я все думаю, что же ты не едешь…Вот сам приехал к тебе, а ты, говорят, болел…
– У меня голос пропал . – сказал я глядя ему прямо в глаза.
Он заморгал виновато и я увидел, что у него ресницы длинные, как у поросенка, а все лицо в веснушках.
– Это бывает! Бывает! Ничего, не горюй! Еще появиться! Сейчас, главное не упустить время! Это вот я и маме, и бабушке говорю… Он повернулся к ним и, прижав руку к белой рубашке с галстуком бабочкой, сказал: – Ну, хорошо! К нам не попадет, но слух-то редкостный! Слух-то – дар Божий! Надо учить музыке! Непременно! Непременно! Чего бы это ни стоило!..
Вот так я попал в музыкальную школу, куда меня приняли сразу после первого прослушивания. И начались мои страдания, с которых начинается жизнь каждого не то что музыканта, но любого ребенка, берущего в руки инструмент…
Недавно Наталия Гальперина выпустила книгу «Музыка без слез», где она – выдающийся педагог, рассказывает, как можно обучать, чтобы потом, вспоминая детство, человек не называл период с первого по пятый – седьмой класс «фортепьяно с ременным приводом».
Но даже, когда без слез – это тяжелая работа, только с приходом мастерства приносящая радость, а до того – пот и слезы. Слезы, которые я помню до сих пор – полвека спустя. Написал – и страшно сделалось. Полвека! Как быстро!…
Но, вспоминая свои муки и радости, в пору перепиливания скрипки, я вспоминал и величайшую доброту, с которой столкнулся, потому что только она помогла мне не озлобиться и не растерять, свойственной каждому человеку, веры в хорошее и светлое.
А того первого, который, буквально, втолкнул меня в музыку, я не забуду никогда ! Мало ли голосистых мальчишек! Ведь не поленился, разыскал нас в нашей коммунальной дыре. Приехал, чтобы вытащить, обучить, сделать музыкантом, еще одного, из тысяч талантливых, которые так никогда и не проявляются. Это «середнячок», «бездарность» где скачком, где ползком, где потом и упорством, пробьется, талант – уязвим и одинок, он, как правило, пропадает. И только потом, за стаканом водки, смутно вспоминает: мол, было что –то, да не состоялось!
К величайшему моему сожалению, я не знаю, кто это был. И даже предположить не могу! Мы не запомнили ни имени, ни фамилии. А когда я специально пересматривал фотографии педагогов Ленинградской Академической капеллы того времени, его лица так и не нашел…Очень жалко. Он был из тех великих душою людей, на которых и держится Россия. К счастью, таких много. И всю жизнь, будто сменяя друг друга, они были вокруг меня. Иначе, я бы не перенес одного из самых мучительных периодов своей жизни, периода слез, синяков и оскорблений, потому что мы были еще и беззащитными, и нищими, периода, когда меня звали « скрипаченком». (Продолжение следует)
Слово, выкинутое из песни
Мучила меня эта песня. Еще совсем маленьким мальчиком слушал я ее по радио: «Когда я на почте служил ямщиком»… Для меня были загадочными слова «ямщик» и «почта»… Правда, почта в нашем квартале была, там за длинным барьером сидели молодые девушки, принимали заказные письма, выдавали бандероли, посылки и пенсию моей бабушке… Там я покупал открытки, чтобы корявым почерком вывести поздравление с «Восьмым мартом» или «С Первым Маем» . Там пахло особенным «почтовым запахом» – расплавленным сургучом, типографской краской от свежих газет и клейстером.. Это был притягательный мир пестрых марок, открыток, которые можно было сколько угодно рассматривать в витрине под стеклом, пока бабушка заполняла пенсионный бланк.
В день получения пенсии мы покупали два пирожных и несли их домой, чтобы съесть «не по – бурлацки», а с молоком или с чаем. Собственно, два пирожных покупались в расчете на совместное с бабушкой чаепитие, но почему-то всегда получалось, что чай мы пили вместе, а оба пирожных доставались мне. Разумеется, после того как они бывали съедены, я огорчался своим эгоизмом, и тем ,что не успевал заметить в какой именно момент кончалась мое буше или картошка, или корзиночка и начиналась бабушкина…
Но несмотря на это мелкое огорчение, посещение почты было для меня праздником. Оно и до сих пор волнует меня ожиданием новостей, нетерпением при открывании бандероли и многим другим, в том числе, по старой памяти, и почтовым запахом.
И все это никак не вязалось с тем жутким событием, о котором пелось в песне… Слова песни приходили мне на ум совершенно неожиданно, когда ледяными февральскими утрами я бежал в школу мимо дымящихся поземкой сугробов…
« А ветер совсем ту находку занес,
Метель так и пляшет над трупом,
Разрыл я сугроб, да и к месту прирос,
Мороз заходил под тулупом …"
Школа была далеко. Слева от дороги стояли, занесенные снегом домишки, там поблескивал желтый огонь в окошках, но справа тянулись бесконечные огороды, а за ними щетинился лес. Ветер гулял на просторе, снежные заструги пересекали накатанное, скользкое полотно шассе. Я перескакивал через них и все боялся наступить ногою на что – то твердое… Я казался себе тем несчастным ямщиком, что нашел на занесенном метелью тракте свою замерзшую невесту. Невольно поскуливая, не то плача, не то напевая, норовил я поскорее проскочить через страшные мертвенно белеющие в утреннем сумраке снежные валы, которые хватали меня за валенки и чернели позади дырами от следов..
Но вот однажды, в тарелке репродуктора голос Ивана Скобцова пропел неизвестные мне строчки пролога:
« Мы пьем-веселимся, а ты нелюдим,
Сидишь как затворник в неволе,
Мы чаркою водки тебя угостим,
А ты, брат, поведай нам горе..»
Мне показалось, что передо мной открылся театральный занавес и далее разыгрывается драма. Но странное ощущение недоговоренности рождала во мне эта песня.
Много позже я нашел объяснение для тогдашних своих сомнений: то, что произошло с ямщиком – катастрофа! Но ведь это трагическая случайность – в ней никто не виноват. В песне же ямщик предстает совершенно разрушенной личностью. Слов нет – то, что с ним стряслось – огромное горе, но все же его недостаточно для полной гибели души человека.
Было и другое… Мне самому поначалу показалась кощунственной моя догадка. А уж так ли любил ямщик эту девушку?
В нашей огромной коммуналке жил старшина, у которого в войну в блокадном Ленинграде погибла вся семья. Он только однажды, кажется в День Победы, выпив, рассказал нам об этом… В его рассказе были подробности похлеще, чем в рассказе ямщика. Там тоже были и метель и снег, и еще трупы на обочинах, и санки, на которых он вез жену и двоих ребятишек через весь город хоронить на Пискаревском кладбище.
Я попытался представить, как этот человек, говоривший о своих близких как о святых мучениках, сказал бы о своей любви словами ямщика:
И крепко же, братцы, в селенье родном,
Любил я в ту пору девчонку.
Сначала я в девке не чуял беду,
Потом задурил не на шутку…
– и представить не смог!
Рано утром я дождался, когда старшина выйдет из своей пятиметровой комнатушки ,чтобы выскоблить щеки опасной бритвой, над эмалированным умывальником и станет на лестничной площадке доводить до блеска скрипучие хромовые сапоги и приступил к нему с вопросом.
Он выслушал меня, задумчиво крутя в руках жестяную коробочку с гуталином.
– Не похоже, чтоб любил, – наконец произнес он. – Точно.
– А что же он так переживает?
– Вопрос! – крякнул старшина – Стало быть, есть причины.
– Он же не виноват, что она замерзла.
– Вопрос! – сказал старшина, заправляя белоснежную бязевую рубаку без воротника в суконные галифе, и спросил – ни к селу, ни к городу: – Ты с какого года?
– Сорок четвертого.
– Да? – сказал он, думая о чем – то своем. – Совсем большой! Совсем.
Недели через две он позвал меня в свою комнатушку, где только и помещались узкая железная кровать под тонким колючим одеялом, тумбочка и табуретка. На стене висел, укутанный простыней, парадный мундир с медалями…
– Садись! – сказал старшина и азартно потер руки. – Я твои сомнения библиотекарше нашей доложил. И вот ведь какая ситуация возникает! Виноват ямщик-то! Кругом – виноват! Такая вина – хоть в петлю!
Он вытащил из тумбочки тоненькую книжицу и раскрыл на заложенном месте
– Эн,Эн, Трефолев. Стихотворения. – прочитал он, бережно держа книжку в большой красной руке, – Вишь, как тут складывается! Крики то о помощи он услышал, когда с пакетом скакал – туда! Не обратно, а туда! Вот гляди, стало быть.
Средь посвистов бури услышал я стон,
И кто-то о помощи просит.
И снежными хлопьями с разных сторон ,
Кого-то в сугробах заносит.
Коня понукаю, чтоб ехать спасти;
Но, вспомнив смотрителя, трушу.
Мне кто-то шепнул: на обратном пути
Спасешь христианскую душу!
– Видал, что делает! – сказал старшина и так заерзал на своей койке, что она вся застонала: – Шепнул ему кто-то! Едри его мать… – он осекся, покосившись на меня.
Мне сделалось страшно. Едва я дышал.
Дрожали от ужаса руки.
Я в рог затрубил, чтобы он заглушал
Предсмертные, слабые звуки.
– Видал как! Вот он и пьет! – и тяжело вздохнув, добавил – Конечно, ему с донесением останавливаться устав не велит, но ведь устав уставом, а и совесть иметь надо! Эх… Прямо ты меня с этой песней разволновал… С детства ее знаю, а, вишь ты, какие в ней слова имеются. Самые то есть главные.
– А что же их не поют? – спросил я – А еще говорят: из песни слова не выкинешь…
– Должно от жалости. – сказал старшина – Жалеют его, сукиного сына, вот и не поют. У нас жалеть любят… Давай что ли чаю выпьем ?
И уже напившись чаю , он осторожно погладил меня по стриженной голове:
– Совсем ты большой стал. Совсем
Иногда я слышал, как по утрам, начищая сапоги, он сипловато напевал «Ямщика» со всеми словами, следуя тексту Трефолева.
Но мои сомнения на этом не кончились. С годами меня стал мучить другой вопрос: что это за рожок, в который, словно кучер английского дилижанса, трубит ямщик?
Есть и еще одна странная строка: «Потом соскочил с удалого коня..». Что это за ямщик такой, который скачет верхом? Это либо не ямщик, а вестовой, нарочный, гонец, казак летучей почты, либо почтальон, но тогда дело происходит не в России! Поскольку у нас почту развозили на почтовых тройках!
Собственно, с этой песни и началась моя страсть к разысканию «песенных историй»!
Уже студентом, совершенно случайно, в каком – то сборнике Трефолева – известнейшего русского поэта, которого знали в 80 -е годы прошлого века не меньше, чем Некрасова. (Кстати, они – земляки. Оба – ярославцы. Обоим в этом городе поставлены памятники), наткнулся я на обширный комментарий к этому стихотворению, из котрого следовало, что стихотворение Трефолева «Ямщик» – перевод с польского стихотворения поэта -демократа В. Сырокомли и называется, в оригинале, «Почтальон». То есть скачет верхом, с пакетом не русский ямщик, а польский почтальон. И вся история происходит не на бескрайних просторах трефолевского Заволжья, а в Царстве Польском. Там, действительно, с давних времен, сохраненные на рисунках польских хроник, на гравюрах первых лет книгопечатанья, на фотографиях прошлого века, скачут лихие почтальоны, с толстыми сумками на боку и витыми рожками. Теперь они изображены только на почтовых ящиках.
Таким рожком извещал почтальон, чтобы все встречные сворачивали сани и экипажи с дороги, а на почтовой станции спешно выводили коня «на подставу», чтобы перевалившись из седла в седло, мог продолжать он свою бешеную скачку.
Но и это не конец истории.
От одного из переводчиков я услышал: «В. Сырокомля»– псевдоним польского поэта Людвига Кондратовича (1823 – 1862), и это одно из первых его стихотворений. Существует легенда, что он оправил его в русский журнал, и оно было одним из первых, увиденных им в печати. То есть, это польское стихотворение Кондратович увидел впервые напечатанном на русском языке. Я думаю , все же это – легенда.
Слова известной песни не совсем совпадают с текстом Трефолева. Возможно, были другие переводы, один из которых и мог видеть Кондратович, потому как, публикация стихотворения Трефолева относится к 1868 году. В это время пламенный поляк уже шесть лет был в могиле…
Как всякое замечательное произведение, «Ямщик» окружен легендами и вот еще одна. На лекции-концерте в Минске, где я рассказывал историю «Ямщика» и пел несколько его вариантов, ко мне, в антракте, подошел симпатичный молодой человек, словно сошедший со старинной фотографии земских учителей – светловолосый, в очках и сказал, что с большой радостью услышал о «Ямщике», но ему хочется этот рассказ дополнить. Дело в том, что хоть почта польская и стихотворение – классика польской (и русской добавлю я) литературы, ямщик – белорус.
История, которая когда-то потрясла Кондратовича, произошла в семидесяти верстах от Минска, на почтовой станции, что стоит на старом почтовом тракте из Петербурга в Варшаву. В тех местах до сих пор живет семья или, вернее, тот род, из коего и происходил горемыка почтальон. Это семейное предание. Это нравоучительная история о том, как погибает человек, ежели долг служебный поставит выше долга человеческого, а исполнение профессиональных обязанностей выше сострадания. Конфликт вечный и достойный пера великих, например, Николая Лескова. Вспомните его «Человека на часах…».
В суматохе концерта, я не спросил точно, где это место, и в какую сторону от Минска – к Варшаве или к Петербургу, находилась эта почтовая станция. Это ведь все тот же Минский тракт, на другом конце, тоже в семидесяти верстах от другого города, от Петербурга, стоит другая почтовая станция, откуда умчал поручик Минский красавицу Машу, дочь несчастного станционного смотрителя Самсона Вырина.
Я это знаю наверняка
Чуковский, наверное, приезжал тогда в «Пенаты» – дом-музей И. Е. Репина, а может быть, в посёлок, бывшую Куоккалу, в которой протекали многие годы его жизни. И уж потом его упросили выступить в детском садике. Весть об этом перелетела через высоченный забор, где был наш пионерский лагерь, и куда меня отправляли отдыхать каждое лето.
Это я понимаю теперь, много лет спустя, а тогда, десятилетним пионером, я просто страшно завидовал малявкам.
Я Чуковского никогда не видел даже на фотографиях, да, собственно, и книжек-то его в руках не держал. Время было послевоенное, с детскими книжками было туго. Но стихи Корнея Ивановича я знал прекрасно и голос его, благодаря радио, легко различил бы среди тысяч других. Радио во многом тогда восполняло нам отсутствие книг.
В пять лет я уже был способен в доступных моему возрасту пределах оценить юмор. «И ставит, и ставит им градусники!» Меня, сына медсестры, особенно веселило это главное средство доктора Айболита от всех болезней. Мама брала меня в больницу в своё хирургическое отделение, когда меня не с кем было оставить дома, и о болезнях и страданиях я знал немного больше, чем мои сверстники. Айболит же и до сих пор остаётся для меня самым уважаемым литературным героем, потому что я встречал таких докторов в жизни, настоящих коллег Айболита – ветеринаров.
А ещё меня гипнотизировал ритм экзотических африканских строк. Я повторял их миллион раз:
Мы живём на Занзибаре,
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппопо
По широкой Лимпопо!
Я носился по нашей бесконечной коммунальной квартире, пугая соседей:
Вот и гиппо, вот и попо!
Гиппо-попо, Гиппо-попо!..
Волшебные тарабарские слова заворожили меня, я не мог остановиться, я шептал их сквозь сон, доводя до изнеможения окружающих… Кончилось это тем, что мама утром опоздала на работу, что было весьма большой неприятностью в те строгие времена.
Сам Чуковский представлялся мне этим сказочным весёлым Гиппо-попо, и не увидеть его, имея такую возможность, было для меня так же немыслимо, как не пойти на «Чапаева» на бесплатный сеанс!
К моему удивлению, большинство мальчишек из моего отряда высокомерно заявило, что к малявкам в детский сад не пойдут и нечего на Чуковского глазеть, он пишет малявочные стихи, а мы уже большие!
Но я всё-таки уговорил одного приятеля, и через дырку в глухом заборе мы проникли на территорию детского сада, где должен был появиться Корней Иванович.
Там царило торжественное помешательство перед ответственным мероприятием.
Воспитательницы, с красными пятнами на щеках, взволнованно и раздражённо вдалбливали совершенно обалдевшим малышам, кто что должен говорить, кто за кем выступать… Самые маленькие учились кричать хором: «Здравствуй, Дедушка Корней!» Средняя группа в сотый раз повторяла танец «Весёлые зайчики». «Зайчики» в сандаликах уныло топтались, взявшись за руки, роняли слезы и путали фигуры. Музыкальная руководительница безостановочно разводила над их головами мехи аккордеона, будто кобра капюшон. Старшая группа скоропостижно забыла все стихи, которые разучивала без малого месяц, – и потому директриса детсадика была в предынфарктном состоянии. Во всяком случае, она так говорила: «Я в предынфарктном состоянии!»
Мы с приятелем не знали, что это за состояние такое, и тихонечко сидели в кустах, на всякий случай.
Нас заметили не сразу. Но как только заметили, тут же схватили «железными», чисто вымытыми пальцами за не стерильные воротники и уши и поволокли выдворять с территории.
По нашим облупленным носам уже готовы были заструиться слезы, но вдруг…
Вдруг у самых ворот перед нами вырос высокий и светлый человек в сером макинтоше, в светлых брюках, в широких светлых же сандалиях. Весёлый большущий нос, похожий на размякший солёный огурец, и седая непокорная чёлка делали его похожим на, свежевыбритого и одетого по летнему сезону, Деда Мороза.
Он обнял нас, и мы запутались в складках его макинтоша, как в большом парашюте или в крыльях. И там, под макинтошем, вдыхая запах его нового кожаного брючного ремня и свежевыглаженной рубашки, я услышал и узнал голос – голос Чуковского, звучавший по радио. Это был САМ ЧУКОВСКИЙ!
– Ну и что? Мы все бациллоносители! А они будут стоять с подветренной стороны, и микробы на детей не полетят! Клянусь! Да! Никаких контактов! Обещаю! Да! В сторонке!
Он не взял нас за руки! Нет! Он положил ладони на наши стриженые затылки, словно это дыни-«колхозницы» или маленькие мячики, и мы с приятелем – оба – послевоенная безотцовщина – замерли от этого ласкового прикосновения.
Мой приятель клялся потом – Корней Иванович специально прятался за воротами, чтобы его (моего приятеля) спасти, когда нас будут выгонять!
Мы вернулись на территорию детского сада, где, в колоннах по два, шли рассаживаться на скамейки оцепеневшие от торжественности малыши.
Нас усадили в сторонке на стульях, подальше от малышей, и мы оказались рядом с Корнеем Ивановичем и чуть ли не в. президиуме. Я впился глазами в Чуковского, чтобы запомнить, а потом, забившись куда-нибудь, не торопясь, всё припомнить, обдумать и постичь разумом.
Чуковский быстро окинул взглядом ряды «бармалеев» в бумажных шляпах, «зайчиков» с уныло поникшими ушками из вафельных полотенец, взглянул на «доктора Айболита», от волнения грызущего слуховую трубочку, и на замерших, как перед атакой, воспитательниц, и в его насмешливых глазах мелькнула тень тоски. И за секунду до того, как бравая аккордеонистка грянула «Марш гладиаторов», а над «зайчиками» взвился плакат «Добро пожаловать!», Чуковский поднял руки к небу, так что из широких рукавов плаща вынырнули манжеты с янтарными запонками, и закричал:
– А… а… а…а…а…
Его крик отдался эхом в вершинах сосен, под которыми когда-то сама собой создавалась знаменитая «Чукоккала», напугал администрацию детсада и отозвался в сердцах «зайчиков» и «бармалеев», замерших перед назревающим казённым празднованием. С минуту слушали они чтением стихов. Он точно знал момент, когда нужно закричать знаменитое: «А… а… а…» – чтобы сломать лёд казёнщины, чтобы сразу стать для ребят родным человеком. этот вопль и, сообразив, что пришёл не шеф, не дяденька – большой начальник, а свой детский человек, дружно грянули в ответ:
– Ааааааааааа!
И вот тут началось!
Ребятишки повскакали со своих мест, полезли на Чуковского, как на Чудо-дерево. Под грузом визжавших плодов, Чуковский был вынужден сесть и тут же был облеплен малышнёй, как кусок сахара муравьями. Малявки выдали полную программу: «зайчики» плясали, «Айболит» приставлял к груди Корнея Ивановича трубку, «бармалеи» совали ему в нос картонные ятаганы, а маленькая девочка, подобравшись со спины, двумя ручонками пыталась повернуть голову писателя к себе и прочитать ему всю «Муху-Цокотуху». Она была убеждена, что писатель пришёл именно к ней.
И такая же убеждённость, что Чуковский пришёл только к нему, жила в душе у каждого «зайчика», у каждого «бармалея»! Все веселились как могли. Веселились все вместе, но это был ещё и праздник каждого!
Много лет спустя, уже взрослым человеком, я услышал запись на радио одного из выступлений Чуковского в детском саду. Совершенно другой детский сад и другие дети, но всё повторилось: и гнетущая тишина, и вопль Чуковского, и отчаянный праздник с пением и танцами.
Мне повезло – я его видел. Я видел его бодрым и весёлым. Я стоял рядом с ним, намертво вцепившись в его теперь уже измятый, захватанный детскими ладошками макинтош, и был счастлив!Потому что – я знал это наверняка – Чуковский приезжал ко мне!
Скрипачонок
(продолжение)
Музыкальная школа сначала показалась мне чудом. Все мне улыбались. Все меня хвалили. Мама торжественно подарила мне нотную папку с красивой лирой на крышке и надписью вкось «Музикуе» на иностранном языке.
Нам выдали казенную скрипку-четвертушку, то есть как раз мне по рукам, и мы поехали сфотографировались, как будто я уже стал, ну если не знаменитым скрипачем, то уж никак не меньше загадочного «Музикуе»
Фотограф сделал несколько видов, чтобы продемонстрировать не только мои музыкальные пальцы, но и ресницы, которыми очень гордилась мама. В детском саду мы устраивали соревнования, сколько спиченок удержится на ресницах – у меня держалось пять штук!
Я ходил торжественный и гордый – ну, вылитый Музикуе.
Стояла золотая осень. По всему городу продавали яблоки по восемь копеек килограмм – покупали их кошелками и складывали между рамами окон. И можно было есть сколько хочешь. Мама перешла работать в школу и я весело шагал с ней каждое утро в свой первый класс…
Жизнь улыбалась.
Уроков задавали немного. Я быстро выводил все положенные по заданию палочки, и потом мы ехали в дребезжащем и разболтанном трамвае, пока не выходили на улице Михайловской и шли мимо красного здания с белыми полукруглыми наличниками над высокими окнами, бабушка называла это здание торжественно и воинственно «Арсенал» и наконец подходили к музыкальной школе, из окон которой доносилась разнообразная музыка. Я оглядывался, и прямо против дверей школы через улицу видел громадную стену красного кирпича. Стена была мрачна и неприступна. На мой вопрос, что там за стеной школьная гардеробщица сказала: «Кресты». Тюрьма.
Моим первым учителем стал добрейший и милейший человек. В памяти моей осталась фамилия Савва. Звали его, по-моему, Николай Александрович. Но фамилия была так замечательна, что заменяла даже прозвище. Он был похож на великанского мальчишку, громадный, толстый и круглолицый, и одевался он необычно: короткие штаны с манжетой у колена, толстые шерстяные, не то чулки, не то гольфы, клетчатая жилетка и крахмальная рубашка с галстуком бабочкой. Все это завершалось большущей кепкой или широкополой шляпой, пиджаком с накладными карманами и длинным английским пальто с поясом-кушаком.
На него оглядывались на улице, потому что для тех стандартизированных времен он выглядел странновато, но футляр со скрипкой снимал сомнения – не иностранец. Наш! А лучезарная, прямо-таки швейковская улыбка располагала сразу и навсегда. Иногда в наш класс заходила его жена – такая раскрасавица, точно фея из кинофильма «Золушка». Она заботливо укутывала шею Саввы длинным шарфом и ругала его за то, что он опять «заигрался» и забыл принять лекарство. Он всегда забывал его принимать. А принимать было нужно, потому что Савва был тяжелейший почечник, иногда он сидел на занятиях с темно-серым лицом, постанывал и промокал белоснежным платком выступавший на лбу пот.
Чего он только не делал, чтобы не забыть принять свои пилюли. Он возил в портфеле три будильника и они звонили в течение дня. Это происходило в трамваях, на репетициях, и Савва делал вид, что пронзительная трель к нему отношения не имеет. При этом так увлекался, что лекарство все-таки не принимал.
Все время получалось, что я оказывался последним на занятиях – ездили издалека, и я видел, как прямо с урока, взяв жену под руку, Савва отправлялся в таинственный и манящий Мариинский театр, где он играл в оркестре, а его жена пела. Они были артисты! Артисты в каждом проявлении и в каждом своем жесте. Именно такими должны быть люди этой высочайшей и благороднейшей профессии! Я видел этот блеск благородства, душевной красоты и доброты, почти во всех великих музыкантах, которых мне пришлось в последствии повидать. Наверное, это свет музыки, которая жила в этих людях и которую они могли создавать для других.
Педагогом Савва был изумительным. Ему доставалось самое мучительное – он ставил руки! И весь скрип, и скрежет, способный довести человека до самоубийства, в тот момент, когда юное дарование возит смычком поперек струн, словно перепиливает душу слушателя, казалось, его нисколько не волновал. Он с одинаковым энтузиазмом пел и хлопал в ладоши и взмахивал своей мягкой и огромной рукой в воздухе, дирижируя и выпускнику, и игравшему Рондо-капричиозо, и мне, старавшемуся держать чисто первую соль-мажорную гамму…
– Ни-ра ти-ра ни-ра таааа… – пел Савва. – Ах, вы мои пальчики – макарончики, даже и не макарончики, а вермишелины какие-то… Ничего, ничего, все установится… Мы еще всем покажем! Мы в Большом играть будем!
Я был ему по колено, при своих метр-шесть сантиметров (Именно так записан мой рост в школьной медицинской карте, Кстати, я был в классе не самым маленьким!), а скрипка-четвертушка могла поместиться у Саввы в ладони.
– Ни-ра ти-ра ни-ра раааа… Скрипочка меня спасла! Меня из консерватории – на фронт! Под Сталинград! На прорыв! И вдруг у самой Волги – музыкантов скрипачей – в тыл! Я своему счастью не верил. Это сначала все добровольцем рвался, все пороги в военкоматах обивал, а как привезли на передовую – сразу назад захотелось.
– Как же вас с почками мобилизовали? – робко спрашивала мама, которая сидела в классе на уроке, «для моральной поддержки и для домашних занятий» – как говорил Савва,
– А я же скрыл! За Родину! За Сталина! Малой кровью, скорым ударом…! А как на передовую попал… Ужас! Ну что же это за вермишелинки такие… Ми…Ми…Ми…! Ни-ра ти-ра ни-ра ра…
Первый класс я закончил блистательно и досрочно. К весне я играл программу второго и третьего класса. Но через год Савва оставил преподавание – вероятно, почки не позволяли ему мотаться из театра в школу и обратно. Осенью он в школу не пришел, и я попал к Соломону. Не буду вспоминать его настоящего имени – у него ведь дети были и, наверное, уже теперь правнуки, а они не в чем не виноваты, и для них он, наверное, был и милым, и близким, и дорогим… Господь ему судья. Но как он терзал меня!
Соломон был полной противоположностью Савве. Тощий, маленький, страшно похожий на Мейерхольда. Прямо вылитый Мейерхольд. С кудрями на затылке, с вдавленной в плечи головой, длинными руками. При этом он все время трясся и подергивался. Его сотрясал нервный тик. Плясали руки, скакало лицо. Все прыгало и металось в его длинных пальцах.
С первого занятия он выгнал из класса маму, чтобы не мешала заниматься. Потом он начал на меня орать. Он хватал мои пальцы и втыкал их в струны. Мне было больно. Он два раза ломал мне скрипку! Да не мне, а об меня!
Стараясь не показывать маме своих слез, я все-таки плакал. Наревевшись в коридоре, я отдыхал, и шел вниз в гардероб, где она меня ждала. Мама, конечно же, все понимала иначе, чем объяснить, что длинной дорогой домой, в насквозь промерзшем трамвае, она рассказывала мне, как ей пришлось бороться за существование, как трудно было на фронте, как боролись всю жизнь дедушка и дядя.
А у нас есть такое счастье – мир! И возможность учить тебя музыке.
Но счастье музыки для меня погасло. Все навалилось сразу. В школе – вторая смена. А значит, музыкальная с утра. Нареванный, исщипанный Соломоном, бегом в класс, где конечно соображал туго – потому пошли тройки. А в музыкальной школе Соломон за полгода не поставил мне ничего, кроме двоек. Эта дикая, постоянная травля начисто выбила меня из колеи. Я перестал понимать что-либо на сольфеджио. К нему прибавилась еще одна беда – общефортепианная подготовка. Нужен инструмент, а у нас его не было. Да и поблизости ни у кого. Правда, у одной старушки на нашей улице имелись клавикорды, но, во-первых играть на них было все равно, что играть на лежащем аккордеоне, а во-вторых, за что ей бесплатная мука моего освоения клавиатуры? А платить мы не могли. Много лет спустя, один мудрый старый педагог сказал, что мне, тогда начинающему учителю: «Будьте особенно внимательны и осторожно с лодырями – лень, как правило, следствие болезни, либо реакция на перегрузки».
Я стал лениться. Если у Саввы я все время рвался играть, учить новое, то у Соломона я пилил по струнам в состоянии тоски. Эта тоска преследовала меня постоянно. Теперь и в окно класса музыкальной школы мне виделась темнокрасная кирпичная стена «Крестов», и начинало казаться, что я не снаружи, а внутри.
Зачем меня так мучил Соломон? Почему он сознательно пытался доказать мою непригодность? Как ни странно, причина этого и его тика, и его бегающих глаз – одна и та же. Много лет спустя я встретил музыканта, который у него учился, и все-таки выучился. И даже вспоминал его без ненависти, он то мне глаза и открыл.
Родители учеников платили Соломону как за частные уроки. Нам же такое и в голову не приходило. Мы платили за школу. А даже если бы пришло, то мало бы что изменило – денег-то у нас, все равно, не было.
Соломон выживал меня, чтобы взять на мое место платежеспособного. Выживал и боялся! Трясся от страха, но выживал. Наверное, по-своему он был несчастный человек. Но мне от этого не легче. Я ведь тоже, по-своему мучил Соломона, как жертва мучает палача – я не оставлял музыкальную школу, не пропускал занятий, и не смотря на то, что в течение года получал у Соломона только двойки, на четвертных прослушиваниях и на полугодовых экзаменах и на годовых получал пятерки и четверки.
– Сфинкс! Сфинкс! Загадка! – кричал, брызгая слюной, Соломон, и мне казалось, что больше всего ему хочется треснуть меня скрипкой по голове. Кое-как я закончил второй класс, мечтая, что, может быть, осенью я попаду к другому преподавателю. Но первого сентября меня опять отдали Соломону. Я совсем зачах и приуныл. Через месяц Соломон назначил квалификационную комиссию, для того, удостоверить мою профессиональную непригодность.
Я знал о ней заранее, потому что, вероятно, не ожидавший увидеть меня первого сентября Соломон закатил истерику. Он кричал, что устал обучать лодыря! Что мальчик, то есть я, либо болен, либо сфинкс! Он не знает, что делать.
При этом он закатывал глаза под лоб, пил из стакана воду и зубы его стучали о край…
Мы с бабушкой поехали в церковь и долго со слезами молились. Я смотрел на любимую свою икону Николая Угодника и умолял его помочь мне и не отнимать у меня скрипку и музыку.
Бабушка, как всегда после причастия, совершенно успокоилась, и когда мы поехали домой, все гладила меня по голове и говорила:
– Господь поможет. Николай-угодник пошлет помощь. Он всегда посылает помощь через людей.
Я верил бабушке. Да и как было не верить! Например, когда у нас совершенно кончались деньги, и дома оставались только на трамвай – туда и обратно. Бабушка ехала в церковь и молилась. И всегда, либо в этот же день, либо на следующий, откуда-то, появлялись деньги. Бабушка получала пенсию раньше «пенсионного числа» или маме кто-то платил вперед за частные уколы, или приходил какой-то перевод от дальних родственников, которые, как могли, помогали нам.
Бабушка веровала так же естественно, как дышала. Я не могу сказать, что такая вера примитивна, она – правильна. Между ней и Богом был завет – то есть союз, как между старейшиной в роду и ребенком. Бабушка веровала искренна и сильно, поэтому и помощь приходила – просто и мгновенна. Я тому свидетель.
Уверенная, она ехала в музыкальную школу, крепко держала меня за руку, и на глазах у Соломона, который скакал по коридору в предназначенную для комиссии, аудиторию, перекрестила меня и поцеловала в лоб. Соломон театрально развел руками…
Я вошел в зал и сразу, с порога увидел Профессора. Я видел его и раньше. Это был, как сейчас бы сказали, самый авторитетный человек в школе. Во всяком случае, когда он проходил, то директор выбегал козликом из своего кабинета с глухой простеганной, будто матрац, обивкой двери, и, чуть не в пояс, кланяясь, пожимал ему руку.
Мне кажется, что Профессору эти знаки повышенного внимания были неприятны, поэтому он раздевался в обычном гардеробе, а не в педагогическом закутке. Там я его и увидел первый раз, там первый раз и поразился. Мы с бабушкой сидели в ожидании занятий хора, когда вошел Профессор, снял шляпу с белоснежных кудрей, подстриженных в скобку, скинул пальто, явившись в какой-то толстовке с карманами.
В это время по радио, что пиликало над тумбочкой гардеробщицы, передавали какую-то революционную радиопостановку, хор врагов революции запел «Боже царя храни!».
И вдруг Профессор глухим, но зычным голосом подтянул:
… Сильный, державный,
Царствуй на славу.
На славу нам!…
по радио уже шел диалог, а Профессор плавно отсчитывая ритм красивой большой рукой допевал финал…
… Боооооже царяаааа,
Царяааа храни!…
Я никогда не видел таких глаз у моей бабушки. Они наполнились слезами и сияли! Профессор встретился с ней взглядом и вдруг спросил, положив мне руку на голову:
– Ваш? Да… Октябренок? Прелестно… А ведь все было не так! Верно, я говорю?
– Да! – сказала бабушка, комкая в руках мой шарфик, – Да!
– То-то и оно… – сказал Профессор, и еще раз, погладив меня по налысо остриженной голове, пошел по коридору, заполняя его весь своей широкой фигурой.
Дома мы долго обсуждали с бабушкой этот удивительный случай! И бабушка все повторяла: «Как он не боится! Как он не боится.»
Так вот, он сидел в аудитории, где я должен был демонстрировать свою профнепригодность.
Я видел, как растерялся Соломон, поэтому выволок меня перед столом экзаменаторов и, дергая за плечо, стал перечислять мои грехи. И директор, сидевший на председательском месте, и какая-то тощая, в очках и кружевах мадам, и еще несколько педагогов сочувственно кивали: – «Да, да, да… – мол надо отчислять».
– Не трясите его! – сказал вдруг Профессор, – Ему больно.
– Да я, собственно… – Соломон отдернул руку от моего плеча, будто обжегся.
– Да что вы-то собственно?! – неожиданно грубо прервал его старик, – Что там у тебя? «Сурок»? Давай, валяй «Сурка»!
Я знал, что если за рояль сядет Соломон, то он обязательно собьет меня, но Профессор сел к инструменту сам.
И я сыграл хорошо.
– Сфинкс! – как всегда сказал, словно плюнул в меня, Соломон.
– А вариации можешь? – спросил меня Профессор.
– К Бетховену? – ахнула мадам, – Оригинально.
– А как это? – спросил я.
– Ну вот тебе мелодия, а ты ее вокруг, понимаешь, вокруг… Для красоты.
– На скрипке не могу.
– Ага! – азартно закричал старик, – Валяй голосом.
И схватил свою скрипку!
Музыка! Великая, прекрасная музыка снова возвращалась ко мне, и я запел, оплетая мелодию такими кружевами вариации, что казалось – сразу пою за нескольких человек…
– Вы че делаете?! – закричал Профессор, когда мы закончили, – Иди, иди к бабушке! Вы че делаете?! Вы че себе позволяете?!
Мне было слышно за дверью, как что-то сбивчиво бормотал Соломон, а Профессор орал:
– Если тыкать все время «свинья, свинья» не удивляйтесь, что услышите в ответ хрюканье! Не понятно? Могу изложить это по-латыни!
Я стоял в коридоре и молился, чтобы меня не выгнали. Профессор выскочил и чуть не сбил меня дверью
– От, мать честная! Господи, Боже ты мой!
Он взял меня за руку и повел в свою аудиторию, где занимался с выпускниками. Там он посадил меня за стол, достал из сумки – чемодана термос (я увидел термос первый раз в жизни) и налил мне горячего чаю. Достал два бутерброда с колбасой и сам тоже стал пить со мною чай.
Он сердито сопел красный от возмущения.
Когда я съел свой бутерброд, он поставил меня прямо против себя и, держа за плечи, спросил:
– Папы нет? Естественно. А мама? Медсестра. А дедушка?
– Какой? – спросил я, и меня жаром обдало, потому что мне категорически запрещалось говорить, кто были мои дедушки, – Дедушек тоже нет. Они умерли.
Были кем?! – спросил Профессор, и я не смог соврать.
– Папин – хорунжий! Мамин – священник…. Но они… за нас…– я хотел сказать, что они не против Советской власти.
– Ах ты Боже ты мой! – сказал Профессор. – Боже ты мой! Что творится!… Хорунжий! А ты-то, вершок с кепочкой, казак, что ли?
Я кивнул.
– А как положено, отвечать – знаешь?
– Казак станицы Добринской, Урюпинского юрта, Хоперского округа, Всевеликого войска Донского, – сказал я, первый раз в жизни, повторив вслух полный титул, который мне шепотом, под великим секретом, говорила бабушка, прибавляя: «Попомни. Попомни навсегда. Только никому не говори».
– Вот это да! – Профессор вытащил платок и долго сморкался.
Я подождал, пока он просморкается, и с надеждой спросил:
– Вы тоже?
– Что?
– Казак?
– Нет, – сказал старик совершенно серьезно, без тени улыбки. – Я чистокровный русский. Здесь, на Питерском камушке родился, здесь и в землю, Бог даст, пойду… А ты, казак, меня сильно обрадовал. Сильно.
Стоит ли говорить, что Профессор взял меня к себе. И я был единственный младшеклассник, из тех, кто обучался у этого великого музыканта и педагога. Он работал только с выпускниками…
Почти все наши занятия заканчивались чаепитием. Он так меня подкармливал…
Года через два я узнал, что он юнкером, (пошел в юнкера из консерватории, по призыву Временного правительства), в ту октябрьскую ночь находился в Зимнем…
Он рассказывал мне в подробностях, как все происходило на самом деле… Откуда и кто захватил дворец… Что никакого штурма, так картинно показанного в кино, не было вообще! Я думаю, что многого он не договаривал, щадя меня. О себе же скупо говорил, что вернувшись той ночью из Зимнего, выкинул шинель, всю амуницию и вернулся в консерваторию… И повторял, как Савва: «Скрипочка меня спасла».
За два года моего величайшего счастья мы прошли программу четырех лет обучения. И хотя у меня начисто отсутствовала общефортепианная подготовка, никто не смел даже подумать о том, чтобы меня отчислить. За мною нерушимой стеной стоял Профессор.
Кто знает, может быть, стал бы я профессиональным скрипачом, да вот только Профессор, в котором воплощалась моя тоска и по отцу, и по дедам, и для которого я, наверное, был желанным, но так и не родившимся внуком – умер.
После похорон на траурном концерте школьный симфонический оркестр играл реквиум, и Соломон прочувственно вел первую скрипку. Он был похож на Паганини…
Я с горя заболел и музыкальную школу бросил. (Продолжение следует)
«Боже, царя храни!»
«Гимн (греч) -хвалебная песнь, хвала и прославление, в стихах или музыке, песнопением.»
В.Даль
«Гимн – официальный символ государства (наряду с флагом государственным и гербом государственным)» БСЭ
Один из самых знаменитых казачьих полков – Собственный Его Величества Конвой (полк несколько раз переформировывался с 1812 по 1861 год) в 1829 году возглавлял Алексей Федорович Львов – тот самый, что в 1833 году стал автором музыки "Боже, Царя храни!" Как он служил в казачьем полку, свидетельствует выгравированная на старинном клинке драгоценного булата надпись: "Примите, добрый наш начальник, эту саблю в память нашей к Вам благодарности: это железо не тверже чувств наших". Надпись совершенно искренна и бескорыстна. Драгоценный клинок поднесен Львову в 1859 году, когда он давно не служил начальником Конвоя и не имел с ним никаких служебных отношений …
Но рассказ наш о гимне.
Гимн – понятие античное, греческое. Первоначальное его назначение – восхваление божества. Подобные хвалебные гимны были и в Египте, и в Древней Индии, в Шумере, и, разумеется, в Греции:
О, Зевс, всех дел начало ты и вождь,
Тебе, о, Зевс, начало гимна шлю…
Но древние греки первыми стали посвящать свои хвалебные гимны – молитвы Родине, родному городу:
Мать моя, златозащитная Фива,
Дело твое выше всех я поставлю…
или героям, подвигами прославившим Родину:
Кто пал в бою при Фемопилах,
Тех славна участь, чудный жребий ждет.
Алтарь святой на их могилах,
Нет слез! Но слава их живет!
История донесла имена выдающихся поэтов, слагавших гимны: Терпандор из Спарты, Пиндар, Симонид …
Постепенно, в средние века гимн все более и более приобретает черты национального символа, знака государства. Гимн становится понятной для всех формулой национальных представлений и об идеальном государстве, и о духовном идеале настоящего гражданина или подданного монарха, и о самом монархе.
Каждое слово гимна должно быть емким и глубоким. Не случайно иногда целые фразы из национальных гимнов становятся девизами на знаменах, перекочевывают из одного государства в другое. Так, слова из Британского гимна "Никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом!" распевались в гражданскую войну большевиками: "Никогда, никогда, никогда коммунары не станут рабами".
Кстати, такая фраза могла родиться в протестантском государстве, где понимали рабство только как физическое закабаление. Для государства католического или православного эта фраза была легковесной, потому что христиане гордятся тем, что они рабы Божьи… И это нисколько не умаляет их свободолюбия.
История русского национального гимна восходит к XVIII веку. Побочный сын лорда Галифакса – Генри Кэри, покончивший в 1743 году жизнь самоубийством, оставил в нищете вдову и шестерых детей. При распродаже его рукописей, как гласит легенда, текст и ноты гимна не купили. « Боже храни» написанный в 1740 году 34 года не был востребован. В 1774 году его напечатали без указания авторства, а знаменитым стал в следующем году, в момент восстания Шотландии. Его начали исполнять как "Гимн лояльности", то есть как гимн королю – гаранту примирения народов: английского и шотландского:
Боже, на долги дни
Ты короля храни,
Нам сохрани!
Пусть он изведает
Счастье победное.
Боже, на долги дни
Короля храни …
Став знаменитым, буквально в один день, гимн тут же принят во всей Европе. В странах, схожих с Англией формой правления, текст перевели на национальные языки, и гимн исполнялся без всяких изменений в Дании, Швеции, Пруссии, Австрии и т.д. До объединения Германии в Империю в каждом из ее маленьких княжеств и герцогств исполнялся английский гимн, только вместо слов "король" пелось "император" или "герцог".
Не избежала общего поветрия и Россия, и во время царствования Александра I отменили прежний русский гимн "Гром победы раздавайся", и русские стали петь английский. Сначала как гимн союзной державы, а затем немец Остен (впоследствии знаменитый русский лингвист и академик, принявший имя Александр Христофорович Востоков) перевел слова английского гимна с немецкого языка на русский, и английский гимн без изменений стали петь по-русски. Конец этому винегрету положил Василий Жуковский, предложивший свой перевод знаменитого и, так сказать, "общеевропейского гимна":
Боже, Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли!
Гордых смирителю,
Славных хранителю,
Всех утешителю
Все ниспошли»
Не устоял и Пушкин, предложивший свою приписку под названием "Молитва русских":
Там громкой славою,
Сильной державою
Мир он покрыл.
Здесь безмятежною,
Сенью надежною,
Благостью нежною
Нас осенил …”
Это об Александре I, который "властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда". Воистину "Ай, да Пушкин! Ай, да сукин сын!" – как он о себе говаривал.
Во время войны 1812 года началась полная неразбериха: Англия и Австрия, Германия и Россия имели один гимн. Получилось, что один и тот же гимн исполнялся в войсках, противостоящих друг другу на поле брани. Англичане вернулись к старому гимну "Правь, Британия". А русские, вопреки официальному гимну, предпочитали старый екатерининский на слова Державина, на музыку инспектора Императорского оркестра О.Козловского:
«Гром победы раздавайся!
Веселися, храбрый росс.
Звучной славой украшайся,
Магомета ты потрёс.
Славься сим, Екатерина,
Славься, нежная к нам мать!"
Как видите, несмотря на популярность, этот полонез, исполнявшийся почти как гимн, строго говоря, гимном считать нельзя. Да и устарел он: написан сей полонез был на русские победы над турками после Ясского мира, только этому, и посвящен, а значит, национальным гимном стать не мог. Как не мог стать им и другой, духовный гимн "Коль славен наш Господь в Сионе", распространившийся во времена Александра 1. У этого гимна находили два недостатка: он не имел светского характера, и потому должен был исполняться после государственного, а молва связывала его появление с засильем масонов, прямо называя его "масонским".
Таким образом, необходимость в национальном гимне ощущалась всеми, но гимна у Российской Империи фактически не было.
А по Европе уже гремела "Марсельеза:
"Вперед, сыны Отчизны милой,
Мгновенье славы настает…"
Успех ''Марсельезы" – колоссален, и для русской монархии возникла необходимость противопоставить этому революционному призыву, влекущему Европу в хаос мировых потрясений, нечто равное по мощности, но противоположное по смыслу.
Многие пытались создать русский гимн, но оказаться на уровне понимания поставленной задачи смогли двое: великий русский поэт Василий Жуковский и, к сожалению, менее известный, но не менее славный Алексей Львов.
Алексей Федорович Львов происходил из аристократической фамилии. Родился он в Ревеле в 1798 году и получил блистательное домашнее образование. Он был чрезвычайно одарен, но более всего музыкальными способностями. Любовь к музыке он унаследовал от отца. Об отце Львов говорил: "Музыка спасла его от многого, отворила ему многие двери, даже в доме царском".
Сам Алексей Львов окончил, первым по списку, Корпус Инженеров путей сообщения, имя его было отчеканено золотом на мраморную доску, но далее суровые испытания ждали 20 —летнего молодого человека – его направили служить в военные поселения под начало самого Аракчеева. Тяжелейшие условия жизни, грубая обстановка, жесточайшая дисциплина и горы самой сложной работы не сломили и не ожесточили его. Прослужив под началом Аракчеева семь лет, он выходит в отставку, но уже в следующем году снова поступает на службу, и многие годы заведует делами Императорской Главной Квартиры при Николае I.
С 1828 по 1842 годы во всех путешествиях царя он состоит в его свите "для производства дел". Полная занятость по службе, казалось бы, не оставляла времени для музыкальных занятий, однако только музыка и помогла Львову устоять, в самые сложные периоды жизни. Музыкой он занимался все свободное время методично и страстно. Львов становится известным композитором благодаря переложениям для оркестра с хором произведений Перголези. Он избирается членом Болонской Академии. Поэтому выбор Государя пал на Львова не случайно.
Государь ценил во Львове прежде всего другое: прошедший жестокую школу Аракчеева, находящийся по службе в подчинении Бенкендорфа, капитан гвардейских жандармов, награжденный за храбрость в боях под Шумлою и Варною Владимиром с бантом и Анной на шее, Львов, никогда, ничем не запятнал своего имени. У него был безупречный послужной список!
Занимаясь делопроизводством Главной Императорской Квартиры, Львов не просто понимал умом, чего ждет от него царь и держава, но и воспринимал задачу сердцем. Александр Федорович понял, что знаменитое "Славься!" Глинки писал как русский гимн, но затем вставил в оперу не случайно. В этой музыке – восторг победы, но она не отражает всечасную картину мощной империи. Это не «государственная молитва» Не отвечало замыслу и предложение великого князя Константина. Он хотел сделать гимном мелодию русской песни, например, "Не белы снеги …"
В гимне, по мнению Львова, должно быть все вместе: и народность, и мощь, и мелодия. Гимн должен быть похож на европейские произведения, но отличаться от них русским колоритом (поэтому пусть не удивляет некоторое сходство с гимном английским, иначе его бы просто не признали гимном. Гимном то, ведь считалась только музыка Кэрри.). Задача невероятная! Гимн, как считал Львов, «лицо страны, ее главная мысль и слово».
Всегда ли композиторы так понимали свою задачу? Да, как правило, никогда!
Автор "Марсельезы" Руже де Лиль, написавший "Воинскую песнь Рейнской армии" (так назывался будущий французский гимн), не был революционером. Он публично выступил против казни Людовика XVI и всячески ругал за это злодеяние революционное правительство. Его уволили со службы, посадили в тюрьму и чуть не отправили на гильотину под собственный марш, который несколько раз запрещали. В частности, при Наполеоне, и, официально, при Бурбонах. Но именно "Марсельеза" стала французским гимном – произведением, наиболее полно выражающим дух французской нации.
Львов же, понимая все это, был скован еще одним предписанием: он должен был написать музыку с учетом текста Жуковского на музыку английского гимна.
И все-таки ему удалось достичь поставленной цели.
Гимн стал известен до того, как был официально признан. 12 декабря 1833 года после спектакля в Александринском театре актерская труппа во главе со Щепкиным пропела его по собственному желанию. Оттого, что гимн был узнаваем, но свой, русский, зал в три тысячи человек встал! Хотя тогда не еще не сущестовало к этому никаких предписаний и традиции слушать гимн стоя! Под восторженные крики "ура" гимн, или "молитву русских", как назвали его современники, повторили 32 раза!
31 декабря 1833 года последовало Высочайшее повеление «вновь сочиненную на гимн музыку Львова ввести по всей Армии»
Дальнейшая судьба Львова по-своему очень показательна и интересна. В 1834 году Львов становится, по назначению Николая I, флигель—адъютантом, что являлось редкостью для чина ротмистра, носимого Львов. Однако Россия оставалась страной жесточайшей дисциплины и порядка, устав и законы не дозволялось нарушать даже царю. Этим объясняется продвижение по службе Львова – композитора и музыканта. Когда умер отец Львова – директор певческой капеллы, и Николай I предложил на этот пост своего флигель-адъютанта, то Львова назначили только преемником. Исправлял он эту должность в течение 12 лет, до утверждения в 1849 году, когда сравнялся, по выслуге, в чине, необходимом для этого поста, с покойным отцом.
Он написал еще две оперы, много церковной музыки, стал известен как замечательный исполнитель, его высоко ценили Мендельсон, Шуман, Вагнер.
Алексей Федорович Львов много занимался общественной деятельностью. Благодаря ему, установлены пенсии для певчих, организованы симфонические вечера в Петербурге. Традиция, сохранившаяся до наших дней. Будучи по образованию инженером, он подавал на конкурсы проекты и даже строил сам. К концу жизни здоровье его пошатнулось, а сильная глухота заставила уволиться со службы в 1861 году. Умер Львов в имении под Ковно в 1870 году, где на фамильном гербе были высечены слова "Боже, Царя храни", ставшие, по Монаршему повелению, девизом Львова и Жуковского.
Василий Андреевич Жуковский в 1851 году за год до своей смерти писал Львову: "Наша совместная двойная работа переживет нас долго. Народная песня, раз раздавшись и получив права гражданства, останется навсегда живою, пока будет жив народ, который ее присвоил".
«Геройская гибель «Варяга»
Его привезли на черной, поблескивающей никелем машине. Под руки бережно приняли морские офицеры.
– Ирря – я!.. – пропели командиры.
Толпа поднажала и выдавила меня, пятиклассника, через жидкую цепь охранения. Я оказался между моряками, застывшими в строю. Я изо всех сил тянул шею и кое-что мне было видно. Приехавший старик, в матросской форме, вел за руку мальчонку, совсем малявку, тоже в морском бушлатике и бескозырке. Походкой, выдававшей настоящего моряка, старик подошел к памятнику "Стерегущему", сдернул бескозырку с внука, обнажил белоснежную голову и замер, глядя вверх на фигуры двух бронзовых матросов, открывающих кингстоны эсминца.
В напряженной тишине было слышно, как журчит вода памятника – фонтана. Широким жестом старик перекрестился, склонился в земном поклоне и, почерпнув воды, ополоснул, словно крестил в славе, лицо внука. Зачерпнул еще и плеснул себе в лицо.
Я смотрел на сутулую спину старика, в напряженные лица моряков и увидел, что у командира, стоявшего перед батальоном, каменно державшим руку у козырька фуражки, мелко задрожал, выбритый до синевы, подбородок.
Старик, косо по-морскому, посадил на голову старинную бескозырку и, повернувшись через левое плечо, вскинул беспалую руку к виску:
– Здорово, братцы! – хрипло выкрикнул он, и голос его сорвался.
– Здра…жла..! – рявкнуло в ответ,
– С праздником вас, сыночки!
– Рррррааааа! – прокатилось над строем.
Шел 1954 год. Отмечалась полувековая годовщина подвига корабля, чье имя поблескивало тусклым золотом на ленте стариковой бескозырки: "ВАРЯГЪ".
Я помню каждую литеру в этом имени и черно-рыжую ленточку Георгиевского креста на стариковой матроске, я помню его мокрое лицо… А главное, я помню восторг и кипящие в сердце слезы, что душили нас тогда. Я помню лица курсантов и офицеров в парадном строю. В тот день я понял, что такое слава легендарного крейсера для нескольких поколений русских людей. Я чувствую это каждый раз, когда в этой единственной из всех исполняемой хорами песен, сразу, без вступления мужские голоса, решительно и властно обрушивают на слушателя:
Наверх вы, товарищи, все по местам.
Последний парад наступает.
Врагу не сдается наш гордый "Варяг",
Пощады никто не желает…
Прежде, чем я расскажу то, что мне известно о создании песни, ставшей памятником легендарному кораблю, припомним подробности его трагической гибели.
Неправда, что Россия была отсталой страной ко времени начала русско-японской войны. После отмены крепостного права в 1861 году страна набрала такой темп развития, что это не могло не беспокоить ведущие державы. Особую ненависть вызывало то, что Россия имела не только самый мощный научный, инженерный потенциал, но и потенциал нравственный. И Россию старательно, целенаправленно подталкивали к войне. Тем боле, что начинался империалистический передел мира. На Дальнем Востоке коренным интересам России противостояла Япония. Ее снабжали оружием, ей помогали развивать военную промышленность, рассчитывая на столкновение с Россией. Более всех в этом деле усердствовали англичане.
Война зрела долго, в ее неизбежности никто не сомневался. Она стала как бы прологом к последующим, чудовищным войнам XX столетия. И это была первая война, начатая без объявления. По выражению японского офицера, объявление войны считалось в японской армии "совершенно бесполезным, глупым европейским обычаем".
9 февраля (27 января по старому стилю) 1904 года на внешнем рейде корейского порта Чемульпо выстроилась в боевой полумесяц эскадра адмирала Уриу: б крейсеров, 8 миноносцев, 3 транспорта. Цель эскадры – пленение русского легкого крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец", стоявших на внутреннем рейде, в бухте.
Собственно, с этого и начинается война, с этого начинается цепь подлости и предательства, в чем преуспели враги России.
На рейде Чемулыпо находилось много боевых кораблей разных стран. Старшим по званию, а стало быть, и старшим на рейде, был командир английского крейсера Бейли. Известие о начале войны командиру крейсера "Варяг" капитану 1 ранга Всеволоду Федоровичу Рудневу передал командир французского крейсера. Русские не имели связи с внешним миром – об этом загодя позаботилась японская разведка.
Руднев и француз тотчас же отправились к Бейли, и тот передал Рудневу ультиматум японского адмирала Уриу: покинуть порт до полудня. В противном случае русские корабли будут атакованы на стоянке. От себя Бейли добавил, что если "Варяг" и "Кореец" останутся на рейде, то все другие корабли, "сохраняя собственную безопасность", выйдут в море.
Нелегко Рудневу было просить англичанина о помощи, но ради спасения кораблей, ради спасения жизни матросов он сделал это – просил сопроводить его до границы корейских территориальных вод. Японцы в этом случае не посмели бы атаковать, и у "Варяга" и "Корейца" появлялась возможность уцелеть. Но Бейли отказал. Больше того, он известил японцев о намерении русских пробиваться в Порт-Артур. Так были совершены не только очередная подлость, но и прямое предательство России.
Вернувшись на крейсер, Руднев обратился к экипажу:
«– Безусловно, мы идем на прорыв и вступим в бой с эскадрою, как бы сильна она ни была. Никаких вопросов о сдаче не может быть – мы не сдадим кораблей, и будем сражаться до последней возможности, до последней капли крови…»
Матросы и офицеры ответили троекратным "ура!" Руднев приказал поставить на флаг самых отважных сигнальщиков – он не должен быть спущен ни на мгновенье!
В 11.20 "Варяг" и "Кореец" (под управлением капитана 2 ранга Григория Павловича Беляева) вышли в море.
"Варяг" некоторое время считался одним из самых быстроходных военных кораблей в мире. Теоретически он мог давать 22 узла. Ради скорости он был максимально облегчен – орудия не имели даже броневых щитов. И хоть огневая мощь крейсера оставалась довольно значительной (12-152 мм и 12 – 75 мм орудий, 10 пушек меньших калибров, 2 пулемета и шесть торпедных аппаратов), прислуга орудий – совершенно беззащитна, огонь велся с открытой палубы. Не мог "Варяг" использовать и свою быстроходность: в кильватере шел тихоход "Кореец"… *)
То, что русские корабли идут на верную гибель, понимали все. Подчиняясь командиру на рейде, суда оставались на стоянках, но никакой командир не мог запретить морякам выражать свои чувства: команды выстраивались на шкафутах, поднимали флаги расцвечивания, итальянские моряки играли Российский гимн, а на французском корабле гремела "Марсельеза".
Уриу собирался преподнести своему императору целехоньким "самый быстроходный крейсер мира", поэтому поднял сигнал: "Предлагаю сдаться без боя". Русские не удостоили японцев ответом. "Варяг" шел прямо « в лоб» на японскую эскадру.
В 11.45 японцы не выдержали, открыли огонь. "Варяг" ответил. Через несколько минут горел броненосный крейсер "Асама", с повреждениями вышел из боя другой крейсер "Такачихо".
На русские корабли бросились в атаку два миноносца. Но атака не удалась, один из миноносцев был потоплен.
Свистит и гремит, и грохочет кругом
Гром пушек, шипенье снаряда…
И стал наш бесстрашный, наш верный "Варяг"
Подобьем кромешного ада.
"Варяг" за час боя выпустил 1105 снарядов. А столько же выпустили по нему 14-ть японских корабляй!
Осколки сметали людей с верхней палубы. То тут, то там вспыхивали пожары. Вода била в пробоины ниже ватерлинии. Ранило в голову Руднева. В залитом кровью мундире он поднялся на мостик и крикнул:
– Братцы! Я жив! Целься верней!
Но уцелело только два тяжелых орудия и пять средних, кончились боеприпасы, поврежден руль, судно теряло управление.
Руднев решил вернуться в порт, чтобы исправить, сколько возможно, повреждения, и опять идти на прорыв. Прикрывая собой "Корейца", "Варяг" вернулся в Чемульпо. Подсчитали потери: из 573-х моряков команды 39 – убиты и 188 ранены.
В порту стало ясно, что повреждения быстро и своими силами не исправить. Иностранные корабли поднимали якоря, готовясь покинуть бухту.
На совете офицеров Руднев предложил уничтожить оба корабля. Офицеры согласились с командиром.
И даже в эти последние, трагические минуты "Варяг" явил пример благородства: он не только показал, как нужно сражаться, но и как должен умирать корабль великого народа. Чтобы не нанести вред другим кораблям, стоявшим на рейд, крейсер не взорвали, а открыли кингстоны. Взорвали маленького "Корейца".
К погружающемуся крейсеру от всех судов, кроме американского, спешили шлюпки. Бережно сняли предпоследнего – тяжелораненого матроса Петра Олейника. Только после этого, поцеловав поручни трапа, с тонущего корабля сошел его командир Руднев.
"Все проходит в этом мире, только доблесть неизменна" – говорили римляне. В подвиге "Варяга" все песня: и зло, и благородство, и доблесть. Даже враги оценили его героизм, мужество русских моряков. Руднев был награжден высшим орденом Японии – орденом "Восходящего солнца". Матросы "Варяга" пользовались такой популярностью и славой, что, опасаясь, как бы экипаж крейсера не составил опасности режиму, его расформировали. А флот бунтовал. И не случайно первым помощником командира первого корабля революции оказался матрос с "Варяга" Антон Войцеховский. А через 15 лет штурман "Варяга" Евгений Андреевич Беренс станет командующим Морскими Силами Республики.
Но вернемся к песне. Телеграф и газеты разнесли весть о подвиге русских моряков по всему свету. Гибель крейсера была известна в подробностях, поскольку на рейде находились корабли разных стран, экипажи которых видели не только "последний бой", но и последние минуты жизни "Варяга". Пожалуй, благодаря свидетельствам очевидцев и фотографиям читатели газет впервые ощутили "эффект присутствия", к которому мы, современные люди, привыкли. Тогда же это потрясало, и особенно впечатлительным натурам, к каким относятся, прежде всех, поэты, казалось, что они сами были участниками событий. Немецкий поэт Рудольф Грейнц был так потрясен подвигом "Варяга", что уже через три недели после его гибели опубликовал стихотворение "Памяти "Варяга".
Это стихотворение попало в руки жены русского профессора-германиста Ф.А. Брауна – Евгении Михайловны Студентской. Она училась на филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, владела немецким языком и довольно точно перевела стихотворение. Перевод, вместе с оригинальным, текстом напечатали газеты. Таким образом, не позднее апреля 1904 года с этим стихотворением познакомился русский читатель. И мгновенно оно стало очень популярным. Евгения Михайловна умерла совсем молодой в 1905 году. Здесь кончаются факты и начинается легенда. За достоверность я не ручаюсь, но уж больно увлекательны «приключения» музыки замечательной песни.
Есть мнение, что первоначальный музыкальный вариант появился тоже в апреле 1904 года. Будто бы слова и ноты отправили морякам "Варяга" в Японию. Оттуда из почетного плена они долго добирались домой – вокруг всей Азии, мимо Африки. Ноты – по легенде – они потеряли, но слова выучить успели. Когда экипаж крейсера находился в Австрии, моряки спели ее на музыку … австрийского марша. Он и лег в основу мелодии.
Легенда, действительно, красивая, но, скорее всего, только легенда. По воспоминаниям одного из героев "Варяга", когда они вернулись на Родину, вся Россия уже пела "Наверх вы, товарищи!". А может, песня каким-то образом опередила героев?.. Увы, мы так и не знаем (пока?) даже какие именно слова из немецкого стихотворения были в той песне, ни на какую мелодию ее пели.
Во всяком случае, всем известный сегодня классический напев объединяет несколько мелодий, по крайней мере, четырех композиторов: А.Б. Виленской, И.Н. Яковлева, И.М. Корносевича и А.С. Турищева. И, наверное, в этом есть огромный смысл. Подвиг "Варяга" – духовная, нравственная победа, а победа духа понятна всем народам, людям разных поколений. Поэтому не случайно, что песня интернациональна даже по своему происхождению и что в ее создании принимали участие не только русские музыканты.
Удивительная все же песня. Песня – памятник, песня – обелиск. Песня, на которой воспитывалось несколько поколений. Мне кажется, что равная ей во всей нашей песенной сокровищнице есть только одна – "Вставай, страна огромная…"
P. S. Наверное, я всю жизнь буду дописывать эту книгу! И меня это вполне устраивает. Так вот, когда рукопись была уже готова, работая над другой своей книгой “ Мы казачьего рода!”, я узнал, что в кильватерной колонне за крейсером “Варягом” и канонерской лодкой “Кореец” шел третий корабль – пароход “Сунгари”. На нем возвращалась в Россию сотня забайкальских казаков, охранявших русское консульство в Корее. Они тоже оказались, если не участниками, то свидетелями боя, и вместе с моряками разделили и горечь гибели кораблей, и тоску плена. Хотя Императорская Япония, верная традициям самурайской воинской чести, относилась к героям с «почтительным уважением, достойным воинов, чье мужество вызывает искреннее восхищение». А рассказ о подвиге «русикэ капитана Руднев» вошел в японские буквари. На примере русского морского офицера Императорская Япония воспитывала своих героев.
Но…бедные мои, казаки! Куда только не заносила вас судьба! Где только не лежат ваши чубатые лихие головы, сроненные в боях за Россию!
"В бананово-лимонно Сингапуре..
"…В одном небольшом городке
Кулумбина с семьею жила…"
– пела, болтая ногами в зеленоватой, белобрысая, конопатая псковская пионерка, настоящая «скобариха», с выцветшим сатиновым галстуком на тощей, загорелой до сизого отлива шее, сидя на носу лодки долбленки, которая называлась странно и вроде как-то не по-русски камья, прозрачной озерной воде. Вот когда, в полном шоке, от этой литературной реминисценции, я почувствовал, что такое слава Вертинского! Коломбина, в произношении пионерки «Кулумбина» – нечто среднее по звучанию между «клумбой» и «Колумбией», Арлекин (в упоминаемой песне «с ножиком») – это образы из произведений Вертинского. А Пьеро – его театральная маска.
Шестидесятые годы ! До ближайшей железнодорожной станции сорок километров! А вот поди ж ты – «Кулумбина»!
Вертинский сказочно знаменит! Его слава равнялась славе Шаляпина, правда, в иных меломанских кругах! И слава эта вполне заслуженна. Говорю это с полной ответственностью потому, что я видел Вертинского. Я видел и слышал его выступление.
Имя Вертинского произносилось мамой и бабушкой с каким-то торжественным придыханием, хотя они его, конечно, никогда не видели. Они только слышали о том, что где-то в Петрограде поет странные песни – ариетки, на собственные стихи, печальный, наряженный Пьеро, Александр Вертинский.
Перед войной, сквозь заградительные кордоны НКВД, протаскивали пластинки с его эмигрантскими песнями. Чуть позже, его записи стали появляться "на костях". Так в народе именовались самодельные грампластинки, их и пластинками назвать было нельзя, сделанные на использованной рентгеновской целлулоидной пленке. На снятом с диска радиолы лепестке самодельной пластинки, можно легко рассмотреть какой – нибудь сложный перелом или чье-то легкое. Записи «на костях» – предтеча « магнитиздата». Записи чудовищного качества! Сквозь треск и шипение сложно что-нибудь услышать, но тем привлекательнее каждое расшифрованное слово. Записи " на костях" манили как запретный плод, потому что на них – голоса запретных певцов Вертинского, Лещенко, Козина…
Но у нас не было радиолы! Поэтому и такие-то записи я слышал всего два, три раза и мало что разобрал. И вдруг, как раскат грома под растресканным потолком нашей комнатушки:
– Вертинский вернулся! Вертинский дает концерт в Измайловском саду.*)
Я проникся известием, хотя и не понял, что же тут замечательного в том, что Вертинский вернулся. До сих пор я удивляюсь, почему все говорили « вернулся»? Вернулся он из эмиграции много раньше. Визу он получил в 1943 году. А концерт – в 1955 –м. Но почему-то и позже все продолжали радоваться, что Вертинский вернулся, хотя он уже давным-давно жил в СССР. Вероятно, в это слово вкладывался другой смысл. Вертинский вернулся, как часть потерянной России, как во время войны вернулись слова «солдат», «офицер», как вернулись погоны.
Второй удар грома был еще поразительнее первого.
– Мы идем на концерт.
Мы – это я и бабушка. Потому что мама, как всегда, не смогла – она работала на две с половиной ставки. И я думаю, что на два билета они с бабушкой не смогли выкроить денег, а меня пустили бесплатно.
– В крайнем случае, я возьму тебя на руки! – говорила бабушка.
Я с ужасом думал о таком унижении, и потому надел пионерский галстук. Вообще он был логическим завершением моего летнего выходного костюма: сандалии с носками ( нет, не с носками, а со скрученными двумя валиками бубликами чулок), сатиновые черные трусы и белая рубашка. С пионерским галстуком получалась парадная пионерская форма! И не стыдно пойти на «мероприятие» любой важности
У дверей Летнего театра народ вился водоворотом, но мы, размахивая билетом, протиснулись сквозь толпу. Билетерша, очень похожая на мою бабушку, встретилась с ней глазами, и меня пропустили. Мы уселись на скамейки без мест, или, может быть, они были написаны, на спинках скамеек, но на них никто не обращал внимания.
Зал был переполнен. Народ, сидевший чинно в первых рядах, у выходов стоял стеной и помещался, чуть ли ни на головах, у сидящих в рядах последних. Никогда прежде я не видел такого столпотворения.
Стал медленно угасать свет… На сцену вышел бледный хрящеватый старик, с напудренным носом, блестящими прилизанными волосами, сутулый и тощий.
Зал лопнул от аплодисментов. Теперь я понимаю, что в большинстве своем не слышавшие его песен, люди аплодировали не поэзии Вертинского, и даже не его славе, а тому, что он «вернулся». Что он «наш»!
Такая волна восторга заставила меня съежиться. В ранне-пионерском возрасте не принято было, как говорилось в нашем дворе, "выделяться". А старик явно "выделялся" и не скрывал этого. Во фраке, я видел такой прежде только в кино, он строго и, чуть печально, улыбаясь, слушал бурю восторгов, разумеется, понимая все то, что понимаю я сейчас, перевалив полтинник. Знал он и цену зрителям, и цену восторга толпы…
Зал стих. И тогда, совсем не громко, внешне нисколько не заботясь о том, слушают его или нет, старик запел… Пел он, гнусавя и грассируя. Это совсем не походило на привычное мне выступление «заслуженных и народных», таких, что легко сдвинув мощным «нижним бюстом» рояль, и, сложив руки, как для ныряния и заплыва, густо брали:
Хлебом кормили крестьянки меня…,
в радостной уверенности, что результат этого кормления – всем очевиден.
– Зато этот противный! – сказал я бабушке.
Она прожгла меня взглядом и пригвоздила к скамье, чтобы я сидел молча.
Я не знаю, что чувствовал Вертинский, если он меня видел – (стриженную под ноль голову над пионерским галстуком меж двух пылающих лопухов ушей), но я был Вертинским ошарашен. Никогда я не видел такой свободы поведения на сцене. Никогда я не видел таких танцующих рук. Никогда я не видел, чтобы артист так легко и бесстрашно пускал слушателя в мир своей души.
Я помню свое потрясение – старик не боялся быть противным! Вот что сбило меня с ног! И хотя я, под расстрелом, не смог бы тогда сказать, что такое «голубые пижама», естественно, на «солнечном пляже в июле»,… Но я понял, что меня щедро пускают в какой-то неведомый и экзотический мир, где уживаются и «бананово-лимонный Сингапур», с «лиловым негром из притонов Сан-Франциско», и юнкера, которых «опускают в вечный покой», и такие русские «две ласточки, как гимназистки»
Меня не только пустили, как в Летний театр Измайловского сада и усадили на хорошее место, меня приняли как равного, потому что ничего не объясняли и не старались понравиться.
«Заходи, смотри, будь гостем… Не понравиться – что ж – насильно мил не будешь…»
Этот мир заворожил меня тем, что это был мир души, его прежде передо мной никто так откровенно не демонстрировал. Я вообще не подозревал, что такое возможно.
Я – обалдел. Другое слово не подходит. В состоянии обалдения, я отправился домой и не мог уснуть. Трещины на потолке складывались в усталое, бледное, босое лицо манерного старика. Я перебирал в памяти все детали: его манеру петь, двигаться… Припоминал черный лампас на смокинге и перстень на пальце…
Вертинский был велик тем, что никогда не опускался до аудитории, но щедро и безбоязненно поднимал каждого слушателя до себя. Он никого ничему не учил, но предлагал быть рядом. И еще нельзя было не почувствовать что это необыкновенно сильный человек. Его можно убить, но нельзя переделать.
Он прожил очень достойно очень не простую жизнь. Рано осиротев, жил у родственников. Закончив киевскую гимназию, переехал в Москву. Не был принят во МХАТ из-за дефекта речи. Его знаменитое грассирование не манерность, а неисправимый недостаток – врожденный дефект речи. А модой это стало после Вертинского. Сильно бедствовал. «Подсел», как сейчас, говорят, на наркотики, на кокаин. Но волевым усилием – выломался. Снимался в немом кино. В 1915 году добровольцем пошел на фронт. Служил санитаром. Был ранен. Вернулся в Москву и быстро стал знаменит.
Критики удивлялась его популярности в самых разных слоях общества. « Удивителен, неожидан, курьезен, в сущности, тот захват, который проявляет рафинированность его песенок на разношерстную, «с улицы» толпу», – писали о нем в 1916 году. То же самое можно было повторить и в 1957 году, в год его смерти, потому что до последнего дня он Вертинский оставался популярным и любимым.
Правда, он сам в этом сильно сомневался… Вернее, ему казалось, что его зритель эмигрировал, он будет неинтересен в Советской России. Слава Богу, ошибался. Он не мог без России, и она без него… Потому она – Россия, (а это обожавшие Вертинского зрители и слушатели), так радовалась и все повторяла: «Ветринский вернулся!»
Много лет спустя, когда я стал обдумывать такое явление как авторская песня, я высчитал – понял, что предтечей взлета шестидесятых, отчасти, стал Вертинский. Он, родившийся в веке девятнадцатом, соединял в себе и традиции русской камерной эстрадной музыки и все, что потом стало знаком нового времени: собственные стихи, собственная музыка и собственное исполнение.
И если в этом триединстве возможны исключения, лишь подтверждающие традицию (могут быть чужие стихи или музыка, может быть спета артистом, полюбившаяся песня), но есть самое главное, что выше этого триединства – максимальная искренность, свобода и открытость души…
Потому это и похоже на театр. Вы присутствуете при рождении песни. Вот зазвучала музыка, вот потекли слова… и вы там, вместе с поющим поэтом. Вы смотрите на мир его глазами. Отзвучал последний аккорд, и все кончилось -…Даже если осталась видеокассета.
Поэтому авторской песне противопоказаны стадионы и многотысячные толпы. Конечно, такой титан, как Высоцкий справился бы с любой человеческой массой. В конце концов, можно и на вокзале родить, ежели нельзя погодить. Но это другой жанр…
Я видел классику. Я видел Вертинского. Все что закладывалось поющими поэтами и, сочиняющими стихи, композиторами, все, что пели под собственный аккомпанемент великие русские певцы, воплотилось в новом искусстве, в новом жанре, я не боюсь утверждать, устного народного творчества, – только это творчество высокообразованного народа. Вертинский обогнал время лет на пятьдесят. Оставаясь поэтом начала века, он был первым среди нового жанра второй половины века двадцатого.
Какое счастье, что осталась кинолента, остался фильм «Анна на шее», где Вертинский играет сластолюбца князя. Но как сказал Евгений Габрилович: «кино это ведь только тени тех кто был …» Только тени. А я добавлю, одна из самых ярких и запоминающихся ролей в этом фильме – всего лишь слабая тень Вертинского на эстраде.
Я ничего не понял тогда, на его концерте, но все запомнил, и мне хватило этого на всю жизнь. Много лет спустя, я сообразил, какая величина Александр Владимирович и как мне повезло! Вертинский – одна из самых ярких звезд, на густо усеянном звездами, небе этого жанра – авторской песни – музыки, поэзии и театра. Поверьте мне. Я его видел!
Скрипачонок
(окончание)
Я болел долго, месяца четыре. Врачи никак не могли определить, что со мною, а мне сделалось все равно, … Я совсем не хотел ходить в школу и вообще не хотел ничего делать… Меня таскали на бесчисленные анализы и осмотры. Потом придумали, что у меня воспаление почек. Хотя я совершенно уверен – не было никакого воспаления! Я болел от тоски! Я так горевал по скрипке и по Профессору, что даже плакать не мог.
Мама и бабушка правильно сделали, что не пустили меня на похороны, и я не видел Профессора мертвым. Поэтому он мне постоянно снился живым, и я разговаривал с ним почти каждую ночь. Хотя при жизни, обычно мы с ним мало разговаривали – только когда пили чай. А так все время: либо занимались, либо к нему шли ученики: как пригородные электрички – один за другим или как трамваи, что грохотали и завывали под окнами нашего дома. Я лежал с открытыми глазами и смотрел как вместе с грохотом, от которого дрожала посуда в шкафчике, а по потолку медленно проплывает блик света слева направо со Ржевки в город и справа налево из города на Ржевку…
Скрипка у меня была казенной, и ее пришлось сдать обратно в школу, но меня никто не исключал, я считался в академическом отпуске по – болезни. Хотя я – то знал, что назад в школу никогда не вернусь. Не мог я вернуться, потому что там меня ждал Соломон. Он, все-таки победил!
Провалявшись дома несколько месяцев, я вынужден был пойти в свою общеобразовательную школу, только потому, что мне грозила перспектива остаться на второй год, кое – как я вытянул на троечках, и был допущен к экзаменам. Тогда экзамены сдавались ежегодно, начиная с четвертого класса. Поскольку к экзаменам нужно было готовиться самостоятельно и не ходить, в ставшую мне чужой, школу, я приналег и сдал на одни пятерки.
– Сфинкс, Сфинкс! – будто слышал я за спиной голос Соломона.
У меня еще оставались обломки голоса, хотя уже начиналась мутация и я «давал петухов» во всех регистрах. Мама до войны мечтала быть певицей и позволяла себе единственное удовольствие – петь в хоре, который существовал в соседней воинской части. Я не любил ни этот хор, ни жен офицеров, его составлявших, но мама, время от времени, заставляла и меня выступать, то со скрипкой, то с пением… Это – невыносимые муки и унижение! Но кто знает, может быть, тогдашние мои страдания помогли мне потом и в педагогической карьере, и во многом другом, например, не бояться аудитории, телекамеры и пр…
И вот однажды, я притащился на репетицию хора и увидел там нового хормейстера. Неожиданно он взял, лежащую на рояле, скрипку и стал подыгрывать поющим. Когда он ушел покурить, я, не помня себя, взял скрипку и смычок.... Я не стал играть, просто стоял так, вдыхая запах канифоли и еще, еле уловимый, как музыка, тот особенный запах, который есть у каждой скрипки, и у каждой свой…
– Хочешь учиться играть на скрипке?– услышал я за спиной.
– Я учился…– проскрипел я, теперь совершенно чудовищным, подростковым голосом.
Пять классов?– Это прилично, весьма прилично… Надо продолжать. Ни в коем случае не надо бросать!
Господь послал мне еще одного прекрасного человека! Звали его Владимир Иванович Варфоломеев. Он был инженером на Охтенском химическом комбинате, там же работала его жена, по-моему, химиком-технологом, но оба – прекрасные музыканты. Владимир Иванович музыку любил фанатично. Занятый, как говориться, «по самое никуда», на работе, он еще руководил самодеятельным хором, и сам учился в музыкальном училище.
Говорили, что инженером он был, что называется, от Бога! Целая стопка почетных грамот лежала у него на краю старенького пианино втиснутого в их комнатушку, величиною с посылочный ящик. У него были золотые руки и он постоянно что-то мастерил: то какую то радиолу, то телевизор, то купил страшную по тем временам редкость – машину и все лето валялся под ней, нисколько не щадя своих рук скрипача.
Я уж не говорю, что кроме большого гаража он постоянно что- то строил : какие-то теплицы, какие-то необыкновенные парники на огороде. Все это, конечно, ломалось и разворовывалось окрестным пролетариатом, свезенным на Ржевку, по вербовке, со всех деревень Псковской и Новгородской областей, совершенно здесь спивался и дичал. Владимир Иванович и сам, время от времени, бывал пьян, иногда сильно. Правда, я никогда его таким не видел, но водочная страсть делала его своим для сотен собратьев по труду. Иначе он бы не был ими понят и принят. Совсем бы уж оставался белой вороной со своим авто и скрипкой!
Летом приехала из города, с ласковым названием Серпухов, его матушка, нянчить внучку, тут я узнал, что Владимир Иванович в сорок первом из девятого класса ушел добровольно на фронт и воевал до Победы. Что у него два ордена и четыре медали.
О его военной биографии, плача, рассказывала его мать: «Был вот, командиром отделения. Говорят, надо связь установить с тем берегом. Володюшка спрашивает: – Ребята, кто пойдет? Те – мнутся. А которые и плавать не умеют. Ну, он тогда катушку на спину и сам поплыл, да выплыл то, спервоначалу, к немцам, скорее, назад, в воду, а уж потом к своим. Думал: Героя дадут, потому обещали: кто первый на берег энтот Днепровский ступит – тому Героя. Он среди связистов выходил – первый! Но, вот не дали. Только Красную звезду» Сам Владимир Иванович никогда о войне не говорил и в разговорах о войне не участвовал.
Постепенно, я отходил от своего горя. Музыка снова возвращалась. Но у меня не было скрипки! Мы искали ее с Владимиром Ивановичем по комиссионным магазинам, по музыкальным, пытались купить с рук по объявлению, но скрипка – редкость. Скрипок не было! Владимир Иванович брал для меня скрипку на прокат в училище, но и там скрипок не хватало, и ему каждый месяц все труднее и труднее было продлевать «прокат инструмента» И вот в один вечер, он приехал к нам совсем огорченный и без скрипки. Скрипку отобрали. Я остался без инструмента.
Все занятия теряли смысл. Опять чудился мне злорадный смешок Соломона, потому что скрипка не для меня! С калашным рылом, в суконный ряд....
И опять произошло чудо. Однажды вечером, когда мне совершенно нечем стало себя занять, в нашей комнате возник старичок, похожий на Чарли Чаплина: с такими же усиками, в круглой черной шляпке, и принес скрипку.
Это был фельдшер скорой помощи. Он работал вместе с мамой. Его все знали только по фамилии – Казачков. Я думаю, его до сих пор помнит благодарная Ржевка, если она, вообще, не утратила способности что-нибудь помнить! Это был настоящий фельдшер с окраины. Я видел, однажды, случайно, его в работе, когда он оказывал помощь, попавшему под трамвай! Маленький, зоркоглазый, сосредоточенно интеллигентный, он мгновенно разглядел все ушибы, все травмы и переломы, наложил жгуты и по всем правилам, отправил пострадавшего в ближайшую больницу. Кажется, это было воскресенье, и Казачков был выходной. Просто проходил мимо…
В тот вечер он долго пил чай, и рассказывал про свое трудное детство и про свою мечту научиться играть на скрипке. Мечта не сбылась, он не научился. Но скрипку привез с войны, подобрав ее, где-то, на обочине фронтовой дороги. Он отремонтировал ее и долго берег, пока инструмент не пригодился мне.
Когда мама робко сказала что-то об оплате за прокат инструмента, он и слушать ничего не стал! Уходя, уже в дверях, прижимая шляпку к груди и помаргивая повлажневшими, прекрасными добрыми глазами он сказал:
– Когда я умру, я хотел бы, чтобы мальчик однажды пришел и сыграл что-нибудь на моей могиле… Мне будет приятно, что он выучился, и скрипка принесла пользу. Пусть не я, так другой, но все же станет скрипачом!
О, святое, сентиментальное время! О, светлая память фронтовиков, не ожесточившихся во зле войны! О, прекрасная моя Родина, может быть единственное место на планете, где прозябая в кошмаре продымленной химией окраины, униженные уже самим существованием здесь, постоянно оскорбляемые, в страхе бессмысленных и беспощадных репрессий, люди не оскотинели, не утратили мягкости сердец. Удивительно, но мне кажется, что в то страшное, злое время люди, в большинстве своем, были добрее.
К сожалению, я не смог выполнить трогательной просьбы фельдшера Казачкова и причин тому несколько. Я уехал со Ржевки. Закончив программу музыкальной школы семилетки, сдал экзамен по специальности экстерном, но после этого забросил скрипку. И в переносном, и в прямом смысле. Это была уже моя скрипка. Мы купили ее. И концерт Мендельсона на выпускном экзамене я играл уже на своем инструменте. Но странное дело, вместе с появлением этой очень хорошей чешской импортной скрипки в нашей комнатушке, мне вдруг так стало ясно, что скрипачем я не стану. Время упущено. Да и кроме специальности нужно сдавать много чего еще… Например, общефортепьянную подготовку. А я так и не научился играть на рояле… Важно другое – я сумел закончить семилетку. Я все-таки сумел! А дальше видно Бог не судил. Я еще поигрывал, и даже ходил в какой-то маленький оркестр, но все реже и реже. А в музыке, как и в любом искусстве не идти вперед – значит идти назад… Наконец, я убрал футляр со скрипкой на шкаф и не доставал его два десятка лет.
Не так давно, когда моя дочечка, обалдевая музграмотой, никак не могла понять счета в менуэте Баха. Я достал скрипку, и ахнул: смычок облысел! Из него вылез волос. Хорошо, что когда – то Владимир Иванович купил мне запасной. К удивлению, дочери я заиграл…, конечно, это можно назвать игрой с большой натяжкой....
Но если когда-нибудь на кладбище с эмалевой фотографии на меня глянут незабываемые, добрые глаза фельдшера Казачкова, я увижу его аккуратный косой пробор на тщательно причесанной голове, чаплинские усики и медаль «За оборону Ленинграда» на лацкане габардинового пиджака, я сыграю… Обязательно сыграю на скрипке! Все равно будет ли это зима и сугробы или осенний дождь, будут ли вокруг люди или одни кресты и монументы.. Я сыграю… Обязательно. И мне совершенно наплевать, как к этому отнесутся слушатели, если случатся рядом.
Китайская живопись
– Ну, что, скрипачонок, как поживаешь? Какие в тебе мать еще таланты выискала? – это спрашивалось тоном, исполненным презрения. Спрашивали из кучки подростков, которые вечно подпирали стену на углу нашего дома. Я всегда старался проскочить быстро и молча. Потому что договориться миром с ними было нельзя, а победить их – невозможно. Они были старше, их было много. Да и вступая в драку, я рисковал не собою, а скрипкой. Так что, я помалкивал, мечтая о том сказочном времени, которое называлось длинно и притягательно, когда я вырасту большой. Оно пришло чуть попозже, но к той поре исчезло мое желание расквитаться с обидчиками. Они так и продолжали подпирать стену, время от времени отправляясь на отсидки в заповедные арктические районы нашей обширной родины.
А на счет талантов… Двадцать лет работы в школе дают мне право утверждать, что если взрослые ищут в ребенке талант, он обязательно, отыскивается. Правда, частенько, не совсем тот, на который рассчитывали, но обнаруживается непременно. Поэтому чем шире зона поиска, тем вероятнее обнаружение. А талантливы все! Это под старость, в соответствии, если хотите, с законом природы: неиспользуемый орган отмирает, исчезает талант, которому во время не дали прорасти, так он и затоптался, как цветок на дороге, под натиском будничных забот. А мог бы изумительно расцвести, если бы его во время искали!
Я еще перепиливал скрипку, но более по привычке, а уже накатывало другое увлечение. Я страшно любил лепить из пластилина. Началось это от невозможности покупать игрушки, прежде всего, оловянных солдатиков. Они были редки и дороги. Кроме того, при всей красоте они были неподвижны, а фигурка из пластилина – жила Я лепил целые полки, сотни солдатиков, коней, домов, кораблей, пушек, крепостей… Под этот пластилиновый мир бабушка пожертвовала мне целую столешницу, ту самую, которую я вместе с примусом ,чуть не перевернул на себя. И все свое свободное время я, либо читал книжки, либо лепил. В результате многократных баталий, цветной пластилин перемешивался, образуя пестрый ком, который уже не годился для игры в солдатиков. Однако, из него можно было продолжать еще что-нибудь лепить.
Я начал лепить лошадей. Не получалось. В учебнике зоологии, я увидел рисунки двух скелетов конского и человеческого. И там очень убедительно доказывалось единообразие костного строения человека и других млекопитающих. Я стал учиться лепить человека, чтобы потом перейти к лошадям. Приволок из библиотеки книжку « Основы скульптуры». Страница за страницей перечитал ее всю и слепил все, что предлагалось для упражнений.
Это был период очередного бешеного увлечения, и я преклоняюсь перед терпением мамы и бабушки, с каким они переживали пластилиновый бум, когда пластилиновые катышки валялись по всей комнатушке, прилипали к подошвам, к простыням, а однажды, положенный мною на радиатор парового отопления, кусок пластилина расплавился и превратился в вонючую жижу. Пятно долго пришлось отскребывать с некрашеного пола.
Мама и бабушка не мешали мне и даже, уступая моему новому увлечению, не заставляли играть на скрипке. А скульптуры умножались. Они уже заняли весь подоконник, весь стол, верх комода: кони, солдаты, музыканты, танцоры, собаки, кошки…
В один прекрасный день, мама, в мое отсутствие, набрала их целую кошелку и, как всегда, сильно смущаясь, но неуклонно следуя к цели, отвезла в Детскую художественную школу. Так начался новый этап в моей жизни.
Школа – далеко, но я уже ездил сам. Один. Потому что вырос. Мне шел уже тринадцатый год. Это теперь я знаю, что старейшую в России вечернюю художественную школу организовал Рерих, что размещалась она в том самом доме на углу Тверской и Таврической, где проживали Вячеслав Иванов, Гиппиус, и в нем устраивали свои поэтические вечера и, выходя на балконы, круглой башни, театрализованные моления восходящему или там заходящему солнцу. Тогда я ни о чем таком и не слыхивал, но дом, куда я попал, показался мне волшебным.
Он был набит туго, как терем-теремок. Кроме художественного училища, которое по вечерам превращалось в художественную школу, в нем размещались еще какие-то учреждения и коммунальные квартиры, и даже детский садик. А, в подвале бабахал, сооруженный силами учащихся тир.
Такие же терем-теремки представляли собой и классы, где рядом могли стоять исколотые кнопками, до состояния рябой каши, мольберты какой-нибудь десятиклассницы с русой косой, одноногого ветерана войны, ударника производства и мальчика с пионерским галстуком. В одну банку из-под огурцов макали кисти, отмывая их от акварели, стиляга в зеленом пиджаке, с коком, напоминающим хохол попугая какаду, надо лбом, немолодая женщина в темном рабочем халате и тут же мог пристроиться пятиклассник с восторженно полуоткрытым ртом, где еще не все зубы проросли. Но все – на равных. Атмосфера дружеского веселья наполняла аудитории, и даже если кому –нибудь на голову падал, похожий на корыто осветительный софит, кроме приступов всеобщего смеха это ничего не вызывало.
Живописью переполнялась даже уборная! Она же – курилка. Там в умывальниках клокотала горячая вода. Там отмывали кисти, естественно, вытирая их о стены. Но не просто так, а весьма искусно и затейливо. Стены представляли собою род стенгазеты. Здесь красовались шаржи почти на всех преподавателей, стихи и лозунги.
Под эмалированной табличкой «Окурки в писсуары не бросать!» белело, сделанное от руки, пояснение: «Их потом трудно раскуривать!». Тут же красовалась целая поэма. Помню первую строфу: «Упал еще один софит! Не первый раненый лежит!» Но никаких матюгов и никакой похабщины.
Каждую осень стены сияли свежей краской, но уже к новому году они бывали изрисованы и исписаны от пола до потолка.
В первый день меня поразила талантливо исполненный, как теперь говорят, «ремикс» картины Ге «Петр 1 допрашивает царевича Алексея». Здесь панно называлось «Директор вставляет фитиля Китайской живописи!» Я опознал в героях картины директора школы и завуча, в чьем кабинете только что получил школьный билет учащегося художественной школы, дающий право бесплатного посещения художественных музеев. Мало того, что меня потрясло мастерство, изображения, портретное сходство, я ужаснулся бездне святотатства! Карикатура на директора! На завуча школы! В обычной школе это немыслимо. Здесь же, хотя авторов стенной живописи высчитали мгновенно, никого не наказали и не отчислили. В классах прошли занятия на тему «шарж и карикатура».
И много лет спустя, милейший и добрейший Василий Сергеевич Гусев, вспоминая «панно», улыбался, помаргивал уже совсем по-стариковски, когда то жгучими черными глазками, говорил:
– Помню, помню…конечно. Но ведь оскорбительного – ничего. А в остальном – талантливо. Смешно! Вот так вот! А Китайская живопись – совершенно не обидная кличка. Вот так вот! Китайская акварель – божественна! Вся прозрачная, вся течет! Я служил в Китае. Китайская живопись – потрясающа! Вот так вот!
Он был удивительный педагог. Во-первых, и в самых главных, добрый. Во-вторых, брал в учение всех.
– Было бы вот здесь и здесь! – и он показывал левой рукой на лоб и на сердце, – Вот так вот! А рисовать можно выучиться!
Разумеется, у меня ничего не получилось. Поскольку между глазом и рукой примерно такая же связь, как между слухом и голосом. Есть такая форма отсутствия музыкального слуха, когда человек все слышит и помнит, а воспроизвести не может. Нечто подобное было у меня в изобразительном искусстве. Я все видел, все понимал, а воспроизвести, как хотелось, не мог…
Правда, десятка полтора лет назад, когда я случайно встретил Василия Сергеевича, в электричке, (он все еще преподавал в вечерней детской художественной школе в Колпино, и неустанно ездил туда со своей Пушкинской улицы), он все так же лучезарно улыбался, но, чтобы лучше меня слышать, развязал тесемочки ушанки, и все похлопывал мою руку своей левой ладошкой:
– Ты стал писателем! Да! Мы гордимся тобой. Все ребята. Помнишь, как тебя называли «нах казак»! Вот так вот! Мы гордимся. Мне очень твои книжки нравятся. И по телевидению тоже очень интересно… А живопись бросил совсем? И не тянет? Душа не болит? Я знаю, знаю, что ты искусствовед. Мы гордимся тобой! Да! Вот так вот. Но бросил зря. Что, значит, нет таланта?! Можно выучиться! Нужно только не лениться. Вот так вот. Но зато ты писатель! Вот и Сережа Довлатов тоже. Помнишь его? Он ведь в твоем классе был? Да, он был постарше. Ты у нас был самый маленький по возрасту. А он мог ввернуть лампочку в любой софит, не вставая на стул! Был ужасно высокий! Тоже живопись бросил. И тоже зря! Но вообще, одаренность не бывает односторонней. Это Лермонтов, кажется, сказал. Тоже и стихи писал, и на скрипке, и акварель…Суховато немножко. Акварель должна быть прозрачной… Чтобы все текло…
– Как в китайской живописи?
– Да, да, да…– закатился смехом Василий Сергеевич, – Именно. Китайская акварель – божественна!
Я вышел на станции, на своей Фарфоровской, а он поплыл за вагонным окном мимо меня. Совсем старенький, в ушаночке с завязанными под подбородком тесемочками и левая его ладошка в рукавичке, прощально трепетала, как мотылек, на тронутом морозом стекле. Он все делал левой рукой. Даже писал. Может, это был след ранения? Василий Сергеевич воевал, в том числе и в Китае…
И нахлынуло тогда на меня! Промозглый вечер за огромными окнами, завешанными плотными шторами, за ними шорох редких машин и осенний шум Таврического сада. Резкий и яркий свет софитов. Особый, до сих пор волнующий меня, запах красок, холстов, позванивание кистей о края стеклянных баночек и медовый вкус акварели. И шуршание карандашей, и тихий гул голосов. Может быть, в моей жизни это были самые теплые, самые незабываемые часы. Единственно, что меня тогда угнетало – собственная бездарность. Теперь я иногда думаю, что мне рановато было сидеть рядом со взрослыми людьми, слишком я был еще школьник. Сейчас бы, пожалуй, рисовать научился. Иной раз так руки чешутся – взяться за карандаш…
Благодарен я художественной школе безмерно! Мало того, что она стала основой моей будущей профессии, она вырвала меня из полу-уголовного мира окраины, из безысходности коммунального быта и школьной скуки.
Я все помню! Я всех помню! Помню и долговязого Сережу Довлатова. Он был меня старше и вокруг него всегда был кружок таких же остроумных, красивых и долговязых ребят. Это был замкнутый кружок. Ребята были начитаны, и как мне тогда казалось высокомерны. Сами того, не подозревая, они уже тогда создавали свой мир образов, который был противопоставлен железной логике умирающего имперского сталинского режима.
Может быть, я потому не научился рисовать, что слишком академичны были требования? (Однако, ведь только эти требования и давали школу, давали мастерство, которого так не хватает современному искусству, в том числе и прежде других, изобразительному.)
Сокрушая твердокаменный, стальной режим и стиль во всем, прежде всего в сознании, молодые люди, в том числе и Довлатов, противопоставляли ему мир абсурда, мир веселого хаоса. Это было смешно, интересно, привлекательно, ново… Но когда весь мир вокруг нас превратился в хаос и абсурд, я не могу читать книги тех, кто учился со мной вместе, и не могу видеть их живопись! Они победили, они сокрушили строй! В том числе и смешками, в том числе и своим эмоциональным неприятием его. Но что они дали взамен? Я имею в виду не режим, а художественный мир, – мир забавного хаоса, игры?…И только? Ничего.
Путь отрицания противопоказан искусству и мастеру. Мастер, подражая Богу, и в этом главное искушение, (потому слова и понятия «искус» и «искусство» от одного корня), призван создавать гармонию, они же создавали хаос. А это антиискусство. Анти – искусство, как анти – жизнь – смерть. (Черный квадрат Малевича – портрет смерти живописи.)
И еще мне казалось – жизни-то они не знают. А что такое знать жизнь? Наверное, видеть ее в подробностях, пребывать в ней, а главное переживать ее. Иначе, когда пишешь о чужом, о том, чего не перестрадал – обязательно наврешь. Начнешь с детали, а там и вся, казалось бы, гениально смонтированная, конструкция развалится. Особенно сложно с произведениями историческими.
В недавнем модном фильме интрига закручивается с того, что американец наполовину русского происхождения, курсант Вест- Поинта.( как же, других-то училищ в США нет!), в 1904 году отказывается, по идеологическим, принципиальным соображениям, снять противогаз. Ну, и далее по фильму. Все очень стройно, патриотично и патетично.
Вот беда! Первая противогазная маска изобретена после газовой атаки при Ипре в 1915 году. Молодой человек трое суток не снимает противогаз, (желающие могут повторить. Но не советую, – окажитесь в больнице), образца 1928-30 гг. Мелочь, конечно, но это маленькое допущение ломает всю конструкцию. И весь роскошный фильм разваливается, как торт из мороженого под солнцем. Нет в Америке, – конечно! Там – конечно! Там это прошло «на ура»! Но мы-то в России! И фильм про нас, хотя бы и сто лет назад. А мы – не такие, и никогда такими не были. Почитайте про юнкеров, самих юнкеров, так сказать, очевидцев – Куприна, например!
Ну да, это так – к слову. Однако, не случайно, к слову. Такие фильмы, такие книги пишут московские и питерские городские бывшие мальчики и деловые барышни из благополучных, сытых семей. Им кажется, что они пишут про Россию. Но Москва и Питер это не вся Россия, а в некоторых кварталах и совсем не Россия! Да и то, что они про эти столицы знают – тоже не Россия. А так, люди они, безусловно, талантливые. А главная беда – успешные. И тут им уже ничем не поможешь. Это – другая планета.
Меня окружали другие мальчишки, не такие, как в компании Давлатова, и они были моими друзьями. Правда, и они были старше меня, но не намного. На год, на два.
Самый талантливый – Курицын. В свои пятнадцать лет он так владел карандашом, что его наброски напоминали Серова, Репина, старую, чистяковскую школу рисунка. Но в средней школе он, как и положено, сверх одаренному художнику, был двоечником. По-моему школу он так и не кончил. Никуда не поступил. Говорили – спился. Судьба тысяч талантов.
Веселый, похожий на зайца Саня Никольский. Этот пробился! Выучился. Примерно одинаковой со мною одаренности или отсутствием таковой, равнялся со мною Володя Любящев. Рисовали – то мы одинаково плохо. Но он был одержим! Пер и пер с крестьянским упорством. И окончил училище, и стал художником… Однако, счастья это ему не принесло. Хотя, что такое счастье? Разве заниматься любимым делом не счастье?
Но самый интересный – Толя Милютин. Сутуловатый, с огромным, будто из овчины, кудрявым чубом, завесившим правый глаз. Настоящим городской мальчишка: храбрый, веселый, остроумный и задиристый. Настоящим мальчишкой из подворотни! Такой питерский Гаврош! Во всем: в манере ходить, держать руки в карманах, плеваться – Лиговка. Хотя жил он на Пушкинской. Вообще-то, рядом. Тем более , что Ли говка это не только Лиговский проспект , это район и даже социальное понятие. Он пел! Память у него была сказочная! Вот тогда –то и настал для меня период «Юнги Биля», «Девушки из маленькой таверны», «Пирата Гарри»… Он пел весь утесовский репертуар, который надо сказать, в пятидесятые-шестидесятые, был известен не во всей полноте. К этому времени Утесов стал академичен и благообразен. А начинался он с блатных песен, с одесского кичмана, откуда бежали два уркана… с «Ой, лимоны, вы мои, лимончики…» и «Гоп со смыком»…
Все это Толя Милютин «исполнял». Мы выходили из «художки», и я провожал его до Пушкинской, потом он меня до Московского вокзала. На нашей ржевской окраине моя бабушка, высовывалась в форточку и ждала меня часами, роняя с четвертого этажа очки в сугроб у дома. Мама пила валерьянку. Но я не мог прекратить эти провожания. Синдром дудочника из Гаммеля! Толя был артистичен. Он пел-декламировал! Время от времени останавливался и бил чечетку. Удивительное время! Прохожие останавливались и даже аплодировали. Не думаю, что сегодня возможны такие прогулки.
Дома я засыпал, едва дотронувшись щекой подушки, и во сне мне слышался стук каблуков, выбивающих степ. Меня будила «Пионерская зорька». Мои свестники, собранные в многосотенные детские хоры, пели песни профессиональных композиторов, рекомендованных Наркомпросом и разрешенных Горлитом. Были среди них попадались и замечательные, скажем, «Школьный вальс», но основную массу того, что «висело на ушах» составляли такие опусы из октябрятско – пионерской официальной действительности, что ни мелодии, ни слов запомнить невозможно. Эта музыка воспринималась как шум воды в унитазе. И пока я бежал в школу, то в голове у меня вместо формул проигрывались строчки, которые я слышал вечером от Толи Милютина. Естественно, на ближайшей перемене, или – вдруг такое счастье – училка заболеет – я становился героем момента. Я становился Толей Милютиным! Я пел и плясал для всего класса.
Вокруг меня «выкристаллизовалась стойкая когорта» почитателей. Они сидели с тетрадками – записывали слова. Тут была и «помятая серая юбка», и «было все в притоне Сан-Франциско»…На пионерских сборах грохотали барабаны, меня, по старой памяти обязывали петь и я горланил со сцены:
« Пусть я моложе, ну так что же!
Быстро дни пролетят!
И в комсомоле буду я тоже.
Буду как старший брат!»
Директриса прочувствованно аплодировала. Если бы она знала, что через пятнадцать минут после сбора, я буду петь-диктовать одноклассникам, как «вонзились в тело Гарри загнутые пиратские ножи!»
Вся эта флибустьерская романтика была реакцией на суконную казенщину бытия. Из этого же источника и Стивенсон, и Александр Грин… и «юнга Билл».
А этих шедевров кто автор? Кто породил на свет бесчисленных суровых капитанов и ковбоев? Один отыскался в повести Виктора Конецкого «Третий лишний».
Прозу этого замечательного писателя я обожаю! Я прекрасно помню его, сидящего в ресторане дома писателей, его узкие поджатые губы, даже морской китель, его интеллигентную манеру говорить, и слухи о том, как он не выносит халтуры и вранья, особенно в описаниях всего, что связано с морем. Он был старше. Он был знаменит. Потому я с ним и не познакомился. А почему это обязательно нужно со всеми знакомиться? Ну, с чем мне к нему подходить?! На знакомство нужно иметь право. С какой это стати он бы стал со мной разговаривать – время терять. Хотя жалею, и слишком поздно я узнал, что он, как и я, любил пение под гитару и хорошие стихи. Стало быть, тема для общения имелась, … Но прожитое, как пролитое – назад не воротишь…
«Девятнадцатого сентября 1977 года я получил письмо;
"…морская песня "Жанетта" это литературная мистификация. Писалась она в -1939/40 учебном году на уроках. Её автор ~ девятиклассник Павел Гандельман, ныне подполковник в отставке, Собственно, он и я уговорились писать по куплету. Начал он, потом три строчки сочинил я, и вдруг Павла прорвало – он начал строчить даже на переменках…
Выбрали мотив популярной в те годы песенки "Моя красавица всем очень нравиться походкой нежною как у слона…"
На тех уроках литературы проходили "Кому на Руси жить хорошо", в песню попало заимствование :".. здесь души сильные, любвеобильные"..
Почему получилось такое неравенство в авторстве? Да потому, что я был просто школьником, а Павел – уже поэтом. Он учился в доме литературного воспитания школьников /ДЛВШ/ Г.Капраловым, С.Ботвинником, А.Гитовичем и, кажется, с Л.Поповой. Их кружок вел поэт Павел Шубин.
В 1943 году, после прорыва блокады, уже по ту сторону Невы, у костра, я впервые услышал, как "Жанетту" пел совершенно мне чужой человек. Меня, помню, зашатало от удивления. А "Жанетту" поют и сегодня!
…Павел за это письмо будет на меня сердит: у него неважно со здоровьем, и он не очень любит гласность,. Тем не менее сообщаю его адрес и телефон…
Залесов.Т.Д»
Дозвониться до автора "Жанетты", нашей любимой курсантской песенки оказалось безнадежно трудно. Но ко мне приехал Виталий Маслов начальник радиостанции атомохода "Ленин", ас по всем видам связи. И мы дозвонились Павлу Моисеевичу Гандельману. Произошло это в двадцать три часа двадцать минут. Подполковник в отставке обложил нас последними словами и бросил трубку, ещё раз доказав своё полное пренебрежение к поэтической славе».
В .Конецкий. сб. Морские повести и рассказы. Л.1987 стр.548-549 .
Обращаю внимание на дату выхода книги…А вот цитата из книги, которую с величайшим тщанием собрали “фанаты” авторской песни и большие ее знатоки и архивариусы Алла и Марк Левитаны, а издал Феликс Суркис: “Берег надежд” Спб. 2002 г.
“Павел Моисеевич Гандельман родился 22 мая 1924 г. в Ленинграде. В школьные годы вместе с Семеном Ботвинником, Анатолием Чепуровым, Надеждой Поляковой он занимался в созданном под эгидой С.Я. Маршака Доме детской литературы на Исаакиевскои площади. (Позднее он располагался во Дворце пионеров и назывался Домом литературного воспитания школьников.) Состоялись две творческие поездки: в Пушкинские Горы и на юг. Стихи учащихся публиковались в детских и комсомольских газетах.
В 1941 г. поступил в Военно-морскую медицинскую Академию (16000 заявлений на 200 мест!), попал на Сталинградский курс, единственный курс, который целиком в 1942-м ушел на фронт под Сталинград. Из 205 человек вернулась половина, сейчас в живых порядка 30 человек. Памятник студентам этого курса находится на Загородном проспекте, 47, где располагалась Академия.
В 1948 году Павел окончил Академию, служил военно-морским, затем военным врачом. В 1970 демобилизовался, 20 лет проработал в Педиатрическом институте, с 1990 г. на пенсии.
Продолжал писать стихи, которые публиковались в периодической печати, а также – песни на свои стихи.
Каждые пять лет на юбилейные встречи выпускников Сталинградского курса писал песни-посвящения на известные мелодии, исполняла их супруга Павла Моисеевича Галина Тихоновна Баженова.
1994 г. в Санкт-Петербурге вышла книга Павла Гандельмана и Александра Соколовского «Курсантская баллада» с фронтовыми стихами Сталинградского курса.
В 1998 г. в Санкт-Петербурге к 50-летию Х выпуска врачей Военно-морской медицинской Академии вышел сборник П. Гандельмана «Вспомни» (стихи, песни, посвящения друзьям).
Песня П. Гандельмана «Жанетта» («В кейптаунском порту…») стала народной.
«В последнее время меня часто спрашивают о происхождении песни «Жанетта», более известной под названием «В кейптаунском порту» (по первой строке текста). Лично у меня создалось впечатление, что интерес этот несколько завышен, но, откликаясь на просьбу уважаемых мною составителей сборника, попытаюсь рассказать об этом еще раз.
1940 год. 242-я средняя школа г. Ленинграда, 9-й класс. Нам по 16 лет, и все, что свойственно этому возрасту, естественно, нас не миновало. В «музыкальные моменты» мы прочувствованно пели питерские дворовые песни, городские романсы, овеянные экзотикой дальних стран и романтикой сильных чувств – такие «хиты» прошлого, как «В таинственном шумном Сайгоне», «Девушка в серенькой юбке», «Девушка из маленькой таверны», «Джон Грэй» и пр.
Помнится, меня в то время остро интересовал вопрос, откуда эти песни приходят, кто их сочинил, почему их авторы неизвестны, как они распространяются и становятся популярными, хотя, конечно, не исполняются по радио, на официальной эстраде и, естественно, не публикуются в печати.
Вот тогда и возникла мысль поставить этакий творческий опыт: написать остросюжетную сокрушительно-кровавую песню на общеизвестный мотив и попытаться ее распространить. Было интересно посмотреть, что из этого выйдет, хотя надежд на успех мы не возлагали никаких.
С моим одноклассником и другом Трудославом Залесовым договорились писать по куплету, но мой соавтор как-то быстро остыл, и мне пришлось продолжать одному. В качестве музыкальной основы была выбрана мелодия песни Шолома Секунды, вторую жизнь ей дал в свое время Леонид Осипович Утесов (под названием «Моя красавица»), и она звучала в городе со всех патефонов. Песня писалась, главным образом, на уроках (да простят нас наши незабвенные учителя), в том числе на уроках литературы, откуда, вероятно, и была заимствована строка про «души сильные, любвеобильные»…
