Предпоследний герой бесплатное чтение
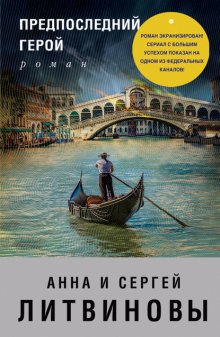
Пролог
Весна 1990 года Москва, СССР
Жить мне осталось недолго.
Может, два-три месяца. Не дольше.
Какая жалость. Как жалко себя! И как не хочется умирать. Всего-то сорок три года.
Считай, и не пожила. И жизнь, мне казалось, только-только начинается…
И еще очень обидно: все в мире останется по-прежнему – только без меня.
И дворник на Большой Бронной будет так же, как сегодня, шуршать по утрам метлой. А потом, ближе к осени, набухнут плоды рябины на любимом дереве на даче. И пожелтеют, а потом опадут листья, и ляжет снег… Только все это будет – без меня, без меня, без меня…
Боже, как не хочется уходить!..
Но приговор подписан. Врачи «Кремлевки» не ошибаются. Или ошибаются – но чрезвычайно редко. К тому же сам академик Блохин подтвердил диагноз. И в ответ на мой прямой вопрос отвел глаза и пробормотал, что, конечно, возможны чудеса и он лично всегда предпочитает верить в счастливый исход – даже если он кажется невероятным, но…
«Мне надо привести в порядок дела, – настойчиво спросила я его тогда. – Так сколько мне осталось? Только не надо врать!»
И он подтвердил. Он тоже назвал этот срок.
Два-три месяца.
Шестьдесят дней. Или девяносто.
Только и осталось времени: составить завещание. Отдать распоряжения по квартире, даче, машине… Решить, кому достанутся драгоценности, книги, картины…
И еще – хорошенько погулять напоследок. Пройти по всем любимым ресторанам. И пить только любимые напитки. И есть только любимые блюда. И еще хорошо бы снять мальчика: молодого, красивого, горячего – и провести с ним в постели двое, трое суток… Неделю… Обласкать, обцеловать, одарить подарками… Напоследок… Все – напоследок…
Единственное приятное – и в сем они, эти гребаные врачи, эти коновалы, были единодушны: больно мне не будет. До самого конца – не будет. Просто я стану все сильнее уставать и с каждым днем все больше спать… А потом однажды, в один прекрасный день – наверное, это будет уже осенью, глубокой осенью, – я засну и просто не проснусь…
И еще… Осталось еще одно… То, что мне обязательно надо сделать… То, от чего непременно надо избавиться… Мне надо рассказать все. Наконец-то рассказать все…
Избавиться от страшных тайн, мучивших меня всю жизнь. Тех тайн, о которых я даже не смела никому заикнуться. Тайн, о которых я старалась забыть, – но забыть не могла.
Рассказать… Поведать… Покаяться…
Но кому?
Не партсобрание же собирать. Хорошенькая будет повесточка: «Персональное дело Капитоновой Ирины Егоровны. И.Е. Капитонова расскажет сегодня собранию о своих смертных грехах…»
И в церковь я тоже не пойду. Я некрещеная.
Мне, видите ли, повезло родиться на излете культа личности. И вероятность того, что меня все-таки окрестили, стремится к нулю. Да и не люблю я церковь. И не понимаю в ней ничего. Все это золото, рясы… Камилавки, аналои какие-то… Не понимаю, почему я должна целовать руку жирному бородатому попу!.. Сроду я мужчинам не целовала руки. Даже в самый интимный момент…
Но боже мой, как хочется все рассказать!.. Неужели моя тайна так и уйдет со мной в могилу?.. (Надо же: я до сих пор способна на иронию. На самоиронию. На сарказм…)
Но, если серьезно, как же хочется раскрыть наконец свою тайну. Избавиться от нее. Поведать о ней хоть кому-то. Облегчить душу…
Даже не об одной тайне рассказать – о целой цепочке тайн: одна перетекает в другую и цепляется за третью… Неужели никто не узнает о них? И не оправдает меня – хотя бы после смерти?..
И не скажет: да, она была прохиндейкой и сволочью, но она много и тяжело страдала и много любила и потому заслуживает если не оправдания, то снисхождения?!
Боже мой, как же страшно, неприятно и тяжело уносить с собой – туда, в загробную жизнь (да есть ли она? А вдруг все же есть?), все накопившиеся в душе тайные тягости!..
Как хочется кому-то обо всем рассказать!..
Двумя месяцами позднее. Лето 1990 года. Где-то в Европе.
Красный «Фольксваген Гольф» второй серии с восточногерманскими номерами валялся под насыпью вверх колесами.
Одна из секций дорожной ограды была начисто сметена. На асфальте отпечатался черный змеистый след – от безуспешно тормозивших шин. С шоссе было видно: в кабине рухнувшей под откос машины есть один человек – водитель. Он не шевелился – видимо, потерял сознание.
Из низин медленно, клоками поднимался туман.
Тридцатидвухлетний архитектор Блажей Паник, ехавший в Карловы Вары, растерянно вышел из своей «Шкоды». Странный ступор охватил его при виде потерпевшей аварию машины. Мозг приказывал ему немедленно бежать на помощь пострадавшему, но тело отказывалось, не реагировало на приказ.
На противоположной стороне шоссе остановился грузовичок «Татра», перевозивший в Прагу керамическую плитку.
Его водитель при виде растерянного Блажея на обочине распахнул дверцу и крикнул:
– Эй, что там?
Этот вопрос вывел Паника из состояния грогги. Блажей все-таки бросился в сторону откоса – вниз, к покалеченной машине, на помощь застрявшему в ней человеку. По пути, на бегу, он крикнул водителю грузовичка:
– Авария!.. Человек разбился!..
И в этот момент рвануло.
Лежавшая кверху колесами машина мгновенно превратилась в огненный шар. В разные стороны полетели куски железа.
Архитектор инстинктивно закрыл глаза локтем, отвернулся, а потом и вовсе рухнул плашмя на обочину. Тут до него донесся грохот взрыва.
Архитектор возблагодарил судьбу (в бога он не верил) за то, что непонятный страх сковал его при виде машины, не дал ему сразу помчаться к пострадавшему. Если бы он кинулся к авто тут же, этот взрыв накрыл бы и его.
Паник медленно поднялся. Повернулся в сторону того, что еще пару минут назад было «Фольксвагеном». Черный остов проглядывал сквозь языки пламени. Огонь лизал черное неподвижное тело водителя. Теперь было очевидно: шоферу уже ничем не помочь.
К Блажею подошел водитель грузовичка.
– Езус Мария, – прошептал он.
– Надо вызывать полицию. И врачей, – проговорил Блажей. – Не знает ли пан, где здесь поблизости есть телефон?
– Телефон есть на заправке. Отсюда три километра, – ответил шофер грузовичка. – Да только врачи, наверно, уже вряд ли помогут пану. – Водитель кивнул в сторону горящей машины. – Мир праху его.
– Может, это пан, а может, и герр, – пожал плечами архитектор. И пояснил: – На машине восточногерманские номера.
– Да это уже все равно, – философски заметил водитель грузовичка. – Теперь парень уже на небесах. А там по нациям не разбирают.
Часть I
АНАСТАСИЯ КАПИТОНОВА
НАСТЯ
Весна 1990 года
Москва, СССР
Настя стояла у зеркала в коридоре и улыбалась.
Какое это, оказывается, счастье: улыбаться себе – просто так. И не горевать, что любимая кофточка истончилась и вылиняла, а обои в квартире обвисли, и потолок вздулся страшными пузырями. Ну и ладно, пусть кругом полно проблем. А ей все равно весело. Весело – без всякого повода.
В коридор выскочил Сенька. Спросил мимоходом:
– На себя любуешься?
– Вот еще! – фыркнула Настя.
Хотя ее отражение заверяло: выглядит она очень даже неплохо. Модный цвет, в который Настя выкрасила волосы (кажется, он назывался «морозный каштан»), ей очень идет. И новые тени, серебристые, как холодный закат, – тоже. И россыпь веснушек – появились уже, красавицы! – ее совсем не портит. А главное, что на душе легко и бесшабашно. Как у неразумного детсадовца после двух порций мороженого. Так и хочется взвыть популярное: «Лайф! Лайф из лайф!» И изобразить перед зеркалом эффектный пируэт.
Приближение весны на нее, что ли, так действует?!
На термометре, правда, пока твердый минус, и сугробов кругом полно. Но небо уже высокое, и солнце смотрит все уверенней и обещает, что совсем скоро оно запалит в полную мощь, растопит снега, высушит грязь и сметет наконец с лиц горожан это дурацкое выражение: смесь озабоченности и тревоги.
Насте страшно надоело, что все кругом такие хмурые… Даже улыбнуться на улице или в метро боишься – как бы за дурочку не приняли.
Но неужели они, все эти люди, не чувствуют, что скоро наступит весна? И можно будет закинуть на антресоли кургузые шубы, выпрыгнуть из тяжелых сапог, и гулять по одевшимся в нежную зелень бульварам, и вдыхать терпкий запах сирени, и целоваться на едва подсохших лавочках…
Настя вот, в отличие от прочего московского населения, радуется весне. Ждет ее, предвкушает. Загодя примеряет перед зеркалом короткие юбки, тренируется в нанесении весеннего макияжа…
А Сенька, любимый циничный муж, над ней посмеивается:
– Какая весна? Февраль на дворе!
– Нет, пришла уже, пришла! – горячо возражала Настя. – Раз ты мне цветы принес – значит, все, наступила!
Николенька, любимый сынок, тоже безоговорочно встает на мамину сторону. Заявляет солидно:
– Конечно, весна-красна. Она пахнет! Весною!..
– Ну, раз сын говорит – весна, значит, точно весна, – соглашается Сеня, и Настя целует его глаза – синие, словно весеннее небо, – и лохматит светло-солнечные волосы… И думает: «До чего ж я люблю тебя, дурачок!»
А Николенька – он всегда радовался, когда родители улыбались друг другу, – болтается у их ног и обхватывает маму с папой в цепком объятии…
И Настя думает: «Как бы я жила без них обоих! Без сынули с его кучей «почему» и без Сени – такого невоспитанного, циничного, провинциального… и самого лучшего в мире!»
Что бы с ней сталось, если б не они! Малыш давал ей любовь к жизни. А Сеня, муж невенчаный, – дарил просто любовь… И нет ей счастья без Сениных бровей-кустиков, глаз-солнышек и рук – таких крепких, что в их кольце можно пережить любую драму-катастрофу… И еще – решительно невозможно обходиться без постоянных Сенькиных цветов.
Кухонный стол в их квартирке вечно цвел то астрами, то гвоздиками, а то и дорогущими розами. Из Сениных рук даже нелюбимые мимозы принимались, словно райские орхидеи. И самое плохое настроение проходило, едва Настя взглядывала на цветы.
Вслух, правда, она ворчала:
– Сеня! Ну сколько можно! Бросаешь деньги на ветер… А Николай, между прочим, джинсы в лохмы изодрал. Опять придется ему брючки где-то доставать.
– Обойдется. Поставь заплатки, – беззаботно советовал Сеня.
А Настя думала: «Да уж, заплатками здесь не обойдешься. Да и твои, Сенька, джинсы годятся, откровенно говоря, только на тряпки. На работу в них ходить стыдно. А на новые фирменные нам не наскрести…»
Но она молчала. Подумаешь, денег мало! У кого их сейчас много? У кооператоров да рэкетиров!.. А они с Сенькой – честные люди. Но им все равно грех жаловаться. И мясо с рынка в доме порой бывает, и фрукты, и шоколадки Николеньке. И квартирному хозяину они всегда в срок платят. Хотя, кто спорит, шубу хотелось бы… Только что же мечтать о несбыточном?
Сеня констатировал:
– Обычные трудности для молодой семьи. Сколько ни зарабатывай – любимая жена все равно на косметику промотает. Ты, наверно, у спекулянтов – самый любимый клиент.
Настя только хмыкала. Она и правда оставляла у «жучков» немалую часть семейного бюджета – ей ведь и тени нужны, и помада (под каждую кофточку желательно свою), и «морозный каштан» для волос. А в магазинных парфюмерных отделах – голяк и затишье, один зубной порошок в картонных коробках да духи «Красная Москва».
– Я когда в школе училась, иногда даже верила, что коммунизм будет, – вздыхала она. – И мечтала: вот красота! Прихожу в магазин и набираю – по потребности. И шоколадок, и джинсы, и ананасового компота…
– Не-е, коммунизма уже точно не будет, – заверял Сеня. – Какой теперь коммунизм!
Подростки во дворе всеми вечерами голосили под гитару песни Цоя: «Пе-ре-мен! Мы ждем перемен!»
Но пусть ждалось перемен и жилось непросто – Настиного хорошего настроения все равно не испортить. Особенно когда солнце пригревает все теплее, и пахнет мартом, и на носу у малыша Николеньки – как и у мамы! – нарисовались веснушки. К тому же Сенька ходил с загадочным видом – явно готовил сюрпризом что-то хорошее.
– Не иначе шубу мне купил. На Восьмое марта, – предполагала Настя.
– Нет! Нет! Мне констьюктёй! На день мужчин! – прыгал Николенька.
– Эх, меркантильные вы. Оба, – вздыхал Сеня.
– Что такое «мекатильные»? – немедленно спрашивал сын.
– Значит, жадные, – пояснял Сеня.
– Нет! Я не жадный!! – вопил Николенька. – Я Аньке из садика машинку свою покатать давал!
– Нет-нет, Коленька, ты не жадный, – спешила успокоить его Настя. – Совсем не жадный.
– А меркантильный – это скорее тот, кто слишком многого хочет, – поправлялся Арсений. – Впрочем, от мамы нашей чего ж ожидать!.. Она ведь женщина. Они все такие.
– Да, женщины – они такие… – мудрено подхватывал четырехлетний сын.
Настя, глядя на него, помирала со смеху.
– А у тебя, – продолжал Сенька, – Николай, ни стыда, ни совести. Прошлый конструктор весь растерял. Зачем ты его, спрашивается, на улицу носил? И в садик?
– Ане показать, – бесхитростно признался сын.
– Ну вот! А теперь пожалуйста: новый ему подавай! Эх, покажу я сейчас кому-то, где раки зимуют!
И он хватал Николеньку, стискивал в сильных руках, подкидывал… Сын бесстрашно подлетал к самому потолку и хохотал, а Настя думала: «Да никакой мне шубы не нужно! Только чтобы Николенька всегда смеялся и Сеня – вот так подбрасывал бы его к потолку: так же, как сейчас, бережно, сильно и нежно…»
…А когда в Москву пришел наконец апрель и город наполнился шумом капели, Сеня сообщил свою новость:
– Ну, дамы-господа, пакуйте манатки. Переезжаем!
В первую секунду Настя даже не поняла. Переспросила удивленно:
– Куда это еще?
Она настолько уже успела привыкнуть к съемной «однушке» в далеком Марьине, что казалось, они живут здесь вечно. И будут жить еще долгие годы.
– Тю-у! – присвистнул Сеня (отучить его от дурацкого южнороссийского «тю» оказалось решительно невозможно). – А кто мне весь год мозги компостировал – про даль, да про глушь, да про дух от Капотни?.. Нет уж, все, дети мои! Хватит с нас Марьина! Теперь в центре будем жить. Почти у самого Кремля.
– Кьемиль, Кьемиль! – запрыгал сынуля. – Мы будем жить в Кьемле! Как дядя Гогбачев!
Настя захлопала глазами:
– Сенька!.. Ты… Ты получил квартиру? Как?!
– Эк хватила! – хмыкнул Сеня. – Кто же мне ее даст-то?! Квартиру?! Не получил – а снял. По блату. Хорошая «двушка», на площади Ногина.
– И сколько стоит? – вскинулась Настя.
– Оплата – разумная, – ушел от ответа Сеня. – Только рыбок хозяйских нужно кормить. – И пояснил: – Помнишь, я тебе рассказывал про Черкасова? Ну, из нашей редакции? Он все с американцами переписывался… Вот и допереписывался… В Штаты его пригласили, лекции читать. Про новейшие, блин, тенденции в советской журналистике. На целый учебный год. С сентября. А пока он туда поехал язык свой английский доучивать… Так что до следующего мая мы в этой «двушке» – полные хозяева. Там у Черкасова натуральный уют – и мебель, и посуда, и ковры. Только вот телевизор теща забрала.
Сенькины глаза сияли. Он явно гордился тем, что раздобыл новую съемную квартиру. Да задешево, да с мебелью, да в центре… Да еще – на целый год. А Настя мимолетно подумала: «Эх, так всю жизнь по углам мы и прокантуемся…»
Но, конечно, вслух ничего не сказала. Во-первых, зачем расстраивать мужа? А во-вторых… В шалаше, конечно, рай сомнительный… Вряд ли бы они в натуральном лесном шалаше с Сенькой ужились. Там тесно, холодно и горячей воды нет. Но на съемной квартире – даже в далеком Марьине – живут прекрасно. А уж на площади Ногина как заживут!
– Далеко там до метро? – деловито спросила Настя.
– Два шага – по бульварам.
– А детский садик есть?
– Не хочу я в садик! – встрял Николенька.
– Может, и не пойдешь, – успокоила его Настя. И вздохнула, представила, сколько будет хлопот: устраивать ребенка в новый сад посреди года, да еще опять не по месту прописки…
Сенька, телепат доморощенный, прочитал ее мысли. Сказал:
– Постараюсь сразу ящик коньяка достать. Чтобы на всех тетенек в роно хватило. И конфет – десять коробок.
– Да, пожалуй, еще приплачивать придется, – задумчиво произнесла Настя. И тут же сменила тон, прогнала из голоса даже намек на недовольство: – Молодец, Сенька!.. Ты у меня – просто золото. Нет – даже не золото. Платина!
– Платина или Платини? – дурачился Сенька, очевидно, польщенный ее комплиментом. Обнимал ее.
– Кес кё се Платини? – отбивалась она.
– У-у, глупая! – шутливо тискал ее Сенька. – Платини – великий французский футболист, чемпион Европы восемьдесят четвертого года.
– Не знаю я никакого Платини. Тебя я знаю. И ты у меня – великий. От Капотни нас избавил!
Действительно, как здорово уехать наконец из нелюбимого Марьина! Забыть о штурмах автобусов и никогда больше не толкаться на перроне в ненавистных «Текстильщиках»: кажется, здесь пол-Москвы метро штурмует, да еще куча приезжих – с электричек из Подольска и Чехова.
…Собираться им было легко – особого имущества молодая семья не нажила. Четыре чемодана с одеждой, две коробки книг, ящик Николенькиных игрушек да немного «фамильных сокровищ» – сервиз от бабушки Арсения и печатная машинка.
– Плюс, конечно, будет баул с твоей косметикой, – закончил подсчет багажа Сеня. – Но… Без грузовика, думаю, обойдемся. Леньку попрошу. В его «Москвич» как раз все влезет.
Ленька, Сенин коллега, помогать вызвался охотно. Приехал, оглядел немудреный багаж и условия назначил такие:
– С вас бензин и пиво по приезде.
И резво потрусил по лестнице с первыми двумя чемоданами. Николенька помчался за ним. По дороге вопил:
– В Кьемь! Дядя Леня везет нас в Кьемь! К дяде Гогбачеву!
Настя улыбнулась:
– Совсем он помешался с этим Кремлем. Представляешь, меня воспитательница в саду на полном серьезе спрашивает: «А вы что, правда получили квартиру с видом на Кремль?»
– Получим еще! – заверил ее Сеня.
Он азартно уминал постельное белье в чемодане – тот распахнулся и никак не желал закрываться. Настя принялась помогать.
Сеня, красный от натуги, повторил:
– Говорю. Тебе. Получим! Или купим! В самом центре!
Баул наконец захлопнулся. А Настя не удержалась от шпильки:
– Ага, в центре. Кто нам там квартиру даст! Там и не строится ничего.
– Построят, – заверил Сеня. – Гостиницу «Интурист», например, снесут – и на ее месте построят. Или – снесут гостиницу «Москва».
– Ну ты фантазер! – ахнула Настя. – Кто же это даст их снести?! Неси лучше коробку, а то Леня тебя заждался.
…Все имущество действительно уместилось в «Москвич». Пассажирам, правда, мест не досталось. Леня деловито сказал:
– Могу только Николая взять. Вон, на заднем сиденье. Ну что, Колян, полезешь поверх того ящика?
Николенька с восторгом согласился. А Настя поспешно сказала:
– Ну и отлично! Езжай потихоньку. А мы с Сеней своим ходом доберемся.
– Штурманем на прощанье автобус! – поддержал ее Сеня и стал чертить другу схему, как найти их новое жилье…
Автобус штурмовать не пришлось: народу на удивление было немного. Даже сидячие места захватить удалось. Настя в последний раз (она надеялась, что в последний!) выхватывала взглядом знакомые магазинчики, пятиэтажки, кривобокие гаражики, аптеку, детскую поликлинику… И неожиданно выпалила:
– А мне жаль!
– Чего? – удивился Сеня.
– Жаль, что мы уезжаем из Марьина.
Сидевшая по соседству тетенька, слышавшая их разговор, наградила ее удивленным взглядом. А Настя поспешно сказала:
– Район, конечно, дрянь. На работу не доберешься. И запах этот из Капотни… Но разве нам с тобой здесь было плохо?
Сеня благодарно поцеловал ее в щеку, ласково провел ладонью по волосам.
Любопытная тетка досадливо отвернулась.
– А в новом месте будет еще лучше! – заверил ее Сеня. – На Бульварном кольце, говорят, соловьи живут…
– Ну, соловьев там, допустим, нет. Но все равно, конечно, здорово! Знаешь, как я соскучилась по центру… Слушай, а этот твой Черкасов из Америки раньше времени не вернется?
– Вернется – найдем что-нибудь еще! – легкомысленно сказал Сеня.
«Ага, и до смерти будем жить по съемным квартирам!» – снова подумала Настя.
Но опять, разумеется, промолчала.
Однако Сенька – колдун он эдакий – прочел ее мысли. Предложил:
– А хочешь, мою квартиру в Южнороссийске на Москву обменяем? Можно будет получить вполне приличную «однушку».
– Нет! – поспешно ответила Настя. – Нет! Ни за что.
И тут же предложила свой вариант:
– Давай лучше от Бронной кусочек оттяпаем!
Сеня тоже был короток:
– Нет. Даже и не думай об этом.
«Мы – великодушные, сентиментальные дурачки», – мысленно подвела итог Настя.
Но она, правда, не может даже представить, что Сениной квартиры больше не будет. Что в ней станут жить чужие люди…
Сенино родовое гнездо располагалось в приморском городе Южнороссийске. Старый (по-хорошему старый – с высокими потолками и большими окнами) дом на самом берегу моря. Слышен прибой и вздорные крики чаек. Балконы (целых два!) увиты диким виноградом. А деревянные полы до сих пор, кажется, хранят легкую походку Сениной бабушки и решительные шаги его деда…
Насте казалось, что Сенины родные и сейчас незримо присутствуют в этой квартире. Присутствуют ненавязчиво и нестрашно. Сидят вместе с Настей и Сеней за кухонным столом. Стоят вместе с ними на балконе и любуются рассветом… Сеня тоже говорил, что чувствует, что они оба, и бабушка, и дед, здесь – просто почему-то не могут показаться на глаза, поговорить с ними…
Разве можно такую квартиру менять? Просто кощунство какое-то. Да и неразумно: максимум, что можно получить за нее в Москве, – «однушку» в каком-нибудь гадком Марьине – Бескудникове. Или – еще хуже – комнату в коммуналке.
А куда они в таком случае будут ездить в отпуск? И как объяснят Николеньке, что уроки рыбалки, плавания в море и управления моторной лодкой отныне прекращаются?!
Существовала, правда, еще Настина квартира: огромная, пятикомнатная, в самом центре столицы, на Большой Бронной. Вот от нее Настя бы избавилась с огромным удовольствием. Удивительное эта квартира место: роскошная, бога-атая, но до чего же неуютная… Настя там и не бывала – уже почти год. А право на жилье имеет полное – на Бронной прописаны только она с Николенькой да ее мать, Ирина Егоровна. Обменять бы квартиру на две, скажем, хорошие «двушки» – и все проблемы решены.
Но тут уж заупрямился Сеня. Гордый он, понимаешь ли. Чужого ему не нужно. И одалживаться он не привык. Тем более у тех, кого не уважает (а Ирину Егоровну он и не уважал, и не любил).
Конечно, Настя могла бы настоять, чтоб квартиру на Бронной разменяли. Но только ей тоже не хотелось иметь с матерью никаких дел. А тем более – дел финансовых, скандальных (а какой же раздел имущества без скандалов?).
Так и получилось: формально они с Сеней жильем вроде бы оба обеспечены – ни в какую квартирную очередь не поставят! – а приходится мыкаться по съемным квартирам…
Впрочем… Впрочем, разве ж они «мыкаются»? Им ведь хорошо друг с другом – даже в чужом противном Марьине!
И Настя, не обращая внимания на любопытных автобусных попутчиков, потянулась к Сене целоваться…
– Молодец твой Черкасов. Умеет жить, – оценила Настя, обойдя новое жилье.
«Двушка» была обставлена с шиком. («С застойным шиком!» – уточнил Сеня.) Здесь имелось все, что полагалось по канонам «богатой советской жизни»: и горка, и стенка, и полки с «макулатурными» книгами: Дюма, Дрюон, Буссенар. Хрустальная люстра, голубая сантехника в ванной, китайский кнопочный телефон и даже – о, шик! – духовка с грилем. Все чистенькое, ухоженное. Ни пылинки. А ковер, кажется, недавно выбивали во дворе, на снегу. В уголке гостиной – «окно в природу»: здоровенный аквариум, пальма в кадке и аспарагус в настенном горшочке.
Николенька немедленно включил подсветку и кинулся разглядывать рыб. Стучал по стеклу, украшал аквариум рядом отпечатков. Рыбки были большие, губастые, Настя раньше сроду таких не видела – собрались на зов, рассматривали мальчика с интересом.
– Кушать хотят, – со знанием дела заключил сын.
Сеня сходил к холодильнику, принес свернутую кульком газетку. Протянул сыну: «Корми!»
В кульке оказались червяки – противные, темно-красного цвета.
– Мотыль, – объяснил Арсений. – Их на Птичьем рынке покупать нужно.
Настю от вида червей передернуло. А Николенька – ничего, быстро освоился, начал закидывать мотылей в аквариум.
Рыбы лопали с аппетитом. Коля с папой комментировали процесс и придумывали обжорам имена. А Настя заметила, что на стене, сбоку от аквариума, прицеплена записка: «Челышев! За рыб отвечаешь головой. Смотри, чтобы ни одна не сдохла».
– Тебе тут письмо, – Настя протянула записку мужу.
Тот прочитал, фыркнул:
– Черкасов у нас – по запискам спец… Посмотри, что он нам в спальне оставил!
Настя прошла во вторую комнату. Здесь центром композиции была огромная кровать, украшенная шелковым покрывалом и очередной запиской: «Попробуйте только сломать!»
Сеня тоже явился в спальню. Обнял Настю, шепнул:
– Эх, чует мое сердце – не выполню я завет Черкасыча. Сломаем мы ему ложе, как пить дать сломаем…
И Настя радостно подумала: «Кажется, на новом месте мы заживем неплохо!»
…И понеслась новая жизнь.
На площади Ногина действительно оказалось куда приятнее, чем в забытом богом Марьине. Улицы чище, магазинов больше, публика симпатичнее. Даже пьяницы более культурные, чем на марьинских выселках. Зальют глаза – и сидят себе тихонечко на бульварных скамейках, щурятся на весеннее солнце. Не то что по прежнему месту жительства – там алкаши громогласно гоняли жен и безобразничали на детских площадках.
Вопрос с детским садиком для Николеньки решился легко. «По-деловому», – сказал Сеня.
Заведующая, цепкоглазая дама в строгом костюме, внимательно выслушала Настю, небрежно закинула коробку конфет в ящик стола и попросту, без комплексов и затей, назвала сумму. Сумма оказалась изрядной.
– Зато мальчик пойдет в спецгруппу, – веско сказала заведующая. – А у них там английский, логопед и плавание два раза в неделю.
Устоять перед такими благами для сына было невозможно, и уже через неделю после новоселья Николенька отправился в детский сад. Прежний свой садик он ненавидел лютой ненавистью, и потому все утро прошло в капризах и плаче:
– Не хочу! Не пойду!
Настя опаздывала на работу и еле удерживалась, чтобы не влепить сыну несильный педагогический подзатыльник. А Сеня – он тоже спешил – легкомысленно пообещал Николеньке:
– Один раз сходишь – и все. Если не понравится – неволить не станем. Будешь дома сидеть.
Сынуля сразу воспрянул. Настя незаметно для малыша покрутила пальцем у виска: ты что, Сенька? Спятил?
Сеня вздохнул, пообещал Насте:
– Вечером я сам его заберу.
Весь день Настя со страхом предвкушала вечерний Николенькин рев. Она пораньше ушла с работы. Раздобыла в буфете симпатичную, почти не синюю, курочку, на рынке купила цветной капусты и даже дорогущих огурцов и болгарского перца. На скорую руку соорудила королевский ужин – салат из свежих овощей, курица-гриль и цветная капуста в сухарях. Для Николеньки – сок, для них с Сеней – бесконечный компот (осенью Сеня притащил три ящика яблок, и Настя наварила банок, наверно, сто).
Из тайника достала банку лимонных долек – готовилась умасливать Николеньку. Настя хорошо помнила, как сын привыкал к детскому садику в Марьине: неделю ревел целыми вечерами.
Но, к ее радостному удивлению, малышу в новом саду понравилось. Весь ужин Настя с Сеней выслушивали восторженные рассказы про огромные запасы игрушек, про бассейн, где плавают надувные гуси-круги, и про то, что по-английски его зовут Ником.
Николенька даже спать отправился без капризов. Важно сообщил родителям:
– У нас завтра напыщенный день! Елена Никитична сказала.
– Может, все-таки насыщенный? – робко предположил Сеня. В его глазах плясали чертенята.
– Ну, насыщенный! – отмахнулся сын. – А чем нас, папа, будут сытить?
– Манной кашей, – брякнул Сеня.
– Нет! – возмутился Николенька-Ник. – В моем новом садике манной кашей не когмят!
– А чем вас там кормят?
– Фьикадельками! – важно выпалил сын.
– Ах, «фьикадельками»!.. Ну, иди давай мыться перед сном, «фьикаделька»!
Сеня сделал вид, что гонится за ним, Николенька с хохотом помчался по квартире, и дело кончилось диким смехом, беготней, щекоткой, подкидываниями… Пока Настя не гаркнула:
– Ну-ка хватит мне ребенка разгуливать! Не уснет ведь! Марш зубы чистить!..
– Что ж, – констатировал Сеня, когда малыш уснул после первых двух страниц «Карлсона», – все идет удачно. Кажется, в этом садике он приживется.
– Не заболел бы только, – вздохнула Настя.
– Он сказал, что им на обед витаминки давали. Которые убивают злых микробов.
– Ремантадин, что ли?
– Нет, сказал, что сладкие. Аскорбинку, наверно.
– Ну что ж, дай бог, чтобы все было хорошо, – протянула Настя. И важно добавила: – Я тогда завтра рукопись на вечер домой возьму. А то с этими переездами недолго и квалификацию потерять.
– Ты не потеряешь. Но все равно – бери, – поддержал ее Сеня.
…Насте очень нравилось, что Арсений серьезно относится к ее работе. Все подружки говорили, что в мужьях это – редкое качество. Обычно на работу жен сильный пол взирает в лучшем случае снисходительно. Или даже хуже: насмехается и ворчит, что «дом запущен и хозяйство парализовано». А вот Сеня совсем не такой. Всегда выслушает, посоветует, поддержит.
Как только сыну исполнилось три годика, Настя, еще учась на четвертом курсе, поступила на работу в издательство «Вымпел». На самую низовую должность: секретаршей.
Первые пару месяцев рыдала горше Николеньки – но, в отличие от него, не на людях, а втихаря, в умывалке. Печатать у нее не получалось, селекторная связь с кабинетом начальника в ее руках постоянно выходила из строя, и даже кофеварка все время ломалась. Шеф, разумеется, злился. Едко говорил: «Вроде бы взрослая женщина, а запомнить не может, на какие кнопки нажимать».
Настя переживала из-за собственной никчемности, а Сеня придумывал для нее миллионы успокоительных слов.
– Я ничего не умею! Ничего! – причитала Настя.
Что же за карма у нее такая: абсолютно никаких способностей! Ни к чему!
– Настя, не глупи! – вразумлял ее муж. – Чего же ты хочешь: секретарских курсов не кончала, опыта никакого!.. Все у тебя получится!..
Муж снабдил ее учебниками по машинописи и предложил: вечерами, взамен никчемного телевизора, совместно учиться печатать «слепым» методом. Настя с радостью согласилась – и еще больше обрадовалась, когда поняла, что наука оказалась нехитрой и она схватывает ее даже быстрее мужа.
– Как ты быстро! – искренне восхищался Сенька, глядя, как лихо Настя лупит по клавишам.
Сам он «слепой» метод так и не освоил, зато у Насти дела быстро пошли на лад, и начальник ругаться на нее перестал. Даже сказал, что «секретарша-филолог – это для нашего издательства слишком хорошо». И предложил ей – в свободное от основной работы время! – редактировать рукописи.
Настя, конечно, испугалась: да кто она такая, чтобы править настоящих писателей! Она не раз слышала, как современные Толстые – Тургеневы являются к шефу с претензиями: «Ваши редакторы опять изгадили мою рукопись своими грязными лапами!»
«А вдруг мои руки они тоже назовут грязными?» – переживала Настя.
Но Сеня твердо сказал:
– Не трусь. Главное – ничего не вычеркивай. А ляп увидишь – перепиши своими словами. Чтобы смысл был тот же, но – грамотней.
– Да какие там ляпы, – пробормотала Настя. – Это ведь писатели, они, наверно, знают, что пишут…
Сенька только хмыкнул:
– Ого-го!.. Еще увидишь, на что способны эти писатели!
Настя увидела – очень скоро.
– Похоже, они и средней школы-то не закончили! – удивлялась она. – Падежи путают. Или вот, послушай: «В темноте тучи было не разобрать ни рук, ни голов».
Но Настя посмеивалась над писателями только в кругу семьи. А с их рукописями обращалась по-настоящему осторожно. Чтобы не обидеть, не оскорбить ранимые души. Изо всех сил старалась не вычеркивать явную глупость, а переписать ее: хоть как-то. Высшим пилотажем считала, когда писатели говорили: «Эта ваша Настя в моей рукописи и не поменяла ничего…»
Шеф, конечно, был доволен. А Настя – по-настоящему счастлива. Впервые у нее появилось дело, которое она делает хорошо. Лучше других! Начальник стал все чаще ее хвалить, да и ее зарплата в семье совсем не лишняя. А главное – уверенность в себе появилась (как ведь ее, заразы, раньше-то не хватало!).
А теперь к ней даже гений-Сенька обращается – просит свои журналистские материалы отредактировать. И Настя – ничего, справляется, говорит ехидненько мужу:
– Как это: «В ночи призывно горела бензоколонка»? Пожар там у них, что ли?
Муж оправдывается:
– Ну, это… витрина у них светилась.
– Вот так и напиши: «Светил огонек бензоколонки», – важно советовала Настя.
А Сенька чмокал ее в нос и искренне говорил:
– Умничка ты моя! Вот повезло мне с женой: и красавица, и хозяюшка, а уж редактор какой!
И Настя млела от его похвал и неуверенно спрашивала себя: «Неужели у меня теперь все в жизни будет хорошо?»
Подозрительно как-то, когда все идет так складно…
Однако – тьфу, тьфу, тьфу – слава богу, ничего такого не случалось. Николенька в своем спецсадике чувствовал себя прекрасно. Сеня вечерами спешил домой – часто с букетом, а два раза в месяц – с приличной зарплатой. И Настина карьера шла в гору – шеф прозрачно намекал, что с осени она займет должность ведущего редактора.
Поэтому пришлось согласиться: наконец-то и в ее жизни все наладилось.
Наконец-то она, Настя Капитонова, по-настоящему счастлива.
…И вот в один из таких счастливых, безмятежных дней той весны Насте вдруг позвонила мать.
Позвонила – и безапелляционным тоном потребовала немедленно приехать к ней.
Настя послушалась – безоговорочно, как в детстве.
Ехала и злилась: «Что там еще ей в голову взбрело?» И прикидывала, как будет отбиваться от мамашкиных претензий.
Однако разговор пошел совсем не так, как представляла Настя.
– Я умираю, – сказала мать, когда дочь приехала в ее квартиру на Большой Бронной.
Произнесены эти слова были настолько просто, безыскусно и спокойно, что Настя тут же с ужасом поняла: это – правда.
Мать не сразу ошеломила дочь страшной новостью. Сперва проводила Настю на кухню, усадила, налила чаю.
Ирина Егоровна была, как всегда, величественной и спокойной. Никакого надрыва. Никакого трагизма. Однако выглядела она ужасно. Всегда тщательно следившая за собой, мать обычно смотрелась лет на тридцать пять (вместо своих сорока трех).
Теперь Настя была поражена происшедшей с ней переменой. Перед ней предстала женщина глубоко за пятьдесят, старая и больная. Мешки под глазами. Растрепанные полуседые волосы. Исхудавшие, костистые руки. Желтое, иссохшее лицо.
– Боже, мама, – выдохнула Настя. – Почему… Почему ты вдруг так решила?.. Что с тобой?
– Рак, – спокойно ответила та, и короткое слово прозвучало как приговор. И припечатала – словно подвела черту под собственной жизнью: – У меня рак мозга.
– Боже мой… – пролепетала Настя. – Но… Но это же лечится… – Оглушенная вестью, она сама не верила в то, что говорит.
– Не в моем случае, – безапелляционно отрезала мать.
– Кто тебе сказал?
– Все. Сказали – все. Врачи в «Кремлевке». И в Онкоцентре. И сам академик Блохин.
Мать сидела напротив Насти за кухонным столом. Ее лицо, необычайно постаревшее, было, как всегда, спокойным.
Настя неотрывно смотрела на нее. Ирина Егоровна умела быть беспощадной. И к окружающим, и к самой себе. Она не признавала полутонов и всегда называла вещи своими именами. «Неудивительно, что именно матери врачи рассказали правду, – мелькнуло у Насти. – И о диагнозе, и о прогнозе. Рассказали – хотя никогда никому не рассказывают. И всех утешают… Но… Это же моя мать… Она заставит признаться кого угодно…»
Еще вчера Насте казалось, что она никогда в жизни больше не увидит мать. И даже нисколько не огорчится, когда вдруг узнает, что та – умерла. Слишком сильна была ее злость на мать. Злость и обида.
«Она искалечила мне всю жизнь», – считала Настя. И имела на то основания.
Но вот теперь, видя потерянное, опрокинутое лицо матери, она вдруг испытала к ней беспредельную жалость.
Или, может, причиной тому была знакомая с детства обстановка? Предметы, звуки и запахи? Отдаленный рокот редких машин, проезжавших по Бронной… Старая сахарница красного стекла с надписью «RIGA»… Запахи квартиры… Родной квартиры и кухни… И – матери…
– Давай-ка я налью тебе еще чаю, – с удивительной, несвойственной ей сердечностью проговорила мать. И добавила: – Мне надо тебе многое рассказать. Во многом признаться… Ешь конфетки. Вот «Мишки» – кажется, твои любимые?
За полгода до описываемых событий
Декабрь 1989 года
Чехословакия. Прага
За полгода до этого разговора между Настей и ее матерью Эжен Сологуб, официальный супруг Насти Капитоновой, перешел Уездову улицу. По ней катились такие же, как в Москве, трамваи производства ЧССР – вот только улица была совсем другая: с чистой брусчатой мостовой и вымытыми витринами, за которыми были выставлены товары: и колбасы, и одежда… А встречные люди – куда красивей одеты, чем москвичи, и имели они совсем иное, несоветское, выражение лиц – европейское и куда более расслабленное.
«Они уходят от нас, – с горечью и оттенком злобы подумал Эжен. – Да они никогда и не были нашими. Мы их заставляли быть нашими… Загоняли в соцлагерь, а они только притворялись, делали вид, что они – с нами… Чужие они, эти чехи, чужие… Враги! Только и думали всю жизнь, как от нас улепетнуть. И вот сейчас, радостные и счастливые, – уходят…»
«Впрочем, от нас – и собственная страна уходит… Предатели, предатели! – уже с несдерживаемой злобой подумал он, теперь имея в виду Горбачева и его компашку, заварившую в стране такую кашу. Кашу, которую ни сам Горбачев, ни кто другой не умел расхлебать. – Сволочи! Наемники ЦРУ!.. – Злоба вдруг захлестнула Эжена – с такой силой, что на секунду стало трудно дышать. – Разваливают Союз, разваливают соцлагерь!.. Раздаривают западникам все, за что отцы и деды воевали, за что крови не жалели! За тридцать сребреников продаются янки!.. За сладкие речи страну дарят, за комплименты и премии!..»
Сердце яростно забилось от ненависти, в глазах потемнело, и Эжену пришлось даже остановиться, несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы привести себя в норму. Нет, нет. Стоп. Сейчас не время для эмоций. Сейчас ему надо быть хладнокровным и ловким. И расчетливым. Слишком многое значит – и для него, и для всего их дела — предстоящая встреча. Слишком многое поставлено на карту.
Усилием воли Эжен успокоился, привел свои мысли в порядок. Приступ злобы отступил.
Он поднялся по ступенькам к фуникулеру, следующему на холм Петржин. По ходу проверился в витринах фуникулерной остановки. За ним никто не следил. Впрочем, его контрагент гарантировал, что никакой слежки не будет. Слишком высокое место занимал тот в чехословацкой партийной иерархии. Слишком многое зависело от этой встречи. Для него, чеха, прежде всего.
Впрочем… Впрочем, никогда ни в чем нельзя быть уверенным… В наше время – тем более… И место встречи вполне могут слушать… Слушать, и писать, и наблюдать… Наблюдать может кто угодно… И чехословацкая «беспека», и коллеги из КГБ или ГРУ, и штази, и цэрэушники… Слишком важные дела предстоит сегодня Эжену обсудить с агентом.
Эжен помнил расписание фуникулеров. Он вошел в павильон остановки как раз в тот момент, когда вагончик стоял с приветливо распахнутыми дверями, готовый к отправлению.
Эжен вскочил в фуникулер. Через секунду двери закрылись и вагончик потащился наверх в гору.
В вагоне никого не было. Не сезон. Декабрь – совсем не время гулять в парке на холме Петржин. В другом, первом вагоне притулилась парочка. Они сидели, обнявшись, спиной к Эжену. Девушка доверчиво прильнула к плечу парня.
На секунду Эжена пронзила зависть к незнакомому чеху.
Настя никогда так ласково и безоглядно не припадала к его плечу.
Настя… Предательница, изменщица… Она никогда его не любила. И тщетной оказалась его попытка приручить ее. Приучить к себе.
Сколько волка ни корми – он все равно в лес смотрит. Вот и она, Настена, – сколько ни привозил он ей заграничных шмоток, ни дарил бриллиантов – при первой же возможности ушла на сторону.
Сделала ноги. Оставила его, Эжена, с рогами.
«Ну ничего, – подумалось ему. – Мы еще посчитаемся. Она у меня еще попляшет. И он, этот ее злосчастный любовник – Арсений, – тоже. Они оба будут молить меня о пощаде. На коленях молить о прощении».
Фуникулер медленно катил в гору. Справа от него тянулась Голодная стена. Стена, ведущая из ниоткуда в никуда. Стена, никого ни от чего не защищающая.
Карл Четвертый повелел ее строить, чтобы спасти своих соотечественников, этих несчастных «кнедликов», от голода. Нет чтобы просто раздать им хлеб – как это сделал бы нормальный русский монарх вроде Алексея Михайловича. Так нет!.. Карл заставлял народ возводить никому не нужную стену – а по вечерам наделял голодных строителей пайкой за проделанную работу.
Этакая милостыня с воспитательными целями.
Вдали, за Петржином, за Голодной стеной, возвышался своими зубцами Град. Пражский кремль, в который вот-вот, похоже, въедет этот диссидент и подонок Гавел.
Советская власть в Чехословакии не просто шатается. Она держится на волоске и вот-вот рухнет. Так же, как только что рухнула в Румынии.
Хорошо, что «кнедлики» – люди вялые, спокойные. Они расстреливать, как в Румынии, не будут. Да и КПЧ1 чехам не так сильно досаждала, как Чаушеску2 – румынам. Здесь все пройдет тихо.
Но все равно неразбериха будет.
Вот он, Эжен, этой неразберихой и воспользуется.
Ланова драха3 доставила Эжена к конечной остановке. Парочка из соседнего вагона вышла. Она так ни на секунду и не разомкнула объятий.
Эжен не спеша покинул вагончик.
В парке было пустынно. Ни единого человека вокруг. Розы, главное украшение Петржинского парка, давно отцвели. Кусты были аккуратно подрезаны. То здесь, то там до сих пор валялись на земле полузасохшие алые лепестки.
Эжен не спеша пошел в гору по парковой аллее. Неподалеку маячила росхледна – смотровая вышка: кривая и маленькая копия Эйфелевой башни. «Она в точности как и вся эта Прага, – усмехнулся про себя Эжен. – Кривая и маленькая копия Парижа».
Парочка из фуникулера куда-то исчезла. Уже целовалась, наверно, где-то, дурея, на парковой скамейке.
Агент ждал Эжена, стоя лицом к мини Эйфелевой башне. Он оказался маленького росточка, седой, в габардиновом плаще. Похоже, он прибыл сюда пешком со стороны Градчан.
Агент обернулся на звук шагов Эжена.
Лицо его оказалось знакомо. Его портреты часто печатали в «Руде право», а порой носили на демонстрациях.
– Здравствуйте, – учтиво поклонился агент. Он прекрасно говорил по-русски. Впрочем, иначе бы он не сделал карьеры в ЦК КПЧ.
– Добрый день, – улыбнулся Эжен.
Агент едва доставал ему до плеча.
– У меня не так много времени, – вежливо проговорил чех.
– Много и не понадобится, – сказал Эжен.
Они пошли рядом по песчаной дорожке вокруг мини-Эйфелевой башни.
– Все готово, – продолжил Эжен. – Вы можете начинать сегодня.
– Я хотел бы слегка подробно знать, – с акцентом произнес чешский функционер, – каким образом будет организован процесс.
– Открыто пять разных счетов в пяти различных западных банках. Все банки контролируются нами. Вот номера счетов. – Эжен протянул товарищу бумагу, где были записаны банковские реквизиты. – Вы переводите туда ваши, то есть партийные деньги… Какова будет сумма?
– В районе десяти миллионов долларов.
– Прекрасно. Далее деньги в тот же день перебрасываются на несколько других счетов – в Лихтенштейне, на Кипре… Это делается для того, чтобы запутать следы. Чтобы скрыть место их происхождения… А на следующий день средства аккумулируются на одном из счетов в банке Цюриха. На номерном счете. К нему будете иметь доступ только вы.
Песок поскрипывал под ногами. Во влажном воздухе парок вырывался изо рта. Эжен с агентом сделали полный круг, обходя смотровую башню.
– Не только я один, – покачал головою чех. – Мои товарищи тоже. Надо предполагать, что чехословацкая компартия теперь перейдет на нелегальное положение. Нам будут необходимы деньги на продолжение борьбы с оппортунистами.
«Рассказывай», – усмехнулся про себя Эжен.
– На счет в Цюрихе будет переведена вся сумма? – поинтересовался чешский партиец.
– Вся, за вычетом наших комиссионных, – сказал Эжен.
А про себя добавил: «И еще кое-каких деньжат. Которые обеспечат мне спокойную жизнь. И спокойную старость».
– Я мог бы поинтересоваться величиной ваших комиссионных?
– Десять процентов.
Чех пожевал бледно-синими склеротическими губами.
– Не слишком ли велико ваше вознаграждение? – проговорил он.
Налетевший ветерок пошевелил венчик его седеньких волос.
«Зачем тебе вообще деньги! – подумал Эжен высокомерно. – Ты скоро умрешь». А вслух произнес:
– Вы можете найти других посредников. Например, американцев. Или МОССАД.
Чех криво усмехнулся, показав, что он оценил шутку.
– Вы не могли бы уменьшить сумму вашего гонорара? – тем не менее поинтересовался он. – Допустим, до восьми процентов?
«По этой причине они и лучше нашего живут, – мимолетно подумал Эжен. – Потому что за каждую крону удавятся».
– У нас есть один литературный герой, – произнес он, – который говаривал: «Торг здесь неуместен».
– Я знаю этого героя, – серьезно кивнул чех. – Его звали Остап Бендер… Каковы реквизиты моего конечного счета в Цюрихе? Пароль доступа?
– Вам сообщат это по обычным каналам связи. Сегодня же.
– А какие я имею гарантии, что здесь не будет происходить ошибки или обмана?
– А каких вы хотели бы гарантий? – пожал плечами Эжен. – Заверенного письма лично от Горбачева?
– Я оценил вашу иронию, – сказал чех. – Жалею, что у нас действительно нет выбора и времени, чтобы обратиться к кому-то еще. И получить более приемлемые условия. Как видите, я являюсь весьма откровенным с вами.
– Как и я – с вами, – слегка поклонился Эжен.
– Мне остается лишь надеяться на порядочность наших советских братьев. И – на вашу личную порядочность.
– Мы друзей в беде не оставляем.
– Я сегодня же начинаю переводить деньги.
– И это правильно.
Чех закусил губу, отвернулся и быстро зашагал по парковой дорожке прочь от Эжена. На ходу он вытащил из кармана плаща черный берет и нацепил его на свой седо-лысый череп. Глядя на удаляющуюся фигуру чеха, Эжен подумал, что тот похож не на одного из руководителей государства, а на провинциального бухгалтера. Впрочем, он, видимо, по своей сути им и являлся.
Эжен пошел по направлению к фуникулеру. Вагончик пойдет вниз через пять минут.
Операция с чехом – если она выгорит, конечно, – должна сделать лично его, Эжена, богачом. Речь идет не о тех комиссионных, за которые торговался чех. Те комиссионные пойдут в спецфонд его службы. Ему лично от них не перепадет ни черта. Разве что премия в двести-триста инвалютных рублей.
Но он разработал комбинацию по переброске денег так хитро, что не все они дойдут до адресата, в тот самый цюрихский банк на имя чеха. Кое-что достанется и ему, Эжену. И очень весомое «кое-что». Даже при условии, что ему тоже придется делиться. Все равно пятьсот тысяч долларов – это неплохая сумма. Ею можно и поделиться – с хорошим человеком. А потом жить долго и счастливо. И исполнять все свои прихоти.
А когда чех поймет, что его слегка пощипали, он уже не будет иметь никакой власти. Нигде – ни в Чехословакии, ни в Союзе. И никаких его жалоб никто рассматривать не станет.
Да и не будет он жаловаться.
…Эжен спустился вниз на фуникулере. Не спеша дошел до трамвайной остановки, сел в вагон. На углу митинговала небольшая кучка людей. Развевались чешские знамена, вздымались кулаки. Народ слаженно, но негромко скандировал: «Гавел – до Град! Гавел – до Град!..»4
«Кричите-кричите, – усмехнулся про себя Эжен. – Пешки. Оппортунисты. Быдло… Пушечное мясо… Смазка на колесах истории… Все равно настоящая власть, как и настоящие деньги, опять пройдет мимо вас…»
НАСТЯ
Весна 1990 года
Настя сидела с матерью на кухне в их квартире на Большой Бронной – в квартире, от которой она уже успела отвыкнуть. За то время, пока они не виделись, в жилье не произошло никаких перемен.
Перемены произошли в матери. Когда они встречались последний раз, год назад, Ирина Егоровна была цветущей, полной сил женщиной. Теперь перед Настей сидела высохшая, болезненная почти старуха.
– Сиди и слушай, – строго, как всегда, сказала мать. И начала: – Я никогда и ничего не рассказывала тебе о моем детстве…
– В самом деле, – вздохнула Настя.
– Постарайся меня не перебивать, – отрезала Ирина Егоровна, и Настя подчинилась.
Так всегда, всю жизнь было у нее с матерью: та командует – Настя беспрекословно покоряется.
– На то, чтобы не посвящать тебя в подробности, у меня имелись свои причины, – внушительно продолжала мать. – Я не могу утверждать, что мое детство и юность были безрадостными. Но… Имелось в моей жизни одно обстоятельство, о котором мне никогда, ни в коем случае, не хотелось рассказывать… Одна тайна… Даже, вернее, две… Но теперь… Теперь, когда я ухожу, я сочла, что ты должна знать… Знать – все… Впрочем, – мать вздохнула, – я буду последовательной… Знаешь, при каких обстоятельствах ты, Настя, появилась на свет? – спросила мать строгим голосом.
– Н-ну… – на мгновение смешалась Настя.
Она снова почувствовала себя неловко – как и почти всегда, когда она общалась с матерью. Она опять боялась ошибиться. Сказать или сделать что-нибудь не так. Она снова попала под ее влияние. И для этого ей хватило всего-то каких-нибудь полчаса.
– Ты встретила моего отца в Сибири… – неуверенно произнесла Настя. – В студенческом стройотряде… Это была случайная встреча…
Все время, пока Настя осторожно – словно по минному полю шла – говорила, Ирина Егоровна смотрела на нее испытующе, строго.
– И ты больше ничего не знаешь? – выстрелила она вопросом.
– Н-нет…
– Никогда не слыхала? Не догадывалась? – Мать продолжала выспрашивать, пристально сузив глаза.
«Да что ж это за допрос такой!.. – в сердцах (однако же про себя) воскликнула Настя. – Я взрослая женщина!.. Мы с ней давно на равных!.. Почему же я до сих пор ее слушаюсь?!»
Однако воля матери и ее авторитет были настолько велики, что, несмотря на внутренний бунт, Настя покорно, как школьница, проговорила:
– Нет. Я ничего не знаю. Не слышала. Ничего и никогда.
– Да, с твоим отцом мы действительно познакомились случайно… В Сибири на стройке, – сказала Ирина Егоровна. – И познакомились, и, – она усмехнулась, – полюбились… Представь себе: палатка на берегу Енисея… Большая, солдатская, с деревянным настилом на полу… Двадцать кроватей, двадцать тумбочек… Закуток для нас, четверых девчонок… Он был огорожен от мальчишек фанерой… Ночи холодные. Резко континентальный климат. Красноярский край… Порой, чтобы не замерзнуть, мы спали, укрывшись матрацами, а на головы надевали ушанки… Зато днем – жарища… Сорок градусов…
– Господи, тебе же тогда всего восемнадцать лет было! – воскликнула Настя. – Как же тебя родители-то отпустили!..
– Об этом, Анастасия, – строго сказала мать, – я расскажу тебе позднее.
И продолжила:
– Мы с девчонками на кухне работали… Поварами, посудомойками, раздатчицами, уборщицами – всеми сразу… Мальчишки построили для кухни и столовой грубо сколоченный деревянный навес… Плита, раковины, прилавок – раздача… А рядом – длинный стол, где обедали-ужинали парни… И все это – на берегу Енисея, широкого, стремительного…
В голосе матери прозвучали мечтательные нотки. Настя украдкой глянула на нее – и поразилась. Глаза Ирины Егоровны, всю ее жизнь цепко выхватывающие, замечающие в окружающем мире любую мелочь, сейчас, чуть ли не впервые на памяти Насти, оказались словно бы развернутыми внутрь себя – навстречу собственным воспоминаниям.
– …Парни наши строили совхозный коровник, – продолжала мать. – А мы, четверо девчонок, кошеварили. Были «поварятами» или «поварешками» – как нас ласково называли ребята… Непростое дело, знаешь ли, – накормить двадцать мужичков, да еще занятых тяжелой физической работой. Поворочай-ка котлы, да перечисть двадцать кило картошки, да перемой посуду, да подмети, полы надрай, столы вытри…
В голосе матери зазвучал привычный для Насти назидательный тон. Вот, мол, какая я была работящая – не то что некоторые (как Настя!). Впрочем, Ирина Егоровна тут же спохватилась и опять перескочила на ностальгическую ноту:
– Мы с девчонками дежурили по двое. В день дежурства вставали в четыре утра, а до рассвета уже успевали приготовить кашу к завтраку, мясо для бульона вариться ставили… В шесть – подъем для всех, линейка, завтрак… А потом мы крутились на кухне день напролет, до позднего вечера… Сварим обед, раздадим, посуду помоем – а там уже и ужин готовить надо… Так и день проходит… И вот все уже спят, а ты за полночь или картошку чистишь, или котлы драишь… А я ведь домашняя девочка была – как посуду, допустим, мыть или ту же картошку чистить – и представления не имела… Все у меня, особенно поначалу, получалось хуже, чем у других девчонок, медленней, чем у них… А по утрам я просыпалась – и буквально пальцы не могла разогнуть, так их наламывала за день…
Но не могла же я позволить, – глаза Ирины Егоровны гордо сверкнули, – чтобы кто-то заметил, что я делаю что-то плохо! Или тем более покритиковал меня на собрании отряда!.. Я старалась, училась, подтягивалась…
«А я и не сомневалась, что ты старалась изо всех сил», – подумала Настя.
– Смену свою кухонную, – продолжила мать, – я сдавала обычно в четыре часа утра, ровно через сутки, как заступала… На сон в течение этих суток времени ни секундочки не было… И после пересменки я засыпала как мертвая… Один раз даже до палатки дойти сил не было. На обеденной скамейке уснула. Меня в шесть утра ребята разбудили, до палатки довели… Смеху было… Зато весь следующий день дежурные отдыхали… Отсыпались – нам, поварятам, даже послабление делали, разрешали на линейку не вставать… А потом можно было в день отдыха, счастливый день, помыться, простирнуть кое-что для себя, письмо домой написать… Искупаться в Енисее…
Настя никогда не слышала ни единой подробности о том, как мать работала в стройотряде. Знала (непонятно откуда, но знала), что в семье эта тема – табу. Ни сама мать, ни бабушка с дедом никогда о том эпизоде в жизни Ирины Егоровны не распространялись.
– Первое время мне очень тяжко было, – продолжала рассказывать мать. – Я плакала, страдала… Даже предательские мысли закрадывались: убежать из отряда… Больной прикинуться… Но потом, недели через две, я втянулась, привыкла. Появилась гордость за себя и свой труд… Думалось: вот я, комсомолка, занята общественно полезным делом… Мне еще только восемнадцать, а я уже приношу настоящую пользу своей стране… Это так все серьезно тогда казалось, так романтично… Я Маяковского вспоминала: «Это мой труд вливается в труд моей республики»… Мы тогда его безо всякой иронии цитировали, не то что сейчас… Шел шестьдесят четвертый год, еще Хрущева не сняли… Я вскоре даже научилась радоваться этой жизни, новой для себя. Очень приятно, например, было, когда парни искренне говорили нам после еды «спасибо»… Или когда хвалили именно мною приготовленные блюда… А купание в Енисее – холодном, быстром!.. И звездное небо по вечерам – столько звезд, как там, в Сибири, я больше никогда в жизни не видела…
Мать сделала паузу, на секунду задумалась и добавила вмиг помрачневшим тоном:
– И не увижу больше никогда…
Настя поняла, что именно она имеет в виду: свою болезнь. Неизлечимую болезнь.
Ирина Егоровна тряхнула головой, избавляясь от наваждения, и вернулась к воспоминаниям:
– А по вечерам, когда темнело, все мы – весь отряд, двадцать человек – собирались у нас в столовой под навесом. Обсуждали итоги дня: кто как поработал, что предстоит сделать завтра… У нас ведь настоящая коммуна была: все, что мы зарабатывали, решили поделить поровну, без обид. Поэтому все и работать должны были изо всех сил. И никто не сачковал, не филонил, не отлынивал – стыдно было перед товарищами… Ну, и, как положено в коммуне, деньги у нас там хождения не имели… Да и покупать нечего было… А кому нужен был одеколон, или конверты, или зубная паста – просто брал из ящика с припасами… Ну и кормили мы всех до отвала… Я тогда даже иногда думала – всерьез ведь думала! – да вот он, настоящий коммунизм!.. Может, мечтала я, такие же отношения – к работе, друг к другу – когда-нибудь наступят во всей стране? И каждый человек в Советском Союзе будет работать не за страх, а за совесть – потому что ему перед своими товарищами просто стыдно станет лениться?.. А за свою работу каждый будет получать бесплатно все, что ему нужно для жизни… И наступит настоящий коммунизм, о котором деды мечтали…
Мать иронично усмехнулась. Она смеялась над собой – молодой, наивной, глупой…
Потом продолжила, сменив тон:
– Ну, дальнейший ход исторических событий показал, что мои тогдашние мысли были не чем иным, как прекраснодушными мечтаниями… Наверно, для двадцати человек коммунизм еще можно построить… А вот для двухсот миллионов не получается… Поэтому мы и дошли до жизни такой…
Настя слушала ее – и ждала. Она понимала, что пока материн рассказ не более чем предисловие, разбег на пути к главному. К тому, что она в действительности хочет рассказать – а дочь услышать: кто был ее отцом? Каким он был? Как у них все случилось? И почему у них не задалась жизнь вместе?
– Вечерами, – продолжала ностальгировать мать, – мы тогда все вместе сидели у костра. Пели песни. В основном неофициальные – тех авторов, кого потом назвали «бардами»: Окуджаву, Городницкого, Высоцкого… Впрочем, этих фамилий мы тогда и не знали… Просто пели под гитару – как народные песни…
Ирина Егоровна продекламировала:
– «Я все равно паду на той, на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной…» Стихи читали – Рождественского, Евтушенко, Вознесенского… «Свисаю с вагонной площадки – прощайте…» Молодыми все они тогда, эти поэты, были… И мы – молодыми…
Глаза матери – обычно жесткие, стальные – повлажнели.
Настя чуть ли не впервые видела ее такой: размягчевшей, потеплевшей…
Ирина Егоровна вздохнула:
– Ну вот… Был там, в отряде, среди мальчишек один… Красивый, стройный… Он много старше нас был, на четвертом курсе учился. Пел под гитару как бог – свои собственные песни, хотя он об этом никому не говорил, но мы-то знали… И стихи читал. И был бригадиром у мальчишек на стройке. И все, что он ни делал, как-то очень изящно, ловко у него получалось: и кирпичи класть, и в волейбол играть, и плавать… Все наши девчонки по нему вздыхали… Звали его Эдиком…
– Так вот почему я Эдуардовна… – проговорила Настя.
Мать метнула на нее строгий взор, и Настя пожалела, что опять влезла со своим замечанием.
– Эдик, – продолжала Ирина Егоровна, – с самого начала стал оказывать мне знаки внимания. Красиво, ненавязчиво… То букетик полевых цветов протянет за ужином через раздачу… То споет специально для меня – он это, конечно, в коллективе не афишировал, но я-то понимала – по его взглядам: поет он именно для меня… Потом он стал по ночам, когда я дежурила, приходить ко мне на кухню. Помогал. Картошку чистил. Хохмил. Пел для нас. Точнее – для меня… И я, и напарница моя, Люська, третьекурсница, хорошо понимали, – что для меня… А еще она, Люська, – Люсьеной ее по-настоящему звали! – общежитская была и надо мной взяла что-то вроде шефства… Предупреждала меня: «Осторожней ты с ним, Ирка, с красавцем!.. Поматросит и бросит…» Так в итоге и получилось…
Мать вздохнула.
Настя не могла поверить своим ушам: у нее с матерью происходит задушевный разговор! Ей, Насте, потребовалось столько испытать – а матери смертельно заболеть! – для того, чтобы у них впервые в жизни произошел откровенный, неназидательный разговор! Беседа на равных!
– …Наконец, – продолжила Ирина Егоровна, – Эдик пригласил меня. Куда мы могли там пойти?.. Кругом лес – и река. До деревни – два километра, до ближайшего клуба, где крутили кино, – десять… И вот однажды, в тот день, когда я отдыхала, после его работы мы просто пошли гулять – куда глаза глядят. Бродили вдоль Енисея… Смотрели на звезды… Млечный Путь на полнеба… Один раз даже спутник увидели – и все гадали: советский он или американский… Решили, что, конечно, советский… А Эдик стихи мне читал, хохмил… Словом, все у нас с ним было, как у тебя с твоим, – лицо матери перекосила гримаса отвращения, – Арсением чудным…– И добавила зло: – Романтика!..
Потом мать сделала паузу и произнесла совсем иным, тихим тоном:
– Влюбилась я в него…
Настя смотрела на пожелтевшее, исхудавшее лицо матери и думала: «Почему, ну почему этот разговор не состоялся у нас раньше?! Когда я была девочкой – молодой, совсем юной? Неужели мать боялась, что я чего-то не пойму? Или – пойму неправильно? Или она уронить себя в моих глазах боялась?.. Почему мы впервые в жизни начали с ней разговаривать только сейчас? Когда, судя по всему, стало уже слишком поздно для того, чтобы нам понять друг друга? Подружиться?..»
– Ну а что было потом – ты сама легко можешь себе представить. – Голос матери построжел. – Объятия, поцелуйчики… А позже случилось и все остальное… Я его, дура, любила… И совсем уж думала, что…
Мать остановилась и горько махнула рукой.
– Он… Он был твоим первым? – тихо, осторожно спросила Настя.
Ирина Егоровна не осадила дочь, как того втайне опасалась Настя. Она внимательно посмотрела ей в глаза и строго сказала:
– Нет. Не первым.
– А… – начала пораженная Настя. Она хотела выпалить: «А кто же им был?»
Но мать оборвала ее:
– Об этом – после.
– А что… Что было потом? – спросила Настя. – С этим Эдиком?.. Ну, то есть с моим отцом?
– Ну что было… – вздохнула мать. – Мы построили этот несчастный коровник. Вернулись в Москву… Монетки в Енисей бросали, чтоб еще раз туда вернуться… И ведь искренне тогда хотели вернуться… Несмотря на тяжелую работу и все тяготы – мы были счастливы там… По-настоящему счастливы… Мы получили расчет в совхозе – по четыреста пятьдесят рублей на каждого… Поделили деньги поровну, как и договаривались… Огромные деньжищи по тем временам… Вернулись мы в Москву на самолете. Тогда это показалось мне каким-то чудом: пять часов полета, и вот мы уже в столице… А здесь многоэтажные дома, и машины, и витрины, и даже неоновые вывески…
Лицо матери опять стало мечтательным.
Она вздохнула и продолжила:
– Мы как-то сумбурно, впопыхах простились с Эдиком на аэродроме… Меня встречала мать, на отцовском автомобиле с персональным водителем… А уже на следующий день мы вместе с нею выехали на поезде на юг, в санаторий… Она все ужасалась, какая я чернющая да худая, и срочно решила меня оздоравливать да откармливать… А Эдик поехал к себе домой, в свой город…
– А он был не москвич? – с живейшим интересом спросила Настя.
Мать усмехнулась – очевидно, в адрес Насти, которая своим романом с немосквичом, лимитчиком, столь несчастливо повторила ее судьбу.
– Да, он был из Камышина. – Губы Ирины Егоровны презрительно скривились, когда она произносила название города.
Мать на секунду задумалась, вновь уходя в себя, в собственные воспоминания.
Настя снова украдкой оглядела ее лицо и в очередной раз поразилась, насколько же она сдала.
«Это ей – наказание за все, – вдруг подумалось Насте. – За все то, что она сделала – со мной и с Арсением». И тут же устыдилась своей мысли. «Грех так думать! Ведь она же мать мне! Что бы она ни сделала – все равно мать».
А Ирина Егоровна между тем продолжала:
– Итак, мы с маменькой, Галиной Борисовной, отправились на отдых в Сочи, в санаторий. Эдуард поехал в Камышин, навещать своих. – Последнее слово мать опять выделила пренебрежительной интонацией. – Матери моей я, конечно, ничего не рассказала о нашем с ним романе… Ну, это тебе, я думаю, знакомо… Ведь ты тоже до последнего скрывала от нас свои отношения с Арсением…
Мать сделала паузу, а потом вздохнула и продолжила:
– Первые дни в Сочи я была просто ошеломлена. И переменой обстановки, и тем, что кругом люди, море, и ничего не надо делать, и можно спать, сколько захочешь… Я дремала целый день, засыпала даже прямо на пляже, на жестком топчане… Отъедалась фруктами, чебуреками… А потом, дня через три, я начала скучать по нему, по Эдику… От каникул, правда, оставался жалкий огрызок – уже шли двадцатые числа августа. И мы должны были скоро снова увидеться… Но мать, Галина Борисовна, меня ошарашила: оказывается, наши путевки заканчиваются только двенадцатого сентября. «А как же институт?» – спросила я. «А, чепуха, – отмахнулась она. – Евдокия Гавриловна, моя врачиха, сделает тебе справку. Здоровье дороже». Почему-то она считала, что в стройотряде я сильно подорвала свое здоровье и теперь мне необходим, как она заявляла, «полный и глубокий отдых». А я уже тосковала по этому подонку…
«Итак, мой полумифический отец, – отметила машинально Настя, – уже превратился из красавчика Эдика в подонка. Быстро…»
– Я написала ему письмо в Камышин, – рассказывала мать. – Эдик ведь оставил мне свой тамошний адрес… Потом я сообразила: письмо еще бог знает когда дойдет – да пока он еще ответит… И я как-то вечером убежала от матери на телеграф и отправила ему телеграмму… Что-то вроде «Люблю, обожаю, скучаю» – и написала свой сочинский адрес… Проходит день, два – а ответа на телеграмму никакого нет… Дурочка я тогда была исключительная… Почему-то решила, что все те чувства, что я испытывала к нему, и он должен испытывать ко мне…
Ирина Егоровна вздохнула.
– Доверчивая я была, хотя уже однажды и ученая… «Может, – думала, – он мою телеграмму не получил?..» Снова бегу на телеграф – никакого телефона у него там, в Камышине, конечно, не было – и снова ему телеграфирую. По срочному тарифу. Скучаю, мол, – и почему ты не пишешь, любимый?.. И опять – никакого ответа… Эх…
Ирина Егоровна горько вздохнула.
– Мне восемнадцать лет тогда было – откуда ж я знала, что мужики терпеть не могут, когда им навязываются! Что чем хуже ты с ними обращаешься – тем больше они тебя ценят… Извини, мне нужно принять лекарство…
Мать встала из-за стола. Подошла к буфету, нервно высыпала из разных пузырьков пригоршню разноцветных таблеток в ладонь, закинула их в рот, запила водой.
– Я понимаю, конечно, что это как мертвому припарки… – произнесла она и безнадежно махнула рукой. И тихо сказала: – Но… Жить-то как хочется… – Голос ее дрогнул. – Кажется, что и не было этих двадцати пяти лет… Так они быстро пронеслись… И все мои тогдашние сочинские страдания… Теперь они кажутся чем-то даже приятным – по сравнению с тем, что мне… Мне предстоит… Ведь тогда и солнце светило, и море плескалось, и мужчины со мной заигрывали – стоило только матери на пять минут от меня отойти… Кстати, и не тошнило меня нисколько, хотя я уже тогда (как потом выяснилось) была беременна тобой… Но я об этом тогда даже и не подозревала… А главное, в то лето мне казалось, что вся моя жизнь – впереди. Да она, в сущности, и была впереди…
Мать снова села к столу – напротив Насти.
– Ладно, давай покончим наконец с этой историей… Про Эдика этого несчастного… – Ирина Егоровна внутренне собралась, голос ее окреп. – Этот подонок так и не ответил из своего Камышина ни на одну из моих телеграмм. Я уже была уверена: с ним что-то случилось… Стала рваться в Москву к первому сентября – мать меня не отпускала… Я не пошла ей наперекор. Осталась с нею на юге, в санатории… Но первого сентября позвонила одному парню, москвичу, который тоже был вместе с нами в стройотряде и у которого имелся дома телефон…
Ирина Егоровна вздохнула.
– Ну, позвонила и спросила его, словно между прочим: вернулся ли в Москву из своего Камышина Эдик. Тот парень прекрасно знал о наших с Эдиком отношениях, поэтому слегка удивился, когда я ему этот вопрос задала, – что я через вторые руки об Эдике интересуюсь… Удивился – и говорит: «Да, с ним все в порядке, он вернулся, я его видел… Он в Москве, в общежитии…» Ну, раз так… Тогда я вызвала его, Эдика, на телефонный переговор…
Настя досадливо цокнула языком. Она сопереживала матери.
Ирина Егоровна развела руками.
– Я же не понимала тогда (никто меня не научил этому!), что для женщины главное достоинство – ждать. Ждать и терпеть… И по возможности не показывать вида и веселиться…
В этот момент Настя поняла, отчего мать никогда и ничего не рассказывала ей об отце: Ирине Егоровне – женщине амбициозной, чрезвычайно самолюбивой – было попросту стыдно вспоминать о той жалкой роли, какую она играла в том далеком романе.
– И он пришел? На переговоры? – нетерпеливо спросила Настя.
– Да, пришел, – кивнула Ирина Егоровна. – Я кричала что-то в трубку, и он кричал, были какие-то помехи на линии, вокруг моей кабинки собралась толпа… Словом, все было ужасно… Но главное, его тон был совсем иным, чем тогда, в стройотряде… Холодным таким, отстраненным, даже высокомерным… Совсем не так он говорил со мной летом, на берегу Енисея… Это я, несмотря на помехи и полторы тысячи километров расстояния, сумела заметить… «Ты мои телеграммы получил?» – спрашиваю. «Да, – говорит, – получил». «А почему же не ответил?» – «А чего, – говорит, – писать, деньги зря тратить…» – «Как ты, что ты?» – кричу. А он только усмехается: да все нормально, мол, все у меня прекрасно. Приедешь, говорит, все обсудим… А что обсудим?.. И – ни слова теплого! Ни словечка о любви!.. Вышла я из автомата в растрепанных чувствах. Поплакала… Потом себя успокоила: да его холодность, наверное, объясняется тем, что неудобно ему кричать о своих чувствах. Он ведь тоже на «переговорке», в кабинке был, а там – вокруг народ… Наши же студенты… Я себя успокаивала: парни, они ведь такие – обычно застенчивые, не любят о своих чувствах на весь мир кричать…
В общем… – продолжала она, – себя успокоила и стала дни считать – когда же я наконец в Москву поеду. С Эдиком со своим, – мать усмехнулась, – ненаглядным увижусь… Словом, произошла, как я потом только поняла, классическая история: она влюблена, а он – разлюбил… Точнее, даже и не любил, наверно, никогда… Как там этот подлец Онегин говорил: «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей…»
– Легче, – машинально поправила Настя.
– Что? – высокомерно произнесла Ирина Егоровна.
– Пушкин писал: «Тем легче нравимся мы ей».
– Ах, да какая разница! – досадливо воскликнула мать.
Вот такой – нетерпимой, себялюбивой – Ирина Егоровна гораздо больше походила на себя самое, и Настя задалась вопросом: куда же делась та влюбленная, робкая, трепещущая студентка?.. Что же матери пришлось пережить, прежде чем она превратилась в столь знакомую Насте с самого детства «железную леди»?
– Вот, ты меня сбила, – капризным тоном пожаловалась мать. – О чем я говорила?
– Как ты возвратилась с юга в Москву.
– Ну да, вернулась… И на следующий день по возвращении помчалась в институт. Вся трепетала как осиновый лист: я его увижу… И сразу же, утром, – увидела… Идет он мне навстречу, веселый, с друзьями – а на правой руке, на безымянном пальце у него – золотое кольцо!..
– Да ты что! – непроизвольно ахнула Настя.
– Да-да, – покивала мать. – Ну, он меня увидел – в лице изменился… Ребятам что-то бросил, подошел ко мне. Ухмыляется: «А я вот женился». Меня как будто обухом по голове ударило. Я стою, не пойму, что происходит, – и все надеюсь, что это шутка, вот сейчас он скажет, что это розыгрыш, что он просто пошутил… Ведь совсем недавно, летом, он такие слова мне говорил, таким нежным был… А он начал что-то лепетать: о невесте в своем Камышине, что у них свадьба давно намечалась и он не мог нарушить слово… Что он меня, дескать, всегда любил и всю жизнь будет помнить… Что, мол, то время, что мы провели вместе, – лучшее в его жизни… В общем, нес обычную мужскую галиматью – у меня все в голове плыло, я и не поняла половины… Повернулась и убежала…
Настя сочувственно кивала, и на глаза ее наворачивались слезы.
«Да, мужики – мастера бить по самому больному», – подумалось ей, и сразу вспомнился эпизод из ее собственной жизни: подонок Валера, оскорбивший ее на маскараде в университете…
А мать продолжала свой рассказ:
– Не помню, как я добралась в тот день до дому… А вернулась – у меня сразу температура подскочила… Жар… Не знаю, что это было: грипп, простуда – или просто нервы… В общем, я провалялась целую неделю – в буквальном смысле в бреду, в горячке… А потом мать потащила меня к своей врачихе…
– Помню ее, – кивнула Настя. – Она мне еще о Николеньке первой сказала…
– …И та поставила мне диагноз, – мать метнула короткий строгий взгляд на Настю: как смеет та ее прерывать. – Диагноз был простой: беременность, шесть недель.
Ирина Егоровна вздохнула.
– Ну а что родители? – поинтересовалась Настя.
– Мать сначала просто вздохнула: «Нагуляла…» А вечером они устроили совместно с Егором Ильичом семейный совет. Решали, что со мной делать. Отправить на аборт? Женить на «подлеце» насильно? Стереть в порошок соблазнителя? Исключить его из комсомола, выгнать из института, отправить в армию, в дисбат!.. Но я сама уже к тому вечеру все для себя решила. Решила ясно, твердо и бесповоротно. Мне сразу стало так легко и спокойно-спокойно – и поэтому я себя с этой позиции никому уже не давала сбить. Итак, я постановила: во-первых, буду рожать. В любом случае. Одна, с мужем – неважно… А во-вторых, я не унижусь до того, чтобы сводить счеты с подлецом – тем более с помощью отца или парткома. Пусть он живет как хочет, и господь ему судья!..
Глаза Ирины Егоровны гордо сверкнули.
– Ну а все, что случилось дальше, ты знаешь. – Мать усмехнулась. – В мае следующего года родилась ты. И мои родители, твои бабка с дедом, так никогда в жизни и не узнали, кто на самом деле твой отец. Хотя мать не раз ко мне с расспросами подступалась… А с ним самим, подонком, мы никогда в жизни больше даже и не разговаривали… Когда мы в тот год встречались вдруг в коридорах в институте – а у меня уже пузо, извините, на нос лезло, – он отворачивался и бочком-бочком прошмыгивал куда-то в сторонку… А с апреля шестьдесят пятого года, как я в академку ушла, мы и не виделись больше никогда… И хотя меня подговаривали, и Люсьена, и другие девчонки, написать на него заявление в комитет комсомола, навсегда испортить ему жизнь – я до этого не унизилась… И парни наши ему хотели темную устроить – да только я им тоже строго-настрого запретила… Не стоил он больше ни моего внимания, ни чьего-нибудь внимания вообще! И мести тоже не стоил!..
– И ты не знаешь, – после паузы осторожно спросила Настя, – что с ним, моим отцом, дальше стало?
– Отчего ж не знаю, – усмехнулась Ирина Егоровна. – Знаю.
– Ну и?..
– Не «нукай», – строго сказала мать. – Приезжал он сюда, в Москву, на встречу однокурсников. В восемьдесят шестом году, на двадцатилетие окончания института. Из своего Камышина приезжал. – Губы Ирины Егоровны презрительно искривились. – Я сама его не видела, но мне про него Люсьена рассказывала… И не узнала б его, говорит, настолько Эдик переменился. Толстый стал, лысый, с золотыми зубами… Однако все те же ужимки, гитара, песенки – да только смотрится это теперь, не в двадцать лет, а в сорок, очень смешно… Женат он все на той же… На нашей, – мать презрительно хмыкнула, – разлучнице… Он показывал Люсьене ее фотографии… Толстая старая корова, поперек себя шире… Она у него на ткацкой фабрике работает, мастером смены. А сам он – заместитель начальника СМУ. Есть у них двухкомнатная квартира в панельном доме, дачка шесть соток, автомобиль «Запорожец»…
Мать язвительно фыркнула.
– Тихое провинциальное счастье… Ну и двое детей у него. Уже взрослых… Однако они вместе с ними живут – в той самой двухкомнатной панельной конуре… Могу себе представить!.. Дочка у него имеется – так сказать, твоя сводная сестра… И родилась она на несколько месяцев позже тебя, в июне шестьдесят пятого…
– Значит, он…
Настя не договорила, испугалась реакции матери. А хотела она сказать, что отец, выходит, в одно и то же лето и ее, Настю, зачал… И от совсем другой женщины – ее сестру…
– Ну да. – Мать поняла Настину мысль, усмехнулась. – Папаня твой – настоящий бык-производитель… Был… – Она презрительно хмыкнула. – Имеется у него также сын, на четыре года младше тебя – стало быть, двадцати одного года от роду… Люсьена мне говорила: жаловался Эдик на свою жизнь… Недружно, говорил, они живут: и с женой, и с детьми. Собачатся. Дочка все замуж никак не выйдет… Сын уже за воротник закладывает… В общем, не случилось ему в жизни счастья… Бог – или какая там есть наверху высшая сила? – его за меня покарал…
– А про тебя? Про тебя-то он что, не вспоминал? – поинтересовалась Настя.
– Ну еще бы не вспоминать! – горделиво и злорадно усмехнулась мать. – Еще как вспоминал!.. Как подвыпил, стал плакаться Люсьене: ах, какой он дурак был, какую девушку упустил… Как он жалеет… И по ночам, дескать, я ему снюсь… Все телефончик мой у Люсьены выспрашивал – да она ему не дала… Еще не хватало! Пусть, старый провинциал, локти себе теперь покусает…
– Что же ты, мама, никогда мне про него не рассказывала? – с легким упреком спросила Настя. – Даже когда я уже взрослая стала?
– А зачем это? – немедленно ощетинилась мать. – Чтоб он приезжал сюда, в мою квартиру?.. Чтобы детей этих несчастных – твоих, с позволения сказать, сводных братьев-сестер – сюда, к нам в Москву, привозил?.. Знаю я этих провинциалов!.. Их мне тут еще не хватало!
«Да, – подумала Настя, – теперь понятно, почему ты, мать, так, в штыки, приняла моего Арсения… Ожегшись на своем молоке – ты дула на мою воду…»
Но… Вслух Настя ничего не сказала. Не время сейчас спорить и выяснять старые обиды.
Все-таки мать – ее мама! – умирала.
Умирала от рака.
…Когда Настя вернулась домой, Арсений не спал. Он никогда не ложился, пока она не возвращалась – когда бы это ни было: в одиннадцать вечера, в час или в два ночи…
Вот и сейчас: он сидел на кухне, курил, как паровоз, лагерную «Приму», пил дочерна заваренный чай «Бодрость» и стукотал что-то на машинке. Делал вид, что страшно увлечен работой. Даже головы не поднял, когда она хлопнула входной дверью и заглянула на кухню из коридора. Но она-то видела: на самом деле он ждет. Ждет и волнуется… И в ее сердце, измученном рассказом матери, торкнулись любовь, нежность – и радость: он ждал – ее, и волновался – из-за нее, и не спал – из-за нее…
Сенька сделал вид, что с трудом отрывается от работы, словно бы нехотя поднял на нее глаза. (А она видела: неправда, неправда! Все это игра! На самом деле он рад. Чертовски рад ее видеть!)
Арсений буркнул:
– Чего ты так долго?
– Как Николенька? – ответила вопросом на вопрос Настя.
– А что ему сделается! – с наигранным неудовольствием нахмурился Арсений. – Спит.
– Покормил?
– Нет, – язвительным тоном отвечал Сеня. – Чего это я его буду кормить?.. Наоборот, я ему клизму поставил. С патефонными иголками.
– Се-ня! – пытаясь быть строгой, прикрикнула она.
– Да покормил, покормил… – шутливо поднял руки вверх Арсений. – В слоника мы с ним играли… В слоника-папу и слоника-сыночка… Иначе б я кашу в него не впихнул…
Что это за манера – играть за едой? – ворчливо продолжал Арсений. – Ты приучила… Странный обычай – любой ценой ребенка накормить! Дикий обычай, советский, нецивилизованный… Никто в мире детей насильно не кормит. Жрать захочет – сам поест…
– А ты-то ужинал? – спросила, уводя разговор в сторону, Настя.
Ей был мил псевдоворчливый тон вечерней перепалки. Она душой отдыхала, отмякала после всего горестного и жуткого, что навалилось на нее только что. После всего, что рассказала ей мать.
– Да ужинал, ужинал… – ответствовал Арсений. – Картошки вон себе нажарил.
Настю всегда поражала (и, признаться, радовала) полная неприхотливость Сеньки в еде. Он готов был есть что угодно – лишь бы утробу набить: картошку так картошку, макароны так макароны, а мог и попросту хлеба с солью намяться. Вполне объяснимая непритязательность – с его-то прошлым. И очень, честно говоря, ценная – по нынешним-то дефицитным временам.
– И тебе я картохи оставил, – продолжал Арсений, неофициальный Настин муж: супруг невенчаный, не расписанный… – Будешь шамать?..
И тут же, без перехода, наконец спросил:
– А где ты была? – и пристально посмотрел ей в глаза.
Под таким кинжальным взглядом не соврешь.
Настя не выдержала Сенькиного испытующего взгляда, отвернулась и тихо проговорила:
– У матери.
– Вот как? – холодно поднял брови Сеня.
– Да.
Лицо Арсения замкнулось. На нем отразилась целая палитра негативных эмоций: и брезгливость, и отвращение, и сдержанный гнев.
– У нее все плохо, – поспешила сказать Настя, чтобы оправдаться.
Она все равно почувствовала себя виноватой. Виноватой за то, что съездила к умирающей матери.
Из-за этого своего чувства вины (а она ни в чем на самом деле не виновата!) она разозлилась.
Разозлилась на Арсения.
– Мама умирает! – с вызовом заявила она.
– Ну да? – с усмешечкой переспросил Сеня.
– Да! Да! – выкрикнула Настя. – У нее рак!
Лицо Сени не выразило ни грана сочувствия. Напротив, на нем отразилось нечто похожее на злорадство. Ненависть Арсения к теще была глубока и неизбывна. И причины для подобной ненависти имелись. Сеня был уверен: именно по вине Ирины Егоровны он больше трех лет провел в тюрьме.
Эта история случилась 11 марта 1985 года. В тот день родителей тещи убили, а их квартиру ограбили. В преступлении обвинили его, Арсения. Он был арестован и осужден и, только выйдя по амнистии, смог установить истинного преступника – им оказался шофер Капитоновых. Однако из дневника шофера следовало, что он был просто исполнителем, а заказчиком убийства выступила дочь потерпевших. Его теща Ирина Егоровна Капитонова.
Может быть, шофер врал. Может, он просто пытался на кого-то свалить вину. Но Сене-то от этого не легче! Три года вычеркнуты из жизни. Университет (с каким трудом он туда поступал!) так и не окончен. И навсегда к нему прилепилось клеймо бывшего зэка…5
Что, после всего этого он должен Ирине Егоровне еще и сочувствовать?
Настя заплакала. Она вдруг поняла: это только ее привилегия – плакать.
И больше ее мать не оплачет никто.
Разве что, может, первый муж Насти – Эжен.
Эжен… Подлец, предатель, сволочь. Высокомерный негодяй. Да и то: выдавит ли он из себя хоть слезинку?.. Нужна ли Ирина Егоровна ему теперь?..
Да и, положа руку на сердце, даже она, Настя, – разве она не почувствовала нечто вроде облегчения, когда услышала, что мать скоро умрет?
От этой мысли ей стало еще горше, и она заплакала навзрыд, уткнувшись в висевший на крючке фартук.
Сеня и не подумал утешать ее.
Боже, боже мой! Да что же за жизнь прожила ее мать, что смерть ее не будет оплакана больше ни одним человеком?!
Арсений демонстративно ушел в комнату.
А Настя плакала. Плакала одна.
Плакала – и вспоминала другой рассказ матери.
Страшный рассказ…
– Тебе, конечно, не очень-то жаль меня? – Ирина Егоровна проницательно посмотрела Насте в лицо.
Настя вздрогнула.
– Что ты, мама, – пробормотала она.
И опустила взгляд, встретив угольки маминых глаз.
Да, она права.
Ей жаль – но не мать, а просто женщину – в общем-то, молодую и красивую… Которая по злой прихоти – чьей? бога? дьявола? – должна умереть в самом расцвете сил…
«Я сегодня весь вечер буду, задыхаясь в табачном дыме, мучиться мыслями о каких-то людях, погибших совсем молодыми…»
Когда-то Настя плакала над этим стихотворением. Плакала оттого, что должны погибнуть какие-то совершенно неизвестные ей люди… И точно так же она сочувствовала бы сослуживице, подруге, соседке или героине газетной статьи… И матери она тоже сочувствует. Но той скорби, от которой сводит мозг и колет сердце, у нее все-таки нет.
Насте скорее было жаль себя. Девочку, которую мать родила от подонка. Девочку, все детство мучившуюся из-за того, что она всем мешает и никому не нужна.
Ирина Егоровна вздохнула, в глазах ее блеснули слезы. Она прошептала:
– Что ж… Я сама виновата.
– Ты не виновата ни в чем, – твердо сказала Настя. – Ты просто жила… Так, как считала нужным.
– Ладно, – отмахнулась мать. – Не утешай. Щадящего режима врачи мне не назначали.
Ее взгляд затвердел. Настю вдруг захлестнула волна жалости к ней – такой мужественной, сильной, умной.
«Я просто никогда не понимала ее. Просто не понимала – потому и не любила… А сейчас – уже слишком поздно что-то менять. Нужно просто дожить вместе с ней эти последние дни, недели – может быть, месяцы… Дожить – в согласии и любви. Пусть даже моя любовь будет не такой искренной, какой могла бы быть».
И Настя сказала:
– Что теперь говорить! Давай лучше еще чайку выпьем… мамочка.
Ласковое слово сорвалось с языка само собой. И Настя повторила, смакуя:
– Мамочка… мамуля.
– А ты знаешь, – задумчиво сказала Ирина Егоровна, – я пытаюсь вот сейчас вспомнить… Твоя бабушка, Галина Борисовна… Я ведь тоже никогда не называла ее мамулей…
– Ну, бабушка такой строгой была, – попыталась пошутить Настя. – Мне вообще хотелось ее всю жизнь на «вы» называть.
– Не в этом дело, – не приняла ее шутки мама. – Рассказала бы я тебе… Ладно, потом… Ты правда чаю хочешь – или просто так сказала?
«Чего уж теперь из себя примерную дочку строить!» – подумала Настя. И спросила:
– А коньяк у тебя есть?
Мама усмехнулась:
– Врачи мне запретили… И пить, и курить. Решение, согласись, весьма своевременное. И принципиальное.
И достала из кухонного шкафчика бутылку «Наполеона» – почти пустую, на донышке с полстакана. Уверенным жестом разлила коньяк по стопкам.
«А раньше спиртное у нас в огромном количестве в баре стояло, – отметила Настя. – И никто его сроду не пил. Бедная мама!»
Появились на столе и сигареты – крепчайший «Кэмел» без фильтра. Пачка тоже была почти пустой – хотя раньше мать курила только в особых случаях. Красовалась при гостях с легкой коричневой сигареткой и, кажется, даже не затягивалась.
– Будешь? – она протянула пачку Насте.
Сразу вспомнилось из детства: «Унюхаю, что от тебя табачищем несет, – из дома вышвырну. Поняла?!»
– Побалуюсь, – вздохнула Настя, вытягивая из пачки сигарету.
Они с Сеней уже месяца два не видели не то что «Кэмела» – даже болгарской «Стюардессы». Кашляли от невкусной и крепкой дукатовской «Явы».
– А я и так знаю, что ты куришь, – вдруг улыбнулась мать. – Тебя Николенька заложил.
– Николенька? – удивилась Настя. – Когда это он успел?
Ирина Егоровна прежде никогда не проявляла интереса к своему внуку.
После того как Настя переехала к Сене, Николенька видел Ирину Егоровну от силы пару раз. И Настю очень смешило, что мальчик называет бабушку на «вы«.
– Я сегодня в садик к нему приходила, – мать с наслаждением затянулась. – Он сказал, что от меня пахнет «так же, как от мамы и папы». Эх вы, курильщики, – не удержалась она от упрека. – Мне-то уже все равно, а вы зачем себя травите?
Настя уже рот открыла – оправдываться, но мать ее остановила:
– Да ладно. Живите, как умеете… А знаешь, мы с Николенькой на «ты» перешли. И я обещала, что в зоопарк его свожу. И в цирк, на тигров. Ты ведь не против?
– Тебе, мамуль, просительный тон не идет, – усмехнулась Настя. – Веди его, конечно, куда хочешь. Только он тебя измучит – капризный стал…
– Ну, со мной, как ты помнишь, не покапризничаешь! – подмигнула ей Ирина Егоровна. И большим глотком допила свой коньяк.
«Я бы смогла ее полюбить! Смогла бы! – подумала Настя. – Только, наверно, уже не успею…»
И сказала, чуть не плача:
– Эх, мамочка… ну почему, почему ты раньше никогда так со мной не говорила?
– Дура я была, – припечатала Ирина Егоровна. – И педагог никчемный. Считала, что детей надо в строгости держать – чтоб они наших ошибок не повторяли.
– Но что же тогда получается? – воскликнула Настя. – Тебя же, ты говоришь, тоже в строгости держали. Ты бабушку и боялась, и слушалась… Совсем как я – тебя. Только все равно в восемнадцать лет…
– В подоле принесла, – спокойно закончила мать: договорила то, что не решилась произнести Настя.
– Да! В подоле! – Настя обрадовалась, что Ирина Егоровна докончила фразу, вертевшуюся у нее на языке. – Значит, должна быть какая-то другая педагогика! Зачем же нужно, чтобы ребенок боялся? Он родителей любить должен, а не бояться!
– Ну, Настя, повело тебя… – спокойно констатировала мать. – Не пей больше, раз не умеешь.
Она решительным жестом отобрала у Насти коньячную рюмку.
Кажется, ей хотелось допить самой – но Ирина Егоровна удержалась, выплеснула остатки коньяка в раковину.
– А про бабушку и дедушку твоих… Не хотела я тебе рассказывать… Но уж каяться так каяться… Да и тебе знать полезно…
Ирина Егоровна вдруг встала. Резко повернулась, вышла из комнаты. Настя растерянно смотрела ей вслед.
Вернулась мать быстро. В руках – школьная тетрадка. Держала ее мать брезгливо, двумя пальцами. Настя с удивлением смотрела на ветхую, выцветшую от времени обложку. И на надпись вылинявшими чернилами: «Тайный дневник Иры Капитоновой, 1964 год».
– Читай, – приказала мать. Швырнула тетрадку на стол и горько добавила: – Я бы и сама тебе все рассказала, но не могу. До сих пор не могу…
– Почему? – удивленно спросила Настя.
– Ты поймешь, почему. Когда прочувствуешь, – вздохнула Ирина Егоровна и закурила новую сигарету.
Настя пожала плечами. Не хочет рассказывать – не надо. Она осторожно, чтобы старая тетрадка не рассыпалась в прах, открыла ее и принялась читать.
Тайный дневник Иры Капитоновой
1964 год, весна
…Я давно знала, что со мной что-то не так. Очень давно, лет, наверно, с пяти. Когда мы с отцом, Егором Ильичом, ездили в Южнороссийск и злая тетка (папа объяснил, что это наша бывшая соседка, но я ее совсем не помню) сказала, что у меня глаза «точь-в-точь как у Арины».
Я долго приставала к папе, кто такая эта Арина и откуда у меня вдруг взялись ее глаза, а он рассердился и объяснил, что соседка имела в виду бабушку Арину Родионовну – ту самую, что рассказывала сказки Пушкину, хотя даже ребенку (а я и была тогда полным ребенком) понятно, что няня Пушкина здесь совершенно ни при чем.
А потом, когда мы вернулись в Москву, я подслушала, как папа говорил маме, что у «патлатой гидры развязался язык». Я сразу поняла, что патлатая гидра – эта та самая злая тетка, которая сказала мне про Аринины глаза. И на следующий день спросила у мамы, кто такая Арина, а мама стала кричать на меня, и запретила произносить это имя вслух, и пообещала, что никогда в жизни больше не купит мне мороженого, если я буду приставать к ней с глупыми вопросами.
…Больше никто и никогда не говорил про Арину, и я совсем забыла про то, что у меня «ее глаза» и с этим связано что-то странное. А в пятом классе я сильно поранила ногу, и мне делали переливание крови в той же поликлинике с красивыми пальмами, где лечились папа и мама. И я услышала, как медсестра спрашивает у врача, по какой причине группа крови ребенка не совпадает с группой крови родителей. А врач смеется и отвечает:
– А по той, милочка, причине, что дети иногда бывают и приемными…
Я снова начала приставать к папе (мне казалось, что это безопаснее, чем говорить с мамой), но он только накричал на меня и сказал, чтобы я не слушала взрослые разговоры, раз все равно ничего в них не понимаю… А потом успокоился, подвел меня к зеркалу и сказал: «Смотри! У тебя глаза – серые, и у меня – серые. У тебя нос прямой – и у меня прямой. Разве мы не похожи? Значит, ты – моя настоящая дочка. И я тобой горжусь».
И я согласилась с ним. Но решила, что обязательно в следующий раз сама спрошу у врача, что он имел в виду, когда говорил о приемных детях. Но, наверно, папа догадался об этом, потому что в ту поликлинику мы больше не ходили, и даже страничка в нашей телефонной книге, по которой вызывали врача из той красивой поликлиники, почему-то оказалась вырванной…
Тогда я стала рассматривать наши семейные фотографии и расспрашивать папу: «Кто эта тетя? А кто – вот эта?» И он терпеливо мне отвечал, и имя Арина не называл ни разу, а мама отчего-то очень сердилась и просила, чтобы «мы занимались генеалогией в ее отсутствие».
Но потом мне стало совсем некогда, потому что мама отдала меня на английский язык и в легкую атлетику, чтобы у меня не было времени думать о глупостях. Но я все равно думала по ночам про эту тетю Арину и догадывалась, что так зовут мою настоящую маму, и пыталась даже вспомнить, как она выглядит, но только у меня ничего не получалось… Я помнила, как я капризничала, когда была совсем маленькой и не хотела есть кашу, но кашу в меня всегда запихивали мама и папа – Галина Борисовна и Егор Ильич, то есть те мама и папа, которых я знала…
А потом папа сказал, что я должна доказать, что я – настоящая Капитонова. И когда я спросила, как мне это доказывать, он объяснил, что для этого я должна много заниматься, чтобы поступить в институт… Вот что придумал папа. Он сказал:
– А если ты не поступишь в институт, то я и правда буду сомневаться – а моя ли ты дочка?
И я обещала ему, что сделаю все, чтобы доказать, что я – его дочь.
А сегодня стало известно, что меня приняли, и мы с мамой и папой пили шампанское, а потом отец – могу ли я теперь называть его отцом? – рассказал мне все.
Рассказал мне, что на самом деле я – дочка его двоюродной сестры Арины, и что Арина всегда, как он выразился, вела «вольный образ жизни», и что он даже ума не приложит, «кто может быть моим настоящим отцом».
Я заплакала и сказала, что все равно хочу видеть их обоих, и мою настоящую мать, и моего настоящего отца.
А папа (не могу же я теперь взять и называть его «дядей Егором»?) усмехнулся и сообщил пренебрежительно:
– Ты опоздала, Ирочка. Аринка уже лет десять как померла. Допилась до белой горячки.
– Не говори про нее так! – закричала я.
– Не смей на меня орать! – приказал папа.
Он никогда раньше не говорил со мной так строго.
– Пожалуйста, не говори о моей настоящей маме в таком тоне, – попросила я его.
– Твоя мать – это Галина Борисовна. Она тебя вырастила, выкормила, вывела в люди. А твой отец – это я.
Но я всегда была упрямой и возразила ему:
– Ты – не настоящий отец. А я хочу знать своего настоящего папу.
– Ну, тогда поезди по тюрьмам. Или по ссылкам. Или по шалманам. Авось отыщешь, – засмеялся мой ненастоящий отец.
И я закричала:
– Ненавижу тебя!
И он впервые меня ударил и выбежал из комнаты, и я слышала, как он говорил моей ненастоящей маме:
– Ты, Галина, была права. Вырастили отродье на свою голову…
– И ты так ничего не узнала о них? – выдохнула Настя. – О своих настоящих родителях?.. Больше – ничего не узнала?
– Нет, – грустно улыбнулась Ирина Егоровна. – Тогда – не узнала. Потому что очень скоро мне стало не до того.
Она вышла из кухни. Вернулась с бутылкой – снова коньяк, непочатый.
Дрожащей рукой наполнила свою рюмку. Насте – плеснула чуть на донышко. Закурила.
Настя сидела ни жива ни мертва. Ее мозг терзала догадка – такая страшная, что ей даже не хотелось об этом думать…
– Ты говоришь – стало не до того, – с надеждой произнесла она. – В том смысле, что ты уехала в стройотряд и там влюбилась, и потом у тебя появилась я?
– Не совсем. – Ирина Егоровна свою стопку выпила залпом. – Видишь ли, Настя… С тех пор, как отец… как Егор Ильич мне все рассказал, с ним что-то случилось. Он начал пить – помногу… С работы приходил постоянно злой. И пьяный… Кричал на маму… на Галину Борисовну. А меня просто не замечал. Демонстративно не замечал. Отворачивался, когда я выходила к завтраку. Цедил сквозь зубы, когда я его о чем-то спрашивала. И… бил меня… За то, что я отрезала волосы и сделала «химию». За то, что вернулась домой не в десять, как обещала, а в половине одиннадцатого. И даже за то… знаешь, как он говорил… за то, что я смотрю на него волчьим взглядом… Но я все терпела. И жалела уже не себя – а его… Мне казалось, я понимаю, что происходит… Мне казалось, что так он срывает злобу за то, что я – не его дочка… А однажды… однажды он пришел домой очень рано, мама еще не вернулась с работы. Я в это время купалась. Я не ждала, что кто-то придет, и дверь в ванную не заперла. Лежала в воде и массировала ноги специальной щеткой – тогда считалось, что это хорошее средство для поддержания фигуры… И он ворвался в ванную, пьяный, и стал кричать, что я совсем потеряла стыд, что пробы на мне ставить негде… Я выскочила из воды, хотела вытолкать его, но он… он схватил меня…
– Нет, мама, нет! Не рассказывай!.. Пожалуйста! – закричала Настя.
Она выскочила из-за стола, подбежала к матери, обняла ее, зарылась в пропахшие табаком волосы… И всхлипнула:
– Как он мог?!
– Потом он что-то говорил про затмение, – цинично усмехнулась Ирина Егоровна. – Про помрачение рассудка… И про аффект… Ну, Настенька, не плачь, не плачь…
Мама осторожно высвободилась из ее объятий. Опять налила себе коньяку. Виновато сказала:
– Я, наверно, пью слишком много… Но ты же не будешь меня укорять?
– Мама… – выдохнула Настя. – Да если бы я знала… Если б я знала про все это раньше! Знаешь, как бы я любила тебя! Как бы жалела! Как берегла!
– Ни к чему тебе это было знать, – отрезала мать.
Ее губы кривились – то ли в усмешке, то ли в горькой гримасе.
«Она старается сделать вид, что давно все пережила… Она старается – даже сейчас! – показать, что она – железная… Каменная. Всесильная. Что ж – пусть. Пусть, если ей так легче».
– Как же ты смогла? – тихо спросила Настя. – Как ты смогла простить его?!
Ирина Егоровна пожала плечами:
– А у меня другого выхода не было… Практически сразу после этой истории я уехала в тот стройотряд. Ну а что там случилось – я тебе уже рассказала… И куда же мне было деваться – одной, с тобой, грудным ребенком?.. Да и отец – Егор Ильич то есть – в ногах у меня валялся. Умолял понять и простить. Говорил, что пьян был, что не смог бороться с соблазном. Клялся, что с собой покончит, если я его не прощу. Я и простила…
Глаза матери сверкнули недобрым огнем.
Она повторила раздумчиво:
– Да, простила… До поры до времени…
Настя почувствовала, что сходит с ума. Она схватила свою рюмку, на дне которой плескался коньяк. Выпила, закашлялась, потянулась за сигаретой… Руки тряслись, она никак не могла состыковать огонек зажигалки и «кэмелину».
Мама усмехнулась – да, в твердости духа ей не откажешь – и помогла Насте прикурить. Горько улыбнулась:
– Ну что, доченька? Небось не рада, что мы с тобой этот разговор завели? Зря, зря я тебе рассказала… А то жила бы ты себе спокойно… Считала бы, что я – тварь, каких поискать… Кляла бы со своим Сенькой мать-злодейку…
– Нет. Не зря, – твердо ответила Настя. И вдруг попросила: – Покажи мне их фотографию.
– Чью? – Мама сделала вид, что не понимает.
– Фотографию моих настоящих бабушки и дедушки. И не говори, что у тебя ее нет.
– Ишь раскомандовалась, – усмехнулась мама.
Но фотографию принесла. Жалкую любительскую карточку с полуразмытыми контурами.
Настя с жадным любопытством вгляделась в лица: неопрятная женщина с потухшими глазами… Рядом – небритый, испитой мужик…
– Вот они, мои генетические родители. Папашу, кстати, тоже зовут Егором.
– А с ним что сталось?
– Да ты знаешь – Егор Ильич оказался прав. Сгинул папочка где-то на зонах. Даже могилу – и ту найти не удалось.
Настя снова и снова щурилась, пытаясь углядеть в равнодушных лицах знакомые черты. Нет, ничего, абсолютно ничего общего. Эти двое – Арина и другой Егор – люди будто с иной планеты. В обоих – ни намека на мамину стать, ее благородный профиль, ее красивые, глубокие глаза…
– Ты совсем на них не похожа! – удивленно воскликнула Настя.
Мама усмехнулась:
– Наверно, потому, что пью меньше.
– Глупостей, мамуль, не говори, – Настя уже и не удивлялась, что у нее получается разговаривать с мамой столь фамильярным тоном. – А они… эта Арина и этот Егор… Они не пытались с тобой повидаться? Не пытались хотя бы поговорить?
– Нет. Никогда, – откликнулась мама. И горько повторила: – Никогда. Я никому не была нужна. Никогда и никому.
– Неправда! – вскрикнула Настя. – Ты нужна! Нужна мне, и Николеньке, и Сене! И мы тебе найдем самых лучших врачей, и вылечим тебя, и потом начнем все сначала!.. Чтобы все было по-настоящему. Как в нормальных семьях.
– Спасибо, Настя, – растроганно сказала мама. – Спасибо. Лечить меня, правда, уже поздно… И чтобы, как ты говоришь, «по-настоящему» – все равно не получится… Но Николеньку в зоопарк и цирк я сводить успею. Послезавтра на Вернадского есть представление – я уже узнавала…
Настины слезы все же тронули Сенькино сердце.
Он пришел в кухню. Подхватил Настю на руки. Отнес в постель. Взбил ей подушку, укутал в два одеяла. Попросил:
– Ты подожди, не спи… Я сейчас!
Выскочил из комнаты, чем-то зазвенел на кухне.
Настя уснуть и не пыталась: после сегодняшнего дня она, кажется, вообще спать не сможет. Никогда.
Сеня вернулся быстро. Принес две рюмки. В обеих плескалась темная жидкость.
– Отмечаем избавление? От тещи? – Настя постаралась, чтобы в голосе прозвучал сарказм.
Сарказма не получилось. Вопрос вышел хриплым и жалким.
– Дурочка, – беззлобно откликнулся Сеня. – Это лекарство. Тебе. Авторский метод: в одной рюмке коньяк, в другой – валерьянка. Помогает железно! Пей. В любом порядке.
Настя начала с валерьянки. Сморщилась от ядреного вкуса.
– А теперь – коньячок, – велел Сенька.
– А ты уверен, что твои лекарства сочетаются? – слабо улыбнулась Настя.
– Гарантирую. Как внук врачей. А значит, и сам врач.
…Адский коктейль действительно помог: Настя опустилась на подушки – и вдруг заснула. Заснула очень быстро.
Однако ни валерьянка, ни коньяк не спасли ее от кошмара.
Приснилось ей болото – темно-зеленая жижа с сальной кромкой. И засохшие, страшные ели по берегам. И равнодушные глаза лягушек и птиц: твари лениво наблюдали за Настей. А она… Она стоит в середине болота и не может сделать ни шага. Только чувствует, как ледяная вода обжигает щиколотки и, чавкая, затягивает ее все глубже…
Настя пытается вырваться – но болото вцепилось в нее насмерть. Пытается кричать – но только зря вспугивает тишину.
И мрачному лесу на границе болота нет никакого дела до ее крика…
Безумный, тягостный сон: вот она по колени в ледяной, страшной воде… По пояс… По грудь… И жуткая мысль – «Сейчас я умру!» – уже не вызывает у нее никаких эмоций.
«Проснуться! Проснуться! Проснуться!» – приказывает себе Настя.
Но вода только все сильнее сдавливает легкие, а на губах уже появляется болотный привкус.
«Сеня!» – бесполезно кричит она и тянет вверх руки в тщетной надежде встретить его крепкую ладонь…
Воздуха не хватает.
– Нет! – умирая, кричит Настя.
И чувствует, как ее подхватывают сильные руки…
Она успевает облегченно подумать: «Все, я проснулась!»
И радостно открывает глаза.
Но… Но она снова оказывается во сне.
В том же сне. Только уже не в болоте, а на поляне.
Под равнодушными елями.
Вся мокрая – аж тело от холода сводит! – но живая.
Она лежит на жухлой траве и яростно втягивает воздух. А рядом, вполоборота к ней, стоит мужская фигура.
– Сеня… – шепчет Настя. – Обними меня…
Человек оборачивается, и она видит: это вовсе не Сеня, а его дед.
Дед Николай. Но он же умер! Умер давно!
Дед, кажется, умеет читать ее мысли.
Он присаживается рядом – глаза у него грустные.
– Да, Настя, я умер. Но ты не бойся… – И неожиданно залихватски подмигивает ей: – Видишь, я еще на что-то гожусь! Успел тебя вытащить. Как тебя в болото-то занесло?
Настя шмыгнула носом:
– Сенька…
А при чем здесь Сенька – и сама не поняла.
Но дед, видно, что-то понял. Кивнул:
– Ладно. С Арсением мы еще поговорим. (А о чем поговорим – непонятно.) Сама-то ты как?
– Плохо, – жалуется Настя. – С мамой беда…
– Знаю, – вздыхает дед.
И смотрит на нее – внимательно, испытующе. Мертвые так смотреть не умеют. Насте кажется, что она растворяется в его цепких, глубоких глазах… Они одновременно и изучают ее, и подбадривают, и лечат…
– Мне тяжело, деда, – бормочет она. – Очень жаль ее! И я не знаю, что делать… что делать… А Сеня, кажется, даже рад. Рад, что все так удачно складывается…
– Но его же можно понять, правда? – говорит дед. – После всего, что сделала с ним твоя матушка…
– Можно, – соглашается Настя. – Но она ведь – моя мать! И я не могу все так просто оставить…
– Не оставляй, – пожимает плечами дед.
– А ты… ты знаешь, что мне делать?
Тот усмехается:
– Знаю.
И тут Настя просыпается.
И на лице ее – играет улыбка.
Она – в своей постели. А рядом – Сенька.
…Сенька – который уже не спал – немедленно потянулся обниматься.
Обвил ее руками-ногами, зашептал:
– Ну, доброе утро! Принцесса моя! Царевна! Что-то хорошее снилось, да?
– С чего ты решил?
– А ты улыбалась! Я уже полчаса за тобой наблюдаю.
Настя хотела сказать – в сотый раз! – что ей не нравится, что он подглядывает за ней спящей. Но промолчала: все равно Сеньку не переделаешь. Ладно уж. Пусть подглядывает.
– Снилась мне полная ерунда, – честно сказала Настя. – Я тонула в болоте и почти утонула. А когда уже начала задыхаться, меня твой дед спас. Николай Арсеньевич.
– Да ты что! – живо отреагировал Сеня. – И мне сегодня тоже дед снился! Надо же!.. Вот совпадение!..
Настя не удивилась:
– Да, он мне обещал.
– Что обещал? – не понял Арсений. – Кто?
– Дед твой обещал. Что он с тобой поговорит.
– Но он со мной ни о чем не говорил!.. Мы с ним просто на рыбалку ходили. На катрана.
Настю как пружиной подбросило – Сеня даже отпрянул, заворчал:
– Тебя что, клоп укусил?
– Сам ты клоп! Тетрадка! Где тетрадка?!
– О господи, да что с тобой? Какая еще тетрадка?
– Дедова. Николая Арсеньича. С его рецептами.
– В чемодане, наверно.
Настя уже выпрыгнула из кровати, понеслась в коридор. На пороге чуть не сшибла сынулю – малыш шел к ним в комнату: любил по утрам понежиться в постели между мамой и папой.
– Мама! – кинулся к ней Николенька. – Ты куда?
Она быстро чмокнула его в теплую со сна макушку:
– На антресоли!
И помчалась на кухню за табуреткой.
Настя воспользовалась правом библиотечного дня и на работу не пошла. Сенька тоже остался дома: «Отписываться буду!» Они вместе отвели Николеньку в садик и вернулись в квартиру.
Настя даже новый кофе варить не стала – отправилась в спальню и немедленно уткнулась в тетрадку Николая Арсеньевича. Ту самую тетрадь, в которую дед записывал результаты своих экспериментов. Результаты лечения онкологических больных настоем из катрана.
– Не поймешь ты там ничего! – тоскливо сказал Сенька. – Ты же не врач!
– Пойму, – отрезала Настя.
Она, по правде говоря, ждала, что Сенька вместе с ней посидит над тетрадкой. Поможет расшифровать дедовы каракули.
Но он ей помощи не предложил, а просить она не стала. И пришлось самостоятельно продираться сквозь непонятный, типично врачебный почерк.
Настя действительно разбирала мало. То и дело натыкалась на непонятные термины, а иногда дед и вовсе переходил на латынь.
Без труда ей давались только начала абзацев: «Больной К. (З., Ю., Т…) поступил в стационар с жалобами на…» Далее шел темный лес. Симптомы, синдромы, непонятные Насте показатели.
«Ладно, – думала она. – Главное – врубиться. Достоевского я тоже не сразу поняла».
Сеня ее не трогал. Навис над своей печатной машинкой. Только по клавишам не стучал: кажется, думал о чем-то своем.
Наконец решился. Пришел в спальню, сел на краешек кровати. Сказал – медленно, словно бы подбирая слова:
– Настя… Рак неизлечим.
Она ответила мгновенно: в дедовой тетрадке как раз нашлась подходящая цитата:
– «Официальная онкология декларирует тезис: есть три кита борьбы с раком – хирургия, химиотерапия и лучевая терапия. И не надо больше ничего придумывать. Однако позволим себе оспорить данное утверждение…»
Она победоносно взглянула на мужа.
Сеня вздохнул:
– Дед имеет в виду начальные стадии рака. Первую, максимум вторую. А у Ирины твоей Егоровны – наверно, четвертая. Метастазы… Такую опухоль вылечить невозможно.
Настя не сдавалась. Она снова ответила цитатой из дедовой тетрадки:
– «Препарат содержит антиангиогенезный фактор, прекращающий прорастание кровеносных сосудов в опухоль, чем обеспечивает ее атрофию…»
Сеня повысил голос – чуть не впервые за то время, что они жили вместе: – Настя, от рака нет панацеи. Нет, понимаешь, нет!!!
Она вздрогнула от его резкого тона. На языке завертелось гневное: «Хватит орать!»
Но Настя не закричала. Она тихо сказала:
– Я и не ищу панацеи… И мама ее не ждет. Я просто хочу дать ей надежду. Всего лишь надежду, понимаешь?
Как ни старалась Настя, как ни обхаживала Сеньку – помогать он ей так и не стал.
Она поначалу пыталась хитрить. Демонстративно вздыхала над тетрадкой – притворялась, что ничегошеньки не понимает… Выложила на видное место стопки медицинских справочников и сидела над ними с пренесчастным видом. Даже на тяжелую артиллерию перешла – перестала готовить ужины. Демонстративно. Вроде как – у нее есть занятие поважнее.
Но Сеня проигнорировал и ее намеки, и тяжелую артиллерию. И на отсутствие ужинов не ругался – просто жарил, к восторгу Николеньки, полную сковороду картошки. Кормил малыша поджарками, да еще и соленые огурцы есть разрешал. Тоже мне, детский диетолог.
И Настя смирилась: «Ну и ладно. Хорошо, что хоть не мешает».
Она поневоле вспоминала своего первого мужа, Эжена. С тем в такой ситуации было бы куда сложнее. Если ему оказывалось не по душе что-нибудь, что делала Настя, он просто запрещал ей, и все. Вышвыривал, например, в окно сиреневые тени (говорил безапелляционное: «Они тебе не идут!»). Или постановлял по поводу ее новой подруги: «Эту пройдоху чтоб я больше в моем доме не видел!»
А Сенька хоть и страдает, но ей не препятствует, дедову тетрадку не отбирает.
Однако раз тетрадку не выкидывает – мог бы с ней и поговорить. Дать совет. Помочь. Хотя бы – посочувствовать.
Но нет, негодяй, молчит – хотя Настя и намекала как могла. Рассказывала, к примеру, что в Америке супруги любую мелкую проблему обязательно обсуждают. Или Николеньку в пример приводила – даже малыш всегда, если на маму сердится, пытается объяснить, за что.
Но дипломатия Сеньке – как об стенку горох. Молчит, словно шомпол проглотил. Все вечера – за машинкой или у телевизора. Даже с Николенькой играть перестал – сидит весь из себя такой задумчивый…
Пришлось спрашивать толстокожего напрямую:
– Из-за чего ты злишься? Из-за того, что я матери пытаюсь помочь?
Сенька только плечом дернул.
– Или ты не веришь, что дедово лекарство действительно существует?
Опять молчит.
– Может, думаешь, что я рецепт сама не восстановлю? Потому что не врач?
И снова тишина. Вот и думай, что хочешь. И непонятно, надо ли дальше ломать голову над закорюками Николая Арсеньевича…
Да и нет в них пока никакого чудо-рецепта. Только результаты наблюдений за больными. И выводы – тоже, кстати, не самые обнадеживающие: кто-то с четвертой стадией своими ногами из больницы уходит, а другим – лекарство даже на начальной стадии не помогает.
«Когда уж он наконец про рецепт начнет писать?« – не терпелось Насте. Но искушение просто пролистнуть тетрадку и поискать она подавляла. Решила, что спешка тут ни к чему. Сначала нужно прочесть весь текст целиком. Общее впечатление составить. Решить для себя – не бред ли все это и имеет ли вообще смысл в этом направлении идти. Уж больно оно, это направление, чудное. И непростое.
А так – пока она просто дедовы записи читает, у нее и собственное мнение создается. Хоть она и не доктор – тоже небось способна понять, действительно ли дедово лекарство такая уж панацея. Или эликсир из катрана – всего-навсего семейная легенда…
Рецепт вытяжки из хрящей черноморской акулы Настя обнаружила в самом конце тетрадки. Обрадовалась, внимательно прочитала – и тут же расстроилась. Она, прямо скажем, надеялась на что-то вроде: «взять три грамма акульих хрящей, проварить их в течение часа в литре молока»… А могла бы догадаться и раньше, что легких путей эти врачи не предлагают – обязательно запутают так, что хоть в медицинский поступай…
Во-первых, вначале следовала целая страница требований к качеству дурацких катранов: оказывается, для лекарства годится далеко не любая акула. Возраст должен быть – не старше десяти лет, длина – не более метра, брюхо – обязательно белое, без единого пятнышка, и хвост – строго разнолопастный, без дефектов…
«Гениально! – злилась Настя. – Мало того, что я ума не приложу, как их ловить, этих катранов, – мне еще и селекцию придется проводить. Проверять, разнолопастный у акулы хвост или неразнолопастный…»
Одна радость: лов как раз скоро начнется, апрель, писал дед, – самый лучший для рыбалки месяц. Если бы еще Сенька согласился поехать с ней…
Но и дальше, после селекции, все оказывалось не просто. Дед корябал своим жутким почерком: «Приготовление вытяжки возможно только в условиях современной лаборатории при строгом соблюдении технологической специфики». Ну, лабораторию-то сейчас найти – слава богу, проще, чем в дедово время: девяностые годы – это вам не сороковые, а вот как следить за технологической спецификой – решительно непонятно…
«Придется помощника искать. С медицинским образованием, – тоскливо думала Настя. – Только где же его найдешь? Знакомых медиков у меня нет, а незнакомые – или рецепт украдут, или огромные деньжищи заломят. А скорее – и то, и другое… До чего же обидно, что Сенька участвовать в этом не хочет! Он бы что-нибудь придумал… Хотя тоже не врач…»
Но супруг стоял насмерть. Не хотел помогать теще, по чьей милости ему пришлось провести годы в тюрьме. И потому все Настины разговоры про апрельский Южнороссийск, когда повсюду цветут абрикосы и вода в море – чистая-пречистая, решительно игнорировал.
Настя совсем было опустила руки. Что ж, остается только признать, что это у нее давнее слабое место: неспособна она к самостоятельным, решительным действиям… Капитан ей нужен. Рулевой…
А Сенька рулить не желает… Стало быть, ничего и не получится… Придется смириться.
И покорно ждать маминой смерти?
«Уйти, что ли, мне от этого Сени? – злилась она. – На фиг мне такой муж, от которого ни толку, ни помощи?»
Впрочем, хватило ума вслух о разрыве не заговаривать. Тем более что в самом конце дедовой тетрадки Настя натолкнулась на странную фразу: «Если понадобится, Кира поможет».
– Кто такая Кира? – набросилась на мужа Настя.
Сеня добросовестно задумался:
– Кира? Не знаю, не слышал.
– Это из дедовой тетрадки. Дед пишет, что она все знает – ну, как готовить лекарство.
Сеня скривился:
– Опять ты об этом…
Настя сухо ответила:
– Про лекарство я ничего тебя не прошу. Просто спрашиваю, знаешь ли ты эту Киру?
– Еще раз повторяю – не знаю.
Вот негодяй, взял манеру – каким он тоном с ней разговаривает!
– Хорошо, – спокойно сказала Настя. – А про других коллег своего деда ты в курсе?
– Ну, каких-то его друзей – знаю, конечно. Только понятия не имею – коллеги они или просто приятели.
– Говори. Записываю. – Настя склонилась над блокнотом.
Сеня грустно посмотрел на нее. Кажется, ему хотелось обнять ее, пожалеть, приголубить…
«Ну же! – внушала мужу Настя. – Ну обними меня! Я так по тебе скучаю… Давай, обними меня – крепко-крепко!»
Сеня уже и руки к ней протянул – но в последний момент взгляд его упал на злосчастную дедову тетрадку… И лицо его сразу закаменело, теплый огонек в глазах погас.
– Записывай, – сухо сказал он. – Дядя Андрей Форафонов. Дядя Миша Шадуров. Тетя Лена Крылова…
НАСТЯ
Весна 1990 года
СССР, Южнороссийск
Всю дорогу до Южнороссийска Настя проклинала собственную «тепличность». «Нет во мне жизнестойкости. Нету воли к победе, – переживала она. – Еще и трудности толком не начались, а я уже вся без сил!»
Впрочем, от такой езды действительно обалдеть можно.
Билета на самолет достать не удалось. На скорый поезд – или хотя бы на пассажирский, но в купейный вагон – билетов тоже не было. Вот и пришлось полтора суток трястись в плацкарте.
Печка в вагоне топилась еле-еле, в окна свистел колкий ветер. Плацкартные полки оказались куда жестче, чем в привычном купейном. Да и с соседями, прямо скажем, не повезло: сплошь скупщики столичного добра, весь вагон сумками перегородили.
Традиционную дорожную курицу Настя сдуру упаковала в целлофановый пакет, и та «задумалась» в первый же день. Печенье с конфетами кончились мгновенно, а вагон-ресторан исторгал столь неаппетитные запахи, что Настя бы и в блокаду туда не пошла. Так и ехала все тридцать шесть часов: в голодухе да в шуме. Минуты считала, сколько до Южнороссийска осталось. И удивлялась сама себе: вроде и замужем уже второй раз, и ребенку скоро пять лет, и на работе считается ценным специалистом, а поди ж ты: до сих пор даже путешествовать не научилась. Ни билетов хороших достать не смогла, ни курицу в дорогу упаковать.
«Привыкла, что кто-то за меня всегда думает. Раньше – дед, бабушка и мать… Потом – Эжен… А теперь вот и Сенька… Нравственный инфантилизм, – приговорила себя Настя. – Впрочем, ладно. Мне же пока не сто лет, а всего двадцать пять. Есть еще время приучиться к самостоятельности».
Когда наконец прибыли в Южнороссийск, Настя дотащила дорожную сумку до стоянки такси. И договорилась с водителем.
Таксисты в Южнороссийске оказались какие-то странные:
– Мне на улицу Мира, к пароходству, – попросила Настя.
Шофер, с ног до головы упакованный в джинсу, окинул ее ласковым взглядом:
– Садись, цыпочка! Чем платить будешь?
«О чем это он? – растерялась Настя. – Они что тут, за такси бонами, что ли, берут?»
Водила не сводил с нее масленых глазок, и до Насти наконец дошло: он не про тип денег спрашивает. А про тип оплаты: купюрами или натурой. Остроумные здесь, однако, шутки!
Настя наградила хама уничижительным взглядом и, волоча тяжелую сумку, потащилась прочь. В спину летел сальный хохот…
«Эх, Сенька, Сенька! Как же мне тебя не хватает!» – думала она, выискивая в толпе таксистов самого пожилого и благонадежного на вид…
Впрочем, когда Настя добралась наконец до квартиры и, швырнув в коридоре сумку, вышла на свой любимый балкон – тот, что с видом на бухту, – настроение у нее поправилось. Весенний город оказался исключительно хорош. Хорош – даже в отсутствие любимого мужа.
«Больно нужен мне этот Сенька! – Настя полной грудью вдыхала теплый соленый воздух. – Зудел бы тут беспрерывно… Или, того хуже, героя бы начал из себя строить: ах, мол, я – такой благородный, бросил все, помогаю злой теще… Ну его. Сама справлюсь».
Она достала из сумочки инструкцию (Сеня снабдил) и, сверяясь с бумажкой, ловко включила колонку. С удовольствием смыла с себя вагонную пыль. Вынула из шкафа ночнушку Татьяны Дмитриевны – старенькую, без пуговиц – и с удовольствием в нее нарядилась. Будь рядом Сенька – не преминул бы съехидничать по поводу ее затрапезного вида. Но мужа не было, и Настя снова порадовалась – вот здорово, когда ты совсем одна: хоть в бигуди расхаживай, хоть с ног до головы обмазывайся любым кремом, пусть даже супервонючим.
Чай она пила со старинными сушками – нашлись в кухонном шкафу. Разгрызть их оказалось решительно невозможно, и Настя, словно старая бабка, размачивала каменные кругляшки в чае. От воды они разбухали и разваливались. А Настя сидела вся в хлебных крошках и с удовольствием чавкала – громко, на всю квартиру. Неприлично, конечно, но все равно ведь никто не услышит!
Тетя Лена Крылова, конечно, оказалась уже не «тетей«, а бабушкой или даже прабабушкой. Слышала она плохо, да и соображала, на Настин взгляд, туговато: минут пятнадцать ушло, прежде чем старушка поняла, чего от нее хотят.
– Вы Николая Челышева помните? Ни-ко-лая! – кричала Настя. – А Сеню, его внука?
– Их – знаю. А вас – не знаю! – Старушка подозрительно вглядывалась в ее лицо.
– Я – Сенина жена, Настя!
– Ну а про Николая Арсеньевича вам зачем знать? – недоумевала бабуленция.
– По работе, – терпеливо говорила Настя.
Но объяснить, в чем дело, старуха не давала. Немедленно парировала:
– Но я же вас не знаю!
Прямо руки опускаются!
На шумный разговор с кухни явилась дочка – хмурая женщина, руки в муке. Недовольно спросила:
– Что тут у вас?
Настя представилась:
– Я – жена Сени Челышева. Знаете его?
Тетка кивнула, буркнула:
– Ну и что дальше?
Настя заторопилась, затараторила загодя придуманную легенду:
– Я работаю редактором в крупном издательстве. В Москве. Мы сейчас издаем серию книг о необычных, замечательных людях. И в наших планах – опубликовать биографию Сениного деда, Николая Арсеньевича. Вот я и приехала. Хочу побольше информации собрать, с его друзьями пообщаться.
– Никола-ая? – недоверчиво протянула тетка. – А что же в нем такого замечательного, чтоб об нем автобиографию писать?
– Не о нем автобиографию, а его биографию, – машинально поправила Настя. Рассердилась сама на себя: «Фу, что я умничаю-то?» И заспешила еще пуще: – А время сейчас такое. Новое веянье – писать не о гениях, а об обычных людях. От гениев читатели устали…
Бабка – она напряженно вслушивалась в их разговор – вдруг сказала:
– А Николай – он был гением.
– Ах, мама, оставь! – отмахнулась дочь.
Но с бабулей таким тоном говорить, видно, было нельзя. Она властно велела дочери:
– Иди, иди себе! Я все поняла. Сама с ней поговорю.
– Да пожалуйста! – фыркнула дочь. – Говорите хоть до утра. Только орать на весь дом не надо.
Настя облегченно вздохнула. Пристроилась рядом с бабулей на низком стульчике. Достала блокнот.
– Ты, наверно, про лекарство его хочешь услышать, – догадалась проницательная старуха.
Настя с трудом удержалась от торжествующего возгласа. Спокойно сказала:
– Да, в том числе и про лекарство.
– А я про него ничего не знаю, – охолонила ее бабка.
«Просто вредничает она, что ли? Или наводящих вопросов ждет? Так будут ей и наводящие вопросы!»
И Настя спокойно спросила:
– Скажите, пожалуйста, вы с Николаем Арсеньевичем где познакомились?
– Медсестрой я у него была. Семнадцать лет вместе работали.
– Ну и как же вы не знаете про лекарство? – воскликнула Настя. – Наверняка ведь и чай вместе пили, и праздники отмечали… Неужели ни разу про него разговор не заходил?
– Никогда, – отрезала бабка. – Я ведь с ним работала после того, как Николай из лагерей вернулся. После того как он за свой эликсир десять лет отсидел. Тут уж никаких экспериментов не захочется. Я однажды спросила его – слухи-то в городе ходили, так он ответил, что зарок дал: больше к своим акулам не возвращаться.
– Но неужели вы… вы на него не… не надавили? – недоверчиво спросила Настя. По всему видно, что старуха въедливая. Такой и не захочешь – а все, что знаешь, расскажешь.
Бабка усмехнулась. Проницательно посмотрела на Настю. Неожиданно спросила:
– А у тебя на твоего Сеню, мужа-то, хорошо давить получается?
Настя покраснела: вот это старуха! Вот это глаз-алмаз!
– То-то, – назидательно сказала бабка. – У них вся порода такая. Кремень. Если чего не хотят – нипочем не уговоришь. А чего это тебя лекарство так интересует?
– Ну так открытие же! Можно сказать, мирового масштаба! Я в газете читала: американцы разрабатывают вытяжку из хряща акулы. Они только еще разработку ведут, понимаете? А Челышев это лекарство уже изобрел – еще бог знает сколько лет назад!
Старуха кивнула:
– Он тогда, сразу после войны, говорят, в городе многих спас. Пока ему кислород не перекрыли. Время такое было: любую инициативу давили… Да и людей давили, не жалели…
И она пустилась в рассуждения на модную нынче тему: всю жизнь, мол, прожили по указке партии и думали, что так и надо, а теперь, вишь, какие факты всплывают – оказывается, сидел Челышев не за шарлатанство, а за научное открытие мирового масштаба.
Настя бабулю не перебивала. Она лихорадочно соображала: что ей делать дальше? Толку от «тети Лены Крыловой» явно больше не будет. И сейчас, по идее, нужно немного расспросить бабуленцию о личных качествах Челышева – надо же оправдывать легенду о том, что она пишет его биографию. А после – плавненько свернуть разговор и ретироваться.
Но у бабки, видно, имелись свои планы, как вести беседу. Закончив пассаж о «проклятых коммунистах», она вдруг сказала:
– Впрочем, кооператоры – тоже не лучше. Есть тут у нас один, капиталист… Медицинский кооператив у него. Так он студентов нанял, чтобы они в больничном архиве рылись.
– Зачем? – не поняла Настя.
– А хотел рецепт этого эликсира найти. Восстановить его и большие деньги с народа драть в своем кооперативе.
Настя похолодела. А бабка злорадно закончила:
– Только Челышев наш тоже не дурак. Ни единой бумаги после себя не оставил. Так студенты ни с чем из архива и ушли. Даже историй болезни – и то не осталось.
«Потому что он сжег их! Мне бабушка, Татьяна Дмитриевна, еще три года назад рассказывала!.. – чуть не брякнула Настя. Но догадалась промолчать. А в голову уже ворвалась новая мысль: – Не прознал бы этот кооператор-капиталист, что тетрадь с рецептами у меня!»
– А как его звать, этого буржуя? – спросила она как можно равнодушней.
– Кувелиди… Кирмелиди… Не помню точно. Грек он. У нас в городе греков много.
– И откуда же он узнал про эликсир?
– Провинция, милочка! – назидательно произнесла старуха. – У нас тут все знают всё и обо всех.
«И про то, что столичная штучка приехала писать биографию Челышева, тоже, видно, скоро узнают, – поняла Настя. – Если даже бабка и промолчит – так ее дочь по всему городу языком разметет. Осторожней надо быть, осторожней…»
И она вкрадчиво спросила:
– А вы не знаете… вот у Николая Арсеньевича еще друзья были… Андрей Форафонов, например.
– Умер. Два года назад, – пожала плечами старуха.
– Шадуров Михаил…
– К сыну в Канаду уехал. С полгода как. Обещал писать, только пока не пишет. Зачем мы ему – в Канаде-то…
«Вот так так! Весь лимит друзей исчерпан».
– Ну а коллеги? С кем он вместе работал – еще тогда, до лагерей? Сразу после войны?
– В сорок седьмом году? – прищурилась на нее старуха. – Сорок три года назад?!
Кажется, бабка стала подозревать: никакую биографию Николая Арсеньевича Челышева Настя писать не собирается. Что затея у нее – другая…
И бабка просоветовала:
– Так если тебе этот рецепт нужен – ты лучше в его домашних тетрадках посмотри. Николай его, рецепт-то, наверно, внуку оставил. Сене. Очень он Сеньку любил… Помню, говорил мне, что будущее поколение будет умнее нас. И мы обязательно должны оставить нашим детям и внукам достойное наследство.
– Да не нужен мне рецепт! – горячо воскликнула Настя. Только бы бабка не догадалась, что заветная тетрадка – в шаге от нее, лежит в Настиной сумочке. – Мне коллеги Челышева нужны! Я же говорю вам, что мы его биографию хотим напечатать!
Кажется, получилось убедительно. Бабка воодушевленно сказала:
– Ну, давай тогда расскажу, как мы с ним, с Николаем Арсеньичем Челышевым, детишек лечили…
– Конечно. С удовольствием. – Настя с трудом скрыла разочарование в голосе. Снова раскрыла блокнот.
– К нам в поликлинику Николай Арсеньевич пришел в пятьдесят пятом году. Кирка его пристроил…
Кирка?! Пристроил? Это что, мужчина?
– А кто такая… Кто такой этот Кирка?
– Да завгорздравом наш бывший. Николая Арсеньича приятель. Молодец он!.. Тогда-то от Челышева все шарахались – враг народа. А Кирка – он не такой. Всегда и руку пожмет – не боится, что на улице лишних глаз много, и в гости к ним приходил…
– Вы говорите: был? – выдохнула Настя.
– Да он и сейчас живой, – отмахнулась бабка. – Только не тот уже, не тот…
– А что же с ним сталось? – чуть не вскричала Настя. Кажется, она опять сбилась с тона. И снова не похожа на человека, который всего лишь собирает материалы для биографии.
– Да не все дома у него, – хмыкнула бабка. – Маразм. В нашем возрасте это случается.
Настя не знала симптомов маразма и потому робко спросила:
– Он что, буйный?
– Да нет, не буйный. Просто… странный, – пригвоздила неведомого Кира бабка.
– А в чем странность-то? – не отставала Настя.
– Живет – не как все. И не в свои дела лезет.
– А найти его как-то можно?
– Да можно, можно! На набережную выходи – и найдешь. Он там целыми днями торчит, – отмахнулась старуха. И строго сказала: – Да что у тебя мысли-то все распыляются? Про поликлинику слушать будешь?
«Утомительный народ эти старухи!» – думала Настя.
У «тети Лены Крыловой» она просидела чуть не полдня. Уже и голова разболелась от душной комнаты, и зевота напала, и все труднее становилось изображать заинтересованность – а бабуленция все никак ее не отпускала. История следовала за историей – то эпидемию дизентерии они с Николаем Арсеньевичем предотвратили, то поставили на ноги мальчика с ДЦП… Причем чем дальше, тем больше старуха возвеличивала собственные успехи. А к концу встречи Насте уже казалось, что «врачом от бога» являлась «тетя Лена», а Николай Арсеньевич – так, выступал в скромной роли ее ассистента.
«Жаль, что дед Николай Арсеньич тебя не слышит!» – улыбалась про себя Настя, выслушивая патетическую сентенцию вроде: «Как бывает непросто поставить даже самый элементарный диагноз!» Ей так и виделось умное, насмешливое лицо Николая Арсеньевича, слышалось его ироническое: «Леночка Крылова?.. О да, Леночка у нас диагност известный!..»
Но наконец старуха ее отпустила. На прощание взяла слово, что Крылову Е.Е. обязательно упомянут в списке, где «издательство благодарит». Велела заходить через пару дней: «Может, я еще чего вспомню».
– Конечно, конечно! – заверила ее Настя.
И с облегчением вышла на весенний воздух.
Ух ты, а дело-то уже к вечеру близится – троллейбусы вон все полные, народ с работы возвращается. Вот это она засиделась! И есть очень хочется. А бабка ей даже чаю не предложила. Не говоря уж о каких-нибудь домашних пирожках. Да, зря говорят, что в провинции люди более гостеприимные, чем в Москве!
Настя осмотрелась. Здесь где-то кафе должно быть… Сенька ее сюда все водил… Направо идти или налево?
– Чего встала посреди дороги! – обругала ее какая-то деваха с полными сумками.
И Настя снова подумала: «М-да, скромного обаяния провинции Южнороссийску явно не хватает!» Ей даже спрашивать прохожих, как отыскать кафе, и то расхотелось.
«Сама найду! – храбро решила Настя. – Вон у меня сегодня – все получается! Все я, оказывается, и сама могу! Ни рулевой мне не нужен, ни ветрила!»
А что, не правда, что ли? Про дедовых друзей, о которых говорил Сенька, она узнала. Про конкурента-грека, который может стать поперек дороги, тоже выяснила. А главное, загадочная Кира, он же Кир, – действительно существует!
И она непременно найдет его и убедит старика, чтобы тот ей помог.
«Интересно, сильный ли у него маразм? – гадала Настя. – И что значит: «Он лезет не в свои дела»? И почему бабка так уверена, что я обязательно найду его на набережной?
Ладно, бог с ним пока, с этим дедком со странным именем Кир. Сначала – есть! Перекусывать, перехватывать, а еще лучше – объедаться! Вон и кафе показалось, то самое, где они столько раз были. Так что зря Сенька клевещет – говорит, что «топографический кретинизм у женщин неизлечим».
Кафе со смешным названием «Василинка» являло собой штук десять пластмассовых столиков под сенью матерчатых тентов.
Настя порадовалась: «Надо же, столы на улице! А у нас в Москве народ еще шубы не снял! А тут – до чего же хорошо! Тепло, можно ходить в легкой куртке – да и ту носить нараспашку. Но только южане не понимают своего счастья, в Москву рвутся – как Сенька».
Настя выбрала самый шикарный стол – в уголке, у кустов тамариска. Нетерпеливо открыла меню.
Так, шашлык – годится. И салат из свежих овощей – тоже сойдет. А уж «домашняя выпечка пахлава восточная», да под «кофе натуральный порционный», да с «мороженым разновидовым» – тем более.
