Игра с летальным исходом бесплатное чтение
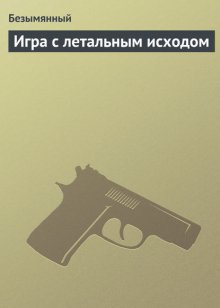
Глава I.
– Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Краснопресненская.
Иван проехал уже три станции по кольцевой линии, напряженно всматриваясь в постоянно меняющихся рядом с ним пассажиров.
Чувство близости опасности, которое не покидало его три дня подряд, обостряло зрение, слух, память, наполняло энергией жизни.
Иван не заметил ни одного взгляда, обращенного в его сторону, ни одного напряженного движения, мысленно продолжив которое, он ощутил бы себя его конечной целью, мишенью, расчерченной концентрическими кругами.
Иван позволил себе слегка расслабиться. Но не до такой степени, чтобы решиться выйти на следующей станции и залечь в своей «берлоге» в высотке на площади Восстания. Он не мог рисковать последним своим убежищем, о котором Крестному не было известно ничего.
Иван втянулся в «тренировку», в «игру», которую устроил ему Крестный, и перестал воспринимать ее как условность. И это было хорошо, потому что она давно уже превратилась в самую настоящую реальность, с настоящими смертями и настоящими убийствами.
Он был целью, «зайцем», «дичью», по следам которой шли загонщики и охотники. Шли уже третьи сутки, во время которых он успел на своей шкуре почувствовать все прелести роли дичи, роли жертвы.
Еще двое суток назад он сам был преследователем, – по самой сути своего занятия, – он был киллером, а стало быть охотником и стрелял своих «зайчиков» с фантастической даже для профессионала меткостью. Но в том-то и заключалась суть идеи Крестного: каждый должен знать все роли, все партии, уметь виртуозно исполнять всю партитуру целиком, чтобы знать ее изнутри.
Иван еще раз осмотрелся. Опасность немного притупилась, и он разрешил себе прикрыть глаза, целиком положившись на слух в отслеживании ситуации.
Мыслей не было. Была пустота. Недавно пережитая им близость со смертью долгим похмельем выходила из пор его тела.
…Иван вспомнил глаза человека, жизнь которого три дня назад он забрал с таким трудом. Глаза, еще секунду назад смотревшие на мир с хозяйской жадностью уверенного в себе человека. Нажимая на курок, Иван хорошо видел его лицо, лицо испуганного человека.
Когда первая пуля из его пистолета пробила грудь человека, еще недавно бывшего премьер-министром России, и на белой рубашке, в которую он вырядился по случаю встречи со своими избирателями, начало расплываться темно-красное пятно, на его лице не было и тени удивления быстротой, с которой завершилось его существование в качестве претендента на должность Президента страны.
Было понимание краткости существования в новом качестве. В качестве человека, идущего к смерти. Человека, увидевшего смерть не краешком глаза, а во весь ее рост, обеими глазами.
Иван закрыл эти глаза, всадив в каждый из них по куску свинца, чтобы лишить их надежды увидеть еще что-нибудь, кроме смерти.
Пожалуй, первая мысль, которая пришла тогда в голову Ивану была о том, что надеяться можно только на смерть. Она безусловна. Она наступает всегда. Просто для одних раньше, для других – позже.
Иван хорошо помнил, что и для него она тогда чуть было не наступила.
Во время его выстрелов, убивших будущего Президента, смерть подошла к нему так близко, что Иван ощутил на своих губах ее сладкий поцелуй. Он помнил глаза полковника, державшего его на мушке своего пистолета, когда Иван расстреливал бывшего премьер-министра. Глаза, обещавшие Ивану мгновенную смерть.
Иван так и не понял, почему этот самый полковник Никитин убил не его, а прострелил голову стоявшего рядом с собой генерала.
– Станция Киевская. Переход на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии.
Иван открыл глаза и встретился взглядом с внимательно смотревшей на него девушкой, сидящей напротив.
Первым его движением было – нажать на курок пистолета, который он держал наизготовку в правом кармане своей куртки – девушка была явным «загонщиком». Кем же еще она могла быть?
Что его удержало от этого движения, Иван не мог бы объяснить самому себе. Возможно, отсутствие ощущения опасности, которое его никогда прежде не подводило, и которому он всегда доверял.
Возможно, и что-то другое, чего Иван вообще понять не мог. Единственное, что он понял – опасности нет, смерть далеко от него.
Девушка сделала едва уловимое движение полными, ярко накрашенными губами, тень чуть заметной улыбки легла на ее лицо, она опустила взгляд, и вновь уткнулась в лежащую на ее пухлых коленях книгу.
– Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Парк культуры.
Поменявшая свой состав людская масса успокоилась, Иван успокоился тоже, ничьего внимания из вновь вошедших он не вызвал. Девушка читала свою книгу.
Иван расслабился и вновь прикрыл глаза.
…Иван вспомнил разговор с Крестным, который был у него тоже три дня назад, после того утра, когда он выполнил последнее его задание.
Они сидели в маленьком тесном зале ресторанчика на Арбате, который принадлежал Крестному, и глухонемой официант, «Гризли», как окрестил его Иван, открывал им уже вторую бутылку с очень длинным, узким горлом и наклейкой из серебристой фольги.
– Объясни своему квазимоде, чтобы он принес еще что-нибудь – ну, водку, там, виски, коньяк… – я не хочу пить этот латиноамериканский самогон.
Иван раздраженно посмотрел на официанта. Но Гризли видел только Крестного, не обращая на Ивана ни малейшего внимания. Все заказы делал Крестный, объясняясь с официантом какими-то, установленными издана и только им двоим понятными, знаками.
– Нет, Ваня. Ты хочешь меня обидеть. После каждого дела я пью этот, как ты его обозвал, самогон. Это привычка, Ваня. Добрая многолетняя привычка. Это традиция, которую я не нарушаю уже четверть века. Когда мне было столько же, сколько тебе сейчас, я каждый день пил этот «самогон» вместо воды, потому что в воде была лихорадка. Тропическая лихорадка.
Крестный вздохнул ностальгически.
– Ты, Ваня, великий человек. Ты себе цену не знаешь. Я – знаю. И еще знаю, что пить мы должны этот противный латиноамериканский самогон, который ты пить не хочешь. Ты должен. Потому что, ты работаешь так же как мы тогда – тридцать-сорок лет назад. Впрочем, нет – ты работаешь лучше. То, что ты сегодня сделал, я бы, например, сделать не смог, и уверен, что этого не смог бы сделать сегодня никто из моих мальчиков.
– Они хорошо мне помогли…
– Пулеметы?.. Так, ведь – исполнительные ребята. Их еще натаскивать, да натаскивать, не один месяц уйдет, пока из них толк выйдет…
Подвыпивший Крестный был в хорошем настроении и возбужденном состоянии.
– А что, Иван? Надо бы тебе отдохнуть.
– Я не устал.
– Я, Ваня, устал. От тебя. Мне бы самому отдохнуть. Но знаю, что тебе на месте не усидится. Начнешь самодеятельность разводить, Никитина искать станешь…
Иван усмехнулся.
– Стану.
– А зачем, Ваня?
– Этого я и сам не знаю. Он меня на мушке держал. И отпустил.
– Ну и что?
Крестный явно недоумевал.
– Хочу понять – почему?
– Но это же невозможно, Ваня! Не поймешь, пока сам не скажет. Не старайся. Лучше – выпей со мной.
Крестный смотрел на него огорченно-ласково, как на капризного упрямого ребенка.
Из моря спиртного, которое было к их услугам, Крестный выбрал гаванский сухой ром.
«Такого дерьма, – подумал Иван, – мне пить еще не приходилось». Но Крестный смаковал это кубинское пойло с явным удовольствием.
– Нет, Ваня. К Никитину ты не суйся. Он опасный человек. Я даже думаю, он сам тебя найдет. Если найдет, конечно…
Крестный вдруг развеселился. Взгляд его стал заговорщицким.
– Нет, нет и нет, Ваня. Никитина ты не трогай. А отдохнуть нам с тобой все же требуется. Это мы заслужили. Ты заслужил.
Он вновь схватился за бутылку, плеснул в низкие широкие стаканы вонючей жидкости, напоминавшей по запаху растворенную в ацетоне резину.
– Давай. За нас! За победителей!
– Мне хватит. Я больше не пью.
– Ваня, я хочу выпить за нас с тобой. С тобой. Выпить. За нас. С тобой. Сколько, в конце концов, можно работать! Можем мы с тобой выпить за нас? Мы можем отдохнуть или мы не можем?
Крестный нес явную чушь. Работать его никто не заставлял. Он всегда сам решал – браться за очередную работу или нет. Ощущение подневольности своей жизни, отголоски которого Иван слышал сейчас в его словах и его тоне, тоже, вероятно, было ностальгическим, этаким психологическим атавизмом брежневско-андроповской эпохи.
Иван, может быть, впервые заметил, что Крестный стар. Пройдет еще несколько лет, и однажды он резко – за полгода-год – постареет так, что станет просто дряхл. Сейчас он еще не старик, тогда он будет уже не стариком, он будет полутрупом. Иван сравнил Крестного с собой и посмотрел на него долгим и не мигающим взглядом, в котором читалось знание будущего.
Впрочем, от зрачков глаз Крестного взгляд Ивана отразился как от зеркала, не проникнув внутрь.
– Что, Ваня, не хочешь отдохнуть? Обманываешь меня. Я же по глазам вижу – о вечном думаешь.
Крестный хмыкнул.
– Туда мы всегда успеем. Ты о земном, Ваня, подумай. Бабенку себе никакую не подобрал? Чтобы отдых полноценным вышел?
Иван сверкнул на него глазами, промолчал.
– Ну, знаю, знаю, что ты всегда один. А я и ничего, я только пошутить хотел. Ты кличку свою слышал? Как менты тебя окрестили?
Иван молчал.
– Не слышал. Ну так, слушай. Ты у них зовешься – «Отмороженный».
Крестный не засмеялся, а именно – захихикал – по-стариковски мелко и противно.
– Вань, а ты, случаем, яйца себе в Чечне не отморозил? Это я опять насчет баб. У тебя там в штанах все в порядке?..
Иван начал раздражаться. Он молчал, но смотрел на Крестного в упор.
Странное дело, обычно всегда выдержанный и тщательно выбирающий слова Крестный разговаривал нагло и вызывающе. Правда, Иван впервые видел Крестного пьяным. Откуда ему было знать, что пить тот совсем не умел – пьянел очень быстро и становился агрессивными и неосторожным, начинал любить риск и авантюры.
И еще – откуда было знать Ивану, что Крестный его ненавидит, если тот и сам толком этого не понимал. Крестный всегда с нетерпением ждал возвращения Ивана с задания, и каждый раз, когда он возвращался, чувствовал вместе с радостью и удовлетворением от того, что Иван жив и дело сделано, какое-то непонятное для себя, отравляющее радость разочарование. Словно что-то, чего он долго и тайно ждет, вновь не произошло.
Однако человек, который осмелился бы ему сказать, что он ждет смерти Ивана, рисковал бы заработать аккуратную дырку во лбу.
Крестный в ответ сказал бы, что он любит Ивана, и был бы абсолютно искренен. Отношение Ивана к смерти Крестный знал, хотя и не понимал никогда.
Сам он смерти не боялся, как он сам себе не раз говорил, но очень хотел бы, чтобы она наступила не раньше, чем жизнь ему надоест.
А жить ему все не надоедало, и не надоедало.
Готовность Ивана к смерти, жажда смерти, делая его в глазах Крестного лучшим киллером, которого он только мог себе представить, одновременно пугала его тем, что он терял рычаги управления этим человеком. Иван уже больше года работал с ним, но Крестный так и не понял, почему тот ему подчиняется. А установить четкую иерархию их отношений ему было необходимо.
Он уже просто сломал голову – как ему поставить Ивана на то место, которое ему отведено самим Крестным и логикой их с Иваном взаимоотношений.
Может быть взгляд Ивана, в котором он прочитал больше, чем ему хотелось бы, может быть непреодолимая независимость его поведения, постоянно возвращали Крестного к мысли о том, что необходимо избавиться от принципа паритетности в их отношениях, четко распределить роли. И он постоянно искал зацепку, чтобы оправдать то, что он давно уже задумал, но все не решался осуществить, боясь непредвиденных последствий, непредвиденных реакций Ивана.
Алкоголь всегда придавал ему решимости в сложных ситуациях выбора, помог и сегодня.
– Ваня, у тебя точно нет с этим никаких проблем? Убеди меня, старика. Трахни кого-нибудь прямо сейчас, вот здесь, а? Хочешь? Пойдем на улицу, выберем женщину. Ты покажешь пальцем на ту, которую захочешь, а я тебе ее приведу сюда. Хочешь?
Иван молчал. Крестного несло все дальше, все ближе к порогу чувствительности Ивана.
– Не хочешь, сынок? Ну трахни тогда вот этого медведя. Эй!
Он сделал жест рукой, подзывая к себе глухонемого официанта.
– Снимай штаны, – сказал он официанту, прекрасно, впрочем, зная, что тот не понимает, что от него хотят. – Сейчас вот этот, – Крестный указал пальцем на Ивана, – будет тебя ебать.
Гризли неподвижно стоял, глядя на Крестного. Иван тоже сидел неподвижно и молча.
– Не хочешь, – с горечью констатировал Крестный. – Эх, Ваня, разве так можно, сынок? Что же ты только этой суке-смерти даешь свой хуй сосать?
Сидевший напротив него Иван все так же молча поднялся, сгреб в горсть порядком поредевшую шевелюру Крестного и приподнял его над стулом. Больше он ничего не сделал. Он просто держал Крестного на весу за волосы и внимательно смотрел тому в глаза.
Гризли напрягся и вопросительно посмотрел на Крестного. Тот отрицательно замотал головой и махнул рукой, ничего. мол, не надо, уйди.
Медведеобразный официант отошел.
– Все, Ваня, поиграли и хватит. Посади меня туда, откуда взял.
Иван разжал кулак.
Крестный мешком грохнулся на стул.
Он, наконец, получил то, к чему стремился – необходимое для принятия решения состояние духа. И даже протрезвел от этого.
Его внутренний механизм был запущен. Еще не начавшаяся ситуация уже приобрела неотвратимость.
– Ладно, хватит болтать, Ваня. Давай поговорим о делах. Нам с тобой предстоит большое дело. Очень большое. Гораздо больше, чем с этим дырявым мешком, которого ты расстрелял сегодня утром. Но и очень сложное. Ты еще не готов. К нему придется готовиться. Основательно готовиться. И серьезно.
Крестный налил себе еще рому, но не выпил, а поставил стакан на стол и продолжал:
– Тебе нужно потренироваться, прежде, чем я доверю тебе это. Тренировка будет жесткой. Но увлекательной, это я тебе обещаю. Мои мальчики, конечно, тебя не стоят, но и они не просты, кое-что умеют.
Он взял свой стакан, одним движением опрокинул его в рот и добавил:
– Все. Поехали. Детали я расскажу тебе на месте. Время у нас будет.
У Ивана не было причин отказываться.
Он не допускал мысли, что Крестный хочет его смерти. Не больше, чем ее хотел сам Иван.
– Поехали, – сказал Иван, – покажешь мне своих мальчиков.
…Вагон метро замедлял ход. Подъезжали к станции. Иван открыл глаза.
Девушка вновь смотрела на него.
– Вы проспите свою станцию, – сказала она.
– Нет, – ответил Иван, – не сумею. Хотя с удовольствием сделал бы это. Не спал двое суток.
В окнах вагона замелькали мраморные колонны. Зашипела пневмосистема открывания дверей.
– Станция Октябрьская. Переход на Калужско-Рижскую линию.
Девушка встала.
– Пойдемте, – сказала она. – Я Вам помогу.
Глава II.
Полковник Никитин второй день работал в новой должности. Должность была генеральская. Должность того самого генерала, которому три дня назад Никитин разнес голову из своего табельного оружия во время убийства кандидата в Президенты России бывшего Председателя Правительства, совсем незадолго до того вынужденного уйти в отставку, Ильи Григорьевича Белоглазова.
Белоглазов был самым богатым человеком в России, на него работали практически все службы и структуры государственной власти, исключая, может быть, лишь президентскую охрану. Белоглазова за глаза называли не иначе, как Хозяином. Да, собственно, он и был одним из немногих настоящих хозяев России. Если бы мнение Никитина было бы кому-нибудь интересно, он непременно сказал бы, что именно такой человек и должен быть Президентом России.
Однако именно Никитин заказал убийство Белоглазова. И своими руками сделал все возможное, чтобы оно могло осуществиться.
Настоящей его целью был Иван, поскольку Никитин был уверен, что именно Иван станет исполнителем заказа. Он однажды уже столкнулся с Иваном в огневом контакте и знал, насколько тот опасный противник.
Идея Никитина была явной, откровенной авантюрой. Подставить Белоглазова, чтобы поймать на крючок Ивана и его хозяина, о котором Никитину ничего не было известно, но фигура которого явно мелькала за спиной Ивана.
Шансы на проигрыш, как и в любой авантюре были большими. Но Никитину удалось убедить генерала Романовского, своего старого боевого товарища, с которым они исколесили половину земного шара, выполняя задания партии и правительства в самых отдаленных от нее географических точках, в реальности своей идеи. Наверное, удалось убедить именно потому, что сам Романовский был неисправимый авантюрист, любил блефовать и, надо признаться, делал это виртуозно – опыт блефа у него был гигантский.
Но Романовский отвечал за безопасность кандидата в Президенты. Поэтому он сразу предупредил Никитина – если покушение на Белоглазова осуществится, следующая пуля попадет в Никитина. И выпущена она будет из его, Романовского, пистолета.
Не успел. Никитин среагировал быстрее. Следующей за головой Белоглазова простреленной оказалась голова Романовского. И сделал это Никитин.
Потому что его авантюрная затея закончилась так, как и положено любой авантюре – провалом. Белоглазов был убит. И убил его Иван. А самому Ивану удалось уйти. Иван переиграл Никитина. И хоть был момент, когда полковник держал его на мушке, он успел сообразить, что пока он стреляет в Ивана, Романовский не задумываясь продырявит ему башку, потому что Белоглазов был все-таки убит. Пока Никитин стрелял в Романовского, Иван успел скрыться.
Впрочем, Никитин не жалел, что так обернулись обстоятельства. Как руководитель секретного спецподразделения «Белая стрела» Никитин был заместителем Романовского и, само собою, расследование обстоятельств смерти генерала поручили именно ему.
Первое, что он сделал, выполняя это поручение – позаботился, чтобы в материалы дела не попали три пули, выпущенные из его пистолета. В суматохе, возникшей после пулеметных очередей, разнесших три окна Петровского пассажа, из одного из которых и стрелял в Белоглазова киллер, никто не сумел заметить, куда стрелял полковник Никитин. В результате с подачи Никитина в материалах белоглазовского дела появилась мифическая фигура второго киллера, застрелившего генерала Романовского.
Никто, разумеется не знал, что сама идея покушения на Белоглазова принадлежит Никитину. Он сумел повернуть дело так, что все это организовал сам Романовский, который и был убран преступниками, чтобы не осталось никаких следов, позволяющих выйти на исполнителей.
Все это ему «удалось» выяснить столь оперативно, что уже через сутки он был назначен на должность, которую до него занимал генерал Романовский. Должность была, естественно, генеральская, и со дня на день Никитин ожидал представления к новому званию.
На него свалились новые заботы. Во-первых, нужно было найти человека, который заменил бы его на посту руководителя «Белой стрелы». Такого, чтобы на него можно было, с одной стороны, положиться в экстремальных ситуациях, но с другой стороны, не слишком умного и честолюбивого, чтобы не подвергать его соблазну стать истинным хозяином «Белой стрелы», направляющим ее «полет» по своей воле и своему личному разумению. Потому что такой хозяин у спецподразделения был и отказываться от этой роли не собирался. Истинным ее хозяином оставался полковник Никитин.
«Генерал Никитин», – усмехнулся он, уже практически чувствуя на своих плечах приятную тяжесть новеньких генеральских погон.
Еще одной заботой Никитина был Иван. Иван уже дважды выиграл у него. Никитин чувствовал себя в «долгу» и рвался расплатиться. Нога, простреленная Иваном при первой их «встрече» до сих пор не давала ему спать спокойно и ходить, не хромая. Перед Никитиным стояла не просто служебная задача, он ощущал личную потребность найти Ивана и отдать «должок».
Искать в Москве человека, который знает, что его ищут – та еще задачка. Но Никитина вдохновляло, что пусть ценою жизни Белоглазова, но ему удалось все же подержать Ивана несколько мгновений на мушке. Удалось раз, удастся и следующий. Не надо отчаиваться. Никитин был оптимистом и умел ждать своего шанса.
Кроме всего прочего, нужно было что-то делать с самой Москвой.
Уровень преступности в столице России стал теперь его головной болью.
Никитин, новатор по натуре, давно уже обдумывал идею создания в столице принципиально нового единого криминально-правового пространства.
Возникла она случайно, после разговора Романовского с руководителем государственной налоговой службы, свидетелем которого оказался Никитин. Разговор шел по телефону, и что там говорил налоговик, Никитин не слышал, но в ответ Романовский разразился отборным матом и заорал:
– Ты, может быть, и нас налоги платить собираешься заставить!?
Фраза запала в голову Никитину, он ее покрутил и так, и эдак, и в конце концов выплыл на такую золотую жилу, что просто ахнул.
И родилась у него идея, которую он творчески развил, обдумал со всех сторон, взвесил на весах осуществимости, и решил, что воплотить ее вполне реально. Вполне. Стоит только захотеть.
Доклад на эту тему у него был практически готов, но он все никак не решался посвятить с свои новации генерала Романовского, который, хотя и отличался склонностью к авантюризму в оперативной работе, во всем, что касалось социально-экономических проблем правоохранительных органов, был большим консерватором.
Смерть Романовского и новое назначение развязали Никитину руки, дали толчек его инициативе.
…Буквально на третий день после своего назначения Никитин созвал неофициальное совещание всех служб, которые всегда раньше проводил Романовский и на которых решались сложные вопросы экономических и дипломатических отношений силовых ведомств с криминальным миром Москвы.
Сидя на месте Романовского во главе длинного стола, обитого зеленым бархатом, Никитин разглядывал входящих в кабинет и занимающих свои традиционные места людей, которыми он теперь руководил.
Паша Большеданов, курировавший всю свою жизнь службы ОБХСС, а теперь отделы по борьбе с экономической преступностью. Карьерист до мозга костей, подхалим и жополиз, но исполнителен до чрезвычайности, дело свое знает, считает не хуже любого калькулятора, память на цифры – феноменальная. Один недостаток – туп до крайности, не способен к самостоятельным решениям.
Иван Иванович… А как же его фамилия? Да хрен его знает. Никитин и имя-то с трудом вспомнил. К нему ж на совещаниях никогда и никто не обращался, он сам всегда вылазил. Короче, зам начальника «Матросской тишины» по общему режиму. Этот просто туп, без всяких достоинств. Но если нужно кого-то опустить, задавить, сломать – пожалуйте к Ивану Ивановичу. Дело свое знает, сломает в два дня, изобретателен до крайности…
Гена Герасимов, аналитик. Этот на своем месте. Способности – от Бога. Как говорится, по кончику хобота способен восстановить всего слона, а по кончику хуя – цвет глаз покойника. А если серьезно – факты для него словно буквы, из которых он складывает слова, объясняющие ситуацию. Никитин его даже побаивался и всегда старался дозировать информацию, которую направлял в аналитический отдел, дабы не искушать Герасимова излишним знанием.
Коробов Серега, которого Никитин поставил руководить «Белой стрелой» – в оперативной работе толков, но не больше, не больше. Звезд с неба не хватает. Руководитель из него – так себе. Вот жена его – та руководитель. Так Серегой руководит, тот иной раз крутится, как уж на сковородке. Потому что сам в этом смысле – бездарь. Это и хорошо, такой Никитину и нужен на этом месте. Тем более, что у Сергея есть свой личный счет к Ивану – Серегин друг Петька, которого Иван зверски убил в тот же вечер, когда ранил Никитина в квартире Лещинского.
Николай Евстафьевич Прилуцкий, гений планирования, виртуоз прогноза. Этот вообще неизвестно как попал в органы. Нисколько Никитину было известно, он всю жизнь проторчал в Госплане, а в мутное время начала девяностых оказался в силовых структурах и сделал головокружительную карьеру. Хотя, конечно, за своими бумажками реальных событий не видел, и понятия не имел, как они иной раз неожиданно цепляются друг за друга.
Все они были страшные консерваторы, новые идеи воспринимали в штыки. Им бы сидеть, не поднимая своих задниц с нагретых кресел, да вот беда, еще и работать надо. А с тем, что Никитин им сейчас изложит, столько возни поначалу будет, что, они просто взвоют. Но это их проблема, Никитин доклад им делать будет не для того, чтобы получить их одобрение и согласие, а только для того, чтобы понимали смысл того, к исполнению чего приступят уже сегодня.
– Ну что, все собрались, соратнички?
Никитин поднялся, обвел всех собравшихся внимательным взглядом.
«Прижухли, – подумал он. – Думают, как со мной жить, как приспособиться к новой метле. Эх вы, козлы государственные, чиновнички…»
– Итак, я собрал вас, господа, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие – нам предстоит большая работа. Хватит греть задницы на теплых креслах. Позволю себе еще одну цитату. Нельзя ждать милости от криминального мира – взять ее самим – вот наша задача.
Никитин чувствовал, как у его подчиненных мозги съехали набекрень.
«Ладно, – решил Никитин, – хватит над вами издеваться.»
– Теперь серьезно. Первое, что предстоит нам с вами сделать – поменять лидеров криминальных группировок, контролирующих Москву. На их место поставить своих людей, проверенных, надежных, а главное – подконтрольных, управляемых. Из тех, кто запуган, кто куплен, кто зависит от нас. В ряде случаев это могут быть наши сотрудники, если их удастся ненавязчиво внедрить и провести на нужную должность в группировке. Если нам это удастся – мы сможем контролировать всю Москву.
«А я стану, фактически, самым крупным московским „авторитетом“, – ухмыльнулся про себя Никитин, весьма довольный такой перспективой.
– Поэтому тебе, Сережа, – продолжил Никитин, – с завтрашнего дня предстоит начать массовый отстрел лидеров группировок.
Лицо у Коробова вытянулось, но он промолчал, дожидаясь продолжения.
Зато вылез, как обычно, Иван Иваныч из «Матросской тишины», и, как всегда, совершенно невпопад, что стало дурацкой традицией этого кабинета.
– Так их, блядей. Давно пора, – прогудел он.
– Помолчите, – поморщился Никитин.
Его предложения по персоналиям, кого – убирать, кого – оставить, особых мнений не вызвали.
Большеданов, правда, пытался возражать против ликвидации филевского лидера – Ноздря. Фамилия авторитета, который «качал права» в Филях, была не Ноздрев, а Ноздырев, поэтому звался он не уничижительным женским именем Ноздря, а странноватым, но несомненно мужским и более твердым – Ноздрь. Коренные москвичи произносили по-московски, с ударением на первом слоге – Ноздарь.
Пашка заявил, что за Ноздрем и его «фильками» – крупный долг: Ноздрь не полностью расплатился за свое недавнее освобождение. За ним еще восемь тысяч долларов. Ситуацию Пашка держит, якобы, под контролем, по его сведениям, деньги сейчас активно собираются. Если сейчас «Белая стрела» уберет Ноздря, деньги пропадут.
Никитин вздохнул и, жестом прервав Большеданова, ответил:
– Не мелочись, Паша. Пятьдесят лимонов не такие деньги, чтобы из-за них откладывать принципиальную, историческую по своему значению перестройку наших отношений. Потому что речь идет о самой схеме финансовых отношений с ОПГ.
Что она представляет из себя сейчас?
Сейчас мы ловим преступников, сажаем их и берем выкуп за освобождение.
То есть, фактически, мы существуем с ними на равных. Закон они нарушают по своему усмотрению, без оглядки на нас. Они оглядываются только на Уголовный Кодекс. И то – только когда их ловят.
Наша работа строится по алгоритму, задаваемому московским криминалитетом: в основе лежит само преступление – расследование следует уже за ним, и определяется составом самого преступления. Мы же при всем при этом отвечаем и за уровень преступности в Москве. Я лично отвечаю. Не только перед своим начальством и в глазах населения, но и по существу.
А воздействовать на этот уровень, при сложившейся системе взаимоотношений с криминальным миром, мы, фактически не можем.
Уровень наших с ними взаимоотношений – дворовый: кто кому «морду набьет», тот и права качать будет.
На мой взгляд – это просто варварство.
Отношения физиологической соревновательности остались в первобытном прошлом цивилизации.
Сегодняшний мир развивается на идеях конвергенции и единого социального пространства. И только мы, силовые структуры, строим отношения с теневыми силовиками по давно похороненному в цивилизованном мире принципу – «у кого дубина больше».
Формально – мы развиваемся вместе со всем остальным миром – у нас появились новые методы расследования, электронная аппаратура, новейшее оружие, технические средства, на нас работает наука. Однако на деле все это означает лишь одно – мы выстругали себе новую большую дубину, показываем ее сопернику и пытаемся его этой дубиной запугать – смотри мол, мы – сильнее.
Это – варварство, даже более того – это дикость, борьба первобытных племен. Ведь в ответ противник примется строгать себе еще большую дубину, чтобы запугать нас.
Слепому видно, что логика этого процесса уводит в дурную бесконечность.
Мы забываем, а может быть и вовсе не знаем о том, что передовые позиции в развитии современной науки принадлежат сейчас социологии, психологии и логистике.
К сожалению, познания в социологии большинства наших сотрудников руководящего звена не распространяются дальше шестого пункта личного дела. А самые крупные наши «знатоки» психологии считают ее вершинным достижением теорию Ломброзо, и такой, ивините, букварь, как адаптированные для массового сознания коммерческие книжонки Дейла Карнегги, столь популярные у нас.
– Вы, еб вашу родину-мать, взрастившую вас такими идиотами, – рассвирипел Никитин, – может быть ждете, когда появится такое же сраное пособие: «Как поймать преступника»? И будете по нему составлять планы оперативных расследований? А вам останется только лизать жопу своему начальнику и пизду его жене?
Тут Никитин сообразил, что начальник-то – он сам, жены у него никакой нет и никогда не было. Это его рассмешило и успокоило. Ради красного словца, как говорится… Да, занесло…
– Впрочем, я отвлекся…
Спроси я у любого из своих подчиненных, что такое логистика, с условием, – если не ответит – уволю – я завтра же останусь вообще один. Короче – уровень нашего с вами развития чрезвычайно низок, может быть, поэтому мы ничего кроме размахивания дубиной не смогли придумать в наших отношениях с криминальным миром.
Да и наши финансовые отношения с этим миром – далеки от совершенства. Сказать точнее просто неудовлетворительны в ряде случаев.
Это отношения дух субъектов, встретившихся на «большой дороге» и рвущих из рук друг у друга кошелек третьего.
И здесь все упирается в тот же самый сакраментальный вопрос: кто сильнее? И здесь тот же самый социальный «бобидиллинг» – подростковая инфантильная забава накаченных идиотов.
Никитин сделал паузу, обвел взглядом лица своих подчиненных.
Серега Коробов был явно озадачен открывающейся перспективой. Его заботила свалившееся буквально в первый же день на его плечи ответственное задание. В операциях по ликвидации он участвовал не раз, даже руководил некоторыми, но сам еще ни разу не разрабатывал и не проводил. А тут сразу такой объем работы.
Прилуцкий сидел раскрыв рот. Видно Госплану структурные перестройки такого масштаба и содержания были в диковинку. «А что же я должен буду планировать-то?» – написано было на его лице.
Генка Герасимов смотрел на Никитина во все глаза и впитывал каждое слово. Кажется он уже догадался, куда клонит Никитин. И не только догадался, но и сумел оценить перспективы.
Большеданов хлопал глазами и, как видно, ничего пока не понимал. Пашке всегда приходилось разжевывать суть любой идеи. Но уж если схватит – мертво. Судя по вытаращенным глазам и нервно барабанящим по столу пальцам – пока, значит еще не схватил.
Иван Иваныч сидел с такой неизменно непроницаемой тупостью в лице, что вроде бы и непонятно было – дошло до него что-нибудь или нет. Впрочем, непонятно только для тех, кто его не знал. Никитин ясно читал на его лице мысль, бывшую единственным его достоянием: «Все, что вы говорите – херня это интеллигентская. Давайте все их к нам в „Матросскую“ – опустим в два счета!»
– Надеюсь, я достаточно наглядно изложил вам сложившуюся ситуацию, – продолжил Никитин, – чтобы вы прониклись необходимостью принятия следующего предложения. Оно заключается в принципиальной модернизации наших отношений с криминальным миром.
Мы, фактически, даем новое содержание социальным функциям, заново распределяем социальные роли.
Ответственность за уровень преступности мы возлагаем на сам криминальный мир, одновременно связав ее с нашими экономическими с ним отношениями.
Я предлагаю ударить по преступности экономически – долларом.
Каждому виду преступлений, совершаемых сейчас в Москве, должен соответствовать своеобразный налог, с помощью которого мы будем иметь возможность регулировать число преступлений этого вида.
Это даст нам возможность влиять, кроме всего прочего, на структуру преступности.
Верхушки криминального мира, – причем я думаю, целесообразно будет проследить за сохранением их районной автономности, – будут сами, исходя из своих финансовых возможностей, определять, сколько и какого рода преступлений должно и может совершиться на их территории в предстоящем отчетном периоде. Потому что, за каждое преступление, повторяю, – за каждое – они должны будут с нами расплатиться по специально разработанному дифференцированному тарифу.
Такой принцип отношений дает нам сразу несколько преимуществ.
Во-первых, – социально-качественное наполнение конкретной преступности.
Высокий уровень предлагаемого мною налогообложения приведет к тому, что резко снизится число случайных и материально немотивированных преступлений, например, изнасилований. Совершаться будут прежде всего так называемые рентабельные преступления, прибыль от которых будет превышать затраты на них и налог, который мы введем. Я предвижу увеличение числа ограблений, разбойных нападений, случаев мошенничества, воровства.
Зато, с другой стороны – сокращение, как я уже говорил, изнасилований, убийств, хулиганства, и других преступных действий, не приносящих дохода.
Кроме того, конкретной величиной налога мы можем влиять и на социальную дифференциацию рентабельных материально мотивированных преступлений.
Ведь придется десять раз подумать, прежде чем выбирать объект, например, ограбления. Стоит ли грабить человека, доход которого не превышает пятисот долларов в месяц, если эти пятьсот долларов взимать в качестве налога за каждое ограбление.
Я, конечно, цифры сейчас называю, как говориться, от фонаря, здесь многое еще предстоит продумать нашим экономистам, но суть не в этом.
Представьте, какие возможности это открывает для нас. Мы фактически ликвидируем преступность в социальном пространстве с низким уровнем доходов. Нападать на небогатых людей станет невыгодно.
Мы сможет гарантировать безопасность московским жителям, имеющим доход в те же самые, к примеру, пятьсот долларов. Они станут просто не интересны экономически для преступников.
Мало того, когда лидеры районных ОПГ поймут наши новые условия, они будут вынуждены сами следить за уровнем не только организованной преступности, но и случайной, иногородней, поскольку платить за все, что происходит в районе будут в любом случае они.
Даже за бытовую преступность. Пусть следят, в конце концов, и за нравами москвичей, раз уж мы предоставляем им экономическую самостоятельность.
Я надеюсь, вы понимаете, что все преступления, совершенные не их людьми, им придется расследовать самим, самим ловить тех, кто их совершил и отдавать в наши руки. Поскольку мы поставим условие: или плати, или предоставь преступника с полными, достаточными для суда, доказательствами его преступления.
Вы увидите, что суть нашей с вами работы изменится вскоре кардинально.
В глазах населения мы будем продолжать отвечать за уровень безопасности жизни в Москве, как отвечаем за это и сейчас.
На деле же мы будем его только регулировать. Путем воздействия на тех, кто будет отвечать за него реально – на лидеров ОПГ.
Наказание за нарушение введенных нами правил должно быть очень суровое. И прежде всего наказывать мы должны лидеров, а уж со своими делами внутри района пусть они разбираются сами.
Поэтому очень большая задача ложится на «Белую стрелу» – и по причине предстоящей массовой ротации лидеров ОПГ, и потому, что опыт ее деятельности наиболее соответствует задачам обеспечения наших стационарных отношений с организованными преступными группировками..
– В заключение добавлю следующее, – продолжал Никитин. – От нас не требуется соглашаться или не соглашаться с только что изложенным мною проектом. От нас требуется только внедрять его в жизнь, в нашу работу.
Проект рассмотрен на всех уровнях и в целом одобрен. Перед нами поставлена задача разработать конкретные условия его реализации и внедрить в кратчайшие сроки. Это будет называться «Московская версия».
Поэтому: аналитическому отделу, Герасимов, – представить конкретные разработки по ротации в каждом районе Москвы.
Экономическому, Большеданов, – просчитать уровни рентабельности по различным видам преступлений и социальным слоям.
Плановому, Прилуцкий, – разработать предложения по уровню преступности в Москве на следующий квартал. И не из пальца высосать – реальные предложения.
Коробову – составить и отработать планы воздействия на лидеров ОПГ по трем вариантам – мягкий, жесткий и замена, то есть – ликвидация.
Все. До завтра все свободны.
Глава III.
Иван решил пойти с девушкой, заговорившей с ним в метро. Почему? Объяснять было бы слишком сложно. Да и не хотелось. Просто он знал, что можно. Что от нее опасность не исходит.
Поэтому он шел за ней в толпе спешащих к выходу пассажиров, стараясь не потерять ее из вида, но и не забывая постоянно контролировать ситуацию вокруг себя, уровень своей безопасности.
За годы тренировок и постоянной практики у Ивана выработалось развитое периферическое зрение. Держа в фокусе один объект, он регистрировал движения, происходящие во всем доступном его глазам секторе.
Еще в лагере спецподготовки их учили читать с помощью бокового зрения, не глядя прямо в текст. Дело в том, что обычно человек видит четко только объекты, расположенные в непосредственной близости от того, на котором сфокусирован его взгляд. Например, глядя на клавиатуру компьютера, люди видят лишь по две-три буквы вправо и влево от той, на которую смотрят.
Иван видел всю клавиатуру сразу. Его научили быстрому чтению – он, например, не водил по строчкам глазами, а просто скользил взглядом сверху вниз по центру страницы. Текст при этом воспринимался идентично, ничуть не хуже, чем при обычном чтении, зато скорость увеличивалась и пять-десять раз. Кроме всего прочего, быстрое чтение развивало бессознательную оперативную память и скорость реакции. Отрабатывали они в лагере и стрельбу по мишени, видимой лишь боковым зрением. Иван всегда в этом упражнении набирал не меньше восьмидесяти. И теперь, находясь в толпе, автоматически отмечал возможные цели.
А целью становился любой человек, взгляд которого задерживался на Иване дольше, чем на одну секунду – тут же срабатывала психологическая установка, заданная Иваном самому себе.
Вот и сейчас, Иван машинально сунул руку в карман и нащупал рукоятку пистолета. Потому что он отметил боковым зрением, что высокий чернокожий парень, ехавший на соседнем эскалаторе, тоже шедшем вверх, внимательно и дольше, чем нужно, смотрел на него.
Если бы это было действительно так, Иван всадил бы ему пулю в голому, а сам бросился бы вверх по эскалатору, расшвыривая стоящих впереди него людей.
Впрочем, нет – ложная тревога.
Посмотрев уже откровенно на негра, Иван понял, что смотрел тот не него, а на стоявшую на ступеньку выше Ивана девушку.
Иван отпустил рукоятку пистолета и вытащил руку из кармана.
Спровоцированный взглядом негра, Иван тоже обратил, наконец, свое внимание на девушку, стоящую перед ним на эскалаторе.
Фигура ее была чуть полновата, но тем более привлекательна для мужского взгляда. Округлые плечи делали ее подчеркнуто женственной. Резко обозначенная линия талии переходила в ярко выраженные бедра, крутизна и упругость которых обещали немало наслаждения тому, кто преодолеет их демонстративную двойственность. В обтянутых короткой юбкой ягодицах не было и намека на девственность, напротив, сочетание их упругости и подвижности рождало ощущение откровенной сексуальности, отнюдь, впрочем, не вульгарной. Просто это было тело женщины, которое знало и любило прикосновение мужских рук, мужскую ласку.
Иван вдруг сообразил, что за все время, как они вышли из вагона, девушка ни разу не оглянулась назад, на него. Словно чувствовала, что откровенное, повышенное внимание к нему сейчас только раздражает и тревожит его. Это ему понравилось.
Иван положил руку на ее бедро.
Девушка спокойно обернулась и посмотрела на него с улыбкой.
– А я думала, что вы заснули на ходу. Подождите, не засыпайте. Я живу недалеко отсюда, в двух минутах ходьбы. Там вы сможете спать лежа…
– Почему ты меня не боишься? – спросил Иван.
В глазах у нее отразилось недоумение.
– Разве так страшно смотреть на мужчин?
– Разве нет?
Иван спрашивал вполне серьезно, без тени игры. Ему действительно было не понятно, как могут женщины не испытывать страха, глядя ему в глаза.
Иван вдруг поймал себя на том, что после Чечни он ни разу не видел в зеркале свои глаза. Даже когда брился, ни разу не встречался взглядом со своим отражением в зеркале. Это получалось само собой, бессознательно. Иван боялся не увидеть в своих глазах ничего, кроме смерти, пропитавшей каждую жилку, каждую каплю его крови, каждую частицу его психики.
Он боялся своего взгляда, несущего смерть, и неосознанно избегал его. Это был способ избежать мыслей о смерти от своей собственной руки.
Любой человек, посмотревший Ивану в глаза, хватался за пистолет, потому что видел в них свою смерть. Пусть не мгновенную, ту, что наступит еще только когда-нибудь, в отдаленном будущем, но страшную в своей неизбежности. И стремился закрыть эти глаза. Чаще всего – пулей, если имел такую возможность.
Исключение составлял только Крестный, знавший об Иване гораздо больше других, чувствовавший таящуюся в Иване смерть в любой момент, даже когда Иван не смотрел на него, поворачивался к нему затылком. Чувствовавший и пользовавшийся ею в своих интересах. Но даже Крестный, вспомнил Иван, не любил встречаться с ним взглядом.
Когда же на Ивана смотрели женщины, он старательно гасил свой взгляд, боясь, что через глаза они проникнут в него гораздо глубже, чем он того хотел бы, глубже, чем он позволил бы.
Эскалатор вынес их наверх, и людское течение вскоре вытолкнуло на улицу Димитрова.
В глазах замелькал поток машин. Ревущие, гудящие и шипящие на все лады, они оглушили Ивана, забрали на себя все его внимание.
Девушка, шедшая рядом с ним, вновь перестала существовать. Словно ее и не было только что рядом. Иван опять полностью был в»игре», в «охоте, вновь превратился просто в „дичь“.
Накопившаяся за двое суток напряженного бодрствования усталость делала дальнейший адекватный контроль за ситуацией все более проблематичным. Иван чувствовал, как иногда сознание словно заволакивается каким-то тягостным туманом. При этом абстрактная множественность начинала заменять собой конкретную направленность в восприятии окружающей обстановки.
Скорость его ответной реакции на глазах замедлялась, стремясь к нулю. Сознание делалось вязким, каждую мысль приходилось из него выдергивать, словно сапоги из густой грязи дорог чеченских равнин, а они скользили и непредсказуемо разъезжались.
Ивану нужно было немного отдохнуть, поспать, хотя бы часа два-три, чтобы полностью восстановить прежнюю работоспособность.
Почти за руку девушка перевела Ивана на другую сторону Крымского вала, и они тут же свернули вглубь остроугольного квартала, образованного Крымским валом и улицей Димитрова. В немноголюдных московских дворах Иван почувствовал себя намного лучше. Он вновь владел ситуацией. Но отдых был, конечно, необходим.
– Мой дом, – сказала девушка, когда они остановились у одного из подъездов шестнадцатиэтажного дома. Она стояла в некоторой нерешительности. Теперь уже Иван взял ее за руку и ввел в подъезд.
Когда она открыла дверь квартиры на третьем этаже, Иван, еще не переступив порог, услышал дребезжащий старческий голос.
– Наденька, ты не одна? Где же ты ходишь? Ты опять меня бросила одну и пошла искать мужиков… Ты сучка, Надя. Неужели так между ног чешется, что мать родную забываешь? Сделай мне укол, сучка… Меня крутит всю. Болит все внутри… Сделай укол…
Девушка взглянула на Ивана – извини, мол. сделала жест рукой – проходи, вон в ту комнату, прямо. Сама прошла на кухню, забренчала какими-то склянками, зажгла газовую плиту, налила во что-то воды.
Иван приоткрыл дверь комнаты, откуда доносился голос. В ноздри ему ударил густой запах преющего старческого тела, лекарств, экскрементов, хлорки. Через все это пробивался ясно ощутимый запах гниющего мяса. Сквозь дверь он увидел лежащую на постели старуху с уставленным в потолок взглядом. Стул рядом с кроватью был заставлен пузырьками лекарств, чашками с водой, бутылками с минеральной, тарелками с засохшими остатками пищи.
– Что смотришь? – все также глядя в потолок, прошипела старуха. – Надьку пришел ебать? Деньги вперед заплати. Знаю я вас, кобелей, знаю. Все норовите бесплатно, по любви, на холяву…
Старуха Ивана не интересовала. В ее комнате пахло смертью, но не будущей, а уже наступившей. Пахло разрытой могилой на кладбище, труп в которой еще не до конца разложился.
Иван прошел в коридор, нашел в какой-то сумочке ключи, запер дверь и положил ключи себе в карман. В комнате, показанной ему девушкой, которую старуха называла Надей, стояла огромная кровать, настолько широкая, что занимала почти всю площадь квадратной комнаты. Иван лег, не успев подумать, что хорошо бы раздеться.
Иван чувствовал себя в полной безопасности. Надя не вызывала у него никаких опасений. Зачем она привела его к себе, он не сумел бы ответить, но опасность с ее стороны Ивану не грозила, это он хорошо чувствовал. Он понял, что можно, наконец, окончательно расслабиться. И в ту же секунду заснул.
…Надя устало вздохнула. Бессвязное бормотанье полусумасшедшей матери надоело ей до чертиков. Все эти обвинения в том, что она забывает про нее, что думает только о себе, только о мужиках, были несправедливы. Она никогда не забывала о матери. И никогда не смогла бы забыть, даже, если бы захотела. Это была ее боль, ее страдание, ее крест. Даже в постели с мужчиной Надя не могла полностью расслабиться и забыть о больной, сходящей с ума, гниющей заживо матери. Мать, старая и знаменитая в свое время московская проститутка, всегда была третьей в постели своей дочери. Это, по сути, был для Нади групповой секс.
Тем более, что именно мать когда-то научила ее всему, что Надя умела сейчас в постели. Надюха была глупой маленькой московской школьницей, когда мать принялась передавать ей свой богатый профессиональный опыт. Не настолько, конечно, глупой, чтобы в двенадцать лет не представлять сам принцип сексуального общения между мужчиной и женщиной, и не настолько маленькой, чтобы не иметь хотя бы минимального сексуального опыта. Но профессиональные секреты тридцатипятилетней московской гетеры с двадцатилетним стажем были для нее откровением.
Пьяная мать, возвращаясь иногда под утро, вытаскивала дочь из постели и принималась жаловаться ей не столько на свою судьбу, сколько на время, разрушающее ее красоту, здоровье и, главное, привлекательность для мужчин ее столь популярного тела.
Наде было жалко мать, она принималась ее успокаивать, гладить по голове, как маленького ребенка, целовать, говорила, что мама у нее – по-прежнему самая красивая женщина в мире.
Мать рыдала, уткнувшись в ее полненькие девчоночьи коленки.
Наде приходилось раздевать ее, вести в душ и помогать ей мыться. Чаще всего мать бывала настолько пьяна, что сама не способна была уже ни на что, а только помогала дочери мыть свое тело.
Тело, его доскональное знание, совершенное владение им, было, собственно, единственным ее жизненным достоянием. Все остальное – деньги. И квартира, и мебель, и дача, и все остальное, купленное за деньги, было уже вторично и заработано тем же самым телом.
Эксплуатируя его пятнадцать лет, мать прекрасно понимала его значение в своей жизни, да и вообще – значение тела в жизни женщины.
Привычная для нее жизнь была на исходе, она знала это и сильно от этого страдала. До тридцати ей удавалось не только держать себя в прекрасной форме, но даже улучшать эту форму из года в год, совершенствовать свой имидж, повышать социальный статус своих клиентов.
Но предел был достигнут.
Дальше была дорога только вниз. Сначала в уровне клиентов.
Что ей предстояло?
Путь от директоров крупных предприятий, партийных секретарей и директоров лучших московских магазинов до лоточников и инженеров, месяцами не получающих зарплату? А закончилось бы это московскими синяками и алкоголиками, норовящими трахнуть тебя за полстакана дешевого портвейна, а то и просто за спасибо, за пустую бутылку?
Потом – во всем остальном. В уровне жизни, уровне самоощущения.
Ей удалось купить в Москве роскошную квартиру, обставить свою жизнь всевозможными удобствами вроде прекрасной мебели, чудесной бытовой техники, вкусной еды и красивой одежды, но не больше.
Скопить капитала, о чем она мечтала ежедневно последние лет пять-семь, не удалось.
Виною были наркотики, к которым она привыкала все больше и больше. С каждым годом ей все труднее удавалось держаться, чтобы не сползти в полную наркотическую зависимость, чего она очень боялась. Приходилось больше пить, алкоголь хоть на время помогал забывать о приближающейся старости и не метаться в поисках дозы, желая уйти от страха перед старостью и смертью..
Короче, проблем у нее тогда было не меньше, чем клиентов памятным летом восьмидесятого, во время московской Олимпиады.
Это было золотое время, в буквальном смысле этого слова. Московские менты выловили и вывезли из Москвы за сто первый километр большинство активно действующих проституток, но тем самым создали лишь дополнительные проблемы страждущим мужикам-спортсменам со всего мира.
А кроме того – идеальные условия работы для тех, кто ускользнул из их сети.
Надиной матери повезло – она только что вернулась в Москву из Швейцарии, где полгода лечила маленькую Надюху от малокровия, в Москве ее из-за долгого отсутствия подзабыли и она ускользнула от внимания московской полиции нравов, проводившей накануне Олимпиады санитарно-профилактическую чистку.
Из-за искусственно созданного властями дефицита, цены на женские тела взлетели фантастически. В бой за доллары ринулась целая армия дебютанток, большинство из которых по профессиональному уровню не стоили и тогдашнего советского рубля.
Она пользовалась бешеной популярностью, поскольку продавала за деньги не тело, а общение с женщиной. С настоящей женщиной.
А не с женщиной-матерью, хотя ей часто встречались мужчины, стремившиеся купить у проститутки то, чем были обделены в детстве – материнское тепло.
Она умела обращаться с ними, и часто, прижимая к своим прекрасным грудям искаженное неосознанным страданием лицо такого, только что пережившего оргазм, «сиротки» и ласково гладя его по начинающей лысеть голове, она с горечью думала о том, что, сколько бы он не заплатил ей, она в любом случае продешевила. Ведь воткнув свой по-детски рассопливившийся нос между ее грудей, он воспринимает их не как символ женственности, а как конкретную теплую мамкину сиську, уткнувшись в которую можно забыть о страшном мире, который его окружает.
Одно понимание этого оскорбляло ее.
Настоящих мужчин, которые не часто, но встречались среди ее клиентов, ее груди интересовали мало, не больше, чем все остальное.
Они стремились прежде всего подчинить ее психологически, не запугать, а полностью довериться им, отдать себя в их распоряжение. А затем становились агрессивными и жесткими, делая с ее телом все, что хотели, а хотели они всегда очень многое.
И тогда она не только подчинялась им, она испытывала наслаждение от этого подчинения, она чувствовала себя женщиной в руках мужчины. Только с ними ей удавалось пережить оргазм.
Мужчина – это был настоящий праздник секса, праздник жизни.
Жестко взяв ее и излив в нее свою агрессию, мужчина всегда становился внимательным и ласковым, и она всегда просто млела, когда отдыхающий мужчина поглаживал ее груди, с вызывающей у нее сладострастную дрожь грубоватой нежностью касался ее сосков, тут же набухающих новым желанием, жесткими ладонями ласково гладил ее расслабленный живот, ягодицы, внутреннюю сторону бедер, заставляя ее вновь судорожно изгибаться и с нетерпением ждать, когда его рука ляжет ей на влагалище.
И рука, словно читая ее желания, чуть помедлив на лобке и разгладив взъерошенные волосы, ложилась именно туда, куда ей хотелось, и от этого вновь возникало восхитительное чувство зависимости от мужской воли, от мужчины, который видит насквозь ее желания. Она раскрывалась навстречу этой мужской воле и сладко замирала, когда благодарно и осторожно его палец проникал туда, где только что властвовал заполнявший ее всю его стремительный член, вызывая у нее ни с чем не сравнимое ощущение мучительно-сладкого психо-физиологического счастья.
Она вновь и вновь стремилась к этому чувству, зная, что просто умрет, если не испытает его сейчас же, здесь же, еще и еще.
И она принималась с упоительным самозабвением ласкать его собирающийся с новыми силами член, целуя его словно святой символ своей веры, и чувствуя, как от прикосновений ее губ и языка он выпрямляется, становится упругим и вновь готовым вонзиться в нее, даря первобытную радость неосознаваемого, животного бытия.
Сама ее поза в этот момент провоцировала ее желания, и она молила бога, чтобы в комнате оказался еще один мужчина, который мог бы подойти к ней сзади, потому что она уже не могла не ласкать губами этот обретший символическое значение идол-фаллос и не могла сдерживать свое стремление к новому оргазму. И когда второй мужчина действительно оказывался рядом, а такие заказы встречались в ее практике (и 1х2, и 2х2), он просто не мог не отозваться на зов ее волнующегося зада, извивающейся гибкой спины, страстно вздрагивающих бедер.
И она получала восхитительное чувство живого куска женского мяса, насквозь пронзенного упругим мужским металлом, и сгоравшего в жгучих струях эротического костра и уносимого в бездонное небо его рвущимися ввысь языками сексуального пламени. И когда она захлебывалась поступающей в нее с двух сторон мужской жидкостью, она просто умирала в этой кульминации жизни, забывая себя, своих клиентов, теряя сознание.
Когда она вновь приходила в себя, то смотрела вокруг ясным младенчески чистым взглядом, в котором читалось искреннее недоумение первого узнавания окружающего мира, тоже только что пережившего свое новое рождение, появления на свет заново.
Тот же, кто искал в женщине прежде всего мать, жестоко обделившую его в детстве, после пережитой им слабости становился не только грубым и агрессивным, но даже жестоким, словно мстя женщине и за то, что в образе его матери она когда то обидела его, и за то, что уже в своем образе, она была свидетельницей его слабости, его унижения перед нею же и перед самим собой.
Эти всегда с удовольствием применяли физическую силу, награждали ее синяками и ссадинами, за что им приходилось в конце концов расплачиваться. Либо долларами, либо по-другому.
Один придурок с таким азартом и самозабвением принялся давать ей пощечины, что после третьей она подумала, что голова у нее сейчас отлетит, а после пятой схватила первое, что попалось под руку, и остановила его руку встречным ударом. Это оказалась маникюрная пилка, которой она пробила ему ладонь насквозь. Он сразу испугался и упрашивал ее больше его не бить, попросил перевязать ему рану. Ей тогда стало еще противнее от сознания того, что она вновь влезла в роль его матери.
Она выгнала его прямо как есть, без трусов, на лестничную площадку и вышвырнула вслед за ним его одежду, шляпу, ботинки, набитый бумагами и, наверное, деньгами, дипломат и даже зонтик.
Правда, она тут же остыла и, секунду подумав, порылась в аптечке и поставила на кафельную плитку лестничного пола перед дрожащим голым мужиком флакон йода, положила пачку стерильного бинта и новую упаковку ваты.
Но к себе его больше не пустила.
Не будет она мужикам матерью. Сдохнет, а не будет. Пусть ищут в другом месте. Таких баб навалом. Многие только рады будут.
Олимпиада-80 в Москве была вдвойне праздником. Не только для спортсменов, но и для оставшихся в Москве проституток.
Во-первых, ей всего за месяц удалось заработать такие деньги, о которых она просто и мечтать не могла. При огромной цене именно на нее, каждый день у нее был расписан на неделю вперед. За день приходилось принимать до двадцати человек, уделяя каждому не больше часа и хоть немного времени отводя на сон, чтобы чуть-чуть отдохнуть и не потерять форму и товарный вид.
Она столько работала, что после Олимпиады, стоило только мысленно представить мужской член, как на нее накатывала волна какой-то дурноты, словно на пятом месяце беременности, а низ живота наливался свинцом, и каждое движение бедрами отзывалось в нем острой болью усталости, физиологического пресыщения.
Но зато после Олимпиады она купила, наконец, в Москве приличную квартиру.
И еще. Во-вторых.
Среди спортсменов оказалось просто-таки аномально много настоящих мужчин. Иногда ей просто трудно было расстаться с таким вот подарком судьбы, скажем, из Африки или Китая, и она хоть немного, но затягивала отведенное ему время в постели, несмотря на то, что порой в соседней комнате уже дожидался следующий клиент, судорожно двигающий бедрами от нетерпения.
Между клиентами ей даже помыться не всегда удавалось. К концу смены, под утро, в ней собирался такой коктейль мужской спермы, что она, мрачно шутя, сравнивала себя со всемирным хранилищем генетических кодов всех рас и народностей.
Еще и тогда, через восемь лет после Олимпиады, она не могла отделаться от воспоминаний о ней, настолько реальных и жгучих, что, казалось, все это было только вчера. Но после Олимпиады прошло пять долгих лет, последние из которых были наполнены алкоголем, наркотиками и ощущением близости пропасти.
Сидя в ванной и подчиняясь мягким детским рукам дочери и струе душевого шланга, она рассказывала ей и себе все, что было в ее голове, вываливала все свое знание мужчин, женщин, их отношений на голову своей двенадцатилетней дочери. Она рассказывала ей о своем теле, о том как оно отзывается на мужскую ласку, что она чувствует в этот момент, пыталась передать словами состояние оргазма, грубо и зримо объясняла последовательность полового акта со всеми физиологическими подробностями.
Даже позже, вспоминая об этом, она не могла осуждать себя за то, что сообщала так много двенадцатилетней девчонке.
Эти знания тайн своей профессии были единственной ценностью, кроме денег, которую она могла передать дочери. Это была ее суть и она не хотела исчезнуть бесследно вместе с исчезновением своего тела. Да и о чем, собственно, говорить, когда этот двенадцатилетний ребенок своими руками регулярно вымывал из нее, насмерть пьяной, мужскую сперму. Что уж тут ханжество разводить.
После душа Надя вела мать в постель, укладывала и ложилась с ней, гладила ее тело, шептала ласковые слова, чтобы той было не страшно.
Стоило матери закрыть глаза, как комната начинала плыть и переворачиваться, вызывая тошноту и позывы к рвоте, лежать с открытыми глазами было легче, и она, прижав Надьку к себе, рассказывала и рассказывала ей все, что было для нее важно и интересно.
И не только рассказывала.
Объясняя, например, дочери, как мужчины воспринимают женскую грудь, она показывала на себе, как разные типы мужчин по-разному держат женскую грудь, заставляла Надьку трогать ее и свои груди, чтобы та лучше поняла. Рассказывая, что такое оргазм, она научила ее мастурбировать, и сама часто помогала ей кончить. Сама она без мужчины кончать не умела, а Надю приучила испытывать клиторный оргазм от своих и ее рук.
Для Нади приходы пьяной матери поначалу были мучением, связанным со слезами, рыданиями и истериками. Но потом это стало привычным, как все привычное, превратилось в норму и как любая норма, перестало вызывать какие-либо эмоции. Это просто стало жизнью.
Когда один из постоянных клиентов матери, привезя как-то ее пьяную домой, и сдав на руки Надьке, сам тоже порядком пьяный, задержался, отпаиваясь кофе, заведенная в постели матерью Надька, уложила ее, наконец, и, решив на практике опробовать полученные от матери знания, без особого труда очаровала маминого клиента бездной обнаружившейся в ней сексуальности, несмотря на ее девственность, с которой она тут же и рассталась.
Так тринадцатилетняя Надька заработала свой первый червонец. С матерью она, конечно же, поделилась своим первым успехом, та хоть немного и поплакала, с похмелья, но все же кое-что подсказала для следующего раза.
Однако путь матери Надя не повторила. У нее не было столь жесткой зависимости от денег, не было такого страха перед жизнью.
Утолив первый подростковый сексуальный голод, она быстро заскучала, не сделав для себя ни одного чувственного открытия, а лишь убеждаясь в правоте того, что знала уже от матери.
Она оказалась намного прагматичнее матери, сразу начав копить свои первые заработки, словно зная от рождения то, что мать ее только-только поняла – текучесть денег и нестабильность жизни. На одежду, еду, развлечения мать зарабатывала и даже очень неплохо, Наде иногда даже удавалась прихватить у нее из сумочки сотню-другую долларов, все равно пропьет или потеряет…
К тому времени, когда мать окончательно села на наркотики, у Нади скопилась приличная сумма, позволившая ей купить квартиру.
Не в центре, конечно, но и Химки ее вполне устраивали. Ей даже нравилось, что вокруг нет постоянно жужжащего и спешащего во всех направлениях сразу людского муравейника центральных районов Москвы.
Пока мать еще барахталась, Надя ее и своими усилиями собрала, сколько могла, и через одного из своих клиентов купила контрольный пакет одной небольшой коммерческой фирмы, работающей в сфере обслуживания.
Фирма что-то ремонтировала, Надя даже толком не знала – что. То ли видеотехнику, то ли компьютеры. Да ее это и не интересовало. Главное, рынок в этой отрасли сферы обслуживания не думал сокращаться, а, наоборот, расширялся с каждым годом, обещая ей стабильность доходов и независимость существования.
Надя нашла для фирмы директора, поставила ему очень жесткие, но очень выгодные условия, оговорив себе ровно столько, сколько ей было нужно для спокойной жизни, а остальное отдав на развитие фирмы и оплату труда. Появлялась она там дай бог три-четыре раза в год, да и то – случайно, или когда пригласят на собрание учредителей. А не пригласят, так и не ходила. О деньгах она не беспокоилась. Ее долю прибыли ей ежемесячно переводили на ее личный счет в банке.
Вот так ее жизнь приобрела стабильность и независимость.
Она была типичной москвичкой – довольной своей внешностью и своими доходами независимой и свободной женщиной с уравновешенной психикой и тайной происхождения первоначального капитала.
В районе Крымского моста она так и осталась «Надькой из парка», проституткой, дочерью проститутки.
В Химках она была просто москвичкой, вероятно где-то работающей, да мало ли где работают сегодняшние москвички, кому это интересно?
Наверное, кто-то считал ее содержанкой, но ведь это совсем не то, что проститутка, это даже уважение может вызывать, смотря кто содержит.
Короче, ее социальный имидж Надю полностью удовлетворял.
Было только два момента, не дававшие ей жить спокойно. И оба, так или иначе, связывали ее жизнь с матерью, и эта связь сама по себе ее с некоторых пор стала основательно раздражать.
Особенно когда мать прочно села на иглу и уже не могла обходиться без ежедневной дозы. Она начала сильно сдавать, все реже выходила из дома, поскольку за неделю старела на год, все и всех ненавидела, и в конце концов перестала вставать с постели.
Вся ее ненависть к своей жизни и жизни вообще сосредоточилась на дочери, от которой она теперь полностью зависела. Она не могла даже самостоятельно сделать себе укол, не то чтобы раздобыть дозу.
Все это было теперь на ее Надьке, и за это она ненавидела ее еще больше.
Ненависть матери не раздражала Надю, а утомляла с каждым днем все сильнее. Ее наркотическая зависимость требовала ежедневных расходов, расшатывающих продуманную стабильность ее существования.
Она начинала понимать, что мать тащит ее за собой, на тот путь, по которому прошла сама, и мысль о возможности повторения этого пути ею вызывала у Нади невыносимую скуку, до ломоты в скулах.
Можно было, конечно, решить все просто, – не приезжать, например, неделю, а потом посмотреть, чем дело кончится. А что оно за неделю окончательно кончится, Надя не сомневалась.
Она часто думала об этом, понимая, что такой выход будет действительно лучшим выходом для них обеих – и для нее, и для матери.
Но решиться на это не могла.
Что ей мешало, она не могла бы объяснить.
Может быть, воспоминания, что именно это умирающее существо дало ей первое чувство сексуальной свободы, помогло ей впервые испытать ощущение физиологической радости от своего тела?
Может быть то, что только лежа когда-то в постели с матерью, она получала то, чего не могла потом получить ни от одного мужчины?
Может быть, это была привычка к постоянному страданию, вошедшему в ее жизнь вместе со страданием ее матери и постепенно ставшему ей так же необходимым?
И она ездила на другой конец Москвы к своему старому знакомому, бывшему клиенту, одному из тех, кого мать ей передала как бы по наследству, и который давно перестал быть клиентом, а просто остался хорошим знакомым, к которому всегда можно обратиться за определенного рода товаром, в любое время суток.
Привозила матери героин, делала ей уколы, наблюдая, как та затихает после них то с ясной блаженной улыбкой, то с безобразной гримасой страдания.
Ей было очень тяжело ощущать свою родственную привязанность к этому полутрупу, для которого она не могла, фактически, ничего сделать, – ни облегчить страдания матери, ни навсегда прекратить их решительным вмешательством в ее судьбу.
Но был и еще один момент, который отравлял ее существование, внося душевный дискомфорт в ее размеренный, лишенный резких движений душевный мир.
С детства отложились в ее памяти рассказы матери о мужчинах, с которыми женщина чувствует себя женщиной, о настоящих мужчинах, которых ей так и не довелось встретить в своей не очень интенсивной, но все же довольно продолжительной сексуальной практике.
Рассказам матери она не верить не могла, настолько они были наполнены непосредственным переживанием и подлинностью ощущений.
Идеальный мужчина существовал в ее воображении, в ее представлениях о мужчинах вообще и о мире в целом, но она ни разу его не встретила, и уже сомневалась в себе. Может быть, это она какая-то не такая, может быть, мужчины, о которых рассказывала мать, просто не обращают на нее внимание, она для них не интересна?
А что, если дело в том, что она вообще не может быть женщиной в полном, настоящем смысле этого слова? Настоящей женщиной?
Такой, какой когда-то была ее мать?
От этой мысли желание убить мать становилось просто невыносимым, и Надя убегала из квартиры на Димитрова, пытаясь отвлечься от навязчивой мысли.
…Она ехала из Бабушкина и везла в сумочке героин для матери, который только что купила у своего личного поставщика, постаревшего среди московских проституток ловеласа, лысого и худого как черенок лопаты, с которой он всегда являлся на встречу с ней, изображая рыболова, отправившегося накопать червей. Поэтому московские закоулки, в которых он назначал ей места свиданий, отличались своеобразной экзотичностью.
На этот раз, например, ей пришлось тащиться почти до Кольцевой на северо-восток Москвы и долго блуждать по Перловскому кладбищу, прежде, чем ей удалось, наконец, выбрести к мосту, разделяющему Ичку и Джамгаровский пруд. Там, под мостом, он и продал ей героин, достав пакетик из консервной банки, заполненной дождевыми червями, которых он уже и в самом деле успел накопать.
Она зацепилась за выражение лица Ивана, когда тот вошел в вагон метро на Рижской и окинул немногочисленных пассажиров беглым, но очень цепким взглядом. Он только скользнул глазами по ее лицу, ни на миг не остановившись на нем, но этого мгновения ей хватило, чтобы понять, что она видела уже что-то похожее.
Это настолько заинтересовало ее, что она вслед за ним на проспекте Мира вышла из вагона, сошла со своей линии и, плохо понимая, что делает, пошла за Иваном к переходу на кольцевую.
Она практически не смотрела на него, вернее, смотрела, не видя, занятая своими мыслями, копаясь в памяти и пытаясь сообразить, что ей напомнили эти промелькнувшие перед нею глаза, показавшиеся столь странными в вагоне московского метро.
В вагон Надя вошла вместе с ним, народу было не много, и она села напротив, чтобы спокойно рассмотреть его лицо и вытащить засевшую в памяти занозу. Маленькую, но очень болезненную.
Подумав, что неприлично рассматривать откровенно незнакомого человека, она достала из сумочки любимую Франсуазу Саган в мягкой обложке, открыла наугад, и сделала вид, что читает.
У сидящего напротив человека был острый взгляд, а Надя не хотела привлекать к себе внимания, опасаясь что ее поймут неправильно и сочтут ее настойчивое внимание уловкой проститутки, ищущей клиента. Поэтому несколько минут она сидела уткнувшись в книгу, хотя не видела в ней ни одной строчки, не в силах отделаться от стойкого ощущения, что виденные ею глаза она уже встречала и не однажды. Причем, чуть ли не в зеркале.
Когда Надя оторвала взгляд от книги, человек, взгляд которого ее так заинтересовал, сидел, прикрыв глаза и, казалось, дремал. Пользуясь моментом, Надя хорошо его рассмотрела.
Он выглядел довольно молодо, может быть всего лет на пять старше нее. Короткая стрижка открывала крутой упрямый лоб, середину которого прорезала глубокая морщина, очень странно сочетавшаяся с молодым в целом лицом. Прямой, слегка удлиненный – римский – нос вел к тонким, жестким губам, вероятно, часто сжимавшимся очень плотно – об этом свидетельствовали характерные морщинки в уголках губ. Подбородок был средним, не особенно массивным, не худым, только немного зарос щетиной, не лишая, однако, его обладателя вида слегка запущенного интеллигента.
Обычное лицо самого обычного, ничем не примечательного москвича, то, что называется – без особых примет. Рядовое лицо.
Особая примета была – глаза.
Сейчас, не видя их, Надя подумала, что, если бы не глаза, она никогда бы и внимания на него не обратила, настолько рядовым, типичным было это лицо. Лицо обычного московского инженера, или тренера какой-нибудь детской спортивной секции – на мысль об этом наводила его слишком короткая стрижка.
Но глаза меняли все в этом лице.
Едва она подумала о его глазах, сидящий напротив открыл их и оказалось, что он смотрит прямо на нее. Смотрит напряженно, словно оценивая опасность, исходящую от нее. Он и сам весь как-то напрягся, шевельнув рукой, засунутой в карман джинсовой куртки, а другой, свободно лежащей на сидении, схватившись за его край.
«Он меня испугался, – подумала Надя, – надо же! Я представляю опасность для мужчины! Разве что – иногда, в постели…»
Ей стало весело. Она постаралась сдержать улыбку, представив мужчину, сидящего напротив, с собою в постели, и все тот же его полуиспуганный, полуугрожающий взгляд, устремленный на нее сверху вниз.
Улыбка сдерживаться не хотела и Надя уткнулась в книгу, пряча ее.
Но стоило ей отвернуться от его лица и вновь вспомнить этот взгляд, как улыбка ее прошла без следа. Надя вспомнила, вернее – поняла, где она видела этот, а точнее – не этот, а такой же взгляд.
Так смотрела год назад ее мать, тогда еще не окончательно увязшая в наркотиках и имевшая возможность вернуться. Мать, стоявшая на краю, знавшая, что она стоит на этом краю, и видевшая, – что находится за краем, там, где дочь ничего увидеть не могла.
А там была смерть.
Наде слишком хорошо был знаком этот взгляд, так долго и внимательно приходилось смотреть ей в глаза матери, то осмысленно страдающие, то безумно дикие, но всегда видящие смерть, подошедшую вплотную. Оторвавшись от матери и случайно зацепив как-то свое отражение в зеркале, Надя едва не разбила его, увидя в своих глазах то же самое выражение, что видела только что в глазах матери. В этих черных дырах-глазах, обращенных внутрь себя.
Этот человек жил на краю смерти, поняла Надя. И она не сможет теперь его просто так отпустить, дать ему уйти, раствориться в людских московских миллионах. Еще год-полтора назад она вообще не обратила бы на его взгляд никакого внимания, но сейчас смерть занимала слишком много места в ее мыслях.
В смерти была для нее загадка.
А этот человек понимал смерть, она ясно прочитала это в его глазах.
Когда она вновь посмотрела на него, глаза его были опять закрыты. Теперь она смотрела уже без тени улыбки. Теперь это был мужчина из того мира, в котором нет женщин. А есть только жизнь и смерть и балансирование на их тонкой, едва ощутимой грани.
«Если он проснется после Октябрьской – увезу его в Химки», – решила Надя.
Со свойственным для нее скепсисом по отношению к равноправности в межполовом общении, она забывала, что у мужчин, теоретически, может существовать свобода их личной воли. Правда с таким феноменом ей ни разу сталкиваться не приходилось и она всегда брала на себя руководство развитием ситуации.
«Если он проснется раньше…» – эту мысль она додумать до конца не могла, – мысль о матери, погружающейся в смерть на улице Димитрова, сбивала ее, вновь рождая жгучее желание ее смерти…
Он открыл глаза, когда вагон уже тормозил у Октябрьской и вновь вонзился глазами в ее лицо.
– Вы проспите свою станцию…
– Нет, не сумею…
В этих коротких, ничего, на первый взгляд не значащих фразах, содержалось очень многое. Слишком многое, чтобы можно было сейчас вот так просто встать, отойти в сторону и забыть о существовании друг друга. По крайней мере, так казалось Наде.
Она ясно слышала, что он просил о помощи. Может быть, сам того не понимая.
«Наверное, в его голове просто нет понятия о том, что можно просить у кого-то помощи, – решила Надя. – Он не знает такого слова. В нашей страшной жизни это не удивительно. Зато это слово знаю я»
– Пойдемте, – сказала она. – Я помогу вам.
…Сделав матери укол и подождав когда бормотанье той станет затихать, Надя вошла в комнату, куда направила Ивана. Он спал как был, в куртке, с засунутой в карман рукой, на ее кровати, которую мать когда-то покупала себе для работы. Кровать в свое время видела, действительно, много разного и диковинного, но последние годы скучала, принимая только одинокую Надю.
Надя довольно бесцеремонно принялась раздевать Ивана, не опасаясь его разбудить, напротив, уверенная, что он не проснется. Вытаскивая его руку из кармана куртки, она обнаружила зажатый в ней пистолет и не сумела его забрать. Пистолет так и остался в его руке. В кармане его куртки она нашла еще три. Глаза ее, при виде такого арсенала, уважительно округлились.
Она раздела его полностью, резонно решив, что он давно уже был лишен подобного комфорта – спать обнаженным. Раздевшись сама, она прижалась к спящему Ивану своим телом, вдохнув запах мужского пота, табака и резкого одеколона. От этого запаха кружилась голова, хотелось закрыть глаза и вдыхать его еще и еще.
У нее не было никакого физиологического желания. Ей просто хотелось спать рядом с этим человеком. Надя положила голову ему на плечо и тоже заснула. Спокойно и удовлетворенно.
Глава IV.
…У Крестного всегда был на примете не работающий пионерский лагерь в окрестностях Москвы или опустевший Дом отдыха, из тех многочисленных в довоенные годы ведомственных подмосковных здравниц, которые через шестьдесят-семьдесят лет добросовестной службы оказались не нужными на балансе ни одного предприятия или ведомства и теперь тихо и безлюдно разрушались природными стихиями – солнцем, дождем, бродягами и морозом.
На таких забытых богом и людьми остатках подмосковной цивилизации Крестный любил устраивать свои «полигоны» для испытания нового человека в придуманной им игре в «гладиаторов».
Ничего нового, он, собственно, не выдумал, поскольку невозможно было придумать что-либо новое в области способов убийства и проявления человеческой жестокости со времен Римской империи.
Люди всегда убивали друг друга, всегда ставили на кон свои жизни и всегда стремились забрать жизнь другого человека, словно ставку в игре. Не могли не стремиться, иначе им пришлось бы расстаться со своей, тоже выставленной на кон. Пришлось бы проиграть.
Крестный учил выигрывать.
Выигрывал тот, кто умел убивать других быстрее, чем могли убить его самого. Кто чувствовал скорость смерти. Тот, кто убивал наверняка и никогда не оставлял в живых недобитых врагов.
Жалость, проявленная тобой к врагу, всегда убивает тебя самого.
Это одна из аксиом, на которых построена наука убийства.
Особенно любил Крестный заброшенные плавательные бассейны, в которых так удобно было устраивать личные поединки его «гладиаторов».
Абсолютно равные условия.
Отсутствие каких-либо случайных вспомогательных приспособлений для убийства, заставляющее соперников рассчитывать только на свое индивидуальное умение владеть своим телом и теми инструментами смерти, которые определяет для них сам Крестный.
Невозможность проявить слабость, струсить, убежать, отступить. Страх означал в таких условиях всегда только одно – смерть.
Страх и смерть были синонимами на этих выложенных кафелем подмосковных аренах убийства.
Смешно сказать, но для Крестного немаловажное значение имел и эстетический момент. Белый кафель в красных пятнах, полосах и брызгах крови, создавал своеобразную эстетику смерти, в которой чувствовались оттенки и отголоски и морга, и операционной, и бойни, и прозекторского стола одновременно.
У плавательных бассейнов есть, наконец, еще одно большое достоинство – они создают полную иллюзию римского театра, в котором зрители располагались сверху, на высоких трибунах.
Когда смотришь с высокого бортика бассейна на кровавую драму, разворачивающуюся на его кафельном дне, и вопросительный взгляд того, кто оказался сильнее, требует твоего мнения по поводу судьбы распростертого у его ног соперника, понимаешь, что чувствовали римские патриции, трясущие кулаками с опущенными книзу большими пальцами. Понимаешь, чего они ждали.
Они хотели увидеть то, ради чего собирались в театре, главную героиню спектакля.
И приглашали ее на выход уткнутыми в землю большими пальцами и криками:
Убей его!.
Бои, которые устраивал Крестный, как и бои гладиаторов в Древнем Риме, были бенефисами смерти.
Он заставлял своих «мальчиков» убивать друг друга, и порой напряженно прислушивался к себе, не зная, какой исход поединка более желателен для него.
Они все были его воспитанниками, некоторых он знал годами, успел к ним привыкнуть, нельзя сказать, чтобы полюбить, но привязаться.
