Дорога уходит в даль… бесплатное чтение
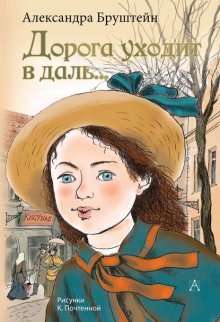
Скачать книгу
© Брунштейн А. Я., насл., 2019
© Почтенная К. О., ил., 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019
* * *
Скачать книгу
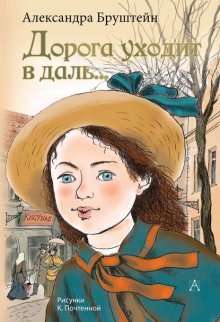
© Брунштейн А. Я., насл., 2019
© Почтенная К. О., ил., 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019