Шторм Z. У вас нет других нас бесплатное чтение
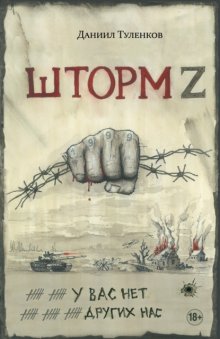
Даниил Юрьевич Туленков
Шторм Z. У вас нет других нас
Бойцам «Шторм Z»,
живым и мёртвым,
посвящается
Три месяца я на СВО.
Формально и по сути я здесь по доброй воле. Однако меня бы не было здесь, если бы не чудовищный, несправедливый приговор Кировского районного суда Екатеринбурга, отправивший меня за решётку на долгих семь лет.
Я прошел все инстанции, оспаривая свой приговор, но всё это было тщетно… Махнув рукой, я подал заявку на участие в СВО в июле 2023 года, оставив за плечами четыре месяца в СИЗО и год в исправительной колонии общего режима. «Лучше один раз напиться крови, чем триста лет жрать падаль» (с).
Ни секунды я не пожалел о своём выборе, хотя всегда считал и считаю по сей день, что военное решение этого вопроса — не самое лучшее и далеко не единственное решение.
Я по-прежнему считаю, что этой ужасной войны можно было избежать при более разумной и осмысленной внешней политике последних 20 лет.
Я по-прежнему считаю, что этот шаг можно было отсрочить и задействовать иные механизмы обеспечения безопасности и защиты государственных интересов Третьей Римской империи.
Однако вышло как вышло. И теперь, когда я нахожусь под знамёнами легионов, я могу лишь сказать то, что изложено ниже, на картинке.
«Шторм Z» будет выполнять задачи даже тогда, когда повернут назад все: мобики, контрактники, хвалёные «вагнера», тик-ток войска etc.
Если мне посчастливится выбраться из всего этого живым, я расскажу о том, что видел, и о том, в чём мне довелось участвовать. Возможно, это станет целью и смыслом моей оставшейся жизни. Про ЧВК «Вагнер» уже сняты фильмы. Они уже — легенда. Мы, «Шторм Z», — пасынки Минобороны, находимся где-то в тени, про нас что-то слышали, но никто ничего толком не знает. Я бы хотел это исправить. Очень хотел бы.
Я не знаю, чем закончится специальная военная операция. Достижимы ли и будут ли достигнуты её цели? Мне ли, бойцу штурмовой роты Z, об этом судить здесь и сейчас? В той, прежней, жизни, в моём былом положении, возможно… Но не сегодня и не на окраинах пгт Работино:)
Но я верю, нет, я знаю… Именно мы, прогнанные волею судеб через горнило этой войны, выжившие и вернувшиеся домой, должны стать солью, основой, фундаментом Senatus Populusque Romanus.
Буду ли я в их числе — бог весть… Ведь здесь, как пел Тимур Муцураев, «смерть таится за каждым углом». Но так или иначе, ленинградский еnfant terrible, а вернее, тот пул, что скрывается под его голограммой, запустил процесс, который, к счастью, необратим. Россия (а теперь и весь мир) уже никогда не будет такой, какой она была до 24 февраля. Её ландшафт, уже изменённый, будет изменён далее, до неузнаваемости.
Мы в игре. Все. И на фронте, и в тылу. И эту игру надо вести до конца.
I
Полтора года (чуть больше, если быть точным) прошло с того дня, как я переступил порог своей квартиры и шагнул в абсолютную неизвестность, начав самое удивительное путешествие в своей жизни.
Монотонная речь судьи, зачитывающей своё сочинение, оглашение финальной части, конвой с наручниками, полумрак камеры, ожидание автозака и — здравствуй, новый, неизвестный мне мир…
Год и почти четыре месяца провел я в нём и три месяца в зоне проведения СВО. Несравнимые временные отрезки, но какие разные у них цвет, вкус и наполнение. Какой разный у этих отрезков вес.
Про тюрьму у меня нет никакого желания ни вспоминать, ни что-то рассказывать. Это при том, что ничего страшного и невывозимого[1] я в этом месте не встретил. Мне совершенно не на что жаловаться по большому счёту. Я не столкнулся ни с одной из лубочных страшилок и пугалок, ассоциирующихся с тюрьмой у человека, бесконечно далёкого от соответствующего образа жизни.
Поэтому дело не в тяготах арестантской жизни, а в её пустоте, бессмысленности и бесцветности.
Там нет цвета.
Там всё серое.
Нет цвета, нет вкуса, нет самого ощущения жизни.
Я не говорю за всех, конечно. Я излагаю лишь свои собственные ощущения. Тюрьма — это анабиоз, абсолютная заморозка всех жизненных процессов, буквальное убийство времени.
Многие люди, еще не попавшие в тюрьму, но предчувствующие её, строят планы, как они изучат в её стенах итальянский язык, напишут бестселлер, смогут осуществить еще какой-то глобальный проект, на который-де в обычной жизни не хватало времени…
Возможно, у кого-то получится, я не буду спорить.
Я сам, превозмогая болотную тягу, набросал кое-какие концептуальные заметки.
Но это очень сложно делать. Тюрьма убивает любое начинание такого рода, её притяжение, её трясину очень сложно преодолеть. Тюрьма всё стремится «оболотить» и выкрасить в один, серый, цвет. Поглотить, отупить, убить всё живое в человеке, атрофировать все мыслительные и чувственные процессы. Не злобные татуированные дядьки с эрегированными членами, набрасывающиеся на несчастных филателистов из советских фильмов-страшилок, не садисты-надзиратели, пытающие зэков в гестаповских застенках, захлебываясь сатанинским хохотом, а серость и болотная трясина тюремного бытия — самое страшное и убийственное, что здесь есть.
Война — абсолютный, асимметричный контраст тюрьмы. Война наполнена всей гаммой цветов, существующих на земле, даже теми их оттенками, о существовании которых ты не подозревал в той, прежней жизни. Война — это фонтан эмоций, чувств и ощущений. Это обострение всех форм человеческого осязания. Это миллионы деталей и штрихов, от количества которых взрывается мозг человека, едва переступившего периметр лагеря, места, где всё измеряется штучно, не превосходя количества пальцев на руках. Это совершенно иная скорость времени и совершенно иная ценность каждого его отрезка. Контрастный душ, который не всякому дано вынести без ущерба для душевного здоровья.
Нет ничего, ни одного фактора, которые могли бы как-то уравнять эти два мира, вывести какую-то формулу их схожести. Кроме того, что тебя нет дома.
II
Некоторое время назад (я сознательно воздержусь от указания точных дат и географических терминов) мне довелось оказаться в одном селе, на позициях соседней части.
Наша группа отходила через это село после задания, и на северной его оконечности я был отсечён огнём противника от своих товарищей. Ждать меня они не могли, поскольку сами находились под обстрелом и им нужно было перемещаться. Догнать их я не мог, поскольку надо было перебежать довольно широкую улицу, насквозь простреливаемую, и я отошёл в укрытие.
Дальше обстоятельства сложились так, что, задержавшись здесь на пару часов, по факту я провёл в этом селе почти трое суток. За него завязались бои, и в условиях, когда каждый ствол был на счету, сказать: «Давайте, ребята, вы тут уж сами, а мне надо идти» — я не мог.
Я оказал посильную помощь своим новым товарищам в обороне северной оконечности населённого пункта и вместе с ними был выведен на пункт эвакуации по приказу местного командования.
Вывод на пункт эвакуации представлял собой перебежки из одного разрушенного дома в другой под беспрерывной работой вражеской артиллерии.
Тогда я впервые столкнулся с работой танка, и с тех пор на вопрос «Что самое страшное на войне?» у меня имеется очень чёткий и конкретный ответ. Лично для меня — танк.
Так, спасаясь от огня танка, который, корректируемый дроном, методично разбирал картонные домики, в которых мы прятались, я и ещё несколько человек укрылись в бетонных трубах под дорогой, что-то типа ливнёвки. По сравнению с домиками это было достаточно надёжное укрытие, и мы здесь залегли до наступления темноты.
В сумерках поодиночке, по двое мы продолжили передвижение. Я пошёл замыкающим и в темноте потерял ведущего. Дорогу мне объяснили, но одно дело — объяснить что-то на пальцах, другое дело — применить полученную информацию.
Я повернул куда-то не туда и потерял очень много времени, прежде чем понял, что сбился с маршрута, и вернулся обратно.
Покинув трубы, я будто пересёк какую-то границу между мирами. До меня не сразу дошло понимание этой разницы, то, что я очутился в части села, куда противник не стрелял. Там, откуда я пришёл, противно трещали кассетки, били фугасы, зудели дроны, здесь же была относительная тишина.
Я шёл один по пустой улице, среди брошенных, но совершенно целых домов. На стыке двух этих частей села горел недавно построенный дом, его зарево было единственным источником света вокруг. Ни голосов, ни каких-либо других звуков мира или войны не было. Абсолютно мёртвая, пустая, тёмная улица. Оставленная людьми, но ещё хранившая их тепло. Здесь прямо остро чувствовалось, что люди ушли отсюда совсем недавно. Не было запустения в этих домах. Они ещё были живы.
Я дошёл до очередного поворота, про который мне говорили, и пошёл дальше, всё больше и больше удаляясь от разрыва кассеток, снарядов, треска горящего дома. Эта часть села была вообще не тронута.
По мере того как я углублялся в неё, я находил какие-то признаки жизни, с удивлением понимая, что здесь кто-то есть, что здесь ещё живут люди, не наши военные, а мирные, местные жители, кто по каким-то причинам не смог или не захотел уехать.
Я прошёл мимо большого дома с занавешенными окнами и услышал, как из-под него, видимо из подвала, доносятся звуки дизель-генератора.
Я прошёл мимо мангала с гаснущими углями.
Я слышал голоса где-то в глубине одного из дворов.
Я чувствовал и понимал, что за мной сейчас наблюдают из этих тёмных, закутанных, занавешенных домов. Бог весть с какими эмоциями и чувствами. Вскоре я понял, что снова свернул не туда, и принял решение прекращать ночные блуждания.
Я понял, что пункт эвакуации я уже не найду и поиски надо продолжать утром.
По дороге я приметил один хорошо сохранившийся дом, явно покинутый, и решил остановиться на ночь в нём. В него я и завернул на обратном пути. Обследовав дом и убедившись, что я в нём точно один, я расположился на ночлег, улегшись на голую кровать с сеткой. С облегчением стянул с себя бронежилет, снял каску, которые будто уже срослись с моим телом, положил под голову рюкзак, снял кроссовки, вытянул ноги…
…и понял, что впервые с того дня, как я переступил порог своей квартиры, отправляясь на оглашение приговора, я нахожусь наедине с самим собой. Впервые за это время я обрёл абсолютное, полное одиночество, которое невозможно в СИЗО, невозможно в колонии и практически невозможно на войне. Везде и всё время с тобой кто-то есть. В камере СИЗО, на бараке в лагере, на производстве, в учебке, в расположении, в окопах, на позиции, на задании — я всегда был с кем-то.
И вот впервые, резко и неожиданно, я оказался в чужом доме, в неизвестном мне месте, в какой-то ужасной, совершенно чуждой мне по природе, по духу, по укладу стране, совершенно один, наедине со своими мыслями и эмоциями, которые сейчас ничего не сдерживает.
Я буквально захлебнулся в их потоке.
Сюрреализм происходящего и пережитого не вместился в мою скромную черепную коробку, мозг поставил тормоз, закрыл шлюзы.
Я просто лежал несколько часов, глядя в потолок. Изредка шлюзы открывались и дозированная порция рефлексий выплёскивалась наружу.
Странно, но, получив возможность упорядочиться, моё сознание приняло за отправную точку реальности именно то, что происходило со мной здесь и сейчас. Этот дом, кровать, занавески на разбитом окне, холодную сталь автомата, в обнимку с которым я лежал. Напротив, тяжело было принять то, что иная жизнь, находившаяся где-то там, за тысячи километров, — это тоже реальность.
Что я, сидящий в своем офисе с чашкой кофе, — это не another me, а именно я.
Я за рулём машины где-то на трассе М5 — это я.
В лодке с удочкой на раскатах в дельте Волги — это тоже я.
Что мои родные и близкие — это не цифровая голограмма в телефоне, которого сейчас даже нет со мной (на передок нельзя брать телефон, он остаётся в расположении, с личными вещами), а реально существующие люди, которые есть.
Вот это было трудно принять.
Все мои 44 года было трудно принять как реальность, а не как сон, фантазию, какое-то кино или литературный сюжет.
А вот текущее положение вещей сознание трактовало как должное и единственно могущее быть.
Наверное, так работают защитные механизмы мозга и психики. Наверное, это первостепенный ключ выживания в этих условиях.
Мне кажется, единственное, что зависит от человека здесь, — это абсолютно трезвое и адекватное восприятие реальности.
Пока оно есть, ты способен принимать правильные решения и соответственно реагировать на внешние условия.
Малейшее отклонение от принятия происходящего, допуск рефлексий и самой мысли о сюрреализме того, что ты здесь переживаешь: «Да это мне снится, это не со мной, это не может быть правдой» — и всё. Ты запускаешь цепь необратимых событий, тянешься за бабочкой через бруствер окопа, и тебя снимает условный снайпер.
Это потом, если и когда всё закончится, ты будешь вспоминать это всё через призму рефлексий и балансировки на краю бездны.
Пока же надо смотреть в багровые зрачки реальности не моргая.
P. S. Утром я обнаружил пункт эвакуации в тридцати метрах от этого дома. Я прошёл мимо него ночью, не распознав. Видимо, для чего-то мне надо было побыть в этом доме наедине с собой.
Возможно, чтобы написать этот текст, а может быть, для чего-то большего, что ещё ждёт своего часа.
III
В окрестностях пгт Работино, о существовании которого я даже не догадывался в прежней жизни, но которое теперь уже навсегда станет для меня знаковой точкой на карте, есть объект, несущий поэтическое название «очко Зеленского».
Солдатская терминология — она всегда не в бровь, а в глаз.
«Очко» — потому что здесь действительно жопа.
А имя президента враждебной державы добавлено для того, чтобы показать масштаб этой жопы, её доминирующее положение над бесчисленным количеством других жоп, имя которым здесь легион.
«Очко Зеленского» — это наш «домик паромщика».
Даже по ландшафту оно напоминает чёрно-белые фотографии Вердена или Соммы. Не хватает только обрывков колючей проволоки (на этой войне невостребованный девайс).
Место, бесконечно переходящее из рук в руки, место, уносящее десятки жизней с нашей и с той стороны.
«Очко» обладает какой-то зловещей магией, заставляющей наше и их командование бесконечно снаряжать сюда штурмовые группы, способные взять его, но не способные в этом «очке» удержаться.
«Очко» прострелено нашей и их артиллерией до сантиметра. Туда тяжело добраться, но, добравшись туда, храбрецы с белыми или синими повязками неминуемо погибнут под огнём или же будут вынуждены отступить.
В «очко» сливаются жизни людей, а горький цинизм солдатской терминологии превращает их смерть в апофеоз бессмысленности. «Погиб в „очке Зеленского“» — это совершенно не то, что просится на страницы героического эпоса, не так ли?
Между тем вся моя эпопея теснейшим образом увязана с этим чёртовым «очком», равно как и со стёртым с лица земли Работином, расположение улиц которого, школу (местный «дом Павлова»), кладбище и прочие достопримечательности я могу воспроизвести на листке бумаги с безупречной топографической точностью.
С «очком» связаны первые потери боевых товарищей, и тогда, когда туда уходит группа, а потом возвращаются люди, по два, по одному, с пустыми, выжженными глазами: «Тот 200, тот 200, что с остальными я не знаю…», и тогда, когда на подступах к этому проклятому «очку» из двойки, ушедшей вперёд, после автоматной трескотни возвращается, взволнованный и запыхавшийся один и роняет просто, без лишних слов: «У нас минус один».
Так просто… «Минус один». А мы час назад с этим «минус один», пережидая обстрел кассетками в каком-то лесном блиндаже по дороге сюда, кипятили воду в пластиковой бутылке.
Да-да, «минус один» научил меня за час до своей гибели этому нехитрому фокусу — на огне можно вскипятить воду в пластиковой бутылке, своевременно её прокручивая над язычком пламени, и ничего ей не будет. Элементарная физика, в принципе, но вот я не знал.
И вот теперь он лежит где-то там, в паре десятков метров от нас, в «штанах»[2], то есть в месте, где окоп раздваивается. И будет лежать там Бог весть сколько. Хохлам его тело не нужно, а нам его не достать, потому что оно в паре шагов от них, засевших там, в этих «штанах». И мы эти «штаны» не пройдём, хотя должны были сделать это.
Но нас туда пошло семеро, и двое позорно запятисотились, сбежали тихой сапой в лесополосу, исчезли, пропали, растворились в ней. И теперь «минус один» — это очень критично. Это соломинка, перебившая хребет верблюду. Впятером мы могли бы попробовать, а вчетвером уже нет. Вчетвером мы можем только удерживать этот пятачок, 90-градусный поворот в окопе так, чтобы воспрявший духом противник, только что разделавший под орех, с трёх стволов, «кацапа», сам не штурманул его, не прорвался на этот участок.
Да, за нами, в двадцати метрах, полнокровная рота мобиков.
Но мобики сидят, прижавшись к стенке окопа, обняв автомат, и на предложение нашего командира оказать нам содействие отводят глаза: «Это не наша задача. Мы должны удерживать позиции и всё. Мы здесь уже неделю. Мы устали. Нам сказали, придёт „шторм зет“ и выбьет пидоров».
Ну, конечно, «Шторм Z» придёт и всё сделает.
Они говорят о нас как о каких-то супервоинах, способных творить чудеса.
А какие мы супервоины? Обычные уголовники, набранные с разных российских тюрем, с двухнедельной подготовкой.
Но считается так. Считается, что мы люди отчаянной жизни, отбитые на всю голову, одной духовитостью способны проламывать любое сопротивление. Эх, если бы…
Командир наш машет рукой. Упрашивать бесполезно. Не пойдут. Не пойдут, хотя там, в этих «штанах», сидит человек десять, не больше. Можно их загасить. Там тоже не супервоины. Автоматы и один пулемёт. У нас «мухи», «шмель», РПГ, можно загасить, но не вчетвером.
Вчетвером мы садимся в оборону, и начинается долгий взаимный прострел серой зоны.
Мы с хохлами в одном окопе.
Пару дней назад они дерзко штурманули наш опорник, заняли его и, теперь вклинившись в нашу линию обороны, отсекли примерно километр наших окопов, уходящих туда, в сторону чёртова «очка Зеленского».
Мы сидим на углу девяностоградусного поворота, потом десять метров серой зоны, снова поворот, и там уже они.
Теперь и наша, и их задача — простреливать серую зону так, чтобы никто не решился в неё сунуться.
Это надо делать постоянно.
Потому что если не делать этого, то они могут попробовать сюда сунуться, и если допустить их до поворота, хана не только нам, но и сидящим в обнимку с автоматами мобикам. Их просто перестреляют в траншее так, что они даже ничего не смогут сделать. Да они и не будут пытаться, они гуртом, топча друг друга, побегут, теряя оружие и снаряжение. Ведь именно так было два дня назад.
Хохлы тоже не хотят повторения нашего захода. Да, мы потеряли одного человека при разведке боем, но второй-то ушёл и унёс с собой крайне важную информацию: где они сидят, а где их нет. И оттуда, где их нет, можно достать их там, где они есть. Они это всё понимают, они знают, что, если русские сейчас вернутся со знанием их расположения, им будет тяжко, а скорее всего, им будет конец, потому что они сидят в нашем окопе и отходить им по нему некуда, только наружу, в чистое поле, и ломиться до своей лесополки[3].
Но они дотуда не добегут.
Если мы выкурим их наружу и займём позицию, подтянем пулемёт, то это всё. Никто никуда не добежит.
Мы и должны были так сделать.
Но всемером. При самом трагичном для нас раскладе — впятером. Но вчетвером нам уже не справиться.
Вчетвером, в принципе, мы уже можем запрашивать разрешение на отход. Но, во-первых, нам этого никто не даст, а во-вторых, нельзя этого делать.
Уйти сейчас, расшевелив это осиное гнездо и вытянув их сюда, на свой угол, — это значит сдать ещё километр наших окопов. Мобики не удержат.
Поэтому мы остаёмся и начинаем простреливать серую зону.
Про штурм уже речи нет, как я сказал. Просто не дать им сюда зайти, большего мы не сделаем.
Наша проблема в том, что, обозначив своё присутствие здесь, мы, соответственно, и вызываем на себя их огонь.
Нас пытаются выковырять с этого угла миномётом, АГСом, именно здесь я впервые знакомлюсь с FPV-дронами и переживаю их атаки.
Идут долгие, томительные часы.
Мы сменяем друг друга на углу, и пока один стреляет, второй заполняет магазины. Бэка расходуется как на полигоне.
Я даже в этих условиях не могу преодолеть свою природную скупость. Я экономлю. Я стреляю по большей части одиночными и изредка щёлкаю предохранитель на короткие очереди. Три очереди по три патрона. Несколько раз одиночными. Мои товарищи стреляют как в Берлине 45-го, только гильзы звенят.
Периодически старший группы простреливает сектор из пулемёта, сразу по пол-ленты. Иногда кидаем в их сторону гранаты.
К нам, осмелев, подтягивается группа поддержки из числа мобиков. Тусуются где-то вдали, на безопасном расстоянии, но постепенно осваиваются и откуда-то оттуда по-сомалийски, из-за бруствера окопа, постреливают куда-то в сторону Киева. Ну ладно, Бог с ним. Без вреда, и то вперёд.
Жара. Очень хочется пить. С водой у нас беда. Зато есть повод подарить мобикам ощущение значимости и причастности к великому сражению.
За водой для нас они убегают охотно и даже, как мне показалось, с радостью. Носить нам воду, патроны и даже отдать свои сухпайки они готовы.
Попив, я ничтоже сумняшеся беру и сухпай. Как бы там ни было, но есть надо.
В самый разгар трапезы в бруствер над моей головой прилетает граната с АГС, меня осыпает несколькими килограммами земли, в земле и чудеснейшие тефтели из сухпая.
Досадно…
Меж тем, как пишут мастера литературного жанра, смеркалось.
Командование, естественно, с самого утра знает о состоянии нашей группы, о пятисотых и о двухсотом. То, что задача не выполнена и не может быть выполнена. То, что задачу минимум мы выполнили, не допустив проникновения противника на свой участок в светлое время суток (а в тёмное время они и не полезут). Мы наконец-то получаем разрешение на отход.
Отход — это тоже непростая задача.
Некоторые блиндажи, через которые мы шли на точку днём, к вечеру уже разрушены артогнём противника. Местами мы продираемся через их руины, где-то прямо по трупам своих же солдат, местами приходится вылезать на поверхность и обегать их, рискуя словить пулю от снайпера.
Мобики провожают нас негодованием и упреками: «Вы что, бросаете нас? Уходите?»
Я испытываю испанский стыд, когда такое мне, щуплому очкарику, говорит дядя весом сто килограммов с рожей втроём не обсеришь, и ещё его гневный голос срывается на фальцет.
В вотсапе есть хороший смайлик: тётенька рукой лицо закрывает. Вот примерно так я бы охарактеризовал свои ощущения.
Выходим. Уже темно. Надо перебежать горелое поле и укрыться в спасительной лесополке. Прямо надо бежать. Если дрон-камикадзе застукает на открытом пространстве, кто-то из нас тут останется по запчастям.
Слава Богу, перебежали, укрылись среди деревьев, дальше можно идти быстрым шагом, с интервалом пять-шесть метров.
Уходя в лес, я оглядываюсь на ленту окопов за спиной.
Где-то там, вдали, затаилось зловещее «очко Зеленского».
Где-то там, на подступах к нему, сжимая в окоченевшей руке автомат, лежит мой товарищ, неплохой в принципе, хотя и непутёвый по жизни, шебутной и какой-то «всё у него через жопу» парень.
Мы спустились в окопы впятером, а уходим вчетвером.
В моей жизни это в первый раз, но, к сожалению, не последний.
«Очко Зеленского» ещё соберёт свою кровавую жатву.
Мне ещё доведётся столкнуться с ним, и предыдущая моя история, с ночью в заброшенном домике, она тоже в основе своей имеет поход на «очко Зеленского», только уже не пешком, через окопы, а на броне БТРа…
Но это, как говорит Леонид Каневский, «уже совсем…» Ну, вы поняли.
Но знакомство моё с «очком Зеленского» состоялось именно так.
IV
…когда старший группы озвучил задачу, у меня стали ватными ноги, в животе возник противный липкий холод, а дыхание перехватило так, что я даже не мог сглотнуть.
Страх — абсолютно нормальная реакция человека на любое рискованное мероприятие, в котором ему предстоит принимать участие.
Но есть страх в пределах нормы, в рамках задачи, которую ты сам определяешь как посильную, а есть страх, возникающий перед препятствием, преодоление которого ты считаешь за пределами своих сил, за гранью возможного.
Задача заключалась в том, чтобы силами двух групп на броне БТР прорваться прямо к окопам противника, десантироваться с брони прямо к ним и произвести зачистку траншей на определённом участке. По мере выполнения задачи должна была подойти третья группа, а после закрепления на участке — подразделение регулярной армии.
Наша группа должна была идти первой, за нами, с большим отрывом, вторая. Третья стояла на фоксе и ждала нашего сигнала, что работа на первом этапе сделана.
Разумеется, речь шла о нашем горячо любимом «очке».
Сама по себе идея нестись куда-то по голому полю верхом на броне меня уже огорчила. Тут уже само по себе вырисовывалось нетривиальное задание. БТР не может пройти столь значительный участок незамеченным. Значит, по нему будут стрелять задолго до выхода на позицию. И дай Бог, если будут стрелять из стволки, а могут и заптурить. Да и стволка несёт мало хорошего: попасть в быстро едущий БТР не так просто, но скосить пехоту на его броне осколками вполне реально. А ехать внутри нельзя: план операции не оставляет времени на то, чтобы закрыть боковые люки, а с откинутым трапом БТР при отходе может зацепиться за деревья в лесополосе, на скорости это очень аварийно. Так, во всяком случае, объяснил нам экипаж бронемашины. Поэтому только сверху, как в Чечне.
Ладно. Предположим, мы проскочили, высадились, вломились в окоп и заняли какую-то его часть.
А если что-то происходит со вторым БТР? Если он не доезжает и вторая группа не приходит нам в помощь? Тогда срок нашей жизни исчисляется сроком расхода боекомплекта. Вломиться в окоп к хохлам мы, скорее всего, вломимся. Но выйти оттуда, если что-то пойдёт не так, мы уже не выйдем. Плана Б в схеме нет.
Дальше. Вломились мы в окоп, заняли свой сектор. Подошла вторая группа. Но, предположим, происходит что-то с третьей. А вероятность, что третий БТР подобьют по дороге, после того кипеша, какой мы там наведём у хохлов, стремится к 99 %. Мы, может, и проскочим. Каким-то неслыханным чудом проскочит вторая машина. Но на что они рассчитывают, посылая третью? Когда её уже будут ждать вся их артиллерия, танки, которые тут есть, птурщики и т. д. Это так и осталось для меня загадкой.
Но, предположим, прорвалась и третья. И вот вся наша зондеркоманда в окопах, все сектора зачищены, противник уничтожен или выгнан из траншей, и по нам начинает работать украинская артиллерия. А она начнёт работать, безусловно. И в этих условиях командир регулярного подразделения принимает решение своих людей на участок не заводить. А он именно такое решение и примет.
И что тогда? На сколько нас тут хватит? Час? Три часа? Двенадцать? Сутки.
Отойти, повторюсь, мы не сможем. Нас не случайно десантируют с техники, такой способ доставки обусловлен тем, что пешая группа до окопов не доберётся. Там не подойти. А раз не подойти, то, значит, и не уйти.
Поэтому любая хрень в схеме (а мой жизненный опыт гласит, что если в схеме есть херня, то херня обязательно произойдет) оставляет нам только один исход — героически погибнуть в окопах противника.
Хоть что-то, хоть где-то идёт не так, и нам конец.
И все это настолько очевидно и мне, и другим бойцам, и старшему группы, что понимание того, что наш жизненный путь подошёл к концу, приходит разом ко всем.
Отказаться невозможно.
От такой задачи могут отказаться контрактники, мобики, на такую авантюру никогда в жизни не подпишутся «Вагнер» и «Ахмат», но «Шторм Z» не может пойти в отказ.
Потому что мы для этого и существуем.
Потому что в этом и есть смысл формирования штурмовых рот Z из числа лиц, осуждённых за преступления разной степени тяжести.
Мы должны беспрекословно идти туда и на те задачи, куда невозможно или нецелесообразно посылать подразделения, сформированные из вольных людей. Это условие сделки.
Государство даёт нам возможность соскочить с очень нехилых сроков, получить досрочное погашение судимости и возможность вернуться к полноценной жизни спустя полгода, но мы берём на себя обязательства идти в самую жопу, в самое лютое мясо, туда, куда не пойдёт больше никто.
Никто сюда никого на аркане не тащил. Все вводные были озвучены на берегу.
Никто никого не обманывал, и у каждого было очень много времени всё обдумать.
И после того как ставки сделаны — надо соответствовать тому, на что ты подписался.
Поэтому мысль о том, что мы, похоже, подошли к финалу своего жизненного пути, пришла всем, но мысль сдать назад, сказать «везите меня обратно в колонию и хоть сколько навешивайте там сверху, но мы хотим жить, жить, жить…» — такая мысль никому в голову не пришла.
Не тот психотип у людей, которые здесь оказались. Не те жизненные принципы. Не та закалка.
Ну а если и были среди нас такие, кто поехал из лагеря на СВО, не понимая, куда он едет, то на исходе двух месяцев их уже с нами не было.
На этой войне первыми гибнут дураки и трусы.
Вот эти две категории тут долго не живут. Проверено.
Остальные тоже гибнут, да, но массовая утилизация касается только вот этих типажей.
Таковых тут не нашлось, поэтому, получив задание и изучив вводные, мы, с трясущимися поджилками, бледные и крайне неразговорчивые, начали собираться.
Выдвинулись по серости в точку сборки, ночь провели в лесополосе, а на рассвете за нами пришел БТР.
Операция началась.
Её ход и развитие я описывать здесь не буду. Слишком много подробностей приближают меня к границам недопустимого в военное время, полагаю, это всем очевидно. Возможно, когда-нибудь я накидаю что-то фрагментарно, по пазлам, из которых не сложить слишком уж откровенную мозаику.
Мой рассказ, он, собственно, не про батальные сцены.
Меня вообще не тянет на описание перестрелок, перебежек, взрывов там всяких, этого убило, того разорвало, а того хохла мы разъебали с двух стволов…
У этого всего, мне кажется, будет много певцов и без меня.
Ярких, красочных, со смаком и натурализмом.
Мне больше интересен внутренний мир людей, шагающих в бездну. Переживания, ощущения, мысли, эмоции. Проявление низменного и высокого.
И более того, особо важным мне кажется рассказать и раскрыть механизм поведения особой категории участников СВО. Тех, о существовании которых известно всем, но кто крайне редко появляется в медийной сфере.
Спецконтингент.
Люди, некогда совершившие не очень хорошие поступки в своей жизни и сознательно избравшие такую форму искупления и очищения.
Про нас, я думаю, никто не напишет, кроме нас самих. Это очень сложно сделать со стороны. Очень много вещей может раскрыть, изложить и объяснить только тот человек, который сам «потоптал зону» хотя бы годик.
Я потоптал. Я попробую.
V
Я бегу, продираясь сквозь заросли акации, по сухой, выжженной солнцем траве. Ветки, усыпанные колючками, цепляют меня за форму, ремень автомата, рюкзак, больно, до крови рассекают руки, норовят хлестнуть по лицу.
Здесь всё против нас, в этой проклятой стране.
Всё ненавидит нас.
И даже акация пытается схватить меня за плечо, задержать, не дать мне уйти от стремительно нарастающего свиста сзади. Я падаю на колючие, упругие ветки, они пружинят, пытаясь вытолкнуть меня обратно, навстречу оглушительному взрыву, разбрасывающему комья земли, поднимающему тучи пыли, раскидывающему где-то по верхушкам крон смертоносные, крутящиеся вокруг своей оси осколки с острыми, как бритва, краями.
Я поднимаю голову, оборачиваюсь. Упало недалеко. Там, сзади, один из наших, замыкающий. Зову его. Раз, другой. Он откликается. Одновременно спереди зовут нас обоих. Откликаюсь я.
— Живы? Нормально все?
— Нормально.
— Надо идти. У вас там «птицу» не слышно?
Не слышно. Ещё раз внимательно прислушиваюсь к звукам вокруг.
В небе чисто. Дрона нет.
Но его нет здесь, прямо над нами. Где-то там, дальше, он есть. Высоко в небе, неслышимый и невидимый. Но он видит нас, видит всю эту лесополку и оттуда, из своего прекрасного далёка, передает координаты своим артиллеристам.
С дрона видно, как семь человечков, рассыпавшись в длинную, с интервалами в 8–10 метров, вереницу, убегают, продираясь через кусты акации на юг.
Мы иногда пропадаем, скрывшись в зарослях, потом появляемся снова, когда они редеют. Упёршись в совсем уже непроходимые кущи, выскакиваем на дорогу и бежим, задыхаясь, изнемогая под грузом брони и оружия, вдоль лесополки по обочине, снова теряемся в кустах.
Дрон наблюдает и передаёт сигнал другим человечкам, таким же маленьким с его высоты, суетящимся возле орудий.
И человечки возле орудий отправляют по его наводке снаряд, летящий в кусты акации, чтобы настигнуть нас, продирающихся на юг.
Человечки чередуют свои посылки. Фугасно-осколочный, потом кассетный, потом снова фугасно-осколочный.
Снаряды ложатся точно по пути нашего отхода, но постоянно сзади. Иногда мне кажется, что человечки возле орудий прогоняют нас, не дают нам остановиться, но цели уничтожить нас у них нет. Ничего не стоит им сделать поправку, и снаряд ляжет не сзади, а точно в середине нашей вереницы. Но они и не пытаются этого делать. Они кладут снаряды сзади, отгоняя нас на юг.
Там, на юге, село. Село числится за нами и, судя по всему, плохо изучено разведкой противника. Нам дают отойти туда, вернее, гонят туда, чтобы увидеть, куда мы в этом селе пойдём. Возможно, они надеются вскрыть замаскированный пункт эвакуации с нашей помощью. Но, скорее всего, они ждут возвращения за нами бронеавтомобиля, который пару часов назад забрал большую часть нашей группы с другого места. Поэтому они гонят нас в село, на предполагаемую точку встречи. Накрыть нас вместе с «тайфуном», который они тогда проморгали, им интереснее, чем выбивать рассыпанных по лесополке семь человек.
Если бы мы шли кучей, как это часто делают необстрелянные новички, то это одно. Но мы разбиты на два звена по три и четыре человека, с интервалом двадцать метров, и внутри звена не сближаемся более чем на восемь шагов. Такую конфигурацию сложно и трудозатратно уничтожить в кустарнике. Поэтому нас и гонят на юг.
В селе мы находим разрушенный дом на окраине, с хорошо сохранившимся подвалом. Теперь нам не страшны кассетки, да и попадание малым калибром не особо нам страшно. Вызывать эвакуацию нельзя, нужно ждать. Противник отследил, где мы, и теперь будет наблюдать за этой точкой. Но долго он этим заниматься не будет. Нет у них технической возможности закрепить за нами постоянное наблюдение. Но пару-тройку часов придётся здесь переждать.
Человечки с жовто-блакитными наклейками на рукавах закидывают нам пару кассеток, чтоб не расслаблялись, и, кажется, теряют к нам интерес.
В подвале можно немного расслабиться. Снять каску. Скинуть тяжеленный рюкзак, набитый медикаментами, боекомплектом и запасными батареями для «азарта». Отставить в сторону бесполезный, покрытый слоем пыли автомат. Бесполезный, потому что уже скоро сутки, как мы мечемся по расхристанным лесополкам, уклоняясь от их артиллерии, расстреливающей нас с дальних позиций.
Не в кого стрелять.
Враг где-то там, далеко за линией горизонта, вне пределов видимости. Его глаза — это дрон, висящий в небе. Для нас он недосягаем. Смерть ищет нас с неба, падая вокруг минами, снарядами, кассетками.
Мы не боимся врага, мы пошли на встречу с ним, в очередной раз туда, в злосчастное «очко Зеленского», на этот раз путаными, обходными маршрутами, через несколько лесополос.
Мы готовы были схлестнуться с ним в стрелковом бою. Мы увешаны боекомплектом, гранатами, я тащу на себе кроме автомата «шайтан-трубу».
Но весь этот смертоносный арсенал абсолютно бесполезен, потому что враг выследил нас с помощью дронов, отгородился от нас ливнем тротила и стали на полпути к нему, и с трёх ночи мы только откатываемся, с точки на точку, на юг. Откатываемся, пересиживая обстрелы в чужих окопах, в заброшенных блиндажах, унося ноги через чёртову акацию, пропадая с его глаз и вновь попадаясь ему на глаза.
Мы не прошли по темноте, а днём об этом и говорить нечего. Миссия невыполнима. Теперь только уносить ноги, днём мы можем только или перебежками откатываться на юг, или шкериться где-то в окопах, блиндажах, да так, чтобы не навести на себя что-то очень серьёзное.
И в этом бесконечном беге на юг (смешной километраж, растянувшийся очень надолго) нам нет никакого проку ни от «шайтан-трубы», ни от ни разу не стрельнувших в этот выход автоматов, ни от болотного цвета увесистых «эфок».
Все это просто куча металла, не способная даже нас самих защитить от несущейся с неба смерти, оглушительных взрывов мин и противного треска кассеток. Мы как дикари эпохи колониальных войн, с луками и стрелами против «максимов» белых сахибов.
«Киплинг или Бэллок? — пытаюсь вспомнить я автора строк, откинувшись спиной на стену и закуривая сигарету. — Кажется, Бэллок… Ну да, конечно. У Киплинга немного другой ритм в оригинале, хотя в переводе на русский они очень похожи».
Наверху, у входа в подвал, надрывается «азарт». Наконец-то нам удаётся связаться с командованием. Командование недовольно нашим отходом:
— Что значит невозможно пройти, кроют артой? Там всегда кроют артой. И всегда будут крыть. Задача должна быть выполнена. Возвращайтесь на исходные позиции и по серости повторите заход. Пожрать и воды возьмёте там-то и там-то. Всё. Конец связи.
Я устало закрываю глаза.
Я надеялся, что хотя бы сегодня нас отведут и на повторное выполнение задачи мы выйдем как минимум завтра вечером, с учётом изменившихся вводных.
Но надо возвращаться сегодня.
Что бы на сей счёт сказал Киплинг или Бэллок? Наверняка что-то бодрое, пафосное.
Но не всё ли равно? Киплинг и Бэллок, увы, сейчас на той стороне. Это же их мир, их цивилизацию, воспеваемую ими систему ценностей защищают сейчас человечки, посылающие нам кассетки под двери подвала.
Хорошие туземцы, присягнувшие белому сахибу. Верные, преданные, стойкие… Как там он писал про облагодетельствованных, «полулюди-полузвери»?
«Нет, — пресекаю я эти размышления, — настоящий талант, настоящие произведения, культура, литература, искусство, кино — это универсальное наследие человечества, стоящее выше сиюминутных распрей и смут. Настанет время, и все встанет на свои места. Поэтому… — щелчком пальцев отправляю окурок в сторону хрипящей радейки, — не будем отрекаться ни от Киплинга, ни от Бэллока. В конце концов, среди этих достопочтенных джентльменов есть и тот, кто сказал:
P. S. Ценой каких-то невероятных ухищрений в ходе переговоров с командованием старший группы добился-таки того, чтобы в этот день нас всё же вывели. Мы вернулись в расположение.
Следующий поход на «очко Зеленского» состоялся много позже.
Но это, как говорит Леонид Каневский…
Ну, вы поняли.
VI
Был у меня в колонии очень хороший товарищ.
Назову его так, как его звали: Андрей Владимирович.
Андрей Владимирович занимался вопросами коммунального хозяйства в одном хорошем городе Свердловской области.
Андрей Владимирович имел с кем-то неразрешимый хозяйственный спор и по итогам его отправился на 5,5 года лишения свободы в исправительную колонию общего режима.
Поэтому мы с Андреем Владимировичем были коллеги и входили в клуб «159-чиков».
Все «159-чики» на любой зоне представляют собой некий особый клуб, со своими неформальными, термитными связями.
Даже если «159-чики» не общаются друг с другом, то они всё равно друг друга знают.
— Известен ли вам сэр Арчибальд?
— Да, конечно. Мы не знакомы лично с сэром Арчибальдом, но я знаю, что он достопочтенный джентльмен.
Изредка в этот клуб пытается пробиться шпана, осуждённая за «здравствуйте, я сотрудник службы безопасности…».
Но такие люди в клуб не допускаются.
В клуб вход открыт только с ч. 3 и выше.
И конечно, никаких «сотрудников службы безопасности Сбербанка».
Серьёзные люди, с серьёзными сроками, с многомиллионными ущербами и желательно с серьёзными терпилами.
Пенсионеры с выпотрошенными карточками — с такими терпилами в клуб «159-чиков» не пускают.
Ну и конечно, надо иметь отношение к бизнесу или госслужбе.
Наврать не получится.
«159-чики» пробивают друг друга до седьмого колена.
И если вдруг выяснится, что за бизнесмена выдаёт себя рядовой фармазон, а в реальности его знать никто не знает, то ворота клуба перед этим человеком закрываются наглухо.
Ну и конечно, в этой среде есть условные пароли и коды. Грубо говоря, есть некий условный Иван Иванович или Сергей Сергеевич, немедийная фигура, но лпр. И если ты не знаешь его или хотя бы кого-то из его окружения, то какой ты, к черту, «159-чик»? Ты — обычный мошенник, а не уважаемый человек, павший в неравной битве с коррумпированными чиновниками и продажными копами. Тебе не место среди джентльменов.
Ну так вот.
Я соответствовал всем критериям настоящего «159-чика» и был в клубе.
Но в клубе этом я был самой-самой несолидной персоной. Вот прямо где-то у входа.
А Андрей Владимирович был патриархом этого клуба, его негласным председателем, вождём и авторитетом всего сообщества.
Даже старший брат стендап-комика Александра Незлобина, тоже член клуба и мой солагерник, бледнел на его фоне.
С Андреем Владимировичем мы сошлись на ниве общей оценки происходящих в стране и в мире событий, одинаковом понимании устройства нашего государства и общества, знании его институтов и механизмов. В том числе и того, в жерновах которого мы оба были. Не много людей в нашем окружении готовы были, пусть даже в приватном разговоре, обозначить реальную роль всего этого «чёрного, людского хода» как одной из ветвей власти империи ГУ ФСИН, управляемой из одного места и подчинённой общим деловым интересам.
Мы не давали оценку этому явлению ни с позиций «хорошо», ни с позиций «плохо».
Такова была реальность, и наше дело было просто её видеть и понимать такой, какая она есть.
И это понимание подтолкнуло нас к одному и тому же выводу: нет никакого иного выхода из сложившейся системы координат, кроме как радикального её разрушения внутри самого себя.
Выход в зону проведения СВО — это больше, чем сокращение срока и досрочное погашение судимости.
Это единственная форма освобождения.
Другой формы системой не предусмотрено.
Мы в одно время поняли с ним, что с колебаниями и сомнениями надо заканчивать.
Что всегда в нашей жизни будет что-то, что будет нам мешать сделать этот шаг в неизвестность.
Всегда найдётся основание отказаться от того, чтобы поставить на кон свою голову.
И никто не осудит.
Андрей Владимирович до того, как стать коммунальным хозяйственником, служил в армии.
Он профессиональный военный, оканчивал училище в Новосибирске.
Проходил службу в ЗГВ.
В каких это всё было годах, я могу сказать лишь навскидку, но прикинуть можно, зная, что ему 58 лет.
Армия отставила на нём неизгладимый отпечаток.
Выправка, стать, чёткие, без блядомудрствований, рассуждения.
Но не был он и гротескным солдафоном из анекдотов. Ему были свойственны широта кругозора, гибкость мышления, способность понимать и выслушивать чужую точку зрения. Именно поэтому он пользовался уважением всех.
Блатные и администрация учреждения, вплоть до Хози включительно, все видели в нём фигуру и все считались с ним.
Андрей Владимирович стал для меня тем небольшим усилием, которое было нужно мне, чтобы я всё-таки решился на тот шаг, который я сделал.
Я был готов, я созрел, я принял решение, но чего-то совсем немного мне не хватало.
И я вздохнул с облегчением, правда, когда однажды, после очередного нашего разговора, что надо ехать, он вдруг сказал твёрдо:
— Ну всё, тогда завтра утром идём к операм.
Всё. Точка была поставлена. Сомнения отброшены, колебания пресечены.
И мы начали ходить к операм.
Вдвоём.
Мы ходили, ходили, ходили, ходили.
Меня одного опера бы, наверное, прогнали на второй раз.
Сказали бы: хватит сюда ходить, сиди и жди, ты в списках.
А в списках у них было к тому времени 108 человек, и они по крупицам отбирали оттуда людей в формирующиеся партии. Я бы, наверное, так и потерялся в этом списке.
Но Андрея Владимировича они прогнать не могли. Не тот был человек. Не та фигура.
И мы ходили, ходили, ходили…
И так было до того дня, пока сам начальник оперов, встретив нас на лестнице в штабе, не сказал нам: вы в списке, и вы едете однозначно.
И Андрей Владимирович каким-то своим чутьём уловил, что это так.
Мы возвращались на швейку, шёл дождь.
Я шёл нахохлившись, как злобный воробушек, а он… А с него будто лет десять слетело. Он прямо воспрянул духом. Это был совсем другой человек. Не уставший, старый зэк с потухшим взглядом, а снова тот бравый капитан из ЗГВ.
Я скептично сказал: да болтает он, Андрей. Нет ему веры. А он сказал: «Нет. Я его глаза видел. Он со мной не как с зэком говорил, а как с офицером».
Вот прямо так и сказал.
Я махнул рукой. Эк тебя понесло, Владимирович.
А через три дня нас и ещё троих дёрнули в оперчасть, снова переписали наши данные и сказали: готовьтесь. Вы едете с июльской партией.
А потом мы сидели в курилке на промке, и я смотрел на окружающие меня цеха, кучи досок, горы опила и поверить не мог, что это все на самом деле не сегодня, так завтра станет перевёрнутой страницей.
— Самое страшное в моей жизни уже случилось, — сказал Андрей Владимирович.
Я отвлёкся от своих мыслей и повернул к нему голову.
— В 1997-м. У нас с Наташей был один-единственный сын…
Он никогда не рассказывал мне о детях.
И сейчас не смог.
Просто чуть-чуть приоткрыл что-то.
А потом пришёл день, когда дневальные по всем баракам, где были добровольцы, скомандовали «С вещами в штаб».
И мы поехали.
И Андрея Владимировича по особому указанию из управления по Свердловской области сняли с этапа, когда он поставил уже ногу на подножку автозака.
Кто-то из «друзей» постарался.
Чьей-то липкой, грязной заднице очень не хотелось, чтобы Андрей Владимирович вернулся домой в январе.
Потому что, вернувшись в январе, он бы с очень многих спросил за всё, что пережил с 2017 года. Его же то закрывали, то отпускали. Ломали бизнес, убивали нервы, не давали нормально жить и работать. Мучили посредством его мытарств жену.
Я уехал, а он остался.
Наши дороги разошлись.
Но его супруга звонила моей, узнавала для него информацию обо мне.
Уже в сентябре, когда я был в городе Т., он сам позвонил мне.
Узнал, как дела, посоветовался, что надо брать с собой.
Сказал, что не сдастся, что всё равно вырвется.
И вырвался.
В октябре его супруга написала мне, что Андрей Владимирович всё-таки уехал на войну, пусть и по новым правилам.
Его восстановили в звании, дали роту.
Где он сейчас, на каком направлении, я не знаю.
Больше мне не удалось связаться ни с его женой, и сам он мне не позвонил. Но я надеюсь, у него всёхорошо.
Больше меня поразило и тронуло то, с каким достоинством и гордостью написала мне его супруга: «Андрей Владимирович вернулся на работу».
Пожилая женщина, которая с 2017 года тащит на себе остатки его бизнеса, которая бесконечно устала, которая переживает и, конечно же, боится за своего мужа, она всё равно будто сама обрела вторую молодость, когда снова стала женой офицера, когда перестала быть женой зэка.
Я надеюсь, судьба исчерпала свои удары ей.
Я надеюсь, им доведётся провести остатки своих дней вместе и всё будет хорошо.
Ну а то, что он мне не написал…
Ну, видимо, занят человек.
Нет времени для лирики.
Он же вернулся.
На работу.
VII
Стальное хищное тело бронетранспортера, почему-то напоминающее мне щуку, летит по разбитой дороге вдоль полосы деревьев. Мы, сидя на броне, периодически прижимаемся к его холодному телу, чтобы не зацепило ветками.
Руки зябнут от прикосновения к металлическим частям, за которые надо держаться. А держаться необходимо: любая сильная встряска может смести тебя на землю.
Я держусь обеими руками, периодически оглядываясь по сторонам.
В прежние времена, опиши мне всё происходящее со мной сейчас в красках и задай вопрос, какая бы была моя реакция, я бы честно ответил, что впал бы в ступор, поплыл бы.
Но в реальности всё было совсем не так.
Даже мысленно попрощавшись с жизнью, я не потерял интерес и любопытство ко всему вокруг.
И когда БТР стремительно выскочил на поле из лесополки, набрав скорость, я не смог сдержать совершенно идиотский всплеск восхищения от открывшейся мне эпической картины, одной из самых ярких из того, что мне когда-то довелось пережить…
По нам открыли огонь практически мгновенно. До точки высадки оставалось не менее двух километров, а мы уже летели по голому полю под обстрелом.
С брони я вживую, впервые так ярко и откровенно, наблюдал совершенно кинематографические разрывы снарядов.
До этого все артобстрелы я пережидал или в укрытии, или уткнувшись в землю.
А здесь, верхом на броне, некуда было прятаться и оставалось лишь смотреть на клубы чёрного дыма на месте разрывов.
Стреляли они, конечно, не прицельно, разброс был совершенно дикий — справа, слева, по ходу, сзади — и достаточно далеко от нас.
Рёв двигателя заглушал свист прилёта и разбрасываемых осколков. Лишь один раз до моего товарища по левую руку долетели комья земли.
БТР то набирал скорость, то сбрасывал.
Периодически, на ухабах, подбрасывало так, что ёкало и без того сильно бьющееся сердце.
Господи, это же всё по правде…
Это происходит сейчас со мной. Это я сижу на броне БТРа с отбитой от тряски жопой, промерзшей от холода. Это мои руки синеют от холода и напряжения, вцепиявшись в… Нет, хоть убей не вспомню, за что я там держался.
БТР резко заложил вправо и набрал скорость, поле кончалось, впереди замаячила какая-то лесополоса.
Скоро спешка… скоро БТР тормознёт и даст три сигнала, и нам надо будет прыгать с его брони.
Что нас там ждёт? Сколько стволов будет по нам стрелять? Сколько из нас преодолеет пространство от БТР до бруствера, сумеет заскочить туда, в траншею? Что будет там?
А если пуля попадет прямо в голову, я успею на какие-то доли секунды осознать свою смерть или просто неожиданно погаснет картинка и всё исчезнет? Как это происходит?
Нам сказали, что у хохлов там какие-то пенсионеры, дедушки с пузиками. Мол, с дрона их видели. И что, когда БТР, подлетая, даст очередь по окопу, дедушки разбегутся, попрячутся кто куда…
Мы, конечно, не верим в это.
Но воображение все равно рисует доброго дедушку с пузиком, в надвинутой на глаза каске и то, как дедушка с пузиком успеет вскинуть автомат и выстрелить мне в голову.
У Ремарка, во «Время жить и время умирать», главного героя застрелил дедушка. И он успел увидеть красную вспышку.
Но откуда Ремарку знать про вспышку? Он это придумал всё. Это литературный ход. На самом деле никто не знает, как это.
Он вообще пиздобол, этот Эрих Мария Ремарк. Всю жизнь писал про страдания и рефлексии, а сам до восьмидесяти лет прожил на вилле в Швейцарии и трахал красивых женщин под кальвадос.
…Резкий грохот, и БТР просто замирает как вкопанный. Двое по правую руку слетают с брони, как мешки с песком. Я вижу, как один, упав, тут же вскакивает, а второй падает всем телом на спину…
Я теряюсь. Я делаю совершенно глупые вещи. Я продолжаю сидеть на броне и кричу не кому-то конкретно, а всём: «Что, слезаем?»
Нет, блядь, сидим на подбитом БТР посреди чистого поля и ждём развития ситуации!
Ну, это мне сейчас очевидна нелепость своих слов, а тогда вот была такая реакция…
Спрыгивать я не решаюсь, сползаю по корпусу вниз и, лишь когда жопа касается края машины, неуклюже отталкиваюсь и приземляюсь на землю.
Всё на мне: автомат, рюкзак, «шайтан-труба». Тот, кто держал в руках оружие, остался без него.
— Где мой автомат? — кричит товарищ с другой стороны БТРа.
Командир между тем орет:
— Отходим к лесополосе!
Цепочкой, друг за другом, бежим в сторону деревьев.
Экипаж БТР уходит с нами. Они без брони, без касок, без оружия. У одного лицо разбито в кровь.
Я бегу и думаю о главном: не сбить дыхание. Дышать ровно. Главное — не сбить дыхалку.
Во мне 63 кг. На мне бронежилет, каска, рюкзак, забитый медикаментами, пачками патронов, батареями для «азарта», автомат и «шайтан-труба». Грубо говоря, полменя.
Все это надо тащить бегом, не останавливаясь, по возможности дальше, дальше от БТРа.
Что с ним случилось, я не понимаю. Попадание? Не похоже. Мина? Вроде не было характерного взрыва. Это я потом узнаю, что мы на полном ходу влетели в противотанковый ров.
А сейчас я бегу к лесополке.
Все мы бежим к лесополке, а по нам уже работает миномёт.
Кто в лесу? Чей он? Кто там?
Я ничего этого не знаю. Должен знать командир, но я не уверен. Может, и он не знает.
Но на открытом месте нельзя стоять. Значит, вариантов нет, кроме как туда, под прикрытие деревьев, где, впрочем, может быть всё заминировано.
Тем не менее на душе мне легчает.
Странно говорить такое, но дедушки в окопах, очевидно, отменяются.
Человек больше всего боится неизведанной угрозы, а текущая мне понятна, я её проходил много раз: под прикрытием лесополки выйти из зоны обстрела в относительно безопасное место.
Выйдем, даст Бог. Главное, чтобы в лесополке не было дедушек с пузиками.
Мы бежим по дороге, вьющейся между деревьями.
Мины ложатся по правую руку, достаточно далеко. Я уже обстрелян к этому времени настолько, что по звуку понимаю, что можно не пригибаться, не достанет.
Меня обгоняет мехвод. Здоровый мужик в красной, росгвардейской тельняшке. Это плохо.
Хохлы не носят тельняшки, это орочья, мордорская одежда, непременный атрибут их пропагандистских роликов, где в них одеты грязные, пьяные, вонючие на вид кацапы, которым полуразложившаяся панночка из «Вия» серпом режет горло, бормоча что-то на мове…
Мехвод неожиданно тормозит, поворачивается влево, кричит кому-то:
— У тебя есть связь?
Идёт в лесополку.
Слава Богу, в лесополке наши.
— С Н.Н. можно через тобой связаться?
Значит, только миномётный обстрел таит для нас угрозу. Но это ничего, ничего, ничего….
Не теряя темп, чтобы не сбить дыхалку, я бегу дальше.
Пробегаю метров пятнадцать и слышу сзади две автоматные очереди.
Слышу топот за спиной.
Истошный, надрывистый крик:
— Хохлы!!!! Уходим!!!!
Не наши в лесополке. Не у наших мехвод запросил связь с Н.Н. — крупный чин, позывной которого совпадает с названием большого российского города.
Услышав его, хохол сказал: «Щас я тебе покажу Н.Н.» — и метнулся к оружию.
Двое наших, замыкающих, стали свидетелями этой сцены, выйдя из-за кустов, и убили его. Но сами не ушли. Один за другим полегли там от огня его побратимов.
Я узнал это позже, от оператора дрона соседней части, который видел всё происходящее. Тогда я не знал, что с ними произошло. И про убитого хохла я не знал.
А мехвод улизнул, успел убежать. Обогнал меня на дороге, всё так же крича:
— Хохлы, хохлы!!
Сейчас я понимаю, что, если бы он не свернул в лес, а, не заметив хохла, прошёл дальше, тот вышел бы прямо на меня и, увидев на мне белые ленты, расстрелял бы меня сбоку. Я бы даже ничего не успел предпринять, скорее всего.
А так я ушёл далеко вперёд.
Но теперь это уже мало что меняет. Вся лесополка будто зашевелилась. По нам открывают огонь с двух сторон.
Будто вши по гаснику, отовсюду ползут хохлы. Так нам кажется. Будто их сотни, тысячи, миллионы. Они кругом. Они везде.
Мы бежим.
В кино пули свистят, издавая характерный, эффектный звук. Я всю жизнь представлял себе, что и в реальности оно так.
Но киношный свист пуль вообще никакого отношения к реальности не имеет.
Пули не свистят. Они издают неприятный стук, воспроизвести который, описать мне сейчас очень сложно. Но его надо один раз услышать, и больше его ни с чем не спутаешь.
Я перебегаю открытые пространства с той же скоростью, что и бегу под защитой деревьев. Всё, уже мне не изменить темп, несмотря на смертельную опасность. Я бегу так, как бегу, ровной, равномерной рысцой, уповая только на Божью защиту. Малейшее изменение темпа — и я задохнусь, и потом мне не восстановить дыхание. Упаду, сяду, остановлюсь. А это смерть.
Между деревьями мелькает крыша дома.
Резко, как из-под земли, всплывает покорёженный, прострелянный дорожный указатель «Н-ка».
Прохожу мимо него, всматриваясь в название, не зная ещё, насколько важным в моей жизни станет этот населённый пункт.
Не знаю я и того, что в эти секунды жизнь моя и моих товарищей висит на самом тонком волоске за всю эту историю.
Что мы все на мушке своих же, русских солдат, строго проинструктированных уничтожать всех идущих с севера, потому что там наших нет.
Доли секунды отделяют нас от гибели. Спасают белые ленты на руках и ногах. Спасает колебание наших, нежелание убивать, пока нет железной уверенности, что перед тобой враг (нежелание, характерное для многих наших воинов, заплативших за него жизнью, заколебавшихся там, где надо уверенно и без рефлексий стрелять).
Спасает нарушение чёткого приказа во имя каких-то более высоких, что ли, ценностей.
Так или иначе, но они подпускают нас, и вот я уже вижу, как наши встречаются с нашими. Как изнеможённо падает один из моих товарищей на землю. Вижу незнакомых солдат, окруживших наших бойцов.
Сам бегу к ним, сам опускаюсь на землю, потому что налитые свинцом ноги не могут уже держать ни мой вес, ни всё, что на мне.
И буквально через минуту этот сраный стук.
И все бросаются кто куда: солдаты на позиции, а нашим командир кричит:
— Уходим!
Вся сволочь, расшевеленная нами в лесополке, выползает, как болотная нечисть, следом за нами сюда, на окраину села.
Начинается перестрелка.
Я из последних сил поднимаюсь с земли, бегу за своими и…
…оказываюсь в начале одного из своих более ранних рассказов.
Широкая улица. Я на углу дома. Мои на той стороне, бегут под прикрытием домов и деревьев вниз, отстреливаясь на ходу.
А я смотрю то на фонтанчики пуль на дороге, то на их удаляющиеся фигуры.
Мне кажется, вечность я смотрю на это.
Но по факту решение принимается очень быстро: мне не перебежать улицу, слишком плотный огонь по ней.
Я откатываюсь назад, падаю за крыльцо дома. Скидываю с плеч рюкзак.
Один из солдат, местных, оборачивается ко мне:
— Что со своими не ушёл?
— Отсекли, — коротко отвечаю ему, занимая позицию.
Тот кивает, всё понимая.
Я выпускаю первую, короткую очередь в сторону лесополки, где засели хохлы.
Начинается моя «н-кая эпопея», одна из самых ярких, насыщенных и эмоциональных страниц моей жизни длиной в трое суток…
VIII
Мальчик погиб самым первым. И как бы нам ни было страшно за себя, в первую очередь его столь быстрая смерть потрясла нас всех.
Дом был весь окутан пылью от разнесённой стены. Её клубы, как дым, выползали в дальнюю комнату, где находился я.
Я только что проснулся буквально в огненном аду.
Стрелкотня кругом, во дворе разрывы, пыль, что-то где-то горит. Кто-то орёт.
И всегда, сколько бы вас ни было, найдётся кто-то один, кто обязательно скажет:
— Всё, нам пизда….
Посмотрим.
Может, да. А может, и нет.
Maybe rain, maybe snow
Maybe yes, maybe no…
Надеваю бронежилет, каску. Со двора, через проём выломанного окна, что-то прилетает, больно жжёт бедро. Крови нет, штаны целые. Видимо, раскалённый осколок прижёг.
Узнаю характерные выстрелы за стеной, вернее, за тем, что от неё осталось.
«Брэдли».
Всё, как я говорил.
У нас у каждого в жизни была ситуация «а я же говорил!». Но, положа руку на сердце, она всегда притянута к событиям постфактум.
Но не в моём случае и не сейчас.
Я говорил. Я ошибся только во времени.
Я сказал, они приедут в пять, а они приехали в 3.30. Всё, как они любят.
Внаглую подлетает «Брэдли» и высаживает десант, а группа поддержки подтягивается из лесополки.
Мы с Мальчиком, стоя «на глазах», спалили их перемещения ещё позавчера.
Лупили по ним с двух стволов. Подтягивали людей. Обстреливали кусты, где они собирались с разных точек.
Прибежал командир, орал:
— Куда вы стреляете, там никого нет!
Ну конечно, сейчас там уже никого нет.
На следующий день всё повторилось. Лесополка за ними, они приходят и уходят, когда хотят. Выползают из своих нор и идут мимо моих товарищей, тех двух, что шли замыкающими. Они отпинали их тела с дороги, и они теперь лежат там.
Может быть, лицом в землю, а может быть, лицом к небу. Вот они идут мимо них, по той дороге, по которой мы убегали на юг. Перед знаком «Н-ка» рассеиваются, расползаются. Они всегда рядом. Они всё держат на контроле.
Поэтому наши выставляют «глаза» не только в домах на окраине, но и там, под знаком. Выставляют ночью, а днём их выкашивают кассетами и дронами. Там негде спрятаться, люди лежат под кустами буквально.
Вечером, перед тем как стемнело, через проём в стене я наблюдал ужасную сцену, как метится камикадзе в одного из наших бойцов, заползающего под дерево. Он ползёт и из положения лёжа в отчаянии бьёт по нему из автомата, дрон кружится, выбирая траекторию и с усилившимся визгом, режущим ухо, атакует. Яркая вспышка, взрыв. Но он рванул где-то в ветках. Может быть, наш и выжил.
Весь вечер вокруг творилось что-то непонятное.
Никакой информации у нас, засевших в этом доме на окраине Н-ки, нет. Нет понимания четкой картины.
Наша арта работает по полю с правой стороны.
Кто там, что там — мы не понимаем.
Один из взрывов подкидывает до высоты третьего этажа полчеловека. Он летит, кувыркаясь, и машет ручонками, как крылышками.
Кто это? Мы не знаем. Как эти люди оказались на поле?
А что, если это наша вторая группа со второго БТРа, думаю я. Они прорвались, заняли окопы, сидели там сутки. Потом, не дождавшись никого, начали откатываться, отползать через поле, вытесненные хохлами, и это сейчас их разделывает наша же артиллерия, приняв за противника.
Может быть всё что угодно.
Когда стемнело, всё подуспокоилось.
Но оттуда, из лесополки хохлов, кто-то кричит, зовёт на помощь на чистом русском языке, без хэканья.
Так зимой волки запускают на окраины деревень свою течную суку, чтобы одуревший от похоти кобель побежал за ней в темноту, где его ждут клыкастые разбойники.
Так и хохлы выманивают кого-то из нас чистым, рязанским говором.
Но меня они точно не выманят. Я-то знаю, что там, за знаком. Там смерть.
Это для моих новых товарищей всё, что лежит к северу от Н-ки, terra incognita. Но не для меня. Я оттуда пришёл. Прибежал.
Там, от самого нашего, уже, наверное, сгоревшего, разбитого БТРа и до этого знака, — царство Аида, поглотившее двух моих друзей. Там враг. Там смерть.
И оттуда с полуночи прилетают снаряды из танка.
Выстрел, мгновенный прилёт.
Снаряд из танка узнаешь по скорости, по ощущению мощи, с которой он летит и врезается в землю.
Окучивают окраину села. Очень плотно. Снаряды ложатся прямо рядом с домом. Всё сыпется, пыль через все щели проникает внутрь. Земля летит в выбитые окна.
Я только и успеваю, что падать со своего наблюдательного пункта на пол, вжиматься в него, молиться, чтоб пронесло. Потому что не выдержит наш домик прямого попадания, рассыпется в хлам.
Со мной в этой комнате Мальчик и двое дагов, посланных на усиление. Даги классические, чёткие. Красные мокасины, заниженная приора — вот это вот всё. Дагам абсолютно насрать на танк и на всё на свете, они покушали и спят в обнимку с калашами. Мальчика я тоже пожалел и отправил спать.
Остался дежурить один.
Танк отработал боекомплект, теперь у меня будет небольшой перерыв.
Можно чуток расслабиться.
Я закуриваю и смотрю на часы. Два. Я должен дежурить до четырёх, но внутренний голос говорит мне, что пост надо сдать в три. Рационального объяснения нет. Я просто понимаю, что так надо сделать.
Неожиданно в комнате становится светлее. Поднимаю голову и выглядываю в проём.
Где-то далеко висит, будто замерший, раскинувшийся на полнеба зеленоватый фейерверк. Рассыпаясь на кучу бесчисленных огоньков, медленно опускается вниз.
Это фосфор, догадываюсь я. Первый раз вижу такое, и это впечатляет. Не хотелось бы мне сейчас оказаться там, куда опускаются эти огоньки.
Но и здесь скоро будет нескучно.
Я это знаю наверняка, весь мой скромный опыт, знакомство с тактикой ВСУ говорит мне, что эти движения последних двух суток неспроста.
Утром, на рассвете, они атакуют при поддержке «Брэдли».
Вот здесь, на выезде из села, стоит наша сожжеённая БМП.
Вот сюда, на этот пятачок, они и выкатятся, разнесут в хлам все наши домишки и высадят десант.
А те, кто сейчас залёг там, в темноте, перед нашими «глазами», подтянутся.
«На глазах» нынче выставлены десять человек по обе стороны дороги. Участь их незавидна. Этот наш авангард попадёт в самый лютый замес, под огонь с двух сторон. Мало кто выберется оттуда.
С вечера ещё я делюсь своими соображениями с командиром. Он только машет рукой: мол, не нагнетай. А между строк я читаю: «Много там про себя думаете, в «штормах» своих. Специалисты хреновы».
Ну, о, кей.
Тем не менее делаю всё по-своему.
В три я бужу старшего, говорю, что рубит сильно и надо мне немного поспать. Он с пониманием, потому что сам говорил, будет рубить, буди, сменимся.
Предлагает мне лечь в этой же комнате, место есть.
Но я говорю: нет, пойду я туда, где раньше спал. И ухожу.
Надо поспать часика два, пока не приехали гости, думаю я.
Но поспать мне удалось в ту ночь только полчаса.
IX
Мальчик был родом из станицы Кущёвской. Когда Цапки резали ту несчастную семью, ему было шесть лет.
Но события те ему были известны, и отзывался о них он с некоторой важностью. Так знакомые колумбийцы говорят о временах Пабло Эскобара. Он, конечно, злодей и исчадие ада, и наркобизнес — это плохо, но…
— А знаешь, чем ещё известна твоя станица? — неожиданно спросил я его.
Он подумал, пожал плечами и покачал головой.
— В 1942 году под станицей Кущёвской состоялась одна из последних конных атак в истории. Наши казаки, используя рельеф местности, подобрались к расположению немецкой части и атаковали её в конном строю, опрокинув и рассеяв.
Не удержавшись, я помолчал немного и продолжил щеголять своими знаниями:
— А несколько позже такую же атаку провели итальянцы из полка «Савойя кавалерия». На сей раз вырубили наш стрелковый батальон. И поставили точку в многовековой истории конных боёв. Больше мне неизвестны случаи атак кавалерии в конном строю с холодным оружием.
Он с недоверием посмотрел на меня и спросил:
— Откуда ты всё это знаешь?
Я почувствовал себя капитаном Миллером из «Спасти рядового Райана». Глядя на столб с оборванными проводами, подумал, как было бы классно, если бы сейчас на нём висел репродуктор и над этими покорёженными домишками полетел раскатисто голос Эдит Пиаф. Было бы точь-в-точь как в той сцене, когда Миллер болтал о чём-то с Райаном перед их последним боем.
Хотя нет, фразу «я — учитель» Миллер сказал совсем в другом месте, когда решался вопрос обнулить или не обнулить эсэсовца-пулемётчика.
Впрочем, это не важно.
— Я учился на историческом факультете. Знаю немного таких вот вещей.
— Ого. — Мальчик смотрел на меня одновременно и с удивлением и с недоверием. — А как же ты оказался в тюрьме?
Чёрт… Да я сам себе не могу дать однозначный ответ на этот вопрос.
Как же я оказался в этой сраной тюрьме, путь из которой привёл меня сюда, на окраину какого-то безвестного хохляцкого села в двух километрах от «очка Зеленского». Какие-то раздолбанные БМП, какие-то разрушенные дома, какие-то люди, с которыми я в прежней жизни ну никак бы не пересёкся. Хохлы эти говённые в соседнем лесу. Перестрелки, перебежки…
И всё это часть пути, на который я встал не вчера и не позавчера.
Прежняя жизнь оборвалась в одночасье тем солнечным апрельским днём. Утром она ещё была, та жизнь, а в три часа дня — перечёркнута, разорвана, изломана с лязгом наручников на руках.
Но именно в тот же проклятый день, с размаху опустившись на самое дно, я оттолкнулся от него и начал медленное и мучительное всплытие. Шаг за шагом, день за днём, но именно тогда, когда была перечёркнута моя прежняя жизнь, я начал своё возвращение к ней.
Как змея, менял я свои шкуры: вольную одежду поменял на чёрную робу с полосками, а робу уже здесь, на Украине, на камуфляж.
Но всё это этапы одного пути.
И мертвая окраина Н-ки — это один из них.
Мальчик тем временем ждал ответа.
Терпеливо смотрел на меня, погрузившегося в свои мысли. Я поднял голову, так и не зная, что ему ответить.
Вспомнился Павел Кольцов из «Адъютанта его превосходительства». «Видишь ли, Юра…»(с).
Не помню, что я ему ответил тогда.
Зато хорошо помню, как присел рядом с ним, лежащим лицом вниз, вытянувшим ноги. Как внимательно осмотрел его тело, пытаясь понять, что убило его. Ни крови, ни ран, ни пробития на бронике я не увидел. Переворачивать его я не стал. Внешне он напоминал крепко спящего человека. Но он был мёртв. Руки и ноги его уже окоченели.
Я потрепал его по затылку. Каску он принципиально не носил, хотя мы все ругались с ним из-за этого. Но он упорно не надевал её, щеголяя в своей балаклаве.
А сейчас лежал с непокрытой головой, лицом вниз.
Чёрные как смоль волосы, без единой сединки. И они уже никогда не станут седыми.
— Прости, Тёма, — прошептал я. — Прости, но нам надо решать сейчас свои вопросы.
X
…мы отбили первый натиск хохлов. С юга подошла наша техника, танк и за ним БМП.
Едва послышался лязг гусениц, «Брэдли» сорвался с места и умчался обратно, в сторону Работина.
Пехота, разбившись на группы, поползла, прячась в темноте, к домам.
К соседнему справа и к соседнему слева.
Но не к нам.
Наш дом обработал «Брэдли», разнеся наружную стену, но пехота сюда не совалась.
До того, с полуночи до двух, конкретно по нашему дому работал их танк. Окучил вокруг всё что мог, но по нам не попал.
Видимо, у хохлов мы были помечены как занятый русскими дом, который готов к обороне. А остальные дома они рассчитывали взять, обойдя стороной, с флангов или с тыла.
Так оно и вышло. Им действительно удалось захватить и закрепиться в нескольких домах, но тем самым они сами себя загнали в ловушку.
Закончилось всё это тем, что их блокировали в этих домах, окружили и зачистили. А ряд домов снесли артой вместе с ними.
Взятый пленный пояснил произошедшее тем, что «нам сказали, там никого нет». То есть, по их расчётам, на окраине села были только мы в своем домике, а остальные были пусты. А основные силы русских сидят в глубине села и сюда не сунутся, сдадут окраину без боя.
Но не тут-то было.
Десант встретил очень жаркий приём.
Мы сидели у проемов в стенах, контролируя все четыре стороны света. Я наблюдал за двором, готовый стрелять в любого, кто мелькнёт в темноте. Сзади, на соседней улице, маневрировал танк, а прямо к нашему дому летела на бешеной скорости БМП.
Если рассматривать машины как зверей, то это было похоже на то, как несётся к своей берлоге рассерженная медведица, а кусачий шакал, поджав хвост, улепётывает от неё.
Не доезжая до нашего дома, БМП начала стрелять вдогонку «Брэдли».
Грохот её пушки был отличной музыкой для нас всех. Рёв мотора, лязг гусениц, яркие вспышки, ощущение мощи нашей, родной техники вернули бодрость духа, притупили страх.
Когда сидишь в домике из говна и палок (а у хохлов всё из говна и палок: страна, нация, культура, история и, конечно же, дома), а в тридцати метрах от тебя рычит американская БМП, это очень дискомфортно. Можно, конечно, попробовать вылезти из домика с «шайтан-трубой» и угомонить его, но у меня на это духу не хватило. А кроме меня, как выяснилось, никто даже стрелять из «шайтан-трубы» не умел.
И вот ты сидишь с автоматом в картонном домике, а за разрушенной стеной рычит и лязгает сталью страшенный зверь.
Конечно, когда он исчезает, а на смену ему летит БМП-2, стреляя на ходу, настроение прямо в гору.
Но долго ей тут задерживаться нельзя. Отстрелявшись, она даёт задний ход и уползает вглубь села.
А мы между тем продолжаем сидеть по позициям, наблюдая за всем, что происходит вокруг, но не выдавая себя. Вокруг стоит дикая стрелкотня, но мы ещё ни одного выстрела не сделали.
Только если они сюда сунутся, а они не суются.
Бой рассыпался на кучи перестрелок.
Бешено молотят из четырёх стволов старики из соседнего дома. Ну как старики, мужики-контрактники лет по 50–55. Крепко пьющие, а потому подуставшие на вид. Поэтому и выглядят как старики, и зовём мы их так.
Пальба идёт вдоль всей улицы вниз, видимо, какая-то часть десанта прошла по полю, задними дворами.
Мы пытаемся понять, что и где происходит, но снова у нас нет чёткой картины.
А её нет, потому что, вываливаясь в клубах пыли из разрушенной комнаты, через тело Мальчика, наш командир, раненный в обе руки, потерял рацию. Выронил, а следом её благополучно запинали куда-то. И в темноте её не найти.
Поэтому мы и сидим, как слепые котята, в полуразрушенном, разваливающемся домике и можем только гадать: или наши добивают хохлов, или хохлы добивают наших, или происходит самое ужасное, что только может произойти сейчас, — friendly fire.
Между тем наш домик периодически простреливают. И снова непонятно кто.
Мы не отвечаем. Сидим ждём рассвета. Необходимо срочно отыскать рацию, потому что ситуация становится очень опасной.
Соседний домик, очевидно, обстреливают свои.
Значит, по какой-то причине командование считает его захваченным. Но он ещё держится, хотя хохлы его атакуют.
Если так пойдёт дальше, то доберутся и до нас.
Срочно нужна связь.
Едва лишь светает, по дому нашему прилетает выстрел из РПГ.
Половина задней стены с грохотом осыпается. Теперь у нас нет не только передней стены, обращённой к противнику, но и тыльной.
Из РПГ бьют свои. Видимо, углядели внутри дома кого-то из наших и приняли за хохлов.
Я и двое дагов бросаемся в разрушенную комнату, времени нет, надо найти, достать из-под земли эту чёртову рацию. Ползаем по полу, не поднимаясь, чтобы не быть видными снаружи.
Находим. Связываемся с командованием, просим прекратить огонь.
В рации мат-перемат:
— Вы там что, блядь, ебаны в рот, вы какого хуя молчали раньше, щас бы вас коробочка разъебала…
А «коробочка» реально маневрирует на соседней улице и, кажется, выцеливает соседний дом со стариками.
— Кто у вас слева? — слышится голос в рации.
— Там наши, деды.
— По нашим данным, там хохлы.
— Да нет же, наши там, старики!
— Нет, там не может быть наших. Щас «коробка» будет разбирать домик. Аккуратнее там!
Командир орёт, умоляет повременить. Убеждает, что в домике наши, нельзя по нему стрелять.
В рации молчание.
Потом с нами выходят на связь:
— Сейчас мы поднимем дрон, у них пять минут выйти из дома и помахать рукой. Если никто не выйдет, разберём дом на хуй.
Пытаемся доораться до стариков. Они нас слышат, но не разбирают слов. Зовут одного из наших.
Тот орёт:
— Да я это, я!
Они снова кричат его позывной.
— Да здесь я! Слышите меня?
Они снова кричат его позывной.
Голоса срываются на хрип.
Орём все по очереди. Надо успеть. Надо, чтобы кто-то вышел из дома и махнул рукой дрону.
Старики кричат позывной нашего бойца. Не разбирают, что мы говорим.
Неожиданно там раздаётся частая, густая стрельба. Очень плотный интенсивный стрелковый бой.
Со своего места я вижу, как срывается и уходит вглубь села подлетевший к дому наш дрон.
Снова рация.
— Ну что там, блядь? Где твои старики, вышли?
— Там бой.
— Знаем, видим. Ну, раз не вышли, значит, загандошили их хохлы. Теперь они точно в доме.
Да, теперь они точно в доме. Крепость стариков пала. Штурманули её хохлы, и стариков больше нет.
А через минуту не будет и хохлов. И дома.
Никого и ничего там не будет.
Потому что «коробка» открывает огонь прямой наводкой.
«Коробка» хоронит всё, превращая дом в груду строительного мусора.
Снова шипит радейка:
— Готовьтесь к выходу. Сколько вас там?
— Ясно.
— Перемещаетесь вниз по улице в дом Н. Через три минуты выход.
Наши отводят людей с края села. Значит, дальше по всему этому участку отработают танки или артиллерия, а потом будет зачистка.
Мы выходим. Я оглядываюсь. Там в проходе остаётся лежать Мальчик. Сейчас он умрёт второй раз, в разрушенном и горящем доме. Его тело навсегда останется в этих руинах. Он не поедет домой даже в цинке.
Очень жаль.
Очень жаль, но нам надо бежать к дому Н. Ещё ничего не закончилось.
XI
Дом, куда нам надо отойти, рядом. Его видно прямо из проёма, оставшегося на месте стены.
Короткая перебежка, и мы на месте.
Но эта небольшая дистанция превращается в очень трудно проходимый участок, потому что на самом подходе к дому по нам начинают стрелять с другой стороны дороги, с расположенной неподалёку двухэтажки.
Кто-то падает на землю, кто-то, как я, ускоряется, чтобы скрыться в дворовых постройках.
Разбираться, кто по нам стреляет, некогда.
Но, скорее всего, свои.
Часть наших добегает до дома и заскакивает внутрь. Я не решаюсь, я забегаю в ближайший кирпичный сарай и прячусь там.
Стрельба умолкает.
В окне дома появляется незнакомый мне мужик, вскидывает автомат. Понятно, что это свой, но он меня не знает, я же на позициях чужой части.
Я говорю, кто я и откуда, называю позывной.
Он спрашивает куда-то вглубь дома у кого-то из тех, с кем я пришёл, есть ли такой. Там подтверждают.
Все вроде нормально, утряслось, но хохлы начинают обстрел. Кассетки мне не страшны, но вперемежку с ними они кладут мины. Первая ложится далеко от меня, но это вопрос времени, когда мина ляжет где-то неподалеку.
Кричу в дом, чтобы запустили. Мне открывают дверь, я в три прыжка заскакиваю на крыльцо и оказываюсь внутри.
Дом полон людей. Много раненых. Лежат, сидят на полу.
Из моего дома ранены все до единого, кроме меня. Всех ожидает эвакуация. Ну и я, соответственно, планирую эвакуироваться с ними.
Моя эпопея в Н-ке подходит к концу, мне уже пора выбираться к своим. Мало того что это сама по себе непростая задача, пора уже подумать, как чётко и убедительно объяснить, где я был и чем занимался эти трое суток, отбившись от своей группы. Ну и почему я не вышел из Н-ки раньше.
Я рассчитывал на поддержку местных командиров, которые видели, что я не пятисотился где-то в лесополке, а был на самом что ни на есть передке. Которые могут подтвердить, что возможности выйти из села у меня не было по причине интенсивных боевых действий, в которых я принимал непосредственное участие. Но сейчас тут всем явно не до меня.
Ладно, думаю, разберемся позже. Пока надо реально отсюда выйти.
До пункта эвакуации километр вниз по главной улице села. Но пройти этот километр задача нетривиальная.
Как только хохлы поняли, что десант провалился, они начинают крыть по селу из чего только можно. Судьба своих собственных солдат, которые ещё сидят где-то местами, по занятым домам села, их абсолютно не волнует. Это расходный материал, он уже списан.
Цинично глядя на вещи, украинское командование можно понять. Эти люди уже мертвы. Им выписан билет в один конец. Эвакуировать их никто не будет, да это и невозможно. То, что они сейчас ещё живы, то, что они ещё дышат, курят, ничего ровным счётом не меняет. Вопрос очень короткого времени, когда наши зачистят все места, где они засели, и убьют их. Так чего терять это время? И укрокомандование его не теряет.
Северную окраину Н-ки начинают разбирать с двух сторон одновременно. Те дома, в которых находились мы, накрывают наши, потому что там могут засесть остатки разбитых штурмовых групп противника, а вторую линию, включая дом, в котором сидим сейчас мы все, разбирают хохлы.
Пленный у нас уже есть, больше нашему командованию не надо. Насчёт остальных указания очень чёткие. Обнулить.
Сидя у стены на корточках, я внимательно слушаю «азарт», переговоры групп, выдвинутых на зачистку.
Ловлю себя на мысли, что впервые с моего прибытия за ленточку я наконец-то наблюдаю, как разделывают хохлов. Обычно это мы всё время откуда-то бежим, откуда-то откатываемся, эвакуируемся, теряем товарищей, технику, проваливаем задачи.
Но в эту игру можно играть и вдвоём.
Пленный доложил, что их было всего 18 человек. Сколько было в группе поддержки в лесу, он не знает. Но это и неинтересно. Тех отбили ещё утром и частично похоронили в домике стариков. Сейчас интересны только эти 17 человек, проникших вглубь села и рассыпавшихся по нескольким домам.
Происходящее напоминает сафари.
Хохлов вычисляют, блокируют и уничтожают с азартом и огоньком. Никаким добродушным русопятством здесь и не пахнет. Хохлов мочат безжалостно, жестоко, как опасных зверей, с очень нелицеприятными комментариями.
Они сопротивляются вяло, без отчаяния обречённых. Хитрый хохляцкий мозг не теряет надежду найти форточку, выскользнуть, уползти. В крайнем случае сдаться. Русские добрые. Они отведут в тёплый дом, дадут покушать и покурить. Сочувственно выслушают какую-нибудь слащавую блевотину, сварганенную на коленке, отправят в безопасное место, в тыл. А потом обменяют, сытого и жизнерадостного, на какой-нибудь наш полутруп, с отбитыми яйцами и распухшим лицом. Так думает хитрый хохол. Но сегодня не его день. Ни один не ушёл и не выскользнул из Н-ки. Все тушки были пересчитаны и оприходованы к вечеру. Баланс сведён.
Между тем нам надо перемещаться на пункт эвакуации.
То, что где-то мочат хохлов по окраинам, — это одно, а вот плотный обстрел наших домиков — это очень серьёзная проблема.
Одна из мин ложится прямо перед дверями. Осколки насквозь прошивают китайскую сыромятную дверь, проносятся в нескольких сантиметрах от моего лица, разрывают мышцы на руке старшего в этом доме. Бицепс пробит в двух местах, кость, к счастью, не задета.
Ранение старшего ускоряет процесс перемещения. Ему наложили жгут, всадили промедол. Подбирают ещё троих раненых и отправляют первой группой. Едва они выходят из дома, как тут же влетают обратно. С двухэтажки продолжают стрелять по нам.
Начинается выяснение, кто и почему по нам стреляет. С матами и угрозами как-то урегулируется вопрос. Всё, разобрались, можно выходить. Только группа выдвигается, всё повторяется снова. Снова ведут огонь с двухэтажки. Снова мат-перемат по рации.
— Вы какого хуя снова по нам ебашите?
— Мы не ебашим!
— А кто тогда ебашит?
— Хуй его знает….
«Хуй его знает» оказывается группой хохлов, засевших на втором этаже, тогда как наши, на которых грешили изначально, сидели на первом.
И всё это время о существовании этой группы хохлов никто даже понятия не имел, хотя они не скрывались, не прятались, а сидели на втором этаже здания и вели огонь по всему, что попадало в их поле зрения. Огонь, который после утреннего бардака всё списывали на friendly fire, матерились, орали, но вместо того, чтобы его подавить, бегали, ползали, прятались от него.
Теперь, конечно, вычислив хохлов, уничтожить их было делом времени. И их, конечно же, штурманули и уничтожили.
И можно было бы выдвигаться из дома и перебежками, под огнём хохляцкой арты перемещаться в сторону пункта эвакуации, но бардак с рассыпанными по селу хохлами упорно не желал прекращаться.
Запыхавшийся и бледный, вбежал боец, который все эти дни выполнял роль гонца из штаба, сказал: «Слышь, мужики… А у вас там за стеной на второй половине, по ходу, два хохла сидят с утра. Пленный сказал».
Ну то есть мы тут ходим, бегаем, гасимся от огня с двухэтажки, а у нас прямо под боком сидит гадьё, которое могло запросто нас положить всех до единого, когда мы, например, перебегали из дома в дом.
Отряжается группа, три человека, пулемёт ручной и два автомата, чтобы зачистить половину дома с хохлами.
Мы все по окнам на случай, если они ломанутся в окно на задний двор.
Парни уходят туда, начинается феерическая стрелкотня. Не скажу, сколько по времени, но долго. Возвращаются. Нет никого.
А куда стреляли-то?
Ну, по комнатам простреливали, вдруг они там.
Ясно. Охота за призраками.
Но хотя бы понятно, что двух затаившихся гадин у нас под боком нет.
Теперь точно можно идти.
И всё бы ничего, но по нашему и соседскому дому начинает работать танк. Не миномёт уже, не стволка, а танк.
Танк — это серьёзно. Это прямо совсем тяжко. Это ищи угол, садись на пол и просто молись, слушая, как от близких разрывов слетает черепица с крыши. И вперемешку с танком прилетают кассетки.
Тоже классика ВСУ по выкуриванию противника из укрытий: подавить психику врага танком (а танк очень серьёзно давит психику, много эффективнее стволки и миномёта), выгнать его наружу и покосить кассеткой. Ну или «польками», это ещё круче.
Но тут полек не было, а кассеты трещали по всему периметру.
По соседнему домику то же самое. Там сидит один из командиров и, видно, очень на взводе. Слышу, как по «азарту» он общается с артиллеристами:
— По нам предположительно работает танк. Расстояние полтора-два километра. Погасите его.
Те говорят: мол, примем меры.
Меры никакие не принимаются, мы не слышим ни одного выхода с юга, а танк между тем очень бодро и настойчиво разбирает наши домики. Соседский уже стоит без крыши, у нас, похоже, сейчас обрушится потолок.
А в воздухе, на минуточку, вражеские FPV-дроны. И если в нашем домике появится дыра в крыше…
«Азарт» шипит и хрипит, вызывают одного из наших:
— Слышь, а там что за техника у вас ходит?
Мы только сейчас во всём этом шуме и гаме разбираем лязг гусениц где-то в соседнем квартале. А из радейки очень нервно доносится:
— Блядь, откуда она пришла? С юга или с севера?
На юге наши, на севере — Работино.
Лязг уже ближе, но невозможно определить направление. Высунуться страшновато. У нас ничего, кроме стрелковки, нет. Все «шайтан-трубы» побросали, уходя из дома утром. Ничего не взяли с собой.
Какая-то гусеничная техника прогромыхала рядом с домом.
В «азарте» прямо истерика:
— Откуда, блядь, техника?! С севера или с юга?!
Вызывает артиллеристов, орёт:
— Уничтожьте её!
Я, как бы там ни было, не могу не пребывать в шоке от этого всего. Блин, ты командир. Ты на «азарте», на связи со штабом. У вас там что, никто не знает, что за техника ползает по селу средь бела дня? И если ты не знаешь, чья это техника, то зачем ты так категорично требуешь её уничтожить?
Я всё-таки сомневаюсь, что хохлы посреди бела дня прыгнули в «Брэдли» и полетели сюда из Работина. Утром, по серости, это да, но не в два часа дня же… А по радио в это время объявляют код воздушной тревоги. Я его второй раз всего слышу за всё время здесь. Это редкость, очень большая. Нам ещё вертолётов их тут не хватало.
Вертолёты, к счастью, не прилетают, может, куда-то в другое место улетели, но снова начинает работать танк. Соседний домик уже не скрывает паники и истерики:
— Уничтожьте! Эту! Тварь!
Тварь кладёт снаряды всё ближе и ближе.
Я с грустью думаю, что это совсем не весело пережить такое утро и в итоге сдохнуть под развалинами домика.
Я на кухне.
Здесь только я нашел свободный угол.
Сейчас пытаюсь найти что-то поесть. Танк танком, а есть надо.
Но — нечего.
Зато нахожу приличную шапку-пидорку. А у меня нет шапки вообще. А тут вот она, нормальная, новенькая.
Чья, спрашиваю у рядом находящихся бойцов. Всё жмут плечами. Всем неинтересно. Все уже замучались сидеть на корточках в этом домике и ждать, когда чёртов танк его разнесёт. А он его всё равно разнесёт когда-то. Там, похоже, всерьёз за нас взялись и решили добить. Возможно, за своё побитое в домах воинство мстят. А может, спалили через дрон своего пленного (он в соседнем домике сейчас сидит) и решили его ликвидировать, чтоб не выболтал чего. Хотя чего он может выболтать? Это совершенно классический олигофрен. Я уже успел посмотреть его допрос, снятый на телефон. Рагуль что-то мычит, кряхтит и делает вид, что не знает русский язык. Русский язык он в итоге вспомнил, после крайних мер физического воздействия, но мычать, и кряхтеть, и пытаться поковыряться в носу не перестал. Сверху уже пришёл приказ «животное не обнулять» и вечером вывезти в тыл.
Чтобы вывезти его в тыл, надо подвинуть кого-то из наших трехсотых, машина не резиновая, а с этим пленным надо ещё отправлять конвой.
Предлагается хохла всё-таки обнулить, а наверх рапортовать, что он умер в результате несчастного случая, но резко противится некий штабной работник, для которого это шанс вырваться из Н-ки, хоть ненадолго, потому что именно ему поручено конвоировать мычащего рагуля в распоряжение ФСБ.
Так что хохлу несказанно повезло, чекисты его точно не обнулят.
Ну, пусть живёт, раз так. Если, конечно, побратимы, засевшие в «леопарде», не похоронят его вместе с нашими в домике с улетевшей крышей.
А чтоб не похоронили, думаем мы, надо всё-таки перемещаться.
До пункта эвакуации нам нечего и думать добраться под таким обстрелом. Но не так далеко есть ливневые трубы, мощные, железобетонные, укрытые под асфальтом.
Вот туда мы и начинаем небольшими группами перебегать из дома, пока танк перезаряжает свой боекомплект.
Среди раненых один слепой, с ним много возни, он много времени отнимает, а времени особо нет.
Кассетки продолжают сыпать, дроны летают, и скоро ко всему этому снова присоединится танк.
Едва только заканчиваем перемещения, со всеми этими слепыми, кривыми, косыми, танк начинает стрелять. Там уже в курсе за наши передвижения, и танк чётко бьёт по трубам. Трубы гудят, воют, башка раскалывается, но ты хотя бы понимаешь, что тут он ничего тебе не сделает. Тут они тебя не достанут. Ни танк, ни кассетка, ни камикадзе.
Тут уже надо просто сидеть до вечера, а потом под прикрытием сумерек, часов в семь, идти дальше.
Нервное напряжение спадает, я немного расслабляюсь и вот только сейчас понимаю, до какой степени я устал.
Закрываю глаза. До семи ещё есть три часа, и можно попытаться вздремнуть.
Впереди у меня блуждания в темноте по южной части Н-ки, ночь в заброшенном доме, завтра весь день я проведу на пункте эвакуации, а вечером, через сутки то есть, рвану наконец-то из этого села на первой же залётной «буханке», сидя верхом на мешках с трупами наших солдат, чтобы они не выпали из машины через сломанные двери.
Поздно ночью я уже буду в расположении своей роты. Сильно уставший, но живой и здоровый, правда, попахиваюший двухсотыми.
Эта история станет крайней перед длинной передышкой, продолжающейся по сей день.
По возвращении я узнаю о серьёзных кадровых перестановках в нашем подразделении. «Старики» из весеннего набора, отслужив положенные полгода, убыли в Ростов. Им на смену пришёл наш набор, заняв все освободившиеся вакансии. На административно-хозяйственную работу был переведён и я, что, собственно, и дало мне возможность набросать цикл этих заметок.
Я не знаю, сколько продлится моя спокойная жизнь. Дай Бог, чтобы подольше. Но, скорее всего, вернуться на передок мне ещё придётся. Так думаю. Тем не менее передышка эта была мне на руку, и каждый день сейчас работает на меня. По мере приближения зимы снижается активность боевых действий. Поэтому оказаться на передке в декабре — это не то, что в августе.
Там уже всё попроще.
XII
В Н-ке во время очередного обстрела я увидел в проём в стене, как по дороге бежит фазан.
Низко, как человек, пригибаясь к земле, закладывая зигзаги, не понимая, куда метнуться.
Сзади трещали кассетки.
Фазан, слыша их, подпрыгивал и снова бежал. Он даже не пытался взлететь. Он даже не пытался раскрыть свои крылья.
Мир перевернулся.
Всё в этом безумии, сотворённом войной, поменялось местами.
Несколько минут назад в поле, в стороне от дороги, на высоту третьего этажа взлетело полчеловечка, взмахивая ручками, будто крылышками.
А по дороге, проложенной людьми, бежала, как человек, перепуганная птица.
Я равнодушно и бесстрастно наблюдал за полётом куска человеческой плоти.
Но мне было стыдно перед перепуганной птицей. Было стыдно за то, что я человек.
Стыдно за то, что, если бы даже я мог разговаривать на её языке, я бы всё равно не смог объяснить этой птице, зачем мы это всё делаем.
Людям смог бы.
Во всяком случае, попытался бы.
А перепуганному фазану, бегущему по дороге, даже не стал бы пытаться.
Не смог бы я ничего объяснить контуженому и глухому коту, которого наши ребята привезли с одного из выездов. Брошенным собакам, которые научились полностью копировать поведение людей при обстрелах. Они ложатся на землю и вжимаются в неё, когда слышат свист. За ними стоит по возможности наблюдать, когда они рядом. В отличие от человека, собака слышит «польку». Во всяком случае, она раньше распознает её шелест.
Не знаю, что бы я смог объяснить посечённой кассеткой кошке. Она попалась мне на дороге вдоль лесополки, в стороне от населённого пункта. Что она здесь делала, непонятно. Охотится кошкам есть на кого, не выходя из дома. Эту зачем-то понесло в лесополку, и там же её посекло кассеткой. Она выползла на дорогу, к людям, и на её обочине умерла.
Люди придумали сраные кассетки, погубившие её, но смертельно раненное животное всё равно ползло к людям.
Вы придумали это говно, так вы и спасите меня.
Спасите меня.
Спасите.
Не спасли, и она умерла на обочине дороги.
А люди шли мимо, равнодушно смотря на кусок окровавленной плоти.
Какая-то кошка.
Действительно, каждый день уносит жизни людей с той и другой стороны.
И невозможно требовать от людей сострадания к какой-то кошке.
Но сострадание это всё равно есть.
И оно периодически находит выход. Выплескивается из-под бронежилетов и касок, прорывается сквозь коросту огрублённых и притуплённых чувств.
В глубине души мы все понимаем свою ответственность перед животными и осознаём, что если и есть здесь кто-то абсолютно невинный, то это только они…
Животные — самая беззащитная форма жизни на этой войне. Даже мерзкие мыши, головная боль по обе стороны фронта, сотнями тысяч лезут в окопы и блиндажи, населённые пункты постольку, поскольку разрушена их естественная среда обитания.
Им некуда больше идти.
Мерзкие мыши — тоже жертвы войны.
На СВО практически нет служебных животных.
Во всяком случае, я за всё это время не встречал. Может быть, где-то и есть.
В любом случае, в отличие от войн прошлого, здесь нет или ничтожно мало животных — соратников человека.
Нет лошадей, практически нет служебных собак.
Поэтому все животные здесь — нонкомбатанты.
Мирняк.
И этому мирняку некуда деться.
Хохлы — несентиментальный народ.
Покидая прифронтовой населённый пункт, они зачастую бросают даже домашний скот и птицу, представляющую материальную ценность. Про кошек и собак даже речи нет. Этих они бросают, не задумываясь.
И это, к слову сказать, далеко не главное, за что можно было бы их осудить.
Хохлы — деревенская нация.
Селянам в принципе несвойственны сантименты по отношению к собакам и кошкам. Они воспринимают их сугубо утилитарно, что может быть непонятно и дико для городского жителя.
Но в сельской местности России примерно такое же отношение к домашним животным.
Скот — ценность, домашние животные — расходник.
Но даже ценность бросается здесь, под натиском фронта.
Одно из неизгладимых впечатлений, пережитых мной, — это то, как однажды, дожидаясь рассвета в окопе, в паре километров от села, в котором заведомо не осталось местного населения, я услышал кукареканье петуха.
В селе не было никого, кроме наших военных.
И брошенной птицы.
И петух командовал подъём своим рябым жёнам и будил опустевшее село.
Не знаю, где жил петух и его жёны, но знаю, что, сколько бы они ещё ни жили в этом опустевшем селе, до конца своих дней они ждали и ждали, поворачивая свои головы влево и вправо, когда же появится хозяйка или хозяин и насыпет им зерна.
Главное, что объединяет всех животных на войне, — это страх.
И брошенный скот, и коты, и собаки, и дикий фазан — они все напуганы.
Они все подвержены одинаковому стрессу от вторжения в их мир абсолютно непонятного и необъяснимого, с их точки зрения, явления.
Они не видят и не понимают в нём логики.
Война для них — это стихийное, непрекращающееся бедствие.
Фильм-катастрофа, в котором они стали главными героями.
Двуногие — часть этой катастрофы, её деталь.
Они в ней живут, они как-то приспособились к ней. Это их среда и их мир.
Двуногие роют себе какие-то ямы, прячутся в какую-то защиту, таскают с собой железные палки, несущие смерть, двуногие определённо имеют отношение к этой бушующей стихии.
Для животных, конечно, очевидно, что двуногие не управляют ею (надо быть совсем глупой курицей, чтобы думать, что этой стихией можно управлять, но даже курица так не думает), но они ей служат. И, пожирая двуногих пачками, кого-то из них стихия оставляет в живых, обслуживать себя.
А животным можно только спасаться от неё.
К животным эта стихия абсолютно и тотально враждебна. У животных практически нет мест, где можно спрятаться (если только двуногие позовут к себе в яму), у животных только шкура и шерсть, бессильные перед любым, самым крошечным, осколком…
Кто-то скажет, а может, и усмехнётся: мол, столько сострадания к каким-то птичкам и зверюшкам, а в это время наши ребята в госпиталях, без рук и без ног. А сколько людей, включая детей, стариков осталось без жилья…
Пусть скажет.
Его право.
Упрёки, по существу, я всё равно приму только от тех, кто, как и я, сидел в разрушенном домике с автоматом в руках и смотрел, как по дороге, под разрывы кассеток, бежит напуганный фазан.
Вот если такой человек скажет мне: «Э, заканчивай со своими фазанами», я его услышу.
Но он так не скажет.
XIII
Казань — проводник.
Именно так он представился мне, когда мы познакомились в том злосчастном «доме с соломой».
Маленький, сухощавый, жилистый, он похож на индейца. Ему пятьдесят, но он очень бодр, силён и вынослив. Он в превосходной форме. Сгусток одновременно и энергии, и ледяного спокойствия.
Да он и есть самый настоящий индеец.
Когда в Н-ку заходят группы наших бойцов, именно Казань, знающий все окрестности, все минные поля, все входы и выходы в любую лесополку, заводит и выводит их.
Казань точно знает, когда и как, с какой скоростью надо идти.
Он знает и когда можно идти, и когда надо залечь в укрытие. Спорить с ним бесполезно. Если он считает верным, он может завести группу в укрытие и сидеть там с ней несколько часов.
Его не стоит в это время тормошить и задавать глупые вопросы: «А когда пойдём-то?»
Он не будет отвечать, вслушиваясь в гул канонады и задумчиво покуривая сигарету за сигаретой.
Казань разговаривает только тогда, когда он хочет говорить. Когда говорить он не считает нужным, его невозможно заставить это делать.
Он будет сидеть, смотря в одну точку своими прищуренными глазами и медленно курить, пропуская все слова, обращённые к нему, мимо ушей.
Всю свою жизнь Казань провел в тюрьмах. На свободе он был суммарно с 18 лет года полтора.
Но он не «Шторм Z», нет.
Он контрактник. Совершив очередное своё преступление, Казань, прищученный ментами за жопу, отправился в военкомат и сбежал из-под их носа на войну.
Так он сам сказал мне.
Глядя на него, я подумал, что не мне, конечно, определять человеческие судьбы, но именно здесь он на своём месте.
Что бы делал он в своём Верхнем Уфалее?
Пил бы, воровал, дрался.
У Казани нет ни жены, ни ребёнка. Есть угол, оставшийся от покойных родителей, да и только.
Всю свою жизнь проскитавшись по тюрьмам и лагерям, он стал очень неприхотлив. Он мог упасть где-то в углу на пол и мгновенно заснуть. Будить его никогда было не надо. Достаточно было сделать всего лишь один шаг к нему, и его веки тут же мягко открывались, и на тебя смотрел его колючий, не выражающий никаких эмоций взгляд.
Все то время, что я был в Н-ке, я лишь раз видел, как он ест. У нас кончились продукты, и надо было идти за ними на другой край села. По улицам трещали кассетки, а недалеко от дома прилетали мины.
Казань, не говоря ни слова, мягким, кошачьим движением выскочил в проём в стене и, пригибаясь, побежал куда-то. Его не было ровно двадцать минут. Он вернулся, неся четыре банки тушёнки и пачку галет.
У него всё село покрыто такими «закладками». Он знает всё, где что лежит. Когда я устроил Мальчику разнос за то, что он не носит каску, и сказал, что завтра лично найду и принесу ему и пусть только попробует не одеть, Казань, дремлющий в углу, показал большим пальцем куда-то за спину:
— Второй дом. Там пристрой. Увидишь. Слева лежит, прямо как зайдёшь.
Как-то я обмолвился, что хотел бы раздобыть себе пистолет на то время, пока я тут за ленточкой. Ну, типа, пусть будет.
Казань немедленно отреагировал, назвав мне маршрут и описав дом, в подвале которого запрятан ящик с новенькими «макаровыми». Я не пошёл, конечно, пистолет не стоил того, чтобы бегать за ним под кассетками и дронами-камикадзе.
Но сама осведомлённость Казани даже в таком случае меня поразила.
Казань знал все подробности, предшествующие моему появлению здесь. Уважаемый человек, он был вхож в штаб, на узел связи, ко всем возможным чинам.
Поэтому одним из первых он ознакомился с видеозаписью с дрона, на которой было отражено всё: как БТР влетел в ров, как мы бежим к лесополосе, как идиот-мехвод идёт в хохляцкое логово просить связи с Н. Н., как гибнут мои товарищи… От него я узнал это всё, сложил в общую картину, как там и что было.
Казань ночевал в той же комнате, где я дежурил, где спал на полу последние часы своей жизни Мальчик.
Когда «Брэдли» разнёс в хлам переднюю стену дома, огромный её кусок свалился прямо на него.
Какими-то неслыханными силами он уцелел, выбрался из-под этих развалин, самым последним перебрался к нам.
Когда запаниковал старший в доме: а что, может, по двое съёбываемся отсюда?
Когда пригорюнились даже отчаянные даги.
Когда я сидел и гадал, сколько мне осталось жить.
Только Казань, сидя в углу с видом бесстрастного индейца, выражал абсолютную уверенность в благоприятном исходе:
— Сидим, не отсвечиваем. Из дома не стреляем, пока сюда не полезут. Уходить не надо, свои положат. Всё. Следите каждый за своим сектором.
Непоколебимое спокойствие мудрого чероки передалось и нам.
Потом, когда мы уходили уже из другого дома, который разбирал танк, это Казань отвёл меня в трубы под дорогой.
Поскольку я не был ранен, я уходил самым последним. Ради меня одного он вернулся в дом и ради меня одного снова совершил пробежку под обстрелом обратно.
Мы бежали по пустой улице: Казань впереди, я за ним. Сухощавый, маленький, жилистый пятидесятилетний дядька бодрой рысцой, не теряя темпа, вел меня по дороге, местами перепрыгивая и обегая неразорвавшиеся «лампочки» и успевая вполоборота указать мне на них.
Больше мы с ним не виделись. Доведя меня до укрытия, он, как истинный индеец, без лирики, не прощаясь, умчался куда-то обратно. У него было много дел.
Я часто вспоминаю его.
Внешне он напоминал мне моего дедушку.
«Дедулька», как я называл его в те времена, когда ему самому было пятьдесят с небольшим.
Иногда в сумерках мне казалось, что это мой «дедулёк» выскочил вдруг откуда-то оттуда, из условного 1983 года, и бежит сейчас бодрой рысцой по улицам Н-ки…
…я очень надеюсь, что и сейчас где-то там, где трещат кассетки и бухают мины, Казань идёт (или бежит) выводить (или заводить) группы наших бойцов, спасать отбившихся, заблудившихся в лесополке и обречённых подорваться на мине солдат, подводит хитрыми, только ему ведомыми путями эвакогруппы к стонущим в кустах раненым так, чтобы незаметно для хохлов выдернуть их из пасти неизбежной смерти.
Я очень надеюсь, что с ним всё будет хорошо.
И хотя положа руку на сердце я понимаю, что его место здесь, но пусть он вернётся в свой Верхний Уфалей.
И пусть как-то всё сложится так, чтобы ему не пришлось там пить, воровать, драться…
А если даже и так…
Спасённые им люди, может, и не индульгенция от грехов, но, во всяком случае, они стоят того, чтобы Казань вернулся в Верхний Уфалей. Его зовут Айрат, а настоящий его позывной я сохраню в своей памяти.
XIV
Барс из детдома. Он погиб, и я могу называть его настоящий позывной. И имя, и фамилию. Ему уже всё равно.
Он лежит, заваленный землёй, неподалёку от «очка Зеленского». Мы его не забрали, и, наверное, его уже никто никогда не заберёт.
Барс, как комета, пролетел над землёй и растворился в небытиё, бесследно.
Впрочем, у него осталась дочь. С ней он часто переписывался и созванивался по вотсапу.
Её контакты он унёс с собой. Барс был единственный, кто не сдал тогда телефон перед выходом.
Он такой был, всё делал по-своему.
Вся жизнь Барса была устроена через жопу.
Был он исключительно геморройным человеком, умевшим создавать проблемы на ровном месте, но в силу природной обаятельности и харизмы обустраивавший всё дело так, что его проблемы решали мы, все скопом. Мы — это пять человек, живших отдельной коммуной на окраине города Т. в ожидании дальнейшего распределения.
Учебку я проходил в ДНР, там и была сформирована наша рота. Будучи отправленной на фронт, она с первых же дней показала свою абсолютную неслаженность, небоеспособность и неуправляемость как боевая единица.
Понеся чудовищные потери, она была выведена в Т., и отсюда её личный состав раздергивался по другим боеспособным частям.
В тот период, когда моя рота получала боевое крещение, меня в ее рядах не было. Через три дня после прибытия за ленточку 15 человек из нашей роты, в их числе и я, были откомандированы в Н-скую бригаду морской пехоты в группу эвакуации раненых.
Там я пребывал две недели, а после того как Н-ская бригада была выведена на ротацию, меня возвратили в своё подразделение, уже выведенное с фронта в город Т.
Роту я застал в ужасающем состоянии.
Пьянство, мародёрство, поножовщина, полное отсутствие дисциплины и, что самое главное, отсутствие командиров. Командиры, тоже набранные из спецконтингента, жили отдельно, предаваясь неге, сибаритству и распродаже армейского имущества.
Забегая вперёд, скажу, что по состоянию на сегодняшний день все эти люди сидят в тюрьме. Кое-кто, причастный к особо тяжким преступлениям, получил уже пожизненный срок.
То есть да, такие печальные инциденты имели место быть, но относительно недолго, всё это было пресечено слаженной работой военной полиции, органов госбезопасности, а виновные получили суровые наказания.
Однако в тот момент, когда я вернулся в город Т., там творился кошмар.
Вот в этих условиях я, объединившись с другими адекватными сослуживцами, съехал со своей располаги в другое место неподалёку, и мы обосновались там. Сначала нас было трое, потом к нам присоединился Барс, а потом ещё один.
Барс пришел к нам с «кичи», помятый, голодный и потрёпанный. Напоминал он какого-то кота, ушедшего без спроса гулять на улицу, крепко побитого на ближайшей помойке своими дикими сородичами и вернувшегося домой.
Его пустили и обогрели, хотя с первых минут было ясно, что мы реально завели себе кота. Потому что ни денег, ни сигарет, ни чего-то ещё путного у Барса с собой не было. Но самое главное, что я, как человек, осуждённый по ст. 159 УК РФ, понял мгновенно, — у этого пассажира ничего не будет никогда.
Пассажир был абсолютно безнадёжен в смысле материальных ресурсов. Он даже зарплатную карточку в Ростове сумел оформить через жопу, и теперь жалованье ему не приходило.
Но вопрос о принятии новых членов нашей коммуны решался коллегиально, Барс был обаятелен, смирен и улыбчив, так что мне оставалось лишь мрачно и недружелюбно смотреть на него со своего топчана.
Невзирая на мой настрой, кот протянул мне свою лапку и представился:
— Рома.
Мне ничего не оставалось, как подать ему руку в ответ и смириться с тем, что шлюзы канала, по которому станут утекать наши скудные ресурсы, открыты безвозвратно. И обратного течения по этому каналу не будет.
Барс был совершенно бесполезен в хозяйстве.
В роту худо-бедно, несмотря на весь бардак, привозили продукты, и надо было за ними ходить.
Отправлять Барса было бессмысленно. Он уходил в штаб и залипал там на халявном вайфае. Идя в магазин за хлебом, он на все деньги покупал пива и не моргнув глазом говорил, что хлеб в магазин не привезли, но не зря же он ходил. Купленные на общак сигареты Барс щедро раздавал всем страждущим, притом что мог сам в один присест выкурить полпачки.
Пока его не было, к нам и не думали ходить обитатели «синей ямы», откуда мы съехали, но, едва появился Барс, народная тропа перестала к нам зарастать. Толпы людей зачастили к нам, часто еле стоя на ногах. В основном для того, чтобы дать Барсу просраться (он умудрялся чудить везде, где только мог), ну и заодно опустошить наши запасы сигарет, чая, кофе или продуктов. Потому что это нам приходилось угомонять общественность и заливать Барсовы исполнения чаем, кофе и чем только ещё…
Каждый из нас по нескольку раз за день собирался пристрелить его, но обаятельный кот всегда умел вывернуться и обезоружить любой самый праведный гнев.
В один прекрасный день к нам приехали люди из того подразделения, где я служу сейчас.
Я сразу же понял, что надо ехать, и ехать немедленно. Сидеть в городе Т. становилось всё более и более чревато проблемами.
Мои опасения, к слову говоря, подтвердились. Через несколько дней после того, как мы уехали, в расположение заявилась военная полиция, все обитатели «синей ямы» были частично возвращены обратно в исправительные учреждения с добавкой по новым статьям, а частично отправлены на особо сложные участки фронта, где и сложили свои головы.
Я уехал туда, где нахожусь сейчас, сагитировал ехать со мной своих товарищей. Разумеется, мы взяли с собой и кота.
Первое задание мы получили через три дня после прибытия. В группу вошли я, Барс и ещё двое обитателей нашего кибуца с окраины города Т.
Во главе нашей группы встали старослужащий, я назову его мистер Грин, и в качестве опытных бойцов ещё двое.
Далее началось наше путешествие в «очко Зеленского», описанное мною ранее.
Два супервоина, как истинные мачо, сломились от нас в лесополке на подходе, и на исходную точку, в пробку, образованную засевшими в нашем опорнике хохлами, вышли мистер Грин, я, Барс и ещё двое с нами.
Мистер Грин решил провести разведку боем.
Мистер Грин имел основания полагать, что хохлы покинули опорник. Обстреляв их из пулемёта, выпустив по ним выстрел из гранатомёта и не получив ни одного выстрела в ответ, мистер Грин кликнул добровольцев, готовых пойти с ним. Один из наших бойцов контролировал сектор с тыла нашей позиции и не рассматривался как кандидат.
Пойти должны были или я, или Барс, или третий с нами.
Я сидел на дне траншеи и набивал опорожнённые магазины. Когда мистер Грин предложил кому-то из нас пойти с ним, я отвёл глаза в сторону. Отвёл глаза в сторону третий из нас.
А Барс…
…По законам жанра непутёвый Барс должен был сказать твёрдо и мужественно:
— Я пойду.
Но Барс тоже отвёл глаза в сторону.
И тогда мистер Грин, видя, что добровольцев тут нет, ткнул пальцем в Барса и сказал:
— Давай тогда ты, пошли со мной.
И Барс пошёл.
Я проводил его взглядом и продолжил дальше набивать магазины.
А потом была дикая трескотня, крики, и из-за угла окопа выскочил мистер Грин со словами:
— У нас минус один.
Мистер Грин и Барс дошли до «штанов», где окоп раздваивается. Там был блиндаж, и мистер Грин его зачистил, приказав Барсу быть у входа и следить за «штанами». Барс, как всегда, всё сделал по-своему. Он оставил мистера Грина в блиндаже и тупо пошёл вперёд.
Прямо в «штанах» его изрешетили в упор.
Мистер Грин успел увидеть только, как он лежит в проходе и стреляет в конвульсиях из автомата.
Помочь ему было ничем нельзя.
Барс погиб совершенно нелепо, в силу своей кошачьей неуправляемости и органической неспособности делать то, что тебе говорят.
Ни я, ни мой товарищ, будь на его месте, не совершили бы такой глупости.
Но мы не пошли. А он пошёл.
А будь с нами те, что свалили в лесополосе, расклад был бы совсем другой. Мы бы прошли эти «штаны» без потерь, потому что именно на зачистку таких «штанов» нас и натаскивали в учебке. Натаскивали так, чтобы не оставить противнику никаких шансов.
В моей жизни здесь было много ситуаций, в которых я, окажись там или там, непонятно как бы себя повёл.
Но эта ситуация именно та, где я могу точно смоделировать своё поведение. В этом и горечь её.
И поэтому этот случай я буду помнить всегда и корить себя за то, что отвёл тогда глаза в сторону.
Я пасанул перед барьером, который мог гарантированно преодолеть.
Не думаю, что я здесь один такой. Думаю, у многих был такой барьер. Об этом совестно и неприятно говорить. О таком стараются забыть, тем более если есть в активе дела, где ты проявил себя должным образом.
Но признать свою слабость — это тоже барьер.
И хотя бы его ты должен преодолеть.
Если хочешь, конечно, быть честным хотя бы самим с собой.
XV
На передок нас доставили на вертолётах. Прямо из ДНР.
Я первый раз в жизни летел на вертушке и всё время не отрываясь смотрел в иллюминатор на незнакомые мне края.
До этого я год видел только леса вокруг ИК-53, г. Верхотурья Свердловской области, а сейчас передо мной проплывали бескрайние равнины «новых территорий», с редкими, чахлыми лесополками.
Не то чтобы я никогда не видал таких мест, видал, конечно.
Я же частенько катался в Астрахань на рыбалку, бывал в Оренбуржье, да и поблизости, в Челябинской и Курганской областях, есть похожие ландшафты. Но всё равно мне было непривычно вот так вот, в короткий срок, вырвавшись из клетки, оказаться в совершенно непохожих на мою среду обитания краях.
Вертолёты высадили нас в чистом поле, где из ближайшей лесополки сразу же выехали несколько «Уралов».
Прямо с кузова началась выдача автоматов и снаряжения.
Всё то же самое, с чем мы работали в учебке.
Кто-то, строя из себя бывалого воина, начал ворчать:
Бля, и тут АК-12… Говорили на передке 74-й дадут.
Бывалые воины в курсе, что «двенашка» говно и реальные пацаны воюют со старым добрым АК-74.
Через несколько дней, не сделав ни единого выстрела, накрытые артой, часть из бывалых воинов будет по запчастям разбросана по лесополкам, и, ей-богу, не всё ли равно, АК-12 или АК-74 был у них в руках?
Мне, в частности, всё равно.
Я не бывалый воин, мне что ни дай, результат будет всё равно одинаковый. Поэтому я спокойно беру АК-12, штык-нож, бронежилет и каску и отхожу в сторону.
Не так я себе всё это представлял.
Я думал, нас привезут в располагу, разместят, накормят, утром выдадут оружие и снарягу, затем потихоньку начнут выводить на задачи.
Нас же, вооружив и снарядив в чистом поле, грузят по тридцать человек в другие грузовики и сухо уведомляют, что прямо сейчас мы едем на передовую, на позиции.
Все немного подавлены таким стремительным развитием событий, но делать нечего, едем.
В грузовике тесно и жарко. Сидим, как селёдки в бочке, друг на друге.
Гуфсиновский воронок вспоминается как такси бизнес-класса.
Общественность ропщет.
Мат и проклятия в адрес Минобороны густо заволакивают кузов. Мат сыпется в адрес друг друга за отдавленные ноги, за случайные прилёты локтем по лицу. На ухабах всё подпрыгивают в воздух, валятся друг на друга. И это при том, что все в броне, в красках, с оружием в руках.
Едем долго.
По дороге КамАЗ ломается.
Передок уже близко, слышится канонада.
Всех выгружают, с вещами. В кучу сбрасываются вещи, мы рассыпаемся по ближайшим кустам, прячемся от возможного появления дрона.
Водитель ковыряется с машиной, что-то чинит, грузимся обратно.
Я уже в кузове понимаю, что потерял штык-нож. В учебке его не было, как крепить, я не знаю, прицепил как-то криво к ремню, и он сорвался у меня в кустах.
Тронулись.
Снова едем, машина сворачивает с дороги в лесополку, команда на выход.
Снова все вещи в одну кучу, снова рассредоточиваемся по кустам, машина уходит, мы получаем команду собирать вещи небольшими группами, не толпиться и рассредоточиваться по лесополосе.
Всё, мы приехали в пункт своей временной дислокации.
Здесь мы начинаем потихоньку обживаться, окапываться. Но уже днём приходит приказ перемещаться в другую лесополку.
Собираем вещи и тащимся в другое место, за километр отсюда. Все разом тащить невозможно, часть вещей я оставляю на потом.
Возвращаюсь за ними и понимаю, что у меня уже украли спальник.
— Сука, крысы ебаные. — У меня нет других слов, потому что ближайшие дни я буду спать на голой земле.
Товарищ с лагеря отдаёт мне свою гражданскую куртку (тут многие тащат с зоны огромные баулы, набитые вещами. Все это будет утрачено и выкинуто в ближайшие дни, но пока что пыхтят и тащат), на ней я и буду спать сегодня вечером.
Окопались кое-как, прошёл день.
Стреляют вдалеке, по нашей лесополке прилётов нет. Беспокоит больше танк, работающий неподалёку, боимся, что будет по нему ответка, а достанется нам. Но Бог милует.
Между тем жрать нечего. Воды нет.
Сухпай привозят на второй день, по одному на три дня. Воды нет. Неподалёку болотце зелёного цвета, берём воду оттуда, в сухпае есть таблетки дезинфицирующие, спасаемся ими.
Командиры похохатывают:
— Вот вам не похуй после лагерной баланды. У вас желудки гвозди переварят.
У меня да, а кто-то дрищет с этой воды.
По ночам идёт артиллерийская перестрелка. Мы лежим, глядя в звёздное небо, а над нами летают снаряды: русский туда, украинский отсюда.
Мы размещены фактически прямо перед позициями нашей артиллерии.
Как блаженные, не понимая, что к чему, мы веселимся, шутим, окапываемся.
Ничего не страшно. Все воспринимается не всерьёз.
Дичайшие вещи, от которых у меня сейчас волосы дыбом бы встали, тогда воспринимались на должном: мол, так и надо.
Утром следующего дня до нас доносится трескотня стрелкового боя. Где-то рядом. Стрекочут автоматы, потом пулемётная очередь.
Вот оно… Сразу же проходит лёгкое, беззаботное настроение. Появляется тревога.
Предчувствие первого боя. Мысли о том, что он может стать и последним.
Вечером объявляют боевую тревогу. Команда выдвигаться на позиции. Ну, вот и пришёл этот час…
Сердце стучит, в горле пересохло, волнение дикое, тревога, ноги ватные.
Собираюсь, надеваю броник, каску, хватаю автомат.
Гуртом, как стадо баранов, толпой бредем по тропинке куда-то туда, где трещат автоматы. Командиров нет, они где-то уже там, впереди. Взводы и отделения перемешались.
Заходим в соседнюю лесополосу, рассасываемся по ней всё так же, неорганизованно, без команд.
Враг где-то там, впереди.
Сейчас мы его атакуем и покажем чудеса храбрости и отваги. Пусть мы ещё не обстреляны, возьмём духом.
Впереди, разумеется, не враг, а наши солдаты в окопах. Именно их мы сейчас идём громить и бить.
Слава Богу, пока что ещё никто не стрелял.
Оттуда бежит офицер, машет руками:
— Стой! Стой, блядь. Вы кто, нахуй? Вы куда?
Если бы вместо ответов на русском языке мы бы издали что-то вроде бееее… мееее…
Ну, примерно тот же уровень информативности был бы, но зато более ярко и красочно.
По существу.
Как-то нашли наших командиров, утрясли ситуацию.
Нас начали заводить в окопы.
В окопах паника и ужас:
— Блядь, ебаны в рот, рассредоточивайтесь! Вы какого хуя столпились? Щас птица срисует, наведёт арту, нам всем пизда!
Все в полном шоке от нашего появления.
Как-то с грехом пополам нас рассаживают по окопам.
— Только ради бога, пацаны, не шароёбьтесь. Сидите тихо.
— А где хохлы, откуда пойдут?
— Какие хохлы, блядь?!! Впереди ещё одна линия наших окопов.
— А хохлы где?
— Да я ебу, что ли, где хохлы? Спят они уже, блядь. Впереди поле там, они хуй поели, что ли, через поле на окопы бежать? Угомонитесь, блядь.
С позиций возвращается наш танк. Он должен пройти через нашу линию, это нормально. Но наш штормовский гранатометчик впадает в экстаз:
— Танк! Танк! Танк!
Хватает РПГ и бьёт по нему.
Стрелять он толком не умеет, понятное дело, выстрел уходит куда-то в сторону Марса. Контрабасы, в чьи окопы мы завалились, как стадо баранов, отбирают у него «шайтан-трубу» молча, со злостью бьют.
Мы отбиваем его, оттаскиваем в сторону.
Всё молча, без криков, с пыхтением и кряхтением.
Гранатомётчик перепуган, по лицу его течёт кровь, его тащат за лямки бронежилета куда-то вглубь окопов, парни, кто покрепче, встают между разъярёнными контрабасами и ним.
Как-то всё утрясается.
Между тем командир нашей роты командует отход.
Зачем мы сюда пришли и что от нас хотели, непонятно.
Командира никто не слышит. Он удаляется в окружении своих оруженосцев, шнырей и командиров взводов. Мы, предоставленные сами себе, ещё час тусуемся на позициях, любуясь звёздным небом, а потом, устав ждать у моря погоды, по двое, по трое, передавая информацию друг другу, начинаем выползать из окопов и в кромешной тьме, падая, спотыкаясь, пробираемся назад в расположение.
На следующий день командир объявляет, что пятнадцать человек из нашей роты передаются в распоряжение другой части, в группу эвакуации раненых. Я попадаю в этот список.
«Ну и слава Богу», — думаю я.
Вчерашний бардак не вызывает у меня оптимизма, я с облегчением покидаю свою роту, прощаюсь с ребятами, с которыми прилетел сюда, прошел учебку. Думаю, что больше мы не увидимся.
Перед уходом разживаюсь спальным мешком. У нас уже есть первые дезертиры, спальник одного из них передаётся мне.
Отлично, думаю я, выдвигаясь в путь.
На самом выходе из лесополосы начинается артобстрел. Хохлы наконец-то вычисляют наше расположение и начинают по нему работать. Точь-в-точь как только я его покинул.
Мы, пятнадцать человек, ещё только пробираемся по лесам и полям в расположение своего нового места службы, а там, где я недавно был, уже первые потери.
Ангел-хранитель поцеловал меня в макушку первый, но не последний раз в этой эпопее.
Впереди моя двухнедельная служба в Н-ской бригаде морской пехоты Черноморского флота, достаточно известной, к слову говоря, по фронтовым сводкам.
Там, в её рядах, я и познакомлюсь со зловещим словом «Работино».
Но это будет чуть позже, а пока я бреду по лесополосе в абсолютную неизвестность, оставляя позади себя прилёты и разрывы. Кончается один из первых моих дней за ленточкой.
XVI
До позиций Н-ской бригады морской пехоты мы добрались уже в сумерках.
Нас встретили и разместили в какой-то яме, накрытой маскировочной сеткой. Мест было мало, поэтому спали по очереди.
В час ночи меня разбудили и отвели «на глаза», а на моё место лег другой человек.
Так началась моя эпопея с морпехами.
Морская пехота не строит на своих позициях сплошные, сквозные окопы. Это их фишка.
Упор идёт на индивидуальные стрелковые ячейки.
Считается, что сплошной окоп для подготовленной штурмовой группы — объект, проходимый за десять минут. А вот позиции, состоящие из индивидуальных ячеек, способных вести круговую оборону, так просто не возьмёшь.
Вот примерно в такой ячейке я и простоял первую ночь до утра.
В пять меня должны были сменить, но где-то в четыре позиции Н-ской бригады атаковала штурмовая группа противника, завязался бой, растянувшийся до двенадцати.
Мне было сказано оставаться в ячейке в положении «к бою» и ждать дальнейших команд.
Так, прибыв сюда в группу эвакуации, я оказался с первых же часов в положении обычного стрелка.
В этой ячейке я пережил свой первый полноценный артобстрел, словил в каску первый осколочек.
Ячейка была наблюдательной, не подготовленной для полноценного боя, пережить в ней атаку дрона-камикадзе, сброс с «бабы-яги» или что-то ещё серьёзнее было бы невозможно.
Но я ничего этого не знал, поэтому был спокоен и хладнокровен. Обстрелы пережидал, скрючившись на дне, а потом вылезал наверх и водил по сторонам стволом автомата, ожидая атаки хохлов.
Как это должно было выглядеть, я представлял себе очень смутно.
Сказать, что я ждал, что хохлы пойдут на меня густой цепью с автоматами на изготовку, с засученными рукавами и губными гармошками, а впереди будет идти пан хорунжий со стеком, похлопывая себя по голенищу сапог, было бы преувеличением. Но незначительным. Как это будет выглядеть на самом деле, я понятия не имел.
Когда шум боя стих, меня сменили.
Я перебежал в яму под сеткой, попил чай, и, едва лишь закончил, меня позвали наверх.
Выскочив, я увидел процессию, напоминавшую похоронную.
Шесть человек, по трое в ряд, тащили сетчатые носилки, на которых лежал стонущий парень с огромной, распухшей до слоновьих размеров ногой.
Меня воткнули в ряд вместо одного из носильщиков, двое по центру отпустили носилки и убежали назад, откуда пришли, а нам скомандовали «пошли!». И начался мой первый эвакуационный маршрут.
Мы бежали по лесополке, по узкой тропе, перехватываясь в совсем уж густых зарослях, переносили его на поднятых руках там, где невозможно было пронести. Вытащили из леса на поле и там бежали, с отрывающимися руками, по открытому пространству (другого пути не было) три километра.
По дороге мы, не сговариваясь, поставили носилки на землю и стянули с себя бронежилеты, каски, скинули всё в траву и побежали дальше, налегке.
Сейчас я вспоминаю об этом с ужасом, а тогда это казалось ординарным делом. Ну, тяжело же бежать в бронике и каске. Вроде не стреляют по нам, что бояться-то?
Встречные морпехи, идущие оттуда, куда мы несли раненого, крутили пальцами у виска.
Сейчас и я бы покрутил.
А тогда…
Я не могу без содрогания вспоминать свою наивность и безрассудность первых дней. Заметив, как один из носильщиков постоянно мониторит небо, я спросил, чего он боится, видно же, что мы несём раненого. Не будут же они атаковать санитаров. Как такой блаженный идиот пережил эти две недели, я, право, не знаю.
Мы дежурили и ночевали всё в той же яме под сеткой.
Находились в ней 24/7.
Пережидали там артобстрелы, спали, ели, выбегали по команде «эвакуационная группа на выход!», бежали, иногда за километр, на позиции за трёхсотым, грузили его на носилки, и назад, снова на то поле и на пункт эвакуации.
Сперва я представлял себе это всё как в американских фильмах про Вьетнам.
Вот мы такие бежим с носилками, прилетает вертушка, мы закидываем туда трехсотого, вертушка взлетает и исчезает за горизонтом, и мы, выдохнув, утираем рукавом пот со лба…
На деле же мы сгружали раненых в дальней лесополке, там ими занимался военврач, помогал им, как мог, в полевых условиях, и они часами ждали прибытия техники для забора.
Некоторые умирали там, не дождавшись вывоза.
Вот это было самое обидное.
Четыре километра, обливаясь потом, с пересохшим ртом и немеющими руками тащить человека, чтобы он потом тихо ушёл, не дождавшись полноценной медицинской помощи.
Врач не мог один в лесу творить чудеса.
Он был на пределе своих сил.
Его должны были сменить ещё неделю назад, но не меняли. И он с утра до вечера возился с горой окровавленного, стонущего мяса. Помощь ему оказывали двое медиков, не имеющих никакого специального образования. Простые солдаты, их научили элементарным вещам типа перевязок и уколов, это они и делали.
Конечно, он пил.
Никогда не видел я его валящимся с ног, но и трезвым как стёклышко я тоже видел его нечасто.
Сейчас я понимаю, что нас загнали туда, в эту бригаду, как дармовое мясо, расходный материал: ноги и руки.
Никто не ждал, что мы выживем в этой яме сколько-нибудь длительный срок. То, что выжили, — это чудо, на которое расчета не было.
А мы по неопытности своей воспринимали всё это как должное. Война же. Передок. Так и должно всё быть.
Часами сидели там, когда снаряд падал то спереди нас, то сзади. Вопрос, когда он упадёт наконец в нашу яму, покрытую маскировочной сеткой, был вопрос времени.
Но мы это тоже воспринимали стоически, как должное. А как может быть по-другому? Служба такая.
Рядовые бойцы и младшие командиры относились к нам, зэкам, как к равным. У нас были братские отношения. Начальство же повыше рангом воспринимало нас как двуногий тягловый скот и своё отношение даже и не скрывало. Мы были для них что-то вроде хиви при пехотной дивизии вермахта. Расходник, требуемый для того, чтобы освободить для более важных дел своих штатных бойцов.
Кормили нас, впрочем, наравне со всеми.
Со снабжением там было совсем туго, но то, что доставлялось на передок, распределялось поровну.
Мы получали тот же сухпай, что и все, так же поровну делились сигареты и вода.
Отношение командования изменилось лишь тогда, когда рота, к которой мы были приписаны, понеся огромные потери, была наконец-то выведена в тыл.
Позиции с ямой были оставлены.
Ранним утром, в сумерках, вся рота снялась без шума и ушла на пункт эвакуации, где погрузилась в КамАЗы и уехала.
Нас в яме едва не забыли.
Наш непосредственный командир, 23 года отслуживший в ВСУ, а в 2014 году перешедший на русскую службу, велел нам находиться на месте и ждать особых указаний.
Больше мы его не видели. Встретились уже в тылу.
Из ямы нас выгнали совсем другие люди, уходившие в числе последних.
Хохлы, видимо, только сейчас спалили отход и начали крыть по нам из арты. Поэтому если первые уходили неспешным шагом, то мы уже просто бежали. Как белогвардейцы в Крыму прыгали на последний пароход, так и мы запрыгивали на ходу в отходящий КамАЗ…
От роты остались одни ошмётки, но именно из этих ошмётков должны были быть сформированы штурмовые группы для боёв за Работино.
Это был самый пик этих событий.
Я тогда впервые услышал название этого населённого пункта.
Сначала его упоминали вполголоса между собой в формате окопных слухов: «Сапоги в Работино». У морпехов флотская терминология, понятие «сапоги» у них зачастую просто переводится на противника.
Как они отличают свои «сапоги» от украинских, я не понял, но применительно к Работину гадать не приходилось.
Затем пришёл официальный приказ сформировать штурмовые группы и выдвигаться в Работино на выполнение боевых задач.
Вот здесь про нас и вспомнили.
Зэки одномоментно стали «вы такие же, как и мы, мы одно целое, мы — Н-ская бригада морской пехоты».
Про группу эвакуации все забыли, она утратила смысл своего существования и была расформирована.
Мы были распределены по взводам и отделениям и на какое-то время пополнили собой ряды морской пехоты Черноморского флота.
Над школой в Работино был поднят украинский флаг. Это стало символом и знаком его падения.
В этот же день наше командование предприняло последнюю отчаянную попытку отбить посёлок.
В Работино были отправлены все наличные силы, в том числе выжато всё из нашей потрёпанной роты.
В строй были поставлены все.
Единственное, что нам, зэкам, было предложено, — пойти добровольно. С оговоркой «пока».
«Пока добровольно».
Я не стал ждать, когда в меня тыкнут пальцем, и вызвался добровольцем в одну из групп.
Много позже, когда добровольцев кликнет мистер Грин, я отведу глаза. Но это будет позже, а тогда я вызвался один из первых. И тёплым августовским вечером я вместе с другими бойцами Н-ской бригады отправился срывать жовто-блакитный прапор с руин работинской школы.
XVII
Работино здесь произносят в двух формах: с ударением на середину и на конец. Последняя форма отсылает к Бородину и лично мне нравится больше.
Бои за этот населенный пункт должны обязательно остаться в военной истории, я думаю, они ещё ждут своих летописцев.
Моё участие в данных событиях носит совершенно микроскопический характер, общую хронологию событий и картину я не знаю, поэтому развернуто и комплексно расписать этот героический эпос у меня не получится. Я знаю лишь то, что Работино было превращено в пылающий ад, снесено с лица земли, обращено в руины, и всё это унесло жизни многих людей с обеих сторон.
Каждый квадратный метр его земли пропитан кровью.
Сотни людей погребены в его руинах, и их останки лежат там и поныне.
Я знаю, что наши стояли в Работино насмерть, показывая чудеса героизма и стойкости. Но и противник показал себя самым лучшим образом.
Украинский солдат вынослив, неприхотлив, идейно мотивирован, настроен идти до конца.
47-я бригада «Магура» — одно из самых боеспособных соединений ВСУ — была задействована в боях за Работино и показала себя очень сильным и серьёзным противником.
Я был зачислен в резервную группу, которая должна была ожидать своего часа в лесополосе под селом и зайти в населенный пункт поутру, в серости, тогда, когда это понадобится.
Небольшими группами по 5–6 человек нас начали завозить на точку и скрытно рассредоточивать по лесу.
Перевозили на бортовом уазике в одно место, а оттуда нас забирал настоящий джихад-мобиль типа таких, какие я видел только в репортажах с Ближнего Востока.
Какой-то древний монстр японского автопрома, пикап с выкорчеванными сиденьями.
Джихад-мобиль перевёз нас в лес, а здесь мы уже сами искали кусты погуще и залегали до утра.
Это был мой первый боевой выход. Группа эвакуации не в счёт. Настоящее дело было вот оно. Я вспоминаю тот вечер, и сердце непроизвольно начинает биться быстрее.
Тогда особого страха не было. Волнение и тревога были, а страха нет.
Когда карабкался на БТР, отправляясь в «очко Зеленского», страх был уже. Потому что я знал, куда еду, и мне туда очень не хотелось.
А сейчас я ничего не знал. Понимал, что это опасно, но картины перед глазами не было.
Были волнение и тревога, и детский, идиотический восторг от того, что это происходит со мной на самом деле.
Мальчики, они такие мальчики…
Я не служил срочную службу в армии и, как любой неслуживший мужчина, нёс в своей душе некий комплекс из-за этого. Тюрьма его сколько-то компенсировала, но не полностью. Здесь же я сторицей переплюнул всех срочников мирного времени. Только на полигоне я за день отстреливал больше, чем срочник российской армии времён моей молодости, то есть 1990-х. Ну а сейчас и подавно… В бронежилете и каске, с автоматом в руках я грузился на джихад-мобиль и уезжал на боевое задание. Галочка в голове была поставлена, внутренний Хемингуэй удовлетворён.
Мы зашли в лесополку в 19.00. Всего нас было 15 человек из Н-ской бригады морской пехоты, из них четверо наших, «Шторм Z». Мы держались чуть наособицу от остальных. Я со своим товарищем Сашей из Ставрополя, а чуть дальше двое других.
Залезли под куст орешника, я вытянулся на земле, скинул подсумки с магазинами, снял каску, положил под голову и принялся любоваться звёздным небом.
Завели с Сашей разговор о недвижимости Ставропольского края. Саша — риэлтор, он в теме за всё. Цены, качество, логистика.
Убедительно агитирует меня на переезд, когда всё закончится.
Он профессионал своего дела. Я уже мысленно любуюсь видами Машука из своей новой квартиры, планирую выходные на горнолыжных курортах и поездки на море по скоростной трассе.
Через полтора месяца Саша будет разорван на куски двумя дронами-камикадзе, а мне предстоит долгое и тяжёлое общение с его супругой, чтобы аккуратно подвести её к горькой правде и дать подсказки, где искать бренные останки её мужа.
Сильная женщина, она мужественно перенесёт этот удар судьбы и сделает всё возможное, чтобы Саша не пополнил собой список безвестно сгинувших русских солдат.
Командир ей не позвонит. Она сама найдёт его. С моей помощью, разумеется.
Но это всё будет потом.
А пока — орешник, звёздное небо и виды на предгорья Северного Кавказа в мечтах.
Время перевалило за полночь.
Я начал дремать, изредка поглядывая на часы. Утром нас ждёт Работино. Там над развалинами школы висит украинский флаг, а рядом притаились две пулемётные точки. Там загадочный, страшный зверь «Брэдли». Там много хохлов с автоматами. Туда уходят и пропадают с концом, бесследно наши группы. Никто не знает их судьбу. Работино пожирает их, как Бермудский треугольник.
Но меня это очень мало беспокоит. Для меня это всё пока что теория. Тревожная и волнительная, но теория.
В три часа ночи я слышу какой-то шум. Едут грузовик и ещё какая-то машина. И ещё какой-то непонятный пока звук.
Поворачиваю голову и вижу вдали сквозь кусты свет фар. Непонятный звук — это музыка из магнитолы.
На поляну, метрах в двадцати от нас, выруливает «Урал», рассыпаются люди с фонариками. Шумят, кричат, откидывают борта, начинают выкидывать из кузова противотанковые мины.
Прямо выкидывают, как куски бетона. С лязгом, грохотом, матюками.
На дороге встаёт «буханка», оттуда тоже кто-то выходит.
Всё как на пикнике.
Громко, на весь лес, играет Инна Вальтер.
Мы все просто лежим в своих кустах и смотрим на всё это, не понимая, что происходит и как такое вообще может быть.
Страдает самая популярная певица российских колоний общего, строгого и особого режимов, яркая брюнетка с красивым голосом.
Эту песню я слышал на швейке раз пятнадцать за смену.
Я уехал ведь не только от колючки, овчарок, конвоя на вышках. Я уехал ещё и от Инны Вальтер.
Но Инна Вальтер догнала меня в лесополосе под Работином. Как Скарлетт О’Хара, она скакала за мной три дня, даже больше.
Первый прилёт произошёл примерно через десять минут после появления «Урала» со светомузыкой. Видимо, не только мы, но и хохлы впали в ступор от такого феерического разгильдяйства, обычно они реагируют быстрее.
Бахнуло впереди, метрах в сорока от нас. Быдыж… Несколько секунд тишины.
Тыртыртыртыртыр!
Кассетка!
Все, надо сваливать.
Лесополка зашевелилась.
Второй прилет сразу же после первого, уже ближе.
Мы начинаем организованно отходить вниз, к дороге. Без паники, без суеты. У сапёров, напротив, начинается какая-то бестолковая беготня, крики, мельтешение фонарей, Инна Вальтер продолжает страдать.
Вышли на дорогу, кто-то орёт:
— Ракета пошла! Ложись!
Я вижу, что ракета пошла.
Ракета с кассетным боеприпасом великолепно видна на ночном небе.
Вижу выход, далеко, расстояние определить не могу. Достаточно медленно плывет по небу, будто комета.
Где-то над нами гаснет. Всё, сейчас будет прилет. Падаю на землю, вжимаюсь в нее, группируюсь, руки на каску. Свист. Взрыв совсем рядом. Замирание сердца. Тыртыртыртыртыр… Разрываются один за другим «лампочки». Тело напрягается в предчувствии дикой боли. Нет, кусты погасили всё.
Рядом со мной с размаху падает на землю какое-то тело. В шортах, в майке. Без головного убора.
— Брат, где здесь укрытия?
— В душе не ебу, — отвечаю ему я.
Откуда я знаю, где здесь укрытия. Да и знал бы…
Твари. Хоть бы вас посекло всех здесь. Скоты тупые.
Он вскакивает, бежит куда-то дальше, в темноту.
Я встаю, перекликаюсь со своими, продолжаем организованно отходить.
Из леса, как стадо орангутангов, высыпают сапёры. Их много. Они бегут, сшибают нас с ног, запинаются, падают, вскакивают, орут что-то. Инна Вальтер умолкает, «буханку» пытаются завести, но что-то идёт не так.
Мы быстрым шагом, не теряя друг друга из виду, отходим.
Саша куда-то пропал.
Периодически перекликиваемся. Хохлы кладут кассетки немного в стороне, выбивают ту часть леса, где никого, слава Богу, нет.
Идём. Дорога упирается в т-образный перекрёсток, поворачиваем туда. Здесь они нас и ловят.
Три кассетки сразу же падают в центре толпы сапёров, бегущих по дороге и по лесу. Грохот разрывов, треск «лампочек», крики. Стоны из кустов, мимо которых мы проходим.
Все в пыли. Не видно вообще ничего. Иду строго за одним из своих.
Всё вокруг для меня делятся на два круга: первый — это морская пехота, а внутри этого круга наши, «штормы». Это я и ещё двое. Саша куда-то пропал. Саша не откликается.
На сапёров насрать. Пошли они на хуй. Сволочи. Из-за них всё.
Свист. Падаем на землю. Грохот. Треск.
И крики моих товарищей, «штормовцев», шедших впереди меня:
— Я триста! Я триста!
Обоих скосило. Оба корчатся на земле.
У меня ни царапинки. Всё забрали они, выступив моим живым щитом.
Весь такмед вылетает из головы. Что-то куда-то ползти… Как-то пристраиваться сбоку… Плевать, короче. Падаю на колени рядом с первым. Нащупываю у него на бронике свёрнутый жгут. Свой берегу.
— Куда?
— Нога…
— Какая, блядь?
— Левая.
Щупаю ногу. Тут кровь. Тут сухо. Накладываю жгут. Бодрю второго трехсотого:
— Щас, братишка.
…Зову Сашу:
— Став! Став! Ты где, блядь, ебаны в рот!
Он не откликается. Пятигорск молчит. Заснеженные предгорья Северного Кавказа не придут мне на помощь. Я один с двумя ранеными на дороге. Где-то впереди мелькают в пыли какие-то тени, но они далеко.
Только бы не прилёт сейчас. Надо помочь товарищу встать. Он тяжёлый по весу. У него перебита нога, но ему придётся ковылять на ней, собирая все свои силы. Мне надо тащить второго, тот совсем плох. Стонет и корчится на дороге.
Я обращаю внимание, что рядом, параллельно, есть ещё одна дорога и именно по ней проносятся машины. Откуда они здесь? Я не понимаю. Не ориентируюсь на местности. Где Работино, где наши, где хохлы… Я ничего не понимаю. Меня привезли сюда, как барана на ярмарку, а я даже на дорогу сюда не обращал внимания, не запоминал ничего.
Товарищ мой ковыляет через ложбину к дороге. Я вожусь со вторым. Он ничего не может объяснить. Где болит, куда попало. Стонет и мычит. Щупаю его, от берцев до пояса. Сухо. Не понимаю, куда накладывать жгут. Помогаю ему подняться. Тащу на себе, как медсёстры в советских фильмах про войну. Автомат его где-то там, в темноте и пыли. Я не нашёл его, да и не особо старался.
Первый уже на дороге. Тормозит машину. Орет нам:
— Быстрей, быстрей…
Снова прилёт. Мы падаем на землю, машина срывается с открытыми дверями, товарищ мой в полный рост остаётся стоять на дороге.
С матами я поднимаю второго. Он в полном неадеквате, не понимает, что происходит, ему всё хуже и хуже.
Волоку его, сколько могу. Роняю. Чувствуя бессилие, сколько-то тащу, как мешок с говном, за лямки бронежилета.
Вторая машина. Тормозит. Битком набита. Из салона орут водителю:
— Поехали, поехали, поехали!!!
Он срывается с места.
Третья машина. Прилет. Треск. Машина встаёт метрах в десяти от нас.
Товарищ мой, первый, ковыляет к ней. Я помогаю второму встать на ноги, умоляю его собраться и идти из последних сил. Бросаю его и сам бегу к машине, срывая на ходу автомат. Нельзя дать ей уйти. Если надо, я буду угрожать им оружием, но не пущу. Мы уедем на этой «буханке».
На той самой «буханке», на которой ко мне в лесополку примчалась Инна Вальтер. Её всё-таки завели, эту сраную «буханку».
В ней есть места. Саперы на психе, на панике, но нас ждут. Только торопят все:
— Быстрей, быстрей, быстрей.
Вваливаемся внутрь. Второго товарища просто затаскиваем. Сапёры, слава Богу, помогают.
Вваливаемся прямо друг на друга. Я ногами прохожу по обоим, вдаль, где свободнее. Эти лежат на полу.
«Буханка» срывается с места.
Помогаю товарищам снять бронежилеты. Сваливаем всё в кучу: каски, бронежилеты, автомат. Автомат моего товарища, первого, который он нёс на себе, снят с предохранителя, патрон в стволе, ствол смотрит на одного из сапёров.
Я это вижу, но занят стягиванием броника со второго. Не забываю снять с него штык-нож. Свой же я потерял в первый же день за ленточкой, а ему всё равно, с трёхсотых списывается военное имущество, их не привлекают за утрату.
В «буханке» остро несёт бензином. Перебит какой-то шланг. Стенки салона пробиты. Судя по тому, как едем, резины нет. Посекли кассетки. Несёмся на дисках. С дисков по-любому искрит. Не дай Бог щас полыхнет, и всё. Из горящей машины нам не выползти.
Нам вслед ещё пара кассеток, но мы уже выходим из зоны обстрела. Ещё один прилёт далеко позади.
Едем. Я смотрю в окно и вижу разрывы сзади. Слышу грохот. Там не умолкает ничего…
Я впечатлён, конечно, всем произошедшим.
Такого поворота событий я не ожидал.
Вышли из Работина.
Даже не дошли.
Группы нет.
Разбита, рассеяна, уничтожена.
Я еду в «буханке» сапёров с двумя трёхсотыми.
Надо в госпиталь. А дальше что? Там разберёмся….
Выехав из зоны обстрела, «буханка» встаёт. Невозможно ехать на дисках.
Тормозим попутку. Она останавливается, здесь уже безопасно.
Пересаживаем, вернее, перекладываем раненых. Забираю у товарища автомат. Возвращаюсь к сапёрам.
Самое главное, я передал товарищей тем, кто доставит их в госпиталь. Сам я цел, невредим, я найду выход из ситуации, я уж как-нибудь выберусь. Самое страшное позади.
Мой путь в расположение своей роты — отдельная история. Есть в ней что-то швейковское, из его путешествия в Будейовицы.
Но я добрался, в час дня.
Притащил на себе два бронежилета, три каски и два автомата.
Сгрёб это всё в одну кучу прямо у ног командира роты, доложил обо всём. Тот кивнул безучастно, и я пошёл к себе.
Саша был уже в роте. Рассказал свою историю, как он добирался, но я выслушал её краем уха. Неинтересно.
Я думал о том, что вернулся последним из нашей группы.
15 человек нас ушло, вернулось шесть. После меня не пришёл никто.
XVIII
Нечто, напоминающее армейскую дрочку, я пережил за всё это время только раз.
Это было в Н-ской бригаде морской пехоты, в промежутке между моим неудачным выходом в Работино и возвращением в город Т.
Мы располагались на «лёжке» в одной из лесополок в относительно глубоком тылу.
Ночью полагалось дежурить, и настало время нам с Сашей-риэлтором заступить на караул.
Время было два часа ночи.
В кромешной тьме мы нацепили броники, каски, взяли автоматы и двинулись к точке, где нас ожидал командир нашего отделения.
Он был подшофе и очень не в духе.
Сегодня днём один из бойцов соседнего отделения послал его на хуй в ответ на какое-то замечание и пояснил, что тот не его командир и нечего его учить жизни.
Наш командир, мистер Грозный, назову его так, был бывшим росгвардейцем, и внутри его крепкого мускулистого тела жила мелкая ментовская душонка.
Он не мог пережить унижения, а алкоголь лишь подогревал жажду мести.
Поэтому, встретив нас, он развернул караульного и отправил его за тем самым бойцом, а по ходу пьесы решил взвинтить ставки и велел привести ещё двоих не полюбившихся ему бойцов.
Итак, нас собралось пятеро.
Мы с Сашей, главный обидчик мистера Грозного, следом какой-то никудышный и бесполезный дедушка, Бог знает как оказавшийся в рядах морской пехоты Черноморского флота, и трусливый боец из нашего отделения, официальный пятисотый. Ну, то есть человек, прямо сказавший, что штурмовать вражеские позиции он не будет, он неспособен это делать из-за панических атак, он не отказывается служить, но непригоден для активных штурмовых действий.
Мистер Грозный построил нас всех в ряд, прошёлся вдоль строя и сказал:
— Сейчас вы узнаете, что такое служба в морской пехоте.
Ну и тупо зарядил каждому из нас ногой под колено.
Это место болит у меня до сих пор.
Я бегаю, прыгаю, но, если начать ощупывать это место даже спустя столько времени, оно побаливает.
И нет, это не был хорошо поставленный удар морского пехотинца.
Это был конкретный омоновский приёмчик.
Я оценил.
Началась разминка.
В качестве разминки он выбрал «Джамп».
«Джамп» в броне, каске и с автоматом за спиной — это тяжеловато. Думаю, вряд ли кто-то скажет, что это плёвое дело.
Я помню только, мистер Басмач в учебке говорил, что для него это «как разминка на утреннике в детском саду».
Ну и никогда поэтому не делал это упражнение.
Это упал, отжался, встал, подпрыгнул, хлопнул руками над головой, снова упал и так далее…
Разминались мы недолго.
Он скомандовал отбой и прошёлся вдоль строя.
— Ого, — одобрительно сказал нам с Сашей, — даже одышки нету…
Сейчас я бы сдох, наверное, от этого комплекса упражнений, а тогда, после нон-стопа: учебка, группа эвакуации, беготня с Инной Вальтер, я был во вполне приличной форме.
А вот дедушка еле стоял на ногах.
С ходу он ударил его ногой в живот (через бронежилет, естественно), и дедушка, издав стон, повалился навзничь.
— Тебе сколько лет, боец? — склонился он над ним.
— Шестьдесят пять… — просипел дедушка.
— Шестьдесят пять… А какого хуя ты сюда пришёл? Какого хуя ты попёрся на войну, старое ты говно?
Он зарядил ему пинка.
Бил так, чтобы не оставлять следов. Знал, как и куда.
Ехидно напомнил об этом:
— В Росгвардии учат.
— Ну так зачем ты здесь, старый хуй? Зачем ты пришел занять место бойца, который может выполнять боевые задачи? Ну, чтоб ему было хотя бы лет 45. Ну?
— За деньги….
— За деньги… Так. А зачем тебе, пидор старый, деньги, скажи мне?
— Для внучки. — Дедушка корячился на земле, пытаясь привстать, но он не давал ему это делать, лёгким движением ноги валя его снова навзничь.
— Так, то есть ты, старый пидор, потащился на войну за 195 тысяч рублей для своей внучки, и тебе похуй, что ты, ебаный маразматик, из которого говно сыпется, занимаешь чьё-то место… Что ты не можешь выполнять задачи, что тебя жалеют, прячут, не пускают на выходы, а у нас при этом нет людей… Тебе похуй на это, да?
— Я… Я готов выполнять… Я готов в Работино.
— Куда? Да ты ходить не можешь, какое Работино? Сука!
Он бросил его и занялся пятисотым:
— Ты что?
— Я же сказал, я готов служить…
— В Работино пойдёшь завтра со мной, группу выводить? Там группа пропала (он назвал позывные, мы все знали, о ком речь), её надо найти и вывести.
— Я… Я же сказал… Я готов… Я даже в обороне могу. Но у меня панические атаки.
Он не дал ему договорить, сбил с ног, долго, но аккуратно работал по нему ногами.
— Пидарас…
Настал черед главного обидчика мистера Грозного.
Тот уже понял, что влип в дерьмо, стоял, напряжённый, в волнении, но виду старался не подавать.
Все звали этого бойца Макс.
Макс был из Татарстана, было ему лет пятьдесят.
Маленький живчик, лёгкий, подвижный.
Можно было бы сказать, что это был типаж Казани.
Но у Казани была мудрость индейца чероки, взвешенность в словах и поступках, Макс же был горяч, как мальчишка, постоянно наживал себе проблемы языком и был совершенно неумным дядькой.
Много раз Макс пытался завязать со мной контакт, подружиться, но мне он не нравился, и я всячески пресекал наше общение, односложно отвечая ему на татарском.
Демонстративно избирая в общении с ним язык, не дающий мне возможности вести долгие и пространные, порожняковые, как говорят в тюрьме, разговоры, я пытался послать ему сигнал невостребованности наших коммуникаций. Это он считывал, и его маленькие глазки загорались злобой.
Казань не был злобным. Он был колюч, суров и в силу своего тюремного бэкграунда отнюдь не плюшевым.
Но он любил людей.
Макс был злой. Это был типичный образчик злобного, вредного татарина, гротескный до уровня памфлетов и фельетонов.
При всём том он был отважен, он сам вызывался на задания, был в лютых передрягах.
Окружённый с двумя товарищами в развалинах дома в Работине, он в ответ на крики хохлов: «Хлопчики, сдавайтесь, больше нет вариантов» — разразился потоком отборнейших татарских ругательств, из которых упоминание мамкиных половых органов было самым мягким и культурным, и повёл свою тройку на прорыв, потерял одного, был легко ранен сам, но они выскочили из совершенно жуткого замеса, там, где поднимали руки и сдавались другие.
Там, где сдавались люди, о которых бы я никогда не подумал, что они когда-то сдадутся.
В довершение описания образа Макса я скажу, что он всегда и везде ходил в тельняшке и в какой-то чудовищной бандане. У него была рыжая борода, и если бы не морская пехота Черноморского флота, то этому человеку нужно было сделать что-то немыслимое, невозможное, но переместиться на Тортугу XVII века.
Больше для него всё равно других мест на этой планете не было.
И вот теперь он, насупленный и набыченный, стоял перед мистером Грозным.
— Так, значит, я тебе, говоришь, не командир?
— Нет.
— А кто тебе командир?
Он ответил.
— А я тогда кто? Хуй с бугра?
— Ты командир первого отделения. А я из второго.
— Так… А приказы мои будешь выполнять? Вот прямо сейчас?
— Буду.
Так Макс попал в переплёт окончательно.
Не знаю, чем бы закончилось дело, если бы он продолжал гнуть свою линию и отстаивать принципы единоначалия, но, согласившись выполнять приказы мистера Грозного здесь и сейчас, он тем самым признал, что был не прав днём. Нам с Сашей было предложено сесть в сторонке и покурить, остальные двое стояли по стойке «смирно», а Макс начал делать «джампы», отжиматься, бегать двадцать метров вперёд и назад до тех пор, пока не выбился из сил полностью.
— Что встал?
— Прошу… Отправить меня… В Работино… В первых рядах готов.
Он повалил его на землю и начал месить ногами, как пятисотого.
Но Макс, в
© Туленков Д.Ю., 2024
© Абеленцева А.Н., оформление, 2024
© ООО «Яуза-каталог», 2024
Бойцам «Шторм Z»,
живым и мёртвым,
посвящается
Три месяца я на СВО.
Формально и по сути я здесь по доброй воле. Однако меня бы не было здесь, если бы не чудовищный, несправедливый приговор Кировского районного суда Екатеринбурга, отправивший меня за решётку на долгих семь лет.
Я прошел все инстанции, оспаривая свой приговор, но всё это было тщетно… Махнув рукой, я подал заявку на участие в СВО в июле 2023 года, оставив за плечами четыре месяца в СИЗО и год в исправительной колонии общего режима. «Лучше один раз напиться крови, чем триста лет жрать падаль» (с).
Ни секунды я не пожалел о своём выборе, хотя всегда считал и считаю по сей день, что военное решение этого вопроса – не самое лучшее и далеко не единственное решение.
Я по-прежнему считаю, что этой ужасной войны можно было избежать при более разумной и осмысленной внешней политике последних 20 лет.
Я по-прежнему считаю, что этот шаг можно было отсрочить и задействовать иные механизмы обеспечения безопасности и защиты государственных интересов Третьей Римской империи.
Однако вышло как вышло. И теперь, когда я нахожусь под знамёнами легионов, я могу лишь сказать то, что изложено ниже, на картинке.
«Шторм Z» будет выполнять задачи даже тогда, когда повернут назад все: мобики, контрактники, хвалёные «вагнера», тик-ток войска etc.
Если мне посчастливится выбраться из всего этого живым, я расскажу о том, что видел, и о том, в чём мне довелось участвовать. Возможно, это станет целью и смыслом моей оставшейся жизни. Про ЧВК «Вагнер» уже сняты фильмы. Они уже – легенда. Мы, «Шторм Z», – пасынки Минобороны, находимся где-то в тени, про нас что-то слышали, но никто ничего толком не знает. Я бы хотел это исправить. Очень хотел бы.
Я не знаю, чем закончится специальная военная операция. Достижимы ли и будут ли достигнуты её цели? Мне ли, бойцу штурмовой роты Z, об этом судить здесь и сейчас? В той, прежней, жизни, в моём былом положении, возможно… Но не сегодня и не на окраинах пгт Работино:)
Но я верю, нет, я знаю… Именно мы, прогнанные волею судеб через горнило этой войны, выжившие и вернувшиеся домой, должны стать солью, основой, фундаментом Senatus Populusque Romanus.
Буду ли я в их числе – бог весть… Ведь здесь, как пел Тимур Муцураев, «смерть таится за каждым углом». Но так или иначе, ленинградский еnfant terrible, а вернее, тот пул, что скрывается под его голограммой, запустил процесс, который, к счастью, необратим. Россия (а теперь и весь мир) уже никогда не будет такой, какой она была до 24 февраля. Её ландшафт, уже изменённый, будет изменён далее, до неузнаваемости.
Мы в игре. Все. И на фронте, и в тылу. И эту игру надо вести до конца.
I
Полтора года (чуть больше, если быть точным) прошло с того дня, как я переступил порог своей квартиры и шагнул в абсолютную неизвестность, начав самое удивительное путешествие в своей жизни.
Монотонная речь судьи, зачитывающей своё сочинение, оглашение финальной части, конвой с наручниками, полумрак камеры, ожидание автозака и – здравствуй, новый, неизвестный мне мир…
Год и почти четыре месяца провел я в нём и три месяца в зоне проведения СВО. Несравнимые временные отрезки, но какие разные у них цвет, вкус и наполнение. Какой разный у этих отрезков вес.
Про тюрьму у меня нет никакого желания ни вспоминать, ни что-то рассказывать. Это при том, что ничего страшного и невывозимого[1] я в этом месте не встретил. Мне совершенно не на что жаловаться по большому счёту. Я не столкнулся ни с одной из лубочных страшилок и пугалок, ассоциирующихся с тюрьмой у человека, бесконечно далёкого от соответствующего образа жизни.
Поэтому дело не в тяготах арестантской жизни, а в её пустоте, бессмысленности и бесцветности.
Там нет цвета.
Там всё серое.
Нет цвета, нет вкуса, нет самого ощущения жизни.
Я не говорю за всех, конечно. Я излагаю лишь свои собственные ощущения. Тюрьма – это анабиоз, абсолютная заморозка всех жизненных процессов, буквальное убийство времени.
Многие люди, еще не попавшие в тюрьму, но предчувствующие её, строят планы, как они изучат в её стенах итальянский язык, напишут бестселлер, смогут осуществить еще какой-то глобальный проект, на который-де в обычной жизни не хватало времени…
Возможно, у кого-то получится, я не буду спорить.
Я сам, превозмогая болотную тягу, набросал кое-какие концептуальные заметки.
Но это очень сложно делать. Тюрьма убивает любое начинание такого рода, её притяжение, её трясину очень сложно преодолеть. Тюрьма всё стремится «оболотить» и выкрасить в один, серый, цвет. Поглотить, отупить, убить всё живое в человеке, атрофировать все мыслительные и чувственные процессы. Не злобные татуированные дядьки с эрегированными членами, набрасывающиеся на несчастных филателистов из советских фильмов-страшилок, не садисты-надзиратели, пытающие зэков в гестаповских застенках, захлебываясь сатанинским хохотом, а серость и болотная трясина тюремного бытия – самое страшное и убийственное, что здесь есть.
Война – абсолютный, асимметричный контраст тюрьмы. Война наполнена всей гаммой цветов, существующих на земле, даже теми их оттенками, о существовании которых ты не подозревал в той, прежней жизни. Война – это фонтан эмоций, чувств и ощущений. Это обострение всех форм человеческого осязания. Это миллионы деталей и штрихов, от количества которых взрывается мозг человека, едва переступившего периметр лагеря, места, где всё измеряется штучно, не превосходя количества пальцев на руках. Это совершенно иная скорость времени и совершенно иная ценность каждого его отрезка. Контрастный душ, который не всякому дано вынести без ущерба для душевного здоровья.
Нет ничего, ни одного фактора, которые могли бы как-то уравнять эти два мира, вывести какую-то формулу их схожести. Кроме того, что тебя нет дома.
II
Некоторое время назад (я сознательно воздержусь от указания точных дат и географических терминов) мне довелось оказаться в одном селе, на позициях соседней части.
Наша группа отходила через это село после задания, и на северной его оконечности я был отсечён огнём противника от своих товарищей. Ждать меня они не могли, поскольку сами находились под обстрелом и им нужно было перемещаться. Догнать их я не мог, поскольку надо было перебежать довольно широкую улицу, насквозь простреливаемую, и я отошёл в укрытие.
Дальше обстоятельства сложились так, что, задержавшись здесь на пару часов, по факту я провёл в этом селе почти трое суток. За него завязались бои, и в условиях, когда каждый ствол был на счету, сказать: «Давайте, ребята, вы тут уж сами, а мне надо идти» – я не мог.
Я оказал посильную помощь своим новым товарищам в обороне северной оконечности населённого пункта и вместе с ними был выведен на пункт эвакуации по приказу местного командования.
Вывод на пункт эвакуации представлял собой перебежки из одного разрушенного дома в другой под беспрерывной работой вражеской артиллерии.
Тогда я впервые столкнулся с работой танка, и с тех пор на вопрос «Что самое страшное на войне?» у меня имеется очень чёткий и конкретный ответ. Лично для меня – танк.
Так, спасаясь от огня танка, который, корректируемый дроном, методично разбирал картонные домики, в которых мы прятались, я и ещё несколько человек укрылись в бетонных трубах под дорогой, что-то типа ливнёвки. По сравнению с домиками это было достаточно надёжное укрытие, и мы здесь залегли до наступления темноты.
В сумерках поодиночке, по двое мы продолжили передвижение. Я пошёл замыкающим и в темноте потерял ведущего. Дорогу мне объяснили, но одно дело – объяснить что-то на пальцах, другое дело – применить полученную информацию.
Я повернул куда-то не туда и потерял очень много времени, прежде чем понял, что сбился с маршрута, и вернулся обратно.
Покинув трубы, я будто пересёк какую-то границу между мирами. До меня не сразу дошло понимание этой разницы, то, что я очутился в части села, куда противник не стрелял. Там, откуда я пришёл, противно трещали кассетки, били фугасы, зудели дроны, здесь же была относительная тишина.
Я шёл один по пустой улице, среди брошенных, но совершенно целых домов. На стыке двух этих частей села горел недавно построенный дом, его зарево было единственным источником света вокруг. Ни голосов, ни каких-либо других звуков мира или войны не было. Абсолютно мёртвая, пустая, тёмная улица. Оставленная людьми, но ещё хранившая их тепло. Здесь прямо остро чувствовалось, что люди ушли отсюда совсем недавно. Не было запустения в этих домах. Они ещё были живы.
Я дошёл до очередного поворота, про который мне говорили, и пошёл дальше, всё больше и больше удаляясь от разрыва кассеток, снарядов, треска горящего дома. Эта часть села была вообще не тронута.
По мере того как я углублялся в неё, я находил какие-то признаки жизни, с удивлением понимая, что здесь кто-то есть, что здесь ещё живут люди, не наши военные, а мирные, местные жители, кто по каким-то причинам не смог или не захотел уехать.
Я прошёл мимо большого дома с занавешенными окнами и услышал, как из-под него, видимо из подвала, доносятся звуки дизель-генератора.
Я прошёл мимо мангала с гаснущими углями.
Я слышал голоса где-то в глубине одного из дворов.
Я чувствовал и понимал, что за мной сейчас наблюдают из этих тёмных, закутанных, занавешенных домов. Бог весть с какими эмоциями и чувствами. Вскоре я понял, что снова свернул не туда, и принял решение прекращать ночные блуждания.
Я понял, что пункт эвакуации я уже не найду и поиски надо продолжать утром.
По дороге я приметил один хорошо сохранившийся дом, явно покинутый, и решил остановиться на ночь в нём. В него я и завернул на обратном пути. Обследовав дом и убедившись, что я в нём точно один, я расположился на ночлег, улегшись на голую кровать с сеткой. С облегчением стянул с себя бронежилет, снял каску, которые будто уже срослись с моим телом, положил под голову рюкзак, снял кроссовки, вытянул ноги…
…и понял, что впервые с того дня, как я переступил порог своей квартиры, отправляясь на оглашение приговора, я нахожусь наедине с самим собой. Впервые за это время я обрёл абсолютное, полное одиночество, которое невозможно в СИЗО, невозможно в колонии и практически невозможно на войне. Везде и всё время с тобой кто-то есть. В камере СИЗО, на бараке в лагере, на производстве, в учебке, в расположении, в окопах, на позиции, на задании – я всегда был с кем-то.
И вот впервые, резко и неожиданно, я оказался в чужом доме, в неизвестном мне месте, в какой-то ужасной, совершенно чуждой мне по природе, по духу, по укладу стране, совершенно один, наедине со своими мыслями и эмоциями, которые сейчас ничего не сдерживает.
Я буквально захлебнулся в их потоке.
Сюрреализм происходящего и пережитого не вместился в мою скромную черепную коробку, мозг поставил тормоз, закрыл шлюзы.
Я просто лежал несколько часов, глядя в потолок. Изредка шлюзы открывались и дозированная порция рефлексий выплёскивалась наружу.
Странно, но, получив возможность упорядочиться, моё сознание приняло за отправную точку реальности именно то, что происходило со мной здесь и сейчас. Этот дом, кровать, занавески на разбитом окне, холодную сталь автомата, в обнимку с которым я лежал. Напротив, тяжело было принять то, что иная жизнь, находившаяся где-то там, за тысячи километров, – это тоже реальность.
Что я, сидящий в своем офисе с чашкой кофе, – это не another me, а именно я.
Я за рулём машины где-то на трассе М5 – это я.
В лодке с удочкой на раскатах в дельте Волги – это тоже я.
Что мои родные и близкие – это не цифровая голограмма в телефоне, которого сейчас даже нет со мной (на передок нельзя брать телефон, он остаётся в расположении, с личными вещами), а реально существующие люди, которые есть.
Вот это было трудно принять.
Все мои 44 года было трудно принять как реальность, а не как сон, фантазию, какое-то кино или литературный сюжет.
А вот текущее положение вещей сознание трактовало как должное и единственно могущее быть.
Наверное, так работают защитные механизмы мозга и психики. Наверное, это первостепенный ключ выживания в этих условиях.
Мне кажется, единственное, что зависит от человека здесь, – это абсолютно трезвое и адекватное восприятие реальности.
Пока оно есть, ты способен принимать правильные решения и соответственно реагировать на внешние условия.
Малейшее отклонение от принятия происходящего, допуск рефлексий и самой мысли о сюрреализме того, что ты здесь переживаешь: «Да это мне снится, это не со мной, это не может быть правдой» – и всё. Ты запускаешь цепь необратимых событий, тянешься за бабочкой через бруствер окопа, и тебя снимает условный снайпер.
Это потом, если и когда всё закончится, ты будешь вспоминать это всё через призму рефлексий и балансировки на краю бездны.
Пока же надо смотреть в багровые зрачки реальности не моргая.
P. S. Утром я обнаружил пункт эвакуации в тридцати метрах от этого дома. Я прошёл мимо него ночью, не распознав. Видимо, для чего-то мне надо было побыть в этом доме наедине с собой.
Возможно, чтобы написать этот текст, а может быть, для чего-то большего, что ещё ждёт своего часа.
III
В окрестностях пгт Работино, о существовании которого я даже не догадывался в прежней жизни, но которое теперь уже навсегда станет для меня знаковой точкой на карте, есть объект, несущий поэтическое название «очко Зеленского».
Солдатская терминология – она всегда не в бровь, а в глаз.
«Очко» – потому что здесь действительно жопа.
А имя президента враждебной державы добавлено для того, чтобы показать масштаб этой жопы, её доминирующее положение над бесчисленным количеством других жоп, имя которым здесь легион.
«Очко Зеленского» – это наш «домик паромщика».
Даже по ландшафту оно напоминает чёрно-белые фотографии Вердена или Соммы. Не хватает только обрывков колючей проволоки (на этой войне невостребованный девайс).
Место, бесконечно переходящее из рук в руки, место, уносящее десятки жизней с нашей и с той стороны.
«Очко» обладает какой-то зловещей магией, заставляющей наше и их командование бесконечно снаряжать сюда штурмовые группы, способные взять его, но не способные в этом «очке» удержаться.
«Очко» прострелено нашей и их артиллерией до сантиметра. Туда тяжело добраться, но, добравшись туда, храбрецы с белыми или синими повязками неминуемо погибнут под огнём или же будут вынуждены отступить.
В «очко» сливаются жизни людей, а горький цинизм солдатской терминологии превращает их смерть в апофеоз бессмысленности. «Погиб в „очке Зеленского“» – это совершенно не то, что просится на страницы героического эпоса, не так ли?
Между тем вся моя эпопея теснейшим образом увязана с этим чёртовым «очком», равно как и со стёртым с лица земли Работином, расположение улиц которого, школу (местный «дом Павлова»), кладбище и прочие достопримечательности я могу воспроизвести на листке бумаги с безупречной топографической точностью.
С «очком» связаны первые потери боевых товарищей, и тогда, когда туда уходит группа, а потом возвращаются люди, по два, по одному, с пустыми, выжженными глазами: «Тот 200, тот 200, что с остальными я не знаю…», и тогда, когда на подступах к этому проклятому «очку» из двойки, ушедшей вперёд, после автоматной трескотни возвращается, взволнованный и запыхавшийся один и роняет просто, без лишних слов: «У нас минус один».
Так просто… «Минус один». А мы час назад с этим «минус один», пережидая обстрел кассетками в каком-то лесном блиндаже по дороге сюда, кипятили воду в пластиковой бутылке.
Да-да, «минус один» научил меня за час до своей гибели этому нехитрому фокусу – на огне можно вскипятить воду в пластиковой бутылке, своевременно её прокручивая над язычком пламени, и ничего ей не будет. Элементарная физика, в принципе, но вот я не знал.
И вот теперь он лежит где-то там, в паре десятков метров от нас, в «штанах»[2], то есть в месте, где окоп раздваивается. И будет лежать там Бог весть сколько. Хохлам его тело не нужно, а нам его не достать, потому что оно в паре шагов от них, засевших там, в этих «штанах». И мы эти «штаны» не пройдём, хотя должны были сделать это.
Но нас туда пошло семеро, и двое позорно запятисотились, сбежали тихой сапой в лесополосу, исчезли, пропали, растворились в ней. И теперь «минус один» – это очень критично. Это соломинка, перебившая хребет верблюду. Впятером мы могли бы попробовать, а вчетвером уже нет. Вчетвером мы можем только удерживать этот пятачок, 90-градусный поворот в окопе так, чтобы воспрявший духом противник, только что разделавший под орех, с трёх стволов, «кацапа», сам не штурманул его, не прорвался на этот участок.
Да, за нами, в двадцати метрах, полнокровная рота мобиков.
Но мобики сидят, прижавшись к стенке окопа, обняв автомат, и на предложение нашего командира оказать нам содействие отводят глаза: «Это не наша задача. Мы должны удерживать позиции и всё. Мы здесь уже неделю. Мы устали. Нам сказали, придёт „шторм зет“ и выбьет пидоров».
Ну, конечно, «Шторм Z» придёт и всё сделает.
Они говорят о нас как о каких-то супервоинах, способных творить чудеса.
А какие мы супервоины? Обычные уголовники, набранные с разных российских тюрем, с двухнедельной подготовкой.
Но считается так. Считается, что мы люди отчаянной жизни, отбитые на всю голову, одной духовитостью способны проламывать любое сопротивление. Эх, если бы…
Командир наш машет рукой. Упрашивать бесполезно. Не пойдут. Не пойдут, хотя там, в этих «штанах», сидит человек десять, не больше. Можно их загасить. Там тоже не супервоины. Автоматы и один пулемёт. У нас «мухи», «шмель», РПГ, можно загасить, но не вчетвером.
Вчетвером мы садимся в оборону, и начинается долгий взаимный прострел серой зоны.
Мы с хохлами в одном окопе.
Пару дней назад они дерзко штурманули наш опорник, заняли его и, теперь вклинившись в нашу линию обороны, отсекли примерно километр наших окопов, уходящих туда, в сторону чёртова «очка Зеленского».
Мы сидим на углу девяностоградусного поворота, потом десять метров серой зоны, снова поворот, и там уже они.
Теперь и наша, и их задача – простреливать серую зону так, чтобы никто не решился в неё сунуться.
Это надо делать постоянно.
Потому что если не делать этого, то они могут попробовать сюда сунуться, и если допустить их до поворота, хана не только нам, но и сидящим в обнимку с автоматами мобикам. Их просто перестреляют в траншее так, что они даже ничего не смогут сделать. Да они и не будут пытаться, они гуртом, топча друг друга, побегут, теряя оружие и снаряжение. Ведь именно так было два дня назад.
Хохлы тоже не хотят повторения нашего захода. Да, мы потеряли одного человека при разведке боем, но второй-то ушёл и унёс с собой крайне важную информацию: где они сидят, а где их нет. И оттуда, где их нет, можно достать их там, где они есть. Они это всё понимают, они знают, что, если русские сейчас вернутся со знанием их расположения, им будет тяжко, а скорее всего, им будет конец, потому что они сидят в нашем окопе и отходить им по нему некуда, только наружу, в чистое поле, и ломиться до своей лесополки[3].
Но они дотуда не добегут.
Если мы выкурим их наружу и займём позицию, подтянем пулемёт, то это всё. Никто никуда не добежит.
Мы и должны были так сделать.
Но всемером. При самом трагичном для нас раскладе – впятером. Но вчетвером нам уже не справиться.
Вчетвером, в принципе, мы уже можем запрашивать разрешение на отход. Но, во-первых, нам этого никто не даст, а во-вторых, нельзя этого делать.
Уйти сейчас, расшевелив это осиное гнездо и вытянув их сюда, на свой угол, – это значит сдать ещё километр наших окопов. Мобики не удержат.
Поэтому мы остаёмся и начинаем простреливать серую зону.
Про штурм уже речи нет, как я сказал. Просто не дать им сюда зайти, большего мы не сделаем.
Наша проблема в том, что, обозначив своё присутствие здесь, мы, соответственно, и вызываем на себя их огонь.
Нас пытаются выковырять с этого угла миномётом, АГСом, именно здесь я впервые знакомлюсь с FPV-дронами и переживаю их атаки.
Идут долгие, томительные часы.
Мы сменяем друг друга на углу, и пока один стреляет, второй заполняет магазины. Бэка расходуется как на полигоне.
Я даже в этих условиях не могу преодолеть свою природную скупость. Я экономлю. Я стреляю по большей части одиночными и изредка щёлкаю предохранитель на короткие очереди. Три очереди по три патрона. Несколько раз одиночными. Мои товарищи стреляют как в Берлине 45-го, только гильзы звенят.
Периодически старший группы простреливает сектор из пулемёта, сразу по пол-ленты. Иногда кидаем в их сторону гранаты.
К нам, осмелев, подтягивается группа поддержки из числа мобиков. Тусуются где-то вдали, на безопасном расстоянии, но постепенно осваиваются и откуда-то оттуда по-сомалийски, из-за бруствера окопа, постреливают куда-то в сторону Киева. Ну ладно, Бог с ним. Без вреда, и то вперёд.
Жара. Очень хочется пить. С водой у нас беда. Зато есть повод подарить мобикам ощущение значимости и причастности к великому сражению.
За водой для нас они убегают охотно и даже, как мне показалось, с радостью. Носить нам воду, патроны и даже отдать свои сухпайки они готовы.
Попив, я ничтоже сумняшеся беру и сухпай. Как бы там ни было, но есть надо.
В самый разгар трапезы в бруствер над моей головой прилетает граната с АГС, меня осыпает несколькими килограммами земли, в земле и чудеснейшие тефтели из сухпая.
Досадно…
Меж тем, как пишут мастера литературного жанра, смеркалось.
Командование, естественно, с самого утра знает о состоянии нашей группы, о пятисотых и о двухсотом. То, что задача не выполнена и не может быть выполнена. То, что задачу минимум мы выполнили, не допустив проникновения противника на свой участок в светлое время суток (а в тёмное время они и не полезут). Мы наконец-то получаем разрешение на отход.
Отход – это тоже непростая задача.
Некоторые блиндажи, через которые мы шли на точку днём, к вечеру уже разрушены артогнём противника. Местами мы продираемся через их руины, где-то прямо по трупам своих же солдат, местами приходится вылезать на поверхность и обегать их, рискуя словить пулю от снайпера.
Мобики провожают нас негодованием и упреками: «Вы что, бросаете нас? Уходите?»
Я испытываю испанский стыд, когда такое мне, щуплому очкарику, говорит дядя весом сто килограммов с рожей втроём не обсеришь, и ещё его гневный голос срывается на фальцет.
В вотсапе есть хороший смайлик: тётенька рукой лицо закрывает. Вот примерно так я бы охарактеризовал свои ощущения.
Выходим. Уже темно. Надо перебежать горелое поле и укрыться в спасительной лесополке. Прямо надо бежать. Если дрон-камикадзе застукает на открытом пространстве, кто-то из нас тут останется по запчастям.
Слава Богу, перебежали, укрылись среди деревьев, дальше можно идти быстрым шагом, с интервалом пять-шесть метров.
Уходя в лес, я оглядываюсь на ленту окопов за спиной.
Где-то там, вдали, затаилось зловещее «очко Зеленского».
Где-то там, на подступах к нему, сжимая в окоченевшей руке автомат, лежит мой товарищ, неплохой в принципе, хотя и непутёвый по жизни, шебутной и какой-то «всё у него через жопу» парень.
Мы спустились в окопы впятером, а уходим вчетвером.
В моей жизни это в первый раз, но, к сожалению, не последний.
«Очко Зеленского» ещё соберёт свою кровавую жатву.
Мне ещё доведётся столкнуться с ним, и предыдущая моя история, с ночью в заброшенном домике, она тоже в основе своей имеет поход на «очко Зеленского», только уже не пешком, через окопы, а на броне БТРа…
Но это, как говорит Леонид Каневский, «уже совсем…» Ну, вы поняли.
Но знакомство моё с «очком Зеленского» состоялось именно так.
IV
…когда старший группы озвучил задачу, у меня стали ватными ноги, в животе возник противный липкий холод, а дыхание перехватило так, что я даже не мог сглотнуть.
Страх – абсолютно нормальная реакция человека на любое рискованное мероприятие, в котором ему предстоит принимать участие.
Но есть страх в пределах нормы, в рамках задачи, которую ты сам определяешь как посильную, а есть страх, возникающий перед препятствием, преодоление которого ты считаешь за пределами своих сил, за гранью возможного.
Задача заключалась в том, чтобы силами двух групп на броне БТР прорваться прямо к окопам противника, десантироваться с брони прямо к ним и произвести зачистку траншей на определённом участке. По мере выполнения задачи должна была подойти третья группа, а после закрепления на участке – подразделение регулярной армии.
Наша группа должна была идти первой, за нами, с большим отрывом, вторая. Третья стояла на фоксе и ждала нашего сигнала, что работа на первом этапе сделана.
Разумеется, речь шла о нашем горячо любимом «очке».
Сама по себе идея нестись куда-то по голому полю верхом на броне меня уже огорчила. Тут уже само по себе вырисовывалось нетривиальное задание. БТР не может пройти столь значительный участок незамеченным. Значит, по нему будут стрелять задолго до выхода на позицию. И дай Бог, если будут стрелять из стволки, а могут и заптурить. Да и стволка несёт мало хорошего: попасть в быстро едущий БТР не так просто, но скосить пехоту на его броне осколками вполне реально. А ехать внутри нельзя: план операции не оставляет времени на то, чтобы закрыть боковые люки, а с откинутым трапом БТР при отходе может зацепиться за деревья в лесополосе, на скорости это очень аварийно. Так, во всяком случае, объяснил нам экипаж бронемашины. Поэтому только сверху, как в Чечне.
Ладно. Предположим, мы проскочили, высадились, вломились в окоп и заняли какую-то его часть.
А если что-то происходит со вторым БТР? Если он не доезжает и вторая группа не приходит нам в помощь? Тогда срок нашей жизни исчисляется сроком расхода боекомплекта. Вломиться в окоп к хохлам мы, скорее всего, вломимся. Но выйти оттуда, если что-то пойдёт не так, мы уже не выйдем. Плана Б в схеме нет.
Дальше. Вломились мы в окоп, заняли свой сектор. Подошла вторая группа. Но, предположим, происходит что-то с третьей. А вероятность, что третий БТР подобьют по дороге, после того кипеша, какой мы там наведём у хохлов, стремится к 99 %. Мы, может, и проскочим. Каким-то неслыханным чудом проскочит вторая машина. Но на что они рассчитывают, посылая третью? Когда её уже будут ждать вся их артиллерия, танки, которые тут есть, птурщики и т. д. Это так и осталось для меня загадкой.
Но, предположим, прорвалась и третья. И вот вся наша зондеркоманда в окопах, все сектора зачищены, противник уничтожен или выгнан из траншей, и по нам начинает работать украинская артиллерия. А она начнёт работать, безусловно. И в этих условиях командир регулярного подразделения принимает решение своих людей на участок не заводить. А он именно такое решение и примет.
