Случай в Москве бесплатное чтение
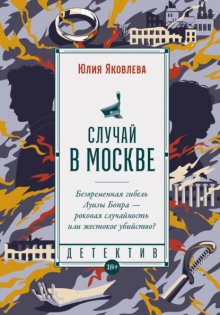
Юлия Яковлева
Случай в Москве
Издательство благодарит Banke, Goumen & Smirnova Literary Agency за содействие в приобретении прав
Редактор Ольга Виноградова
Издатель Павел Подкосов
Главный редактор Татьяна Соловьёва
Руководитель проекта Мария Ведюшкина
Ассистент редакции Мария Короченская
Художественное оформление и макет Юрий Буга
Корректор Юлия Сысоева
Компьютерная верстка Андрей Фоминов
Иллюстрация на обложке Артем Чернобровкин / Иллюстраторское агентство Bang! Bang!
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Ю. Яковлева, 2024
© Художественное оформление, макет. ООО «Альпина нон-фикшн», 2024
* * *

Глава 1
Почты не было.
– Может, завтра кто закинет. Если будет оказия. Может, послезавтра. Может, в среду, – пожал потемневшим от дождя плечом поручик Ельцов. Он не видел разницы, ибо не был влюблен.
Но Мурин, услышав это, чуть не расплакался от обиды и досады, поспешил отвернуться, сделал вид, что очень уж озабочен, как бы половчее пристроить повод. Шея коня была темной от дождя и пота, грива висела плетьми, шерсть набухла от влаги, а низкое свинцовое небо собиралось наддать еще. Они только что вернулись из объезда – искали французские дозоры (не нашли). Мурин провел по шее коня рукой, как бы отжимая, отряхнул брызги. Стряхнул брызги с кивера. Разозлился:
– Черт знает что такое! Свинство!
Он был зол сразу на все – на дождь, на грязь, на французов, на бестактного Ельцова, на лентяя курьера, который сваливал все почтовые мешки в штабе, чтобы они там дожидались, когда рак на горе свистнет. А пуще всего злился Мурин на Нину. Вот уж два месяца от нее не было ни листка. Что стоило послать хоть записку? Что за финты? Разозлился – но тут же подумал: а вдруг больна? Или вообще умерла. В Петербурге с его промозглым климатом, особенно осенью, это запросто: еще ночью весело скакала в душной бальной зале, утром озноб, а вечером – несут гроб. Сердце тут же тяжело застучало. Измученный и отупевший от усталости ум был готов верить во что угодно.
– Мурин, ты чего? – удивился Ельцов. – Ты куда?
Но Мурин уже снова лез в седло. Зад его взмолился о пощаде, казалось, там образовалась сплошная мозоль, твердая и красная, как у особого рода обезьян. Хотелось сползти и лечь прямо на землю. Мурин фыркнул, дал повод. Но Азамат, его конь, не сдвинулся ни на йоту, только покосился недоверчиво и жалобно: мол, серьезно? Мурину стало совестно перед верным товарищем.
– Ну пожалуйста, – взмолился.
Азамат вздохнул, почти как человек, которому поручили неприятное задание, исключительно зная его доброе сердце, и, чмокнув, вынул копыта из грязи, чтобы снова в нее погрузить, побрел обратно к размокшему руслу, называемому подмосковной дорогой. Мурин поклялся себе, что едва доедет до отряда Давыдова, выпросит для Азамата хоть клок сена, а как только доберется до штабного села, то и овса, сколько бы тот ни стоил.
Безлюдный осенний пейзаж расстилался, покуда хватало глаз. Ветер обрывал последние желтые листы. Березы казались особенно продрогшими, а редкие ели – особенно колючими. Мурин ехал и представлял себе Нину в гробу. Передернул плечами. «Чушь». Если рассудить… Уж такую новость кто-нибудь наверняка сообщил бы своему в полк, а этот свой непременно прочел бы вслух товарищам: ба! – слыхали? – княгиня Звездич! – фьють – горячка – а как была хороша.
«То-то и оно, то-то и оно, прочел бы» – заворочались в ответ другие мысли: весь фокус в том, что было что прочесть. Письма из Петербурга в действующую армию шли регулярно с самого начала войны. Писали жены мужьям, матери сыновьям, невесты женихам, писали дедушки, друзья, тетушки, любовницы, кормилицы, студенты, братья, сестры, кузины, дядюшки, бывшие гувернеры и учителя русского языка. Строчили, корябали, выводили. Пересказывали сплетни, делились новостями, надеждами, тревогами, рассказывали о прочитанных романах и премьере «Дмитрия Донского» (при слове «отечество» зал вскочил в порыве, многие рыдали, несколько дам подчеркнуто упали в обморок). И только Нина не прислала и записки. Почему? Хороший вопрос. Ответа на него не было. Вернее, был, и даже очевидный, но такой, что Мурин не проехал и трех верст, как не только обсох, а даже и пылал от бешенства.
Только этим можно объяснить то, что случилось потом.
Сперва, правда, Мурин решил, что уснул дорогой и спит наяву.
Такое с ним случалось во время длинных маршей отступления, когда сутками не сходили на землю. Происходил этот сон наяву обычно так. Сперва седло под Муриным начинало как-то слишком уж раскачиваться. Будто лодка или колыбель. Мир качался в такт, но при этом запаздывал на четверть мига, как неуклюжий партнер в танце. Затем где-то в задней части головы как бы растягивалась черная ширма. И на ней начинали двигаться удивительно яркие цветные картины. По их слегка ядовитой яркости Мурин и понимал, что спит. Глаза его при этом были открыты, уставлены вперед. Но крупы лошадей и спины товарищей впереди, небо, затоптанные конницей поля, обгорелые остовы деревень скользили по его глазам, как по двум выпуклым стеклянным пуговицам. Только в самый первый раз, когда в голове вдруг расцвели лихорадочно-яркие видения, Мурин испугался, что спятил. Потом привык и уже спал с открытыми глазами запросто.
В этот раз он тоже сперва решил, что просто спит.
…Пам!
Никак выстрел? Голоса донеслись как сквозь воду. Голоса были русские, это точно. Мурин вскинул голову, обернулся, заметил за деревьями яркие пятна. Он еще не сообразил, что к чему, а Азамат уже направился туда, угадав желание всадника. Мурин едва успел пригнуться, проехав под ветками, холодные капли сорвались, окропили его. Он выехал на поляну. Краски – неожиданно яркие в серо-буром подмосковном лесу – заставили сердце екнуть. Синий всегда бьет по глазам в соседстве с белым, хоть и – как сейчас – замызганным. А уж после Бородина все французские мундиры заставляли екать сердце. Но сейчас эти французы не скакали, не орали, навострив сабли или пики, а на своих двоих стояли в ряд посреди поляны. Их плечи были сутуло опущены. Руки болтались, как пришитые. Пленные, понял Мурин. Его воспаленным от усталости и бессонницы глазам показалось, что красные детали на их воротниках и плечах шевелятся, как кипящее варенье. Все стояли, а один лежал. Пам!.. – и следующий синий француз осел, подогнув белые голени. Так же тихо кровь стала расползаться вокруг его головы. Затем Мурин увидел усача в растрепанных бакенбардах и с дымящимся пистолетом в руке. Тот деловито сунул пистолет ординарцу, взял из его рук другой, заряженный, перешел к следующему пленному. Приставил дуло к его виску. Пам!..
Мурин опять вздрогнул, и наконец тупость слетела с него. Скатился из седла:
– Ты что, падла, творишь!
(Как все юноши его круга, он был с пеленок воспитан французскими нянями и гувернерами, и как все – с начала войны весьма развил свой русский язык в общении с солдатами, хоть и не в том направлении, которое бы одобрил гувернер.)
Мурин сграбастал падлу-усача за грудки, встряхнул, притянул:
– Спятил? Пистолет! Сюда! Живо!
Усач и ухом не повел. С веселой наглостью изучал его лицо. Мурин видел собственное отражение в его глазах, ясных и светлых, совершенно спокойных. «Уж точно ли я не сплю?» – усомнился он и только тогда заметил остальных. Они стояли вокруг, глазели. Все в русском платье и заросшие, но оружие было армейским, выправка военной, а под космами на мордах можно было угадать усы и бакенбарды, как в одичавшем саду угадываются очертания когда-то стриженных садовником куртин. Партизаны, вспомнил Мурин новое слово.
– Чего лупитесь! – крикнул им. – Сюда!
Но и тогда никто не дернулся ему на помощь: вязать спятившего. Мурин перевел взгляд ему в лицо, в глаза. Такие чистые и пустые, что Мурин невольно ощутил внутри себя дрожь, будто наступил на гадюку.
– Ты что, сволочь, творишь, – повторил.
Усач внезапно расхохотался. Смахнул руки Мурина, точно они были ватные. Оборвал смех, сомкнул красиво изогнутые губы. На лице его была не то чтобы скучающая мина, а никакой вовсе.
– Да ну.
– Не нукайте, не запрягли!
Во взгляде усача впервые мелькнуло что-то, похожее на чувство. Злой интерес.
– А вам что до этого, ротмистр?
Но Мурин не собирался уступать.
– Убивать безоружных… Жестокость с пленными недопустима, господин… Не имею чести понять ваше звание в этом маскарадном платье.
Тишина. Среди глазевших побежал шепоток: «Ты что, ты что, оставь, это ж Долохов». А кто-то даже хмыкнул: это еще что за кретин? О Долохове, скандальном московском бретере, который был разжалован в солдаты, потом стал правой рукой Дениса Давыдова и в партизанских вылазках быстро прославился беспримерной смелостью, пошел вверх и стал уже чуть не полковником, об этом Долохове Мурин, конечно, слыхал. «Черт побери».
– А вам не нравится мое платье? – процедил тот.
Краем глаза Мурин видел зернышки лиц вокруг. Неодобрение, любопытство, злорадство было написано на них.
– Мне не нравятся ваши поступки, – парировал Мурин.
Светлые глаза холодно уставились ему в лоб.
– Вот оно как… – процедил Долохов. – Кто же это у нас такой чувствительный? Надо же. С таким нежным сердцем – и уже ротмистр! Чудеса.
Стая тут же заворчала, подхватила:
– Набрали сосунков… Молоко на губах не обсохло… А командовать…
Зерно истины в этих попреках было. После Бородина звания в самом деле раздавали как баранки, как еще набрать офицеров?
На Мурина снова, как тошнота, накатило чувство, будто он спит. Действительность зыбилась и подрагивала, как подрагивает горячий воздух над степной дорогой.
«А я среди них один, – мелькнула мысль. И еще одна: – А спишут на французов».
Когда проваливаешься в страшный сон, важно хвататься за простые правила, прописные истины. Если повезет, вылезешь. Несколько таких простых правил Мурин на войне уже выучил. Например, то, что лицо у людей – на удивление твердое. Глупо бить по нему кулаком.
Мурин откинул голову и со всей силы врезал лбом Долохову в нос.
Услышал приятный мягкий хруст. «Рыло, может, сломал». Успел ощутить по этому поводу удовлетворение. А в следующий миг на него уже, конечно, кинулись, облапили, скрутили. И как бы выставили перед вожаком, предлагая тому решить участь незваного гостя. Мурин тяжело дышал. Вырваться нечего было и думать. Азамат тихонько заржал, топоча, мотая головой.
– Ишь, – Долохов потрогал нос тыльной стороной руки, которой держал пистолет. Опустил ее, уставился на Мурина.
Кровь струилась из его носа, стекала в рот, капала с подбородка. Долохов держался с восхитительным равнодушием. Мурин не мог не отдать ему должное. Легенды о долоховском самообладании уже не казались преувеличенными.
Долохов стряхнул с пальцев кровь, сделал мимолетное движение в воздухе. Хватка вокруг Мурина тотчас разжалась. От него отступили, но недалеко. Тянули шеи, наблюдая за словесной дуэлью. Потеха!
– Куда ж тогда прикажешь девать эту сволочь? – спросил Долохов, как будто спрашивал в гостях, куда можно положить шляпу.
Мурин все не мог отвести глаз от его перепачканных кровью зубов.
– Пленных надобно доставлять… – Но куда доставляют пленных и что с ними делают потом, Мурин и сам не знал. В штаб?
– …в указанное для этого место, – нашелся.
– Да у нас и кормить этих дармоедов нечем, – задумчиво заметил Долохов. Почесал лоб дулом пистолета. – Сами жрем что попало, да и то не каждый день. Людей лишних, чтобы нянчиться с ними, у нас нет. А таскать их с собой мы тоже не можем. Так нас быстро обнаружат.
– Зачем тогда в плен брали?
– В самом деле, – согласился Долохов легко. Так же легко, как только что убивал безоружных. – Не отпускать же их теперь.
Мурин понял, что имеет дело с законченным безумцем. Кровь капала и капала с его подбородка. Долохов, не глядя, промокнул рукавом.
– Что ж теперь с вами делать, а? – обернулся на пленных. Вернее, на пленного, потому что остальным уже все было равно: редкие осенние мухи собрались вокруг их быстро подсыхающей крови.
Стоял лишь один. Хотя говорили по-русски, он понял, что речь зашла о нем. Когда светлые глаза Долохова остановились на нем оценивающе, он заметно побледнел.
Долохов прищурился. Поднял руку с пистолетом, вытянул, нацелил на пленного француза, надул щеки, выдохнул:
– Паф.
Обернулся к Мурину:
– Ну и забирай его себе, раз такой умный.
Мурин посмотрел ему в лицо: шутит? Глаза у Долохова были все такие же – ясные и чистые. Совершенно неодушевленные. Мурин подошел к французу. Стараясь не смотреть ему в лицо и говорить тихо (опасался пробудить в людях лихо), бросил по-французски:
– Следуйте за мной.
И пошел к своему Азамату. Завидев хозяина, тот натянулся, как струна.
Но француз не двинулся. Громко («Ну что за идиот!») позвал:
– Господин офицер!
Мурин обернулся. Несколько партизан обернулись тоже – в глазах их проглянуло то самое лихо, которое опасался разбудить Мурин. И только французу было хоть бы хны:
– Мои сапоги.
Мурин посмотрел вниз, куда тот указывал. Француз стоял в мокрых чулках:
– Велите вашим товарищам вернуть мне сапоги.
Страха в его голосе Мурин не услышал, только легкую насмешку. Ему стало стыдно. Так и подмывало ответить: они мне не товарищи. Но это бы значило дать перед французом слабину. Так и подмывало рявкнуть: заткнись. Но и заискивать перед партизанами не хотелось. Мурин нахмурился. Он почувствовал, как взоры снова оборотились на него: новая потеха.
– Какие еще сапоги? – сказал по-русски, стараясь, чтобы вышло нетерпеливо и строго, и бросил по-французски: – Следуйте за мной.
– Скажите им, чтобы вернули мне сапоги.
Азамат нервно водил ушами, косил жаркими глазами. Мурин взял его под уздцы, похлопал по шее, успокаивая; его бы самого кто похлопал и успокоил! Он чувствовал, что колени мелко дрожат, в ладонях покалывало. Все это могло кончиться дурно.
Долохов насмешливо крикнул по-французски:
– Сапоги тебе дать? Скажи спасибо, что живой. Морда вражья. В ножки поклонись, – перешел он на русский. – Второй раз так не повезет.
Француз не отступил:
– Без сапог я не смогу передвигаться. Господин офицер! – снова взмолился он, обращаясь к Мурину.
«Нашел же себе заступника», – разозлился тот про себя. Но все же подошел к Долохову:
– Велите вашим людям вернуть ему сапоги. Мне плевать, кто что у кого и почему взял, я не потащу его на своей лошади. Она устала, уж это-то вы, конный офицер, должны уважать.
Что-то человеческое впервые мелькнуло во взгляде Долохова. Он посмотрел на Азамата. Оглядел с головы до ног. Потом глянул сквозь Мурина. Не сразу, но поднял руку, щелкнул пальцами. Пара сапог упала перед французом.
– Это не мои… – попробовал было возразить тот.
Но Мурин прошипел:
– Надевайте! Черт вас дери.
Француз сел на траву, вырвал пучок, отряхнул, набил в мыски, стал натягивать на ноги черные трубы.
Долохов задумчиво смотрел Мурину в лоб своими чистыми глазами.
– Лошадь устала… – весело передразнил. – Эх, ротмистр, это цветочки. Ваши беды только начинаются.
Глава 2
Мурин за повод вывел Азамата из леса. Француз шел впереди, высоко вынимая из бурой травы ноги. Сам он был тощий. Ноги в длинных узких сапогах казались особенно голенастыми.
Мурин слушал спиной. Не собираются ли сзади пальнуть. «Нет, ну не до такой же степени они все… и этот Долохов тоже…» – возражал он-разумный, сам себе тому, у которого по спине от страха катил пот. Наконец позади опустился полог леса, и Мурин почувствовал себя спокойнее.
Сразу навалились опять и голод, и умственная тупость от дурного сна, и усталость, и досада. Опять впилась в сердце надежда. Мурин остановился. Теперь надо было решать, как же в самом деле быть. Ехать направо или налево?
Ситуация вырисовывалась былинная: витязь на распутье. Отличалась она от былинной только тем, что какое бы направление Мурин ни выбрал, коня наверняка угробит. Он на всякий случай посмотрел на товарища. Азамата тоже отпустило напряжение, от которого он несколько минут назад трепетал, как натянутая струна. Во всей осанке коня теперь видна была глубокая усталость. Уши разъехались в разные стороны, точно не было никаких сил, чтобы собрать их вместе. Шерсть пропиталась потом и грязью. Бока ввалились, брюхо отвисло. Шелудивый одр, да и только. В животе у Мурина ныло от голода. Вдобавок начинало темнеть. О том, чтобы продолжать путь в штаб, нечего было и думать. Тут бы в полк вернуться подобру-поздорову. Или все же рискнуть и?.. Что, если в этот самый миг заветное письмо, письмо от Нины, жжет сквозь холстину почтового мешка? Как прожить еще один день? А может, два, или три, или вообще до четверга?
Француз тоже остановился, сорвал соломинку, сунул в рот, пососал, с любопытством разглядывая пейзаж. Обернулся на Мурина:
– Черт возьми, там, среди этой публики, я уж было…
– Вы можете не трещать хотя бы минуту? – вскипел Мурин.
Француз пожал плечами, вынул изо рта соломинку, отбросил:
– Как скажете.
И улыбнулся. Как бы всем лицом сразу: гармошка на лбу, гармошки на небритых щеках, морщинки вокруг глаз. Он был очевидно старше Мурина. Улыбался – а глаза всматривались в Мурина с опаской. «Да он же меня боится! – понял Мурин. – Как собаку бешеную… Не удивительно». Ему стало стыдно.
– Извините, – вздохнул. – Дело в том, что нам придется идти пешком.
И побрел в направлении, откуда совсем недавно выехал, кипя гневом, страстью и надеждами – и напрасно.
– Это-то я сразу понял, – с живостью заметил француз.
– Что? – на миг испугался Мурин: он что, читает мысли?
Но француз продолжал как ни в чем не бывало:
– Понял. Поэтому сапоги потребовал. Такие маленькие жилистые лошади, как у вас, обычно весьма выносливы, но уж коли устанет, то никакой силой с места не сдвинуть. А вы какого мнения?
Мурин глянул на его форму. Она была кирасирской. Кавалерист. Разбирается. Мурин смягчился:
– Так и есть. Но на самом деле он быстро приходит в себя.
Француз кивнул на Азамата:
– Что это за порода? Казацкая?
– Черкесская.
– Как-как?
Мурин повторил. Затем пришлось объяснить, кто такие черкесы и в какой части империи обитают. Француз спросил, сколько он платил за коня и в каком возрасте взял. Потом спросил, сколько еды выходит в неделю. Чем болел. Как тренировали. Каким шагом ходит лучше всего. Подыскал приличествующие случаю вопросы и Мурин, хотя кирасирские лошади – рослые и медлительные – никогда его не интересовали. Француз отвечал охотно. Помолчали. Сеялся дождь. Стрекотал по бурым листьям. Оба вжимали голову, будто желали втянуть ее сквозь воротник совсем, как черепаха в панцирь.
– Вот что интересно. В каждой нации порода лошадей соответствует темпераменту местных женщин. Вы не замечали? – предложил новую тему француз.
Мурин сказал, что не замечал. Но тут же представил Нину. Можно ли сравнить ее с кобылой орловского завода? Он не заметил, как вытянул шею из воротника:
– Что вы имеете в виду?
Разговор опять ожил. Оба изо всех сил старались избегать опасных ям: ошибся ли Наполеон, решив зимовать в старой русской столице? И – кто сжег Москву: русские или французы? Обходили издалека. Говорили о женщинах (в основном француз) и лошадях (в основном тоже он). Так, за разговорами, и пришли. Звали француза Жан-Пьер Арман.
Это Мурин и ответил Ельцову, который поднял от подушки сонное лицо, заморгал, прищурился от света лучины и хрипло пробормотал: «А это еще кто?» Выслушал ответ. Выпучился:
– Ты что, Мурин, спятил? Где ты его взял?
Полковой командир сказал почти то же самое.
Рано утром Мурин отчитался ему о своем приключении. Подробности, которые могли возбудить слишком много пустых вопросов, он выпустил, потому что ответов на них и сам не знал. Почему он вмешался? На это Мурин мог только пожать плечами с новенькими офицерскими эполетами.
Командир поскреб небритую щеку.
– Хм. На кой он нам?..
– Допросим!
– Хм. Допросить-то можно. Только нам оно зачем? Все приказы идут из штаба, а наше дело – выполнять.
Мурин испугался, что командир скажет, как Долохов: «На черта он нам? – Уведи и расстреляй».
Заговорил с преувеличенной энергичностью:
– Вдруг он сообщит сведения исключительной важности.
Командир посмотрел на Мурина с сомнением. У того заалело ухо.
– Ладно. Веди его сюда.
Мурин высунулся в сени. Француз стоял, прислонившись к стене. За ночь он еще оброс: цыган, да и только. Между запавшими щеками торчал длинный кривой галльский нос. Мурин пригласил его войти. Француз встревоженно посмотрел ему в глаза. И Мурин не выдержал:
– Все в порядке. Мы просто хотим задать вам несколько вопросов.
– К вашим услугам. – Француз отлепил от стены тощее тело.
Из окошка избы сеялся неяркий свет. Пахло дымом от недавно протопленной печи. Командир стоял, заложив руки за спину.
– Добрый день, господин офицер, – любезно поприветствовал пленный.
Командир ответил тоже по-французски, и всем стало как-то неловко. На одном же языке говорят! Возникла какая-то неуютная моральная сложность. Но как вернуть делу простоту? Вести допрос по-русски и просить Мурина переводить? Тоже ахинея.
– М-да. – Командир почесал небритый подбородок и пустил пробный шар: – Ваше имя, звание, часть.
Жан-Пьер представился. В тепле командирской избы он расправил плечи, вытянул руки. Молодцевато назвал и отряд, и полк, и дивизию. Перечислил командиров. Отвечал он с видом человека, который весь как на ладони, ничего скрывать и утаивать не собирается. Только спросите. Умолк, ожидая продолжения. Его не последовало. Что еще спрашивать у словоохотливого пленного, командир не знал. Что у них обычно запрашивают? Где сейчас расположена ваша часть? Так понятно же где – где все: в Москве. Чем вооружены? А то мы сами не видели – Бородино ответило на все вопросы.
– М-да.
Полковой командир задумчиво посмотрел на Мурина.
– Вот что я думаю… – пробормотал по-русски, и от этого нехорошего начала у Мурина заколотилось сердце.
Но что думает командир, узнать он не успел. В сенях застучали сапоги, зазвенели шпоры, дверь распахнулась. Посыльный выкинул вперед руку с плоским пакетом:
– От господина главнокомандующего.
Мурин заметил шнур, сургучную штабную печать. Заметил и командир. Вмиг забыл о Мурине, о пленном, выхватил у курьера пакет. На ходу взломал печати, подошел к окну, поймал листом бледный свет. Мурин понял, что лучшего тактического момента не представится:
– Так я за ним присмотрю, за пленным этим? До дальнейшего прояснения.
– Да-да. – Командир уже хмурил брови, углубился в чтение, отмахнулся рукой.
Мурин скроил французу зверскую рожу: смотри не пикни. Пихнул его в плечо, прошипел: «Отсюда, живо». Поспешно вышел следом – в сени, с крыльца, во двор. Постоял. Подышал. Провел ладонями по лицу, будто умываясь, остановился на щеках. Фух, ну положеньице. Пленный стоял у крыльца и тревожно заглядывал Мурину в лицо:
– Что-то не так?
Мурин посмотрел на него сквозь свои растопыренные пальцы. Опустил руки.
– Все в полном порядке. Идемте.
– Что сказал ваш командир?
– Вас это не касается.
Француз поплелся за Муриным:
– Как скажете.
Но не выдержал:
– Куда мы идем?
– Вы пока разместитесь со мной. Удобств не обещаю. Только вот что…
Мурин остановился. Остановился как вкопанный и француз. Мурин посмотрел ему в глаза. Карие, с длинными ресницами, они ответили тем же. Зрачки подрагивали. «Боже мой, – подумал Мурин, – всё врут, по глазам нипочем не прочтешь, что за человек: дурной ли, хороший, честный или подлец». Это открытие ужаснуло его. Потому что этому человеку он сейчас собирался вверить свою участь. Но иного выхода Мурин не видел. Финтить и юлить он тоже не желал:
– Связывать вас я не собираюсь. Нянчиться и надзирать за вами тоже не смогу. Я вам не тюремщик. Если надумаете удрать, меня накажут.
Француз не отвел взгляд, тот лишь стал твердым:
– Вас за это расстреляют?
– Не думаю. Скорее всего, меня переведут в другой полк и разжалуют в солдаты.
– Тоже приятного мало.
Француз посмотрел Мурину поверх головы. Потом снова в глаза.
– Не удеру. Даю слово.
– Мурин! – донеслось со стороны палатки, и оба повернули головы. Это был Ельцов.
– Стойте здесь, – велел Мурин французу. – Сразу и проверим, как вы держите слово.
Француз хмыкнул, подобие улыбки промелькнуло по его лицу. Он вскинул и опустил ладони.
Мурин подошел к товарищу. Ельцов топтался на месте, то и дело бросая взгляд на пленного, беспокойно оглядываясь.
– Куда ты его ведешь? Расстрелять приказано? К оврагу ведешь?
– Никуда. В нашей палатке пока поживет.
– В нашей?!
– Да ладно, смотри какой тощий. Поместимся. Лишь бы он во сне не пердел.
Шутка не помогла. У Ельцова дернулось лицо:
– Я не про это.
– А про что?
– Он враг.
Охота шутить у Мурина пропала.
– В данный момент он пленный и безоружный.
– Что это меняет? – шепотом взвизгнул Ельцов.
В глазах у него Мурин заметил огоньки безумия, которое после Бородина взял за правило всем прощать. Но даже и после Бородина ни с кем не желал это разделять, поэтому ответил сухо:
– Ничего не меняет. Ты прав. Честь – всегда честь.
Ельцов вскинулся:
– Честь? Они на нас напали, разорили полстраны. Они… Они… Это, по-твоему, честно, это?
– Это на их совести. А у меня своя есть. И у тебя тоже. – И примирительно добавил: – Ельцов, не сходи с ума.
Но сам видел, что Ельцова уже понесло. Губы его затряслись.
– Я с этой канальей в одной палатке жить не буду!
– Послушай, ты уже спал в одной с ним палатке.
– Не спал! Я глаз не сомкнул. Он враг. Он нас ночью прирежет и будет счастлив.
– Он дал мне слово чести.
Но Ельцов только негодующе взмахнул руками и пошел прочь.
Мурин сделал губами «пр-р-р-р». Этому он научился у Азамата. «Ладно, – решил. – Разберемся как-нибудь». Не в траве же Ельцов ночевать останется. Все-таки не лето.
– Идемте, – позвал он француза.
Тот подошел:
– Ваш товарищ недоволен, что вы меня пригласили к себе?
Мурину не понравилось слово «пригласили», но от бессмысленных споров он устал, заводить еще один – увольте. Мурин отвел полог и показал французу, где его место: наваленное сено было накрыто потертым ковром, и валялась кожаная подушка.
Достал и бросил ему фляжку:
– Вода.
Вынул из-под ковра мешочек. Развязал, вынул сухарь. Осмотрел. Зеленоватый, но в целом еще ничего, особенно если соскрести плесень. Бросил мешок французу:
– Хлеб.
Тот поймал, ухмыльнулся – опять лицо собралось гармошками:
– А зрелища?
В этот раз к улыбке присоединился и взгляд: «Вы славный малый, я тоже», говорил он. «И как вы, из древней истории знаю совсем немножко, только-только, чтобы спрыснуть речь, – мы с вами не какие-нибудь ученые педанты!»
Чтобы не улыбнуться в ответ, Мурин поспешно сунул себе в рот сухарь.
– Вы, гляжу, шутник, – пробормотал он сквозь зубы, нажал на сухарь посильнее, расколол, захрупал.
Казалось, оба дробят во рту камни. Господин Арман задорно глянул исподлобья, остановил молотилку, сдвинул куски сухаря в щеки, которые натянулись, как у бобра:
– Что ж теперь, рыдать? – снова захрумкал, захрустел. Подтянул к себе флягу, воздел, как бокал, подмигнул, поднес ко рту.
Зрелища не заставили себя долго ждать.
Глава 3
Ельцова он нашел возле лошадей. Солдаты задавали корм. Ельцов делал вид, что полностью поглощен созерцанием: должно быть, заметил Мурина еще издалека. Мурин встал рядом и тоже стал смотреть. Никто не хотел начинать разговор первым. Мурин понял, что это придется сделать ему.
– А ты бы как хотел?
Ельцов покосился:
– Что как?
– Ну иди тогда сам его и расстреляй.
У Ельцова дернулась нижняя губа.
– Вот-вот, – заметил Мурин. – Потому что ты добрый малый.
– Ненавижу слово «добрый». С некоторых пор.
Ельцов сорвал сухую травинку. Венчик ее напоминал гусарский султан. Принялся не глядя стегать себя по ноге.
– Я тоже ненавижу, – согласился Мурин. – Но дела это не меняет. Лучше быть добрым, чем скотиной.
– Куда ты его денешь?
– Есть какие-то обозы с пленными. Я слыхал. Как встретим такой – сдам, и все дела.
Ельцов покачал головой:
– Навесил ты себе камень на шею, Мурин. Помяни мое слово: ты еще об этом пожалеешь.
Он отбросил травинку и зашагал прочь.
Мурин остался смотреть на лошадей. Они губами выбирали из смеси соломы с сеном те клочки, где сена побольше.
Мурин лежал без сна. Таращился на темный полог. Пердеть во сне француз не пердел, конечно. Не с чего было: поужинали тоже сухарями. И на том спасибо. Здесь, в окрестностях Москвы, раздобыть провиант было невозможно. А отъезжать далеко от расположения никто не рисковал. То и дело попадались трупы, зарезанные и обобранные до нитки, так что не понять было даже, наши это были или не наши. Французская пропаганда винила русских крестьян. Русская – французских мародеров. Голодали все.
Но уснуть Мурину мешал не голод.
«Почему?» – спрашивал он себя. Ответ не давался. «Все из-за того, что мы говорим на одном языке», – размышлял он, и делал это, сам не замечая, то по-французски, то по-русски. «Понимаем их соображения и поэтому признаем друг в друге мыслящих существ. От этого враг становится для тебя человеком. Если бы на моем месте был мужик, крестьянин, то прихлопнул бы этого господина Армана, как муху, не задумываясь, и как звать не спросил бы. Да и француз прихлопнул бы мужика. Вот именно что как муху, насекомое». Мурин повернулся на другой бок, давно опробованный и давно безнадежный. Был бы у него какой-то третий бок, попробовал бы его.
– Не спится? – спросил из темноты француз.
Оказалось, тоже не спал.
– Душно. Может быть, приподнять полог?
– Кто она? – спросил француз.
– В каком смысле?
– Ищите женщину. И, должно быть, восхитительную.
Голос был мечтательно-сочувственным. Мурин буркнул:
– С чего вы взяли? – Он решил свернуть этот разговор.
– Догадался.
– Ткнули пальцем в небо. Раз есть мужчина, есть и женщина.
– Вот и нет. Сделал вывод после наблюдений. За вами. Вы ехали к ней? Нет, ерунду говорю. Вы из благородного сословия. Стало быть, дама ваша никак не ниже модистки по положению. От обычной шлюхи вы бы не скисли, шлюхи не бьют по самолюбию. Впрочем, и модистки не особенно. Значит, дама, скорее всего, тоже из благородных. А так как все благородные русские дамы загодя убрались из Москвы, на полста лье вокруг ни одной не отыщешь, то речь, скорее всего, идет о письме от этой дамы.
Мурин молчал, пораженный.
– Я прав? …Господин Мурин, вы уснули?
Мурин нехотя разлепил губы:
– Нет, я не сплю.
– Хорошо. – Было слышно, как пленный устроил голову поудобнее, будто чтобы помочь своим мыслям литься свободнее. – Тогда продолжим. Значит, письмо, решил я. Это первое. Второе: ваша лошадь еле волокла ноги. Я подумал: если господин офицер в военную пору и на ночь глядя не пожалел свою лошадь ради письма от женщины, то эта женщина либо восхитительна, либо жестоко играет им, а скорее всего – то и другое. – Пленный пробормотал сквозь зевок: – Либо, конечно, этот офицер полный болван, но вроде бы вы не таков.
Мурин лежал на своей постели, похолодев. «Неужели я так прост?» – думал он. И: – «Неужели для Нины это всего лишь игра?»
– Наконец, третье, – увлеченно продолжал господин Арман. – Как и любую гипотезу, мою следовало проверить. Что я и сделал. Я нарочно заводил речь о женщинах, а чтобы это не слишком бросалось вам в глаза – и о лошадях тоже. Я наблюдал за вашим лицом. Оно так и каменело, стоило мне коснуться темы прекрасного пола. А когда я стал рассуждать о непостижимых поступках ветрениц, вы затаили дыхание и полностью обратились в слух: человек, который сам попал такой особе в когти. Voilà.
Тишина. Господин Арман будто ждал аплодисментов. Мурин кашлянул.
– Она не ветреница, – выдавил.
Француз деликатно промолчал.
– А впрочем, я и сам не знаю, что думать, – уточнил Мурин по идиотской привычке к правдивости.
Собеседник вздохнул, в его тоне проскользнуло что-то горько-мечтательное:
– Не вы один. Ах, femmes…
Очевидно, заныли старые раны. Оба почувствовали некое родство душ. Мурин тут же себя одернул:
– Вы что, до войны промышляли тем, что в балаганах гадали по руке и на кофейной гуще?
Француз вроде бы не обиделся.
– Нет, – просто ответил. – Никаких гаданий. Научный подход и работа мысли. – В темноте было слышно, как он поднял пятерню и стал загибать пальцы. – Наблюдение. Сбор сведений. Сопоставление. Рассуждение. Вывод. До этой войны, господин Мурин (у него получилось скорее «Мурэн»), я служил в Сюртэ.
Он умолк, ожидая реакции.
– Вот оно что, – протянул Мурин.
Он понятия не имел, что такое Сюртэ, кроме того, что слово по-русски означало «безопасность», и большего не горел желанием узнать. Он хотел как-нибудь непринужденно вернуть француза к теме femmes. Просто не знал как. Лежал и обдумывал маневр.
Француз пояснил:
– Я уличал преступников.
Мурин фыркнул:
– Для этого нужны не мысли. А быстрые ноги и тяжелые кулаки.
– Кулаки и ноги оставьте полиции.
– А вы что, не полиция?
– Я сыщик. Иными словами – охотник. Тогда как полиция – это свора гончих. Улавливаете разницу?
Мурин никогда не жил в деревне, потому не интересовался охотой. Кивнул в темноте. На ум ему шла улыбка Нины, ее голос и то, как Нина стягивает платье, отпечатки корсета на ее коже. Француз принял его молчание за скептическое. Обернулся на бок, подпер голову рукой:
– Вы слыхали о господине Кювье, господин Мурин?
– Тоже сыщик?
– В некотором роде. Ученый-зоолог. Он изучает животных, которые исчезли много тысяч лет назад. Некоторые из них на вид – сущие монстры.
– Чепуха. Выдумки.
– Почему?
– Тысячу лет назад? Вы сами сказали: они исчезли.
– Ничего не исчезает бесследно, даже и за тысячу лет. – Арман зевнул. – Так что если вас коробит мысль о том, что я охочусь на людей, то считайте меня путешественником во времени.
Мурин насмешливо фыркнул.
– Да, я романтик, – мечтательно сообщил Арман, закладывая руки за голову. – А вы?
– Не знаю.
– Наверняка. Романтиком в этом мире быть куда интереснее. Я возвращаюсь в то время, когда свершилось преступление. И вижу его своими глазами.
– Враки. Это невозможно.
– Я имел в виду умственный взор. Господин Кювье показал, что и за тысячи лет монстры не исчезли бесследно. Остались кости, какие-то отпечатки, волоски. Так и с монстрами-людьми. Преступление всегда оставляет после себя что-то. Следы подошв, капли крови, осколки разбитого стекла и тому подобное. Оно оставляет по себе мертвеца, наконец. Тот может многое поведать, если знать, как спрашивать.
– Вы и медиум вдобавок, что ли?
Арман оставил выпад без ответа.
– …Внимательно собираешь детали, отбрасываешь мусор, составляешь их в логическом порядке, как господин Кювье составляет кости, пока не получится весь скелет. И вот – перед тобой, так сказать, скелет преступления. Но скелету необходима плоть. В преступлении роль плоти играют чувства людей. Зависть, ревность, жадность, корысть, трусость. Как вы считаете, господин Мурин, какое из этих чувств порождает больше всего злодеяний?
Мурин не ответил.
– Попробуйте догадаться.
Мурин молчал.
– Господин Мурин? Эй!.. Вот каналья.
Господин Мурин спал.
Ему ничего не снилось. Звук трубы вырвал его из темноты, которую сперва расколол. Мурину показалось, он всего лишь мгновение назад слушал, как пленный француз бубнит что-то. Вскочил. Нашел ногами сапоги на полу, натянул. Схватил саблю с портупеей, схватил куртку. Увидел незнакомого человека напротив. Почему-то во французском мундире. И только тогда проснулся. Вспомнил, кто это. На лице Армана была тревога. Труба снаружи надрывалась. Трубили сбор.
– Что случилось? – спросил пленный.
Мурин слышал топот людей и лошадей, которых выводили, седлали, звякала сбруя, бряцали сабли, надеваемые впопыхах. Сердце его заколотилось. Кровь прилила к щекам. Он понял, что пришел приказ, которого так долго ждали. Выступаем!
Он выскочил из палатки. Всеобщее возбуждение тут же захватило его, как наводнение – щепку. Всё двигалось, бежало. Торопливо затаптывали костры. Мурин свистнул, подзывая своего денщика.
– Черт побери, что происходит? – схватил его кто-то за плечо.
Мурин обернулся и ответил Арману:
– Ваша армия вышла из Москвы.
Француз слегка отпрянул, пробормотал проклятие. Катастрофа свершилась, это понимали все.
Подбежал запыхавшийся Яшка с Азаматом на поводу. Конь раздувал ноздри, глаза его горели, шкура нервно дрожала. Мурин схватил его одной рукой за холку, вставил ногу в стремя.
– А это чудо куда девать прикажете? – спохватился Яшка, указав на пленного.
Мурин ответил по-русски:
– Придем в Москву – сдадим в обоз. А пока глаз с него не спускай.
Глава 4
Рокировка происходила в беспримерной спешке. Передовые отряды русской армии видели отходивший французский арьергард так близко, что чувствовали запах их лошадей и ружейной смазки. Было жутко, как во сне. Колонны шагом въезжали в ворота – или то, что от них осталось. Мурин во все глаза глядел на Москву. Питерский горожанин, он привык насмехаться над старомодной бывшей столицей, но видел ее впервые. Не город, а труп города. Дома были покинуты. Витрины лавок зияли. Обгорелые развалины торчали зубьями. Воняло гарью и гниющей плотью. Кое-где, лениво клубясь, поднимался к небу дым. То и дело попадались мертвые тела о двух или четырех ногах. Мурин старался не вглядываться. Ельцов сдвинул кивер. Все помалкивали. Быстрый топот нагнал их. Полковой командир осадил коня рядом.
– Мурин, Ельцов. Питерские?
– Так точно.
– Мурин, к Изотову. Ельцов – к Соколову.
– Что? Почему?
Но тот не собирался объясняться:
– Марш! – и проскакал вперед.
Мурин и Ельцов переглянулись. «Ты накапал? Ябедник», – читалось у каждого в глазах.
– Я ничего не говорил, – первым возмутился Ельцов.
– При чем здесь питерские, – проворчал Мурин, разворачивая Азамата.
Он проехал назад вдоль строя, нашел нужное соединение, присоединился к Изотову.
– А, питерская крыса! – поприветствовал тот.
– Сам-то кто.
Мурин увидел, что Изотов шевелит губами, слов не разобрал. Изотов заметил замешательство на его лице, ответил вопросительным выражением.
– Ядро под Смоленском, – ответил Мурин. – Оправился, но иногда в левом ухе будто закладывает.
Изотов без комментариев – они все уже научились деликатности, когда речь шла об увечьях, – объехал его шагом и пристроился справа.
– А я тверской. В Москве вырос, – продолжил, где прервался: – Мне все эти кривые улицы с детства как родные. Это вы, питерские, привыкли, чтоб вам все по линеечке, вас одних отпускать в Москве нельзя – сразу заблудитесь, как тараканы в лабиринте. И сгинете.
– Очень смешно.
– А я не шутил.
Это Мурин понял, только когда впервые отправился с Изотовым патрулировать улицы. Перед выездом их настращали. Если дом целый, первым делом проверять печи. Прощальный подарок отступившей Великой Армии – в сохранившихся печах то и дело находили заложенный порох и взрывные устройства. И никогда, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не разъезжать в одиночку. Едва французы оставили город, в него из окрестностей хлынул народ: грабить. «Занятно. А граф Ростопчин воспевает в своих афишках патриотизм русского мужика», – краем рта прошептал Мурину граф Сиверский, стоявший слева, когда им объявляли приказ. «А они про патриотизм не читали, – процедил с другой стороны Ельцов. – Неграмотные».
– Вам что-то неясно, Ельцов? – рявкнул командир.
– Никак нет! Яснее некуда.
Чувство пространства Мурин потерял сразу же. Улицы не просматривались от начала до конца, как в Питере. Они изгибались и делали петли. Здесь не было права и лева в строгом питерском понимании. Московские улицы ни с того ни с сего забирали в сторону, кренились по дуге, ныряли вниз, карабкались, выпрыгивали из-за поворота. Изотов негромко их называл. Никитская, Поварская… Мурин посмотрел на Изотова признательно.
– Ну и ну, Изотов. Без тебя я бы отсюда точно дороги не нашел.
– То-то, – довольно заметил Изотов.
Они ехали по Тверской, узенькой и кривой, точно ее нетвердой рукой вывел пьяница. С фонарных столбов снимали трупы повешенных: один перерезал веревку, второй подхватывал мертвеца под колени.
Оба всадника невольно задержали на них взгляд, Изотов покачал головой, скривился:
– Правосудие французской администрации. Скоты.
Мурин вспомнил Долохова. Промолчал.
Свернули. Потом еще. Ему показалось, что по этой улице, коренастой и горбатенькой, они уже ехали.
– Погоди, Изотов, а разве мы здесь уже не… – озирался Мурин.
Он никак не мог привыкнуть к тому, что людей на улицах почти не было. Ни людей, ни лошадей, ни кошек, ни собак, и птиц не было тоже. Ни одной живой твари. Город был мертвее некуда. Мурашки бежали у Мурина по рукам. Пустые оконные провалы казались глазами чудовища. Следили за ним. Но Изотов только усмехнулся:
– Эх ты, Питер-бока-повытер, привыкай! Нет, не ехали.
Мурин вздохнул:
– Мне этого и в самом деле не понять. Почему просто не построить улицу пря-а-амо.
– Держись меня – и не пропадешь.
Мурин натянул повод:
– Привал. Не то я сейчас лопну.
Изотов взял у него повод Азамата. Мурин отошел к стене. В походке его было что-то виноватое. Он не привык мочиться посреди города, даже и брошенного. Мурин приметил проем, где мог укрыться. Распоясался. Расстегнул пуговицы. Зажурчал. Замер, придержав. Ибо ему послышалось… Нет, не послышалось! Шепоток: «Глянь, глянь, мусью червяка заголил». И другой: «Тут бы его и тюкнуть».
Повесили, очевидно, не всех. Мурин ухмыльнулся, возвысил голос, прибавил командирского звона:
– Я вот тебя самого сейчас тюкну! Олух!
В ответ грянуло радостное:
– Да это ж наш! Русак! Наши!
И две фигуры в каком-то рванье скатились через провал в стене. Обхватили Мурина, стали тискать, целовать куда попало – в плечо, в лицо. Он торопливо запихивал «червяка» в штаны, туда же край рубахи.
– Ты уж извини… Мы тя за мусью приняли… По платью не разобрать…
– Братец… Барин… – Одна фигура оказалась бабой. – Свой… – По впалым грязным щекам потекли слезы.
Мурин почувствовал, как и у него защипало в носу.
– Мы думали: хранцуз. …Так и шастають. Разбойники.
– Больше не будут.
– Мурин, – негромко позвал Изотов. Что-то в его тоне было нехорошим.
Мурин стал высвобождаться из объятий.
– А Бонапарт? – Баба придержала его за руку. Глаза светились страхом.
– Удрал, – заверил Мурин, вырываясь.
Одной стороной души он его ненавидел. Другой – втайне ждал от этого великого человека новых поразительных дел.
– Мурин…
Изотов показал нахмуренными бровями:
– Там кричали.
Дом, на который он указывал, почти не пострадал. Цела была даже дверь. А над дверью – светлый прямоугольник, оставшийся от сорванной вывески. Проемы витрины были забиты досками.
– Кричали? Я ничего не слышал.
– Голос женский. Звал на помощь. И по-французски.
«По-французски? Неужели дама? Здесь?» Мурин прислушался. Но больше криков не было. Изотов озабоченно пробормотал, спрыгнув из седла:
– Как бы не стало поздно.
Мурин вынул из-за пояса пистолет, взвел:
– Проверим!
Изотов обнажил саблю. Они толкнули дверь. Та поддалась.
– Не заперто, – прошептал Мурин. – Как бы не ловушка.
Но Изотов не сбавил хода, протиснулся мимо него в комнаты, отпихивая ногами обломки и негромко матерясь.
– Постой! Осторожно, – Мурин ринулся следом.
– Здесь пусто, – бросил Изотов. – Должно быть, второй этаж.
И затопотал вверх по лестнице. Мурин кинулся следом.
Он сразу увидел даму. Вскрикнув от ужаса, она попятилась к заколоченному окну. Изотов трещал без умолку на своем тверском французском:
– Мадам, вы в безопасности! Здесь кто-то еще есть? Кто здесь? Мурин, здесь кто-то еще!
Блеклый дневной свет проникал сквозь щели между досками. Мурин четко видел ее силуэт. И растопыренные от страха пальцы.
Потом ему казалось, что это было последним, что он видел. Странная штука память! «Почему я запомнил именно это?» Лицо ее было таким бледным, что светилось в полумраке. Губы приоткрылись, глаза как плошки. «А хорошенькая», – мелькнула дурацкая мысль.
Но взрыв раздался не сразу, нет.
Изотов страшным голосом рявкнул по-русски:
– Лож-жись!
Мурин кинулся к незнакомке, чтобы повалить на пол вместе с собой. Ремиз. Нога его вдруг не встретила опоры. Руки скользнули по шелку. Потом стали хватать воздух, доски, балки – все напрасно, они с треском осыпались. Как черт в ярмарочном балагане на Адмиралтейском лугу, Мурин провалился в преисподнюю – на первый этаж, и рухнул на пол. Не убился: хватаясь руками за что попало, он все-таки сумел замедлить падение, смягчить удар об пол. Но все равно вышибло дух, потемнело в глазах. «Твою мать». Не сразу встал на четвереньки.
И вот тогда-то бахнуло. Да так, что тряхнуло весь мир. И Мурин тоже опрокинулся.
Когда он подтянул к телу локоть, навалился на него, вокруг слоями клубился белый пороховой дым. В горле першило от пыли. Саднило ладони. Пистолета в них не было. Голова как пудовая. А над ней – щерилась досками дыра, в которую он провалился. И которая, скорее всего, спасла ему жизнь.
Перед глазами роились мушки. Мурин прищурился. Сквозь рой, дым от взрыва и пыль ему показалось, что наверху маячила фигура. Или это стены наклонились? Его замутило. В остальном цел? Он перевалился, встал на четвереньки. Вроде цел. Пополз. Кто-то кричал. Снаружи? Внутри? Голоса размазывались, как варенье, – длинными вязкими нитями. Кто-то поднял его руку, перекинул себе через шею, поднырнул всем телом. Мурин ощутил жесткие мундирные шнуры и понял, что это Изотов. И что рукав у него мокрый и пахнет железом. Изотова, видать, зацепило.
– Погоди…
– Я успел его прикончить! Мерзавец хотел нас отправить к праотцам.
– Где… та… дама… – Мурин мотал головой, пытаясь обернуться.
Изотов, пыхтя, волок его сквозь дым. Выволок наружу, положил. Мурин тотчас попытался сесть. Увидел лужицу крови, по краям прихваченную пылью. Но кровь была не его: она вытекала из ноги мужчины в сюртуке, который лежал рядом на давно развороченной мостовой и громко стонал. Вокруг него уже собрались люди в цивильном платье. Ахали, тихо переговаривались, показывали на дом. Откуда только взялись? Изотов ринулся к ним. Что-то им втолковывал. Он был похож на пастушью собаку, которая суетится вокруг перепуганных овец. Мурин увидел, что дамы среди них не было.
– А, черт! Изотов! Она осталась там!
К ним по горбатенькой улице уже скакал казак с саблей наголо. Второй круто развернул коня и понесся прочь – за подмогой.
– Ты куда, Мурин! Стой! – Изотов обхватил его за пояс. – Сдурел?
– Сгорит же!
– Саперов подождем. В печах наверняка до черта заложено. Разметает тебя по всей Москве.
– Два раза не помрешь!
Мурин отпихнул товарища и нырнул в густой белый дым.
– Мадам! …Мадам! …Сударыня! – звал он то по-французски, то по-русски.
Ни зги было не видать. Сердце колотилось, как бешеное. В мозгу роились картины Бородина: такой же белый непроглядный дым после пушечного выстрела. И вдруг – на тебя, как кошмар во сне, вываливает французская конница. В голове звенело. Мысли путались. Мурин соображал с трудом. Так, второй этаж. Он наткнулся на остатки перил. Ногой стал нащупывать ступени. Еще раз пролететь с этажа на этаж не улыбалось. Два раза не помрешь, конечно, но и удача два раза подряд не приходит.
– Сударыня!
Нос уловил горьковатый запах. К пороховому дыму взрыва примешивался запах гари: очевидно, занялся огонь, пока еще невидимый. Мурин пригнулся как можно ниже, ибо знал, что дым обычно стелется к потолку. Торчали вывороченные доски.
Женщина была мертва. Это Мурин сразу понял. Живые так не лежат. Но все же подобрался к ней. Поднял за плечи. Голова мягко откинулась. Мурин опустил мертвую. Досада на собственное бессилие впилась в сердце. Мурин потянул с мертвой косынку, накрыл ей лицо. Но предаваться смятению и раздумывать было некогда, он всем телом чувствовал, что прибавляется жар. Огонь, еще пока невидимый ему, подбирался к добыче. Пора было удирать, пока пламя не отрезало путь. И тут Мурин заметил второе тело, которое сперва принял за ворох тряпья. Подполз к нему, дым ел глаза, нос и рот уже приходилось закрывать рукавом. Кашляя, Мурин перевернул тело. Мужчина. Злодей, которого уложил Изотов. Лицо запало. Платье цивильное. Грязный и замызганный. Именно поэтому Мурин заметил блик на руке мертвеца. На безымянном пальце тускло блестело простое кольцо. Оно было надвинуто до половины. Не соображая толком, что делает и зачем, Мурин снял это кольцо, сунул себе в сапог, чтобы не потерять, и опрометью бросился прочь.
Вспомнил он о нем, только уже когда стянул сапоги, чтобы лечь. Ночлег гусары разбили в брошенном особняке, когда-то, вероятно, богатом, теперь ободранном до нитки. Разбрелись. Устроились на полу. Зато хоть крыша над головой. Зала была полна. По комнатам насобирали обломков мебели, растопили камин. Все предавались вечерним досугам. Кто курил трубку. Кто резался в карты. Кто-то читал здесь же, в особняке, подобранную с полу книгу, разворачивая ее к свече. Другие негромко разговаривали.
Пленный француз лежал в углу, накрывшись шинелью Мурина: старался не мозолить людям глаза. Кольцо выпало, покатилось по полу. Мурин поймал его. Ощутил пальцами неровности. Поднес к глазам, повернулся к свече. На внутренней стороне кольца разглядел гравировку: «17 juin. Ensemble pour toujours». «“17 июня. Вместе навсегда”. А погибла. Когда все самое страшное было уже позади». Мурину стало горько. Счастье этих двоих оказалось куда короче вечности.
– Жена ваша? – отозвался пленный, заметив круглый блеск золота.
Мурин, глядя сквозь кольцо, точно в прицел, покачал головой. «Должно быть, на кольцо и позарился мародер там, в пустом доме, – подумал он. – Как нелепо».
– Невеста? – предположил Арман.
Мурин, не ответив, убрал кольцо в кошелек.
– А у меня есть, – похвастался француз.
– Может, и ее портрет у тебя с собой тоже есть? – задиристо вмешался голос, и Мурин понял, что их слушали. Что их все время слушают.
Остальные тут же умолкли.
– Конечно, – невозмутимо ответил француз и, постучав себя пальцем по темени (отчего шутник прикусил язык), пояснил: – Вот здесь. Всегда со мной.
«Вместе навсегда». Надпись на кольце тут же пришла Мурину на ум. Опять пронзила грусть. Живые продолжали жить и надеяться на встречу, только мертвым надеяться не на что.
– Гляжу, Мурин, французу твоему палец в рот не клади, – сказал кто-то.
– Я узнал, где собирают пленных в обоз, – несколько громче нужного заговорил Мурин, чтобы не дать перебранке разгореться. – Завтра я вас туда отведу и сдам.
Шутник проворчал что-то, отвернулся, захлопотал, приготовляясь ко сну. Все снова занялись своими делами.
Мурин понизил голос, наклонился к французу:
– А до той поры носа отсюда не высовывайте. Если жизнь дорога.
Арман посмотрел на Мурина. Но, не решившись задать свой вопрос вслух, накрыл голову шинелью.
Глава 5
Горбатенькую улицу эту он сразу узнал. На следующий день, когда они проезжали с Изотовым мимо, она мелькнула по правую руку.
– Изотов, погоди, – бросил Мурин и развернул Азамата.
– Куда ты? – донеслось в спину. – Но…
– Езжай вперед, я тебя догоню.
У обгорелых развалин дома Мурин спрыгнул. Крыша обрушилась. Торчала почерневшая печь и труба. Азамат, чуя тепло недавнего пожара, напрягся, фыркнул, заплясал на месте. Мурин похлопал его по шее. Пожарная рота закончила работу, увезла бочки и трубы. В развалинах возились саперы.
– Что, ребята, – крикнул Мурин, – на Луну сегодня полетим?
– Не сегодня. Здесь чисто, – отозвался один, сдвинув со лба кивер. Лоб был грязен от пепла и пота.
– Что ж тогда вчера бахнуло?
– Хрен его знает. Офицер из патруля вчера рассказал, они с товарищем делали объезд и на какую-то каналью в доме наткнулись. Мародер, видать.
Мурин понял, что под офицером тот имеет в виду Изотова.
– Успел, сука, долбануть. Бабенка какая-то в доме была, тоже погибла.
«Бабенка какая-то…» – нахмурился Мурин, прошел по пепелищу. Мысль о кольце с романтической надписью не выходила у него из головы. «Как это печально. Как несправедливо, – думал он о незнакомой ему влюбленной паре, которую вчера разлучила смерть. – Какая ужасная участь».
Прямо на заднем дворе солдаты копали яму. Рядом, обернутые тканью, лежали в ряд тела. Мурин подошел, поздоровался. Солдаты перестали копать. Один поставил ногу на лопату. Значит, начальство, понял Мурин. Подошел, угостил из кисета табаком. Солдат тут же заложил себе щепоть за губу. Мурин кивнул на тела:
– Тоже со вчерашнего случая, что ль?
«Неужели в сгоревшем доме было так много обитателей?» – удивился. Вчера дом показался ему давно заброшенным.
– Не. От вчерашних одни головешки остались. Косточки мы в мешок собрали. Вон, – указал подбородком он. – А этих, – он показал на тела, – в развалинах поблизости понабрали. Кто раньше помер, кто позже. Всякого хватает. Похоронные команды только и успевают подносить.
«Ведь ее возлюбленный даже и не будет знать, где искать ее могилу!» – пришло Мурину на ум, когда он глянул на мешок с костями. Повинуясь странному порыву, присел к нему, развязал, раздвинул горловину, заглянул. Увидел закопченные скаты двух черепов, черные дуги ребер. В горло ударила желчь. Мурин поспешно выпрямился. Попятился. Мысль о том, что бедная жертва обречена теперь до скончания мира делить могилу с грабителем, своим убийцей, поразила его. Даже после смерти ее человеческое достоинство было попрано.
– Что ж вы свалили их в кучу, – возмутился. – Это разве по-людски?
– На войне…
– Здесь уже войны нет.
– Ты нас-то не попрекай, – обиделся солдат. – Могли бы кости просто в яму бросить.
– Прости, – осекся Мурин. – Просто… Не по-людски.
Солдат помолчал, поджав губы. Вздохнул.
– Ладно. Твоя взяла.
Он отошел в сторону к тачке, в которой был навален их инструмент. Чем-то загремел.
– От себя, между прочим, отрываю, – пробурчал. – Сейчас мешков в Москве днем с огнем не сыскать.
Выпростал, встряхнул и протянул Мурину котомку:
– На, сам возись. Нам груши околачивать некогда. К полудню еще мертвяков нанесут.
Солдат повернулся к остальным, которые отставили лопаты:
– Кончай лодырничать. Ишь обрадовались, – беззлобно пробурчал, ибо понимал, что короткий отдых был всем необходим. – За работу, робяты.
Лопаты снова застучали.
Мурин взял мешок с костями за углы, потряс. Обгорелые кости вывалились на землю. Мурин начал с черепов. Один был поменьше, значит – женский. Сунул его в котомку. Туда же отправил ребра. И остановился. Груда костей. Он не знал, где чьи и как их различить.
Вдруг его огорошило: «Ведь ее возлюбленный – тот, кто подарил ей кольцо, – поди, и не знает даже, что она мертва». Какая страшная участь – вечно ждать ту, которая не придет никогда. Сердце его защемило. Вероятно, не будь он сам влюблен, все случилось бы иначе. Но Мурин был влюблен.
– Застопорился? – раздался над головой голос, он все еще был окрашен обидой.
Мурин поднял голову. Старший похоронной команды стоял рядом.
– Вот ты нас зря попрекал. Видишь теперь сам – ни черта теперь не разберешь, где кто.
– Вижу, – признал Мурин: – Я был неправ.
Поднялся. Солдат лопатой сгреб все кости снова в мешок. Завязал. Взял его, взял и котомку. Серьезно посмотрел на Мурина:
– Мой тебе совет. Потом спасибо скажешь. Отпусти.
– Что? – не понял Мурин.
– Был человек – и нету.
Пораженный его равнодушием, Мурин всплеснул руками:
– Никто теперь даже не знает, кто была эта женщина, как ее звали!..
Солдат фыркнул:
– Прям так и никто…
– Кто ж?
– Вчера народ на пожар пялился.
– Где ж их искать? Тех, которые вчера на пожар пялились.
Солдат посмотрел на него с сожалением:
– Куда ж им отсюда деться?
Мурин растерянно оглянулся.
– В подвалах хоронятся, – пояснил солдат. Сунул в рот мизинец и большой палец, громко и коротко свистнул.
Через несколько мгновений доска на одном из подвальных окошек дрогнула, в щель высунулась голова в мещанском картузе. Испуганные глаза остановились на Мурине.
– Только б лучше ты послушал моего совета.
Солдат пошел обратно к ямам, слегка кренясь набок, чтобы уравновесить тяжесть: в одной руке мешок, в другой – котомка и лопата.
Мещанин в картузе выбрался из расщелины и робко подошел к Мурину. Небритое лицо было молодым. Он снял картуз, поклонился не без изящества, пожалуй, даже чрезмерного, бойко зажурчал по-французски:
– Добрый день, господин офицер. Почту за счастье служить.
Мурин испытал замешательство. Все сейчас избегали говорить по-французски. Даже те, кто не умел, отчаянно коверкая, переходили на непривычный им русский. А этот и не думал смущаться:
– Что вам будет благоугодно?..
Всей позой он выражал готовность сорваться с места и исполнить желание господина офицера, в чем бы оно ни заключалось.
– Шарль Жюден, к вашим услугам. Платье дамское и детское.
«Понятно». Вот откуда бойкая любезность. Приказчик модного магазина. Но здесь? Сейчас? Мурин подавил удивление. Платье дамское или детское ему не требовалось, он перешел к делу:
– Дама, которая вчера в этом доме… – Мурин замялся. Он не знал, что она делала в этом доме.
– Которая погибла в пожаре? – быстро откликнулся учтивый француз.
– Вот-вот.
– Ах, бедная мадам Бопра…
«Тоже француженка. Вот так-так».
– Что же она здесь делала?
Темные глаза Жюдена задумчиво остановились на солдатах – те закончили копать, стали складывать мертвых в яму. Старший принес ведро с известью и, отставая на пару шагов, принялся присыпать ею тела. Никаких таинств, которые обычно сопровождают погребение человека, придавая смерти нечто духовное, возвышенное. Здесь, в Москве, она была нага и прозаична. Здесь не хоронили, а просто закапывали гнилое мясо, соблюдая санитарные предосторожности. Француз зябко передернул плечами.
– Что делала здесь мадам Бопра? – повторил Мурин.
Француз пожал плечами:
– Кто-то говорил, была актрисой здесь, при Бонапарте. Сама она помалкивала. Вот и все. А если вы имеете в виду только вчерашний день, то не знаю тем более.
«Врет», – подумал Мурин. Жюден заметил тень недоверия на его лице:
– До войны я здесь знал всех. Всех приказчиков, всех закупщиков тканей, всех модисток, всех закройщиков, всех портных, всех белошвеек. Мы вместе справляли праздники. Один круг, почти одна семья. А теперь… Такое ощущение, что сюда сбились все иностранцы, какие только остались в Москве. А не удрали до войны или вместе с Бонапартом, – добавил он с внезапной злобностью.
– А вы ж сами почему остались в Москве? – полюбопытствовал Мурин.
Жюден отпрянул, смерил оскорбленным взором. «Я думал, вы приличный человек, а вы…» – читалось в глазах. Мурин понял, что ляпнул лишнее. Похоже, что вопрос «Почему вы остались в Москве» относился к той же категории, что и вопрос «Как вы считаете, кто устроил пожар в Москве?». Не хочешь извержения, не спрашивай. Но теперь было поздно. Понеслось:
– Я… Я… Да как вы могли даже… Я коренной москвич! Я здесь родился! Вырос! – возмущался Жюден. – К бонапартовской сволочи не имею ни малейшего отношения.
– Э-э… – Мурин не знал, куда деваться. – Сожалею. Я просто подумал… Вы все-таки… э-э… француз… В смысле, я подумал: имя французское.
– Я бы Бонапарта своими руками! Ненавижу его! Весь этот якобинский сброд ненавижу!
Мурин вытаращился. Жюден продолжал запальчиво:
– Мои родители нашли приют в России, когда спасались от ужасов революции. Я коренной москвич и русский патриот, – отрезал. Нахлобучил картуз, потопал прочь, всей спиной выражая негодование.
– Понял, – сказал неправду Мурин. – Очень вас благодарю за ваше время.
Мурин вскочил в седло. Уши у него горели. «Господи… Зря обидел незнакомого человека».
Зачем врут, будто война все упрощает? Наоборот, она все запутывает. Кого теперь считать иностранцем? Кого русским? Кто патриот? Кто враг отечества? У Мурина, как всякий раз, когда он сталкивался с этой новой сложностью, стало тесно в висках.
Некоторое время спустя, держась крупных улиц и все время напоминая себе, что не всякая кривизна есть поворот, он нагнал Изотова, благо тот ехал шагом.
– Смотри-ка, не потерялся, – заметил Изотов.
Мурин молча поравнялся с ним. Глаза не видели домов и неба. Мысли его были далеко. «…Как же я найду ее ami. Где начать?»
– Что там было? – спросил Изотов, не поворачиваясь.
– Да ничего, – бросил Мурин. – Ерунда.
Во имя Нины, во имя собственного сердца, во имя всех влюбленных на свете Мурин поклялся найти le bien-aimé погибшей мадам Бопра и вернуть ему кольцо во что бы то ни стало.
– Ты чего такой смурной? – спросил Ельцов, когда Мурин сдал дежурство и вышел во двор, примыкавший к особняку, где они квартировали, распустил галстук, вынул трубку и стал ее набивать.
Вокруг стояли треснувшие кадки, из них торчали обломки, которые и пеньками не назвать. Наверное, когда-то это были апельсиновые деревца. Ельцов стоял, поставив одну ногу на край кадки, и тоже курил.
– Уж не зол ли ты на меня?
– И не думал.
Ельцов кивнул сквозь дым. Мурин опустил трубку. Посмотрел Ельцову в лицо. Они знали друг друга очень давно, вместе прошли через многое. Такой вряд ли скажет в ответ «подтяни сопли» или «не будь бабой». Мурин уже набрал воздух в грудь, как Ельцов ухмыльнулся:
– Грустишь перед расставанием со своим приятелем-французом?
Мурин понял свою ошибку. Убрал трубку. Выдавил улыбку:
– А, черт. Спасибо, что напомнил. Я чуть про него не забыл.
– Вот вы где!
Радостный окрик заставил обоих обернуться.
Изотов сиял. Он сбежал к ним. Точнее, слетел на крыльях любви, как в таких случаях принято говорить, и выпалил свою новость:
– Она ангел. Другой такой нет. Вы что такие мрачные?
Но ответ его нимало не интересовал.
День свадьбы назначили, и это необходимо, крайне необходимо было отпраздновать в мужском кругу, проститься, так сказать, с холостой жизнью, то есть начать прощаться… Что-то такое трещал Изотов, пока Ельцов и Мурин были заняты каждый своими мыслями.
– Да ты слыхал меня? Мурин? – Изотов хлопнул его по плечу.
– Не знал, что ты был помолвлен, – рассеянно пробормотал Мурин. «Черт возьми, куда ни кинь, все влюблены».
– Мы до поры до времени держали в тайне. Вдруг родитель встанет на дыбы. Так придешь? – Изотов улыбался во весь рот, глаза сияли, лицо дышало счастьем.
И углы рта у Мурина невольно поползли вверх. Невозможно было не заразиться радостью столь открытой, столь полной.
– Так будете? Без вас праздник не праздник. Хочу собрать всех, всех моих товарищей!
– Эх, Изотов, наивная душа, окрутили тебя, а ты и рад, – залюбовался им Мурин.
– Страшно рад, Мурин, страшно! Спеши насладиться моим обществом. К Великому посту буду уже женатый человек, обаблюсь. И в свои холостяцкие компании вы меня нипочем не заманите! Ах, если б ты сам ее увидел. Она… Она ангел.
Мурин ощущал, как при виде Изотова по всему телу его разливалось умиление, в котором он сам себе не хотел признаваться. На его памяти это была первая свадьба, которую назначили не в спешке, не от отчаяния, не потому, что неизвестно, что будет завтра, и будет ли это завтра вообще. А ровно как полагается – мечтая о долгих счастливых годах впереди. Это была свадьба после войны. И не важно, что война еще шла.
– Не сомневаюсь, что твоя невеста – ангел и перл создания, – заверил Мурин. – Как не прийти. Буду.
– Когда пирушка? Где? – спросил Ельцов.
Изотов сообщил подробности затеянного им вечера и на прощание пообещал «море пунша».
– Видать, винный погреб нашли. Или схрон, сделанный французами, – прокомментировал Ельцов.
– Похоже. Хорошо ж. Пойду.
Ельцов кивнул ему сквозь сигарный дым.
Мурин не прошел и десяти шагов, как услышал голос с ленцой:
– Еще бы не ангел. Миллионное приданое. Везет дуракам.
Мурин узнал Соколова: тоже москвич, это в паре с ним Ельцов познавал Москву, вернее, то, что от нее осталось. Соколов сидел на коновязи, подставив солнцу отросшие за время кампании вихры, и был занят делом: ел сушеные вишни, выплевывая косточки.
– Завидно? – осведомился Мурин.
– Завидно, – не стал спорить Соколов. – Говорят, он ее отхватил, когда…
– Если завидно, завидуйте молча.
Но тому было хоть бы хны:
– Хотите? – протянул фунтик.
Может, прислали из дома. Может, утащил в какой-нибудь разграбленной лавке. Мурин не хотел этого знать. Он до дрожи любил сладкое. Не устоял. Запустил руку. Сунул в рот. «Блаж-женство».
Пожевали молча в некоем подобии приятельства.
– Спасибо. Счастье.
– А вы куда?
Соколов, похоже, принадлежал к тому типу людей, которым нравится знать о ближних все. И передавать сведения далее.
– Да так, лошадь промять.
Мурин пошел в дом.
Нашел своего денщика. Крепко пахло потом и табаком, других денщиков видно не было: видать, хлопотали. Яшка делал то, что и все солдаты, коль выдалось свободное время: спал. Нос его выводил храп на два такта. Муринский саквояж лежал под головой – даже и во сне денщик охранял имущество. Мгновение поколебавшись – будить или не будить, – Мурин осторожно потащил саквояж на себя, пока Яшкина голова мягко не прикоснулась к тюфяку. Храп оборвался, Яшка заворочался, поджал колени к животу, но не проснулся. Мурин вытряхнул содержимое на край тюфяка позади грязноватых Яшкиных ступней и стал осматривать свое имущество. Выбрал смену белья, бритву, отсыпал табака и завернул в страницу почище, которую вырвал из книги, валявшейся тут же, на полу, а книгу бросил обратно. Долго раздумывал над флягой. Встряхнул. Во фляге был коньяк. Золотой запас на черный день, который еще мог настать. Или уже настал? Мурин завязал из рубахи узел, запихал все туда. Подумал и с сожалением кинул флягу тоже. Потом сунул оставшееся в саквояж, поставил его у Яшки в ногах, а с узлом тихо вышел.
Вопреки наказу не высовывать носа, француз стоял у окна и глядел во двор, в котором занимались лошадьми. На шаги Мурина он тотчас обернулся.
– Вот, – Мурин протянул ему узел. – Идемте.
Француз взял узел, встряхнул, взвесил в руке, вопросительно посмотрел Мурину в лицо:
– Что это?
– Там белье и кое-какие мелочи, нужные в дороге. Советую присматривать в оба глаза, а на ночь класть под голову вместо подушки. Идемте.
Арман не сразу двинулся с места. Он вроде бы хотел сказать что-то, но помолчал выжидательно. Мурин услышал в его молчании вопрос, решился.
– Присядем на дорожку, – сказал. Огляделся.
Сесть было некуда. Вокруг только постели, устроенные из соломы, сена и того, что нашлось – шинелей, ковров, подстилок, потников. Оба прижались задницами к узкому подоконнику.
– Вы давеча рассказывали, как можно выяснить… отыскать любое… любого… человека, – замялся Мурин.
Француз приподнял бровь, и Мурин – которому стало совестно, что он проспал все его рассказы, промямлил:
– Что для этого требуется?
Арман посмотрел ему в глаза:
– Злодейство?
Мурин почувствовал, что начинает краснеть:
– На самом деле, нет. Да. То есть не в этом дело. Ах, полная бессмыслица. Забудьте.
На лице Армана проступило мягкое понимающее выражение (Мурин тогда еще не знал, что у сыщика оно – профессиональное).
– Дорогой господин Мурин. Что бы вас ни заботило, я для вас – как случайный пассажир в почтовой карете. Через час исчезну из вашей жизни навсегда и унесу с собой ваш рассказ. Выкладывайте, папа Арман слушает.
«Он прав», – согласился Мурин.
– Я видел, как погибла одна женщина. Но дело не в этом…
– Была убита?
– Да… Но не в этом дело. Это как раз ясно. Я был там. И видел… Вернее, не видел. Загорелся дом, началась катавасия, словом… Она погибла.
– Словом, вы не смогли ей помочь и это вас гложет.
Мурин удивился:
– Почем вы знаете?
Француз усмехнулся, но глаза остались серьезными.
– Учитесь властвовать собой, господин Мурин. Иначе не только я, но и всякий проходимец с опытом будет читать вас как раскрытую книгу.
Мурин вспыхнул:
– Никто меня не читает!
Арман пропустил выпад мимо ушей, мягко перевел стрелку:
– Что ж вы задумали?
Мурин не захотел выставлять перед французом свои чувства:
– В том-то и дело, что сам не знаю. Вот.
Он вынул и показал кольцо. Арман взял его, нахмурив брови, поднес к свету, провертел.
– Вместе навсегда, – прочел гравировку. – Семнадцатое июня. Это ее кольцо?
Мурин кивнул:
– Француженка. Актриса. Была актрисой. Здесь, в Москве. Пока стояли ваши.
– Французская актриса в Москве, как же, знаю, – саркастически присвистнул Арман, насладился удивленной миной Мурина, добавил: – Да ни одна из этих дам не была актрисой. Они собрались со всей Москвы, эти бедолаги. Горничные, модистки, гувернантки, компаньонки, учительницы, которым не удалось выбраться из города. Перепуганные до смерти. Беззащитные. А в этом как бы театре они нашли кров, еду и какую-никакую защиту от посягательств множества мужчин, давно не видавших женского общества. Почти все они тут же разошлись по рукам высокопоставленных офицеров. Можете мне поверить. Я в этом театре бывал.
– В театре? Вы?
– А то. Наш император тут же развел в Москве театр. Истинный римлянин. Нет хлеба, зато есть зрелища.
– Хм.
– Известно ли вам ее имя? – прищурился француз.
– Луиза Бопра.
Арман покачал головой:
– Нет, не припоминаю. Наверное, ничего особенного. Да я и был в театре один раз. Второй не захотелось. Жалкое зрелище. Но в зале почти все топотали от счастья и устраивали овации. Были счастливы, что находятся в театре, хотя бы и таком. Как бы нормальная жизнь. Дурачье. Ищите следы вашей мадам Бопра там. И да, Мурин, вы спросили моего совета…
Мурин насупился:
– А разве вы его уже не дали? «Властвовать собой».
Арман хохотнул, отмахнулся.
– Нет. Это было так, замечание. Дружеское. – Он пихнул ногой узел. – В признательность за вашу… Черт, в вашем возрасте ненавидят слово «добрый»… Ладно, скажем: за вашу щедрость. А сейчас – совет.
Он уставился в пол, задумался, собрал руки крест-накрест. Мурин ждал. Арман заговорил как-то вдруг и глухо, точно всматривался не в загаженный паркет, а куда-то далеко-далеко:
– …потом вам не раз будет казаться, что вы делаете это из жалости к погибшему. Или во имя справедливости. Или потому, что это долг живого перед мертвыми. Или потому, что, как сейчас, вам кажется, что это была ваша вина: мол, не подоспели вовремя, не спасли, не сумели. И все это отчасти будет верно. Но только отчасти.
– Я вас не понимаю…
– А вы поймете, – заверил Арман, обернулся. Теперь он снова смотрел Мурину в глаза, взор его горел. – Однажды вы сами это поймете. Я тоже понял, хоть и не сразу. Есть только две силы, что движут людьми в их поступках. Наслаждение или страх. На человеческих монстров мы охотимся прежде всего потому, что это доставляет нам наслаждение. Никогда не обманывайте себя, будто вами движет нечто иное. И тогда, – медленно и веско выговорил он. – Вы его поймаете.
Мурин тоже нахмурился.
– Ни на кого я не охочусь. С чего вы вообще решили, что я веду речь о преступлении?
– Ведь вы сами только что…
– Вы ошиблись. Выходит, для вас я не такая уж раскрытая книга.
Спрыгнул с узенького подоконника:
– Сожалею, что спросил.
– Как вам будет угодно, – пожал плечами француз. – Вы спросили совет. Мое дело – дать.
– Идемте, – направился к двери Мурин.
Француз взял узел и потопал за ним.
Они дошли до площади, название которой Мурин тут же забыл. Представляла она собой, впрочем, скорее пустырь, обрамленный развалинами. Несколько целых домов торчали, как зубы в челюсти старика.
Что пришли они правильно, сомнений быть не могло. Куда хватало глаз, на корточках или прямо на земле сидели оборванные люди. В отрепье угадывались остатки французских мундиров. Большинство имело вид самый унылый.
Мурин отыскал старшего офицера. Поздоровался. Кивнул на Армана.
– Вот. Пополнение.
Он опасался вопросов: где взял? При каких обстоятельствах? Но их не последовало.
– Ступай туда, – по-французски приказал офицер, не глядя на Армана.
– А что, разве регистрировать его…
Офицер остановил на лбу Мурина рыбий взор. Ему не понравилось вмешательство чужака в здешние порядки.
– В смысле? – буркнул.
– Записать его имя, полк, звание и что я его доставил.
– Звать как?
– Арман.
– Вас, – процедил офицер.
– Мурин. Лейб-гвардии гусарский полк.
– А то я сам не вижу.
Офицер едва повернул голову:
– Прошка, запиши француза. Господин ротмистр уж больно настаивает.
«Ах ты говнюк», – подумал Мурин. Его внимание отвлек шум. Два казака с пиками привели колонну из дюжины или около того пленных. Что-то гавкнули. Колонна остановилась. К ней подошли два солдата. Принялись шустро отбирать у пленных барахлишко, у кого еще оставалось. Один вякнул, тут же получил в живот прикладом. Больше никто не роптал – без звука отдавали казакам то, за чем те тянули руки. Мурин подумал, что не для этого отрывал от сердца флягу коньяка. Обернулся к офицеру:
– Настаивает, – повторил на этот раз по-русски. – Еще как. Такой хомут с шеи долой. Теперь это твоя забота. Глаз с этого Армана не спускай. За ним от Кутузова пришлют.
В рыбьих глазах блеснул признак умственной жизни – тревога.
– От фельдмаршала? Зачем?
– У фельдмаршала спроси.
Глаза забегали:
– Когда за ним пришлют?
Мурин смерил офицера взглядом:
– Мне как-то забыли доложить. Лучше за совет спасибо скажи. Другой бы на моем месте пасть открыть поленился.
Мурин лениво потопал прочь. Сердце его при этом скакало кувырком. Он не привык врать.
– Хорошо! – донеслось вслед. – Понял. Спасибо. – И казакам: – Этого не трожь… – Потом обычный субординационный лай: – Почему? По кочану! Потому что я так сказал!
Мурин довольно хмыкнул, но тут же ощутил укол грусти. «Неужели вот так, начиная с малого, постепенно становишься дурным человеком?» Он решил обдумать это после.
А сперва – навести справки об этом как бы французском как бы театре, который развлекал наполеоновскую армию, пока она стояла в Москве.
Глава 6
Осеннее солнце вдруг раскочегарилось. Небо было голубым. Настроение у Мурина – бодрым. На Большой Никитской не было ни души. Зловещий приказ не ездить поодиночке казался пустой тревогой. Больших разрушений здесь не наблюдалось. Дома были пусты, но целы. Кое-где даже блестели неразбитые окна. От тишины закладывало уши. Слышалось только мягкое топанье копыт Азамата, тихое звяканье уздечки. Пару раз Мурину показалось, что он заметил человеческие фигуры, но и они, похоже, заметили Мурина: тут же скрылись. Настроение сразу испортилось. На руках встали дыбом волоски. Мурин вынул и взвел пистолет. Поверх ушей коня вглядывался в зияния и проемы, чтобы не пропустить, если улица выкинет какое-нибудь коленце.
Большая Никитская оказалась без обычных московских подвохов и даже удовлетворила его вкус: по большей части она была прямой. Особняк эксцентричного московского богача Позднякова, который французы заграбастали себе под театр, Мурин заметил сразу. Какие-то лица в цивильном выносили из него сундуки. Мужиков было четверо, по два на сундук. Завидев Мурина, они так и приросли к земле. Но сундуки не бросили.
Мурин пустил Азамата вскачь. Люди вжали головы в плечи. Но и тогда не выпустили добычу. В их глазах Мурин увидел типично русский фатализм: семи смертям не бывать, а одной не миновать, что ж теперь – бросать барахло и драпать? Мурин осадил коня в двух вершках перед ними и решил сразу расставить точки над «ё». Направил пистолет. Дал хорошенько рассмотреть.
– Смирно у меня. Что несем?
– А тебе что?
– Может, и ничего. Посмотрим.
Мурин качнул дулом. Те вздохнули. Уронили сундуки на землю, подняв пыль и пепел. Щелкнули запорами. Ногой откинули крышку. Один угрюмо пригласил:
– Ну, зырь.
Мурин покосился вниз, не опуская пистолета. Что-то тускло блестело.
– Вынь.
Они переглянулись. Один сунул руки в сундук, вытянул и поднял за плечи какое-то парчовое одеяние. Все, что мог сказать Мурин: модным оно было давно, очень давно.
Двинул пистолетом:
– В обоих сундуках тряпки?
– Так другого там и нет. Там ихний тиятр был.
– Сам вижу, что не церковь.
– Они из церквей туда много чего натащили, – вдруг оживился один из мужиков. – Паникадило себе заместо люстры повесили. Безбожники.
Мурин смерил их взглядом.
– А вы, стало быть, добрые христиане.
– Ступал бы ты своей дорогой, барин… – тихо заворчал один, но первый мужик положил ладонь ему на руку, перехватил речь, заговорил степенно, каждое «о» – как баранка:
– Мы – да. Господь печется о чадах своих и направил нас сюда, чтобы мы взяли этот тлен и смогли приобрести пропитание для семейств своих с детками. Ибо для Господа жизнь человеческая важнее всех земных и тленных богатств.
Похоже, он был расстриженный поп. Или недоучившийся семинарист. Но Мурин подумал о другом: «Черт возьми, что-то все так и лезут учить меня жить» – и дал себе зарок отпустить вдобавок к усам бакенбарды, да погуще, чтобы придать лицу больше солидности.
– Чтоб я вас тут не видел, – закрыл он теологический диспут.
Они подняли сундуки и шустро поволокли прочь, пока он не передумал.
Мурин спешился. Двери особняка были нараспашку. Из них дышало тишиной и заброшенностью. В животе защекотали мурашки. Не желая оставлять коня снаружи и тем самым указывать, где он сам, Мурин за повод ввел товарища в наполеоновский храм муз.
Снаружи был погожий осенний день, даже и пригревало. А внутри царил полумрак. Сырой холодок давно не топленного, брошенного дома тут же начал пробираться Мурину под куртку. Захотелось задвигаться, похлопать себя по ляжкам, согреться.
Мурин забросил узду коню через шею, велел Азамату стоять смирно. Он побоялся, что в сумраке, на разбитом загаженном полу животное может запнуться, подвернуть ногу. Прошел в партер. Окон не было. Свет сочился из двери, которую Мурин оставил нараспашку, не проникал глубоко. Глаза привыкали к темноте. Под ногами опавшей листвой шуршала бумага, осенним ледком похрустывало битое стекло. Мурин потянул носом воздух, мертвых здесь вроде не было. Стульев не было тоже, ни целых, ни сломанных – очевидно, растащили на дрова. Выдвинутой челюстью торчала пустая сцена. Из мрака, собравшегося под потолком, поблескивал ветвистый остов огромного светильника. Мурин задрал подбородок. Точно паникадило. «Изобретательные канальи, тем более что Господу – все равно…»
На стене смутно белела афиша. Мурин сорвал ее, подошел с ней ближе к свету, лившемуся сквозь распахнутую дверь. Афиша была написана по-французски от руки. Водевиль «Игра любви и случая». Он стал читать фамилии актеров и актрис. «Фюзи… Домерг… Сестры Ламираль». «Сестры!» – недоверчиво фыркнул Мурин: наверняка мамаша с дочкой. Только одна фамилия не выглядела французской – режиссер Шольц. Луиза Бопра в афише не упоминалась вовсе. Видимо, Арман угадал: не тот уровень. Или Луиза наврала о себе соотечественникам, виноват, московским патриотам, вместе с которыми пряталась в подвалах. Где ж тогда ее искать?
В самом низу афиши была указана цена билетов. При виде нее Мурин вскинул брови. Даже главный балетмейстер довоенного петербургского театра господин Дидло не позволял себе такого, хотя его цыпочки были… Шелест – ясно различимый в гулкой тишине – заставил Мурина мигом забыть о балетных ножках и навострить уши. Звук донесся откуда-то поодаль, из темной глубины. Мурин развернулся. Замер. Глаза не различали ни зги. Это был не шепоток сквозняка или ветра, не шорох пробежавшей мыши. Его произвел крупный зверь: человек. Мародеры? Мурин немедленно пожалел, что сам не таился. Пистолет он так и сжимал в руке после встречи с четырьмя поклонниками Мельпомены. Он тихо приподнял его, готовый спустить курок. Сглотнул. Затаил дыхание.
Но больше не раздалось ни звука.
Мурин решил вернуться тем же путем, что приехал.
На углу Никитской и какой-то другой улицы, кривой и маленькой, заметил казачий патруль. Казаки преградили путь телеге, запряженной коренастым косматым коньком. Возница – такой же косматый и коренастый – стоял рядом и мял шапку. Казацкий старшина распекал его, до Мурина отчетливо доносилось только одно: «С-скотина!» Он подъехал ближе, на топот обернулись и казаки, и мужик.
– Что он натворил? – кивнул подбородком Мурин.
– Мародер, – бросил старшина.
– Я не мандрадер, – пробубнил тот.
Старшина вскинулся:
– Точно! Вор ты! Сам скажи: вор я. Вор! А? Молчишь? Язык засосал? С-скотина! Знаешь, что с такими, как ты, приказано делать? С-скотина!
Мурин из седла видел, что телега была пуста. Только на дне валялась рогожка.
– У него ж ничего с собой нет. В чем вы его обвиняете?
Казацкий старшина зыркнул на Мурина, накинулся:
– Вам тут что, ротмистр? Манеж? Какого черта вы один катаетесь? Приказ не слыхали?
Мурин сузил глаза, процедил отчетливо:
– Сдайте. Назад.
Тот запнулся, на скулах выступили красные пятна. Отмахнулся:
– К черту. Валяйте. Коли жить надоело.
Мурин с места не двинулся.
– Почему вы его остановили? – И миролюбиво добавил: – Я правда спрашиваю.
Старшина покосился все еще задиристо:
– Вам зачем?
– Если он в этих местах ошивался, то может знать… Я пытаюсь разыскать… дело в том, что…
Он был в затруднении. Старшина понял его по-своему. Взгляд смягчился, голос окрасился сочувствием:
– Семья у вас в этих местах жила?
Мурин не успел ответить ни правду, ни неправду. Старшина снова начал брызгать слюной:
– Только ничего этот мерзавец не знает. Он всю войну у себя на печи сидел. А как Бонапарт ушел, этот – шмыг. Грабить. Вон, телега пустая. Рассчитывал полнешеньким выехать…
Мурин вспомнил мужиков с сундуками и сказки про голодных деток. В голове зазвучал голос Армана: каждый проходимец будет читать вас как раскрытую книгу. Тогда Мурину показалось, что грустный. Сейчас – что насмешливый. Уши побагровели. А старшина тем временем разорялся, жилы на шее натянулись:
– …Тут ты не ошибся! С-скотина! Мы тебе ее сейчас живо наполним. Небыков, – обратился к одному из казаков, – отведи его к похоронной роте.
– Как? – поразился Мурин.
– А что?
– Да хоть и мародер. Самосуд никто не дозволял.
Старшина пихнул его в грудь. Мурин пихнул в ответ. Двое других казаков тотчас напружинились, навострили пики. У мужика забегали глаза: он почуял близость заварухи, под шумок решил дать деру. Но заварухи не случилось. Старшина похлопал Мурина по плечу. Так что тот накренился в седле.
– Самосуд? Окститесь… офицер, – закончил таким тоном и с таким взглядом, что Мурин без труда прочел: «Сопляк».
Остальные казаки тоже прочли – и осклабились.
Старшина стал объяснять чуть не по складам, как для несмышленыша:
– Он поедет вывозить трупы, которые собирают по улицам. В Москве хоронить теперь запрещено. Уж больно их много. Заразы боятся. Приказ коменданта. – Отъехал от Мурина, завис над мужиком. – Понял, падла? Послужишь отечеству.
Казак по имени Небыков кольнул мужика пикой, подгоняя: «Давай, шевелись».
– …С-скотина, – сплюнул старшина.
Мурин проклинал себя за глупость.
– Мне просто показалось…
– Ну так креститесь, когда кажется! – Впрочем, старшина остыл так же быстро, как только что вскинулся. – Ладно. Бывает. Все сейчас не в себе.
Мурин поспешил воспользоваться этой новой переменой его настроения:
– Как давно вы объезжаете дозорами эту часть города?
– С самого первого дня. Если вы имущество свое пытаетесь отыскать, то мой совет: бросьте. Здесь всё растащили. Сами видели гуся.
– Вы не пытались их остановить?
Тот обжег его взглядом:
– Колоть баб и мужиков? Ради барахла, которое даже не мое? Нет, сударь, мне стало тошно, но не более того. Прощайте! – Он тронул с места.
Казаки пристроились следом. Три спины, три крупа, три хвоста.
– Я разыскиваю здесь человека. Женщину!
Старшина натянул поводья. Казацкие кони встали. Мурин снова с ним поравнялся. Теперь три пары голубых глаз смотрели на него с интересом.
– Она ваша… – вопросительно начал старшина.
– Не могу ответить, – быстро перебил Мурин, отведя глаза. «Но это ведь правда! Я о ней почти ничего не знаю», – успокоил свою совесть.
– Что ж, дело молодое… – Лица казаков окрасились сочувствием, которое вогнало Мурина в краску.
Он показал на особняк, из которого вышел:
– Застали ли вы кого-нибудь в этом доме?
– Увы. Ни единой особы женского пола. Только какой-то немец болтался. Он, впрочем, вовсю балаболил по-русски. Утверждал, что московский купец. То ли Штрудель, то ли Штоль.
– Шольц, – подсказал казак по фамилии Небыков.
Мурин обернулся на него, вспомнив имя на афише – режиссер Шольц. Небыков объяснил:
– Я свел его к коменданту. Уж больно складно по-русски мараковал. Пусть сами глядят, что за немец такой и зачем в Москве оставался.
Старшина посмотрел на Мурина сочувственно:
– Не вешайте нос, юноша. Коль жива, отыщется ваша зазноба, – и дал поводья своему лопоухому жеребцу.
– Она вовсе мне не…
Небыков задорно крякнул, подкрутил ус. Мурин оскорбился. Но казачий патруль уже оставил его позади, продолжив привычный объезд. Три спины, три крупа, три хвоста, топот дюжины копыт.
«…Сами вы… юноши».
Глава 7
Мурин заплутал всего дважды и всего четыре раза свернул не туда, пока нашел, где располагался временный комендант, у которого он рассчитывал навести справки о задержанном казаками немце по фамилии Шольц. На его счастье, людей на улицах прибавлялось с каждым днем, и всякий раз находился москвич, который указывал Мурину верную дорогу. К этому все еще трудно было привыкнуть: какие-то части города являли собой страшную картину – пепелища, пожарища, обгорелые печные трубы среди пустырей на месте прежних усадеб с садами, а какие-то – не пострадали хотя бы внешне. Разве что были разграблены. Теперь, когда жители, бежавшие из Москвы накануне вступления Наполеона и попрятавшиеся в окрестных городках, возвращались, по улицам Москвы, как сок по жилам дерева, потихоньку начинала струиться обычная городская жизнь, город на глазах оживал. Разбирали завалы, поправляли разрушенное. Все чаще слышал Мурин стук топоров, визг пил, треск телег. А один раз до него донесся даже запах свежего хлеба, и по тому, как конь встряхнул мордой, Мурин понял, что его товарищ изумился не меньше.
Комендант помещался на территории Кремля. Еще никогда Мурин не видал столь старинных русских сооружений. Остановив Азамата и спрыгнув из седла, он задрал голову, осмотрелся с любопытством. В Петербурге все было современным, новым. Не таким, как здесь. Мурин чувствовал себя путешественником в незнакомой стране.
– Вам кого? – окликнул вдруг голос, и Мурину пришлось прервать осмотр кремлевских достопримечательностей.
Из полосатой будки высунулся человек в буром сюртуке. Как бы извиняясь за небритое лицо, пригладил лохмы. Глаза были под цвет сюртука, они так и буравили Мурина, а на физиономии было написано недовольство должностного лица, которого оторвали от занятий чрезвычайной важности. Мелкая сошка, понял Мурин; но и мелкие сошки могут сильно затруднить жизнь, если им не оказать почтение, которого они ожидают.
Мурин бросил гадать, какую должность этот человек занимал, и представился по всей форме.
– Что у вас за дело?
– Я разыскиваю человека по имени Шольц, несколько дней назад он был приведен сюда казачьим патрулем с Большой Никитской.
– Я – Шольц.
Мурин не мог бы изумиться более. Вопросы наползли один на другой: вы? – но как? – здесь? – почему? – что это значит?
Человек сложил руки на груди и опередил его:
– Что вам угодно?
Мурин решил не ломать голову. В этой Москве привычная жизнь разрушилась, а в хаосе, который наступил, было возможно все. «Как бы то ни было».
– Я хочу расспросить вас о французском театре на Никитской, в котором вы служили режиссером.
– К вашим услугам. Только театр – не французский. Все артисты и художники – граждане мира.
– Хорошо. Меня интересуют особы, которые в нем служили под вашим началом.
– …Театр как таковой не имеет национальности. Искусство объемлет мир и не признает границ.
Кадык на тощей шее дергался. Галстука на гражданине мира не было. Мурин понял, что разговор не будет легким.
– Вы, безусловно, правы, – поспешил согласиться он.
– Конечно, я прав. Немец, француз, русский – всё это суть ярлыки, этикетки, которые можно навесить на кого угодно. И так же легко снять и переменить. Я не немец, не француз, не русский. Я режиссер, человек искусства, а следовательно – гражданин мира.
«Черт возьми», – заморгал Мурин. Из этой философской трясины надо было выбираться, пока не засосало.
– Безусловно. Меня интересует мадам Бопра.
– Бопра? Не знаю такой. Всем заправляла мадам Бюссе. Аврора Бюссе. Она и до войны заправляла в Москве французским театром. А при Бонапарте принялась за старое. В чем вы меня обвиняете? Я всего лишь выполнял ее поручения, – взвизгнул он.
Мурин попытался вернуть его в нужную колею:
– Мадам Бопра была актрисой, я полагаю.
– В чем вы меня обвиняете? Нет, скажите: в чем?!
– Я ни в чем вас не обвиняю.
– Легко обидеть художника! О, как легко! А вот понять…
– …Мать! Синицын! Отстебись от господина офицера, – рявкнул голос, Мурин вздрогнул и обернулся.
К ним шагал солдат. При виде него личность в буром сюртуке спряталась в будку, точно кукушка в часы. Но солдата это не остановило. Он за шиворот вытащил гражданина мира из будки и сильным толчком придал ему направление в глубину мощеного двора.
– Допек уже, – пробормотал солдат. – Извиняюсь, ваше блародие. Виноват. Отлучился по нужде. А этот уж тут как тут. Не серчайте. Он безвредный.
Солдат покачал головой, в его глазах Мурин заметил сочувствие. Человек в буром сюртуке уже будто забыл о случившемся, сидел на корточках и ковырял щепкой между булыжниками.
– Как, вы сказали, его зовут?
– А что он вам наплел?
– Он мне сказал, что он Шольц.
Солдат хмыкнул:
– Такой же Шольц, как и я.
Мурин изумился:
– Кто ж он на самом деле?
– Мещанин Синицын. Ябнутый.
– Что он тогда здесь делает?
– А куда еще его девать? Больница погорела. Дохтур сказал: «На цепь сажайте», до дальнейших распоряжений. На це-епь, – потянул солдат. – Да ежели всех ябнутых на цепь сажать, то цепей не хватит. Где их тут возьмешь, цепи-то. Мы его в кутузке держали, пока места были. А теперь вот все заняты. Он с немцем в одной каморе сидел. Вот и нахватался. Переимчивый очень. С ходу все запоминает. С кем ни поговорит, так потом себя этой персоной представляет. Эй! – крикнул.
Мещанин оборотил лицо. Медленно распрямил колени, поднялся.
– Подь сюды.
Мещанин потрусил к ним. Солдат подмигнул Мурину:
– Щас сами увидите.
И к ябнутому, на лице у которого было невинное выражение полного неведения.
– Ты кто таков? – с напускной суровостью осведомился солдат. – Как звать? По какому делу здесь?
Мещанин вытянулся, выкатил грудь колесом, зазвенел:
– Мурин, лейб-гвардии гусарский полк. Хочу расспросить вас о французском театре на Никитской. Я разыскиваю сведения о некой мадам Бопра.
Мурин ощутил странный, умом не объяснимый страх. Точно холодная рука погладила по спине.
– Видали? – кивнул солдат, махнул мещанину: – А терь пшел отсюда. Кыш!
Тот побежал через двор, махая руками, как крыльями:
– Кыш! Кыш!
– Юродивый, – заключил солдат.
Мурин пощипал себя за ус.
– Дохтур грит, мож, со временем отойдет. Башка-то его. Грит, он на почве пережитых бедствий ябнулся. – Покачал головой: – Что война проклятая понаделала.
Мурин тоже вздохнул:
– Да.
– Вы, ваш блародь, стало быть, из лейб-гусар. Изволите проводить вас к господину коменданту?
Мурин чуть было не кивнул. Но вовремя сообразил, что солдат, в отличие от господина коменданта, не посмеет полезть к нему с неудобными вопросами вроде «Вам что за дело?» да «Кто вам эта особа?», а знает наверняка больше. Подчиненные всегда осведомлены лучше начальства.
– Может, и не надобно к коменданту.
Мурин вынул пятак, вложил солдату в ладонь:
– На вот, угостись потом чайком.
– Благодарствуйте. – Пятак исчез в сапоге. Солдат подмигнул: – Может, и на бубличек к чаю?
– Может, – уклончиво ответил Мурин. – Если проводишь меня в камору к этому немцу Шольцу, мне с ним потолковать надобно.
– Так немец этот тю-тю.
– Сбежал? – Мурина охватила досада: упустил!
– Зачем? – Солдат был безмятежен. – Отпустили восвояси. Преступления не нашли.
Слово «преступление» заставило Мурина встрепенуться. Сердце начало гулко отсчитывать удары.
– В чем же его подозревали?
– Казаку-то, что его сюда привел, больно не понравилось, что тот по-русски шустро балаболил. Мол, что еще за немец такой? И зачем при французах в Москве ошивался?
– А сам Шольц что?
– Он давай верещать. Мол, служить на тиятре его обстоятельства принудили. Корку хлеба заработать. Ну, это вам Синицын лучше меня перескажет. Он с ним в каморе сидел и все его зажигательные речи слушал. Позвать?
Мурин учтиво отказался.
– Корку хлеба… – Солдат покачал головой. – Брехня. Хранцузы, грят, ассигнации пучками раздавали. Им-то эти рублики – бумажки. Карман жгут, а тратить некуда, ни лавок, ни рестораций, погорело все. Так хоть в тиятр. Мамзели, которые в том тиятре служили, грят, кто не дуры, те хорошо себе мошну набили. Да и драпанули вовремя. С денежками-то.
Этот новый оборот дела заставил Мурина нахмуриться. Деньги?
– Про ассигнации Синицын мне не говорил, – только и заметил он. – Больше про душу, искусство и такое прочее.
– Ха! Так Синицын балаболит только то, что своими ушами слышал. Немец этот в каморе тоже все про душу и тиятр разорялся. А про денежки ни гу-гу. Про денежки это баба рассказала.
– Какая баба? – У Мурина затеплилась надежда ухватиться за кончик нити.
– А с Кузнецкого Моста. Лавка там у ней до войны была. Ее привели личность этого немца подтвердить или опровергнуть. Ну она и подтвердила. Мол, как же, торгаш он: одеколоны и прочие благовония. Он добро свое вывезти не успел или не смог, тогда от французов прикопал и рядом сторожить остался. Ну тогда комендант его и отпустил. Печься о своем имуществе – это не преступление.
Мурин задумался, составляя в уме услышанное, и не сразу заметил ладонь, деликатно выдвинутую ковшиком у самого бедра. Спохватился, вынул еще монету и опустил в ковшик. Пальцы тут же прижали монету.
– Как звали бабу, не помнишь?
– Чего не помню, того не помню. Извини, ваш блародь. Мне ихние имена все на одно лицо.
«Значит, тоже немка. Или француженка».
– Где, ты сказал, у нее лавка была?
– На Кузнецком Мосту.
Мурин долго искал реку. Ведь если мост, то, значит, должна быть река!
– Пр-роклятье.
В Питере с этим было просто. Куда бы ты ни ехал, всегда наедешь на какую-нибудь воду – речку или канал. Маленькая вода отведет к большой – Неве. А уж мимо Невы тем более не промахнешься: широкая, прямая, мощная, – город с его дворцами и набережными жался рядом, как неприметный муж известной красавицы.
Но в Москве, очевидно, было наоборот.
Мурин дважды заблудился. Азамат, которому все это надоело, начал спотыкаться от усталости и злобно грызть удила. Наконец, следуя указаниям добрых москвичей, Мурин ее отыскал. Речка оказалась одна, маленькая и кривая, ее топкие берега язык не поворачивался назвать набережными, если считать набережными гранитную оправу Невы. Вдоль них тянулись деревянные строения. Казалось, ты в каком-нибудь русском захолустье, а вовсе не во второй столице империи. Тощая баба с такой же тощей козой, которую вела за веревку, намотанную вокруг рогов, остановилась, увидев, что Мурин топчется в затруднении.
– Тебе чего, солдатик? Кузнецкий Мост? Так это ж совсем в другую сторону!
Мурин разразился бранью. Он уже сам готов был лягаться и ронять пену. Видимо, разочарование на его лице настолько превышало меру разумного, что баба, чуть повернув голову к плечу, негромко покричала:
– Трофим, а Трофим.
Вышел мужик. Рукава были закатаны по локоть: хозяин оторвался от работы.
– Солдатик заблудимшись, – пояснила.
– Куда те, служивый?
– На Кузнецкий.
Трофим крякнул.
– Далековато. Черт тебя водил, что ли?
– Выходит, так.
– Он не здешний, – пояснила баба.
Мужик степенно прокомментировал: – Большая страна. Со всей Расеи солдаты снарядились. Идем, служивый, провожу.
Мурин возблагодарил небеса за московское гостеприимство. Каким-то чутьем понял, что предлагать мужику или бабе деньги будет неуместно. Поблагодарил.
– Спасибо скажешь, когда отведу, – заметил на это мужик и зашагал вперед.
Разговоры о политике не заставили себя долго ждать.
– Что ж Бонапартий… – завел мужик.
Мурин отвечал как умел. В голове у мужика была изрядная каша. Причем она не совпадала с кашей в голове у Мурина, и тот старался подбирать слова осторожно – не хотелось из-за какой-нибудь ерунды вывести мужика из себя и лишиться провожатого в этом лабиринте. Он как раз объяснял про Конвент, когда мужик выставил руку, так что Азамат наехал на нее всей грудью и показал зубы.
– Приехали, – сообщил провожатый.
Мурин вытаращился. Перед ним была горбатенькая улица, та самая, на которой они с Изотовым наткнулись на злополучный дом. Мурин сразу увидел его выгоревшие останки.
Бывают ли такие совпадения просто совпадениями?
– Кузнецкий Мост, – показал мужик, развеяв его последние сомнения.
Глава 8
Улица переменилась с того дня. Завалы были разобраны. Где зияли проемы без стекол, были вставлены доски. Где окна сохранились в целости, за стеклами, отмытыми от сажи, виднелись занавески. Занавески! Повесить их могла только женская рука. Москвичи спешили вернуться в свои жилища, покинутые перед нашествием, спешили жить дальше, и не просто жить – а по всем правилам приличий.
Орать на всю улицу «Господин Жюден!», пока тот не вылезет (а таков был первоначальный план), Мурину вдруг показалось неуместным. Занавески говорили, что военные привычки пора бросать. Он спрыгнул на землю и повел Азамата за повод к ближайшему обжитому дому.
Заколоченное досками большое окно, типичное для лавки, привлекло его взгляд. На одной из досок было жирно выведено карандашом: «Платье дамское и подвенечные наряды».
Мурин постучал.
Отворили ему тотчас, показался нос и край чепца. Мурин поздоровался. Очевидно, его появление на этой улице не осталось незамеченным и за его перемещениями наблюдали в щели между досками.
– Чего изволите? – Сильно нарумяненная дама высунулась мимо Мурина и бдительно окинула взглядом улицу.
Мурин тоже обернулся, заметил, что в других домах занавески подрагивали. Двери стали приотворяться. Из одной – на противоположной стороне улицы – высунулась голова в чепце и позвала:
– Господин офицер, чего вам благоугодно?
Нарумяненная дама, увидев тот чепец, тотчас засуетилась – приоткрыла дверь пошире:
– Прошу, прошу. Входите, господин офицер. Уверена, что, невзирая на обстоятельства, мы сумеем исполнить любые ваши пожелания.
«Не в бордель ли я попал», – встревожился Мурин: ну и что, что написано «платье», на сарае тоже вон написано «хуй», а внутри – дрова.
– Наши расценки лучше! – крикнула с другой стороны улицы ее соперница.
И нарумяненная дама, отбросив ложный стыд, схватила Мурина за рукав, втащила внутрь, захлопнула дверь. Затем отпрянула от него на расстояние, более отвечающее приличиям, вынула из рукава платочек и стала изящно промокать верхнюю губу, на которой от всех этих коммерческих усилий выступили капельки пота.
– Фух, – обмахнулась платочком она. – Иные дни выдаются прямо теплые не по сезону. Так чего же вам благоугодно сшить?
– Ничего.
Рука с платочком замерла.
– Как-с? – Дама заморгала. – А…
– Я разыскиваю господина…
– С чего вы взяли, что у него сделают лучше, чем мы? – воинственно перебила она. – Посмотрите наш батист. Голландское полотно. И кружева есть, и пуговицы перламутровые. Сейчас такого не сыщете. Мы весь свой товар уже просушили, проветрили, переложили лавандой. А остальные, скажу вам по секрету, только вчера закончили выкапывать.
Мурина на миг охватило то же чувство, что давеча в разговоре с ябнутым мещанином Синицыным.
– …Даже если они вам наобещают все сделать к завтрему и даже если свое обещание выполнят, то что вам за радость с рубашек, пошитых из ткани, которая пролежала под землей с самого лета? Сами рассудите. – Она округлила глаза в притворном ужасе и драматически понизила голос: – Это же, извините меня за выражение, сущий саван! А не полотно для благородного господина.
– Вот оно что.
Шольц был не один такой сметливый. Многие московские лавочники, не успев вывезти добро накануне прихода французов, попросту попрятали или закопали товары, а сами остались в осажденном городе: приглядывать за тайниками.
– Я не собираюсь ничего шить. Мне нужно лишь потолковать с господином Шольцем.
– Ах, вам нужен Шольц! Зачем? У него вы не сошьете и платка. Он не занимается платьем. Он парфюмер.
– Допустим, я ищу помаду для усов.
– Так у него вы ее не найдете!
– Вы же сами сказали, он парфюмер, – начал терять терпение Мурин.
– Сказала. Только его лавка недавно сгорела дотла. Со всем тайником. На многие тыщи товару он там закопал.
«Ого», – подумал Мурин.
– Одни пачули и амбра чего стоят. Сберег от Бонапарта, как же. Правду говорят: от судьбы не уйдешь.
– Не спорю, сударыня. Я все же… – Мурин стал искать глазами дверь.
Она это заметила. Преградила путь:
– Помада для усов… – Изобразила, что задумалась. – Ну конечно! Господин Дюморье. Вот кто вам нужен. У него вы точно найдете желаемое. Лучшего качества и за лучшую цену. Я давно его знаю. Я вас сама к нему сейчас сведу.
Мурин вежливо отстранился:
– Благодарю, сударыня. Но, боюсь, времени на прогулки по Москве у меня нет. Я должен вернуться в полк.
Дама всплеснула руками и порозовела – уже по-настоящему:
– Какие ж прогулки? Вы же на Кузнецком Мосту! Мы одеваем всю элегантную Москву! Все лучшее – здесь. Даже если вы придете сюда, прошу прощения, нагим, как Адам, то уйдете – петиметром до кончиков ногтей. Кстати, у Дюморье вам сделают и скидку на маникюр. Погодите, только накину шаль!
Спорить было бесполезно.
– Ведите, – с показной покорностью сдался Мурин.
Это была тактическая уловка, к которой молодые люди его круга прибегали в петербургских гостиных или на балах. Главное – вырваться. Как только ноги вновь ощутили под собой твердую мостовую, Мурин быстро обернулся к даме, проговорил:
– Прошу прощения, заметил своего давнего знакомого, – и был таков.
Она за ним не побежала. А если мысленно и разразилась бранью по его адресу, Мурину не суждено было об этом узнать.
Отделавшись от своей Цирцеи, он сбавил шаг и с интересом глядел по сторонам. Теперь он видел то, что не заметил раньше: по обеим сторонам горбатенькой улицы были лавки, лавки, лавки, и почти все – с большими окнами. Сейчас – пустыми, закрытыми ставнями, а некоторые и заколоченными. Но, не прикладывая большого воображения, можно было увидеть, как совсем скоро в них снова зацветут душистые шляпки, раскинутся индийские шали, повиснут платья – дамские, мужские и детские, высунутся разноцветные языки шелковых лент, а на мостовой станет тесно от экипажей. Вывесок только почему-то не было. Мурин подумал, что хозяева лавок убрали их заблаговременно перед вступлением неприятеля в Москву: чтобы не привлекать внимание, не вводить в соблазн.
Где ж теперь искать Шольца, режиссера и парфюмера? За каким окном? Да и в Москве ли он вообще? Вдруг уже дал деру?
Мурин решил отбросить хлопотные приличия и вернуться к своему первоначальному плану. Расставил ноги поустойчивей, набрал полную грудь воздуха, сжал кулаки, как тенор императорской оперы перед решающим пассажем, и заорал что было мочи:
– Жю-де-е-ен!
Мурин допил чай. Точнее, это был кипяток, разлитый по фарфоровым чашкам. Стол и вся прочая мебель, весьма скудная, были задвинуты к стене. По всей комнате были раскатаны широкие полосы шелка – сохли, проветривались.
– А чтобы до материй не добралась сырость, мы все обернули вощеным полотном, – хвастался смекалкой и хваткой господин Жюден.
Он на цыпочках балансировал между шелками с ковшиком в руке, на лице у него было сложное выражение молодого отца при виде своего младенца: гордость и ужас. С их первой встречи он изменился поразительно. Небритый бродяга исчез без следа. Жюден даже волосы завил и лицом теперь напоминал то ли аркадского пастушка, то ли купидона, только служил не Венере, а богине моды, хотя, может, это Венера и есть, ибо дурно одетому человеку нечего рассчитывать на взаимность противоположного пола. Впрочем, Мурин не силен был в древних и их мифах.
– Еще чаю не желаете? – приподнял ковшик Жюден. – Я согрел.
– Благодарю. – Мурин отставил чашку. Он сидел как на иголках. – Я теперь, если позволите, желал бы отправиться все же к господину Шольцу…
Жюден не разделял его нетерпения.
– Да куда спешить? Я сказал вам: он нынче у аптекаря Баумгартена.
«Удерет. Как пить дать – удерет», – беспокоился Мурин. С того момента, как он услыхал про ассигнации, которые без счету рассыпали вокруг себя французские офицеры в оккупированном городе, и про товар «на многие тыщи», который Шольц припрятал в занятой врагом Москве, дурное чувство угнездилось у него в животе. Он сам не знал, что оно значит. Если верить Жюдену, который «знал всех», Шольц был именно тем, за кого себя выдавал: парфюмером с Кузнецкого. И все же… Все же, коль скоро в истории жизни и смерти Луизы Бопра возникли большие деньги, они привнесли нечто, что беспокоило Мурина.
– Если бы вы еще тогда сказали, что он вам надобен, я б вам сразу указал, где его искать, – мягко попенял Жюден.
– Я тогда сам не знал, что он мне надобен… И надобен срочно. Прошу вас.
– Хорошо. Как вам будет благоугодно. Идемте. Только осторожней! – вскрикнул приказчик, увидев, как Мурин покачнулся было, заглядевшись на шелковые реки на полу, но выровнял шаг, взмахнув руками.
– Не свалитесь, ради бога.
Они вышли наружу. Кое-что изменилось. К стене лавки Жюдена теперь была прислонена продолговатая доска. От нее шел резкий запах свежей краски.
– Моя новая вывеска. – Жюден любовно похлопал по доске рукой. – Не благоугодно ли взглянуть?
Улыбка на его лице была такой широкой, что Мурин не сумел отказать:
– Охотно.
Жюден осторожно взялся за край. Мурин за другой. Качнули доску на себя, открыли свежую надпись русскими буквами. «Торговля Юдина. Платье дамское и детское». Мурин округлил глаза. Коренной москвич пояснил:
– Зачем понапрасну тревожить покупателей ненужными вопросами, не правда ли? Ведь они приходят за модным платьем, а не за политическими мнениями.
В голосе Жюдена-Юдина был легкий страх. Война ушла из Москвы. Наступало будущее, правил которого никто толком не знал.
– Остроумно, – похвалил Мурин.
Так же осторожно вернули доску на место, сохнуть. Жюден-Юдин хохотнул:
– Хотел бы я знать, как выкрутится Баумгартен! Богданов? Благолепов? Белкин?
Мурин посмотрел на свои пальцы: на самых кончиках остались пятна голубой краски.
Они прошли по улице, свернули в переулок. Мурин, как все кавалеристы, чувствовал себя не в своей тарелке, ступая по земле. Мешала сабля, куртка казалась слишком короткой. Жюден был бодр, как английский терьер. И остановился так же внезапно, чуть не стойку сделал.
– Гутен морген, – прокричал весело вверх.
Мурин проследил за его взглядом.
Господина Баумгартена они застали на перекладине деревянной лестницы. Сама стремянка была прислонена к стене. Над дверью аптекарь водружал знак: буква А в приличной раме. «А» означало аптеку на любом языке. «Выкрутился», – признал Мурин.
Аптекарь хмуро посмотрел вниз, подчеркнуто ответил по-русски:
– Чем могу служить? – Только слишком твердые «ч» и «ж» выдавали в нем немца.
– Как здоровье господина Шольца?
– А кто спрашивает?
– Господин офицер, – ответил Жюден.
– С господином Шольцем у меня есть общая знакомая, ее случай я и желал бы обсудить с господином Шольцем, – уточнил Мурин.
– Имя у господина офицера есть?
– Мурин, к вашим услугам. – Он поклонился.
Аптекарь спиной вперед спустился. Подошел, в одной руке по-прежнему сжимал молоток. Лицо было суровым. Заискивать и улещивать покупателей ему было ни к чему. Он составлял микстуры, отворял кровь и требовал к себе почтения: почти что врач! Неторопливо изучил новое лицо. Лейб-гусарский мундир произвел на него благоприятное впечатление. Он разомкнул губы под рыжеватыми усами:
– Господину Шольцу лучше, слава богу. Ходить будет. Хоть сперва я и думал, что ногу придется отнимать. Но обошлось. Он все еще лежит.
– Лежит?
«Что-то новенькое», – подумал Мурин: в передаче ябнутого Синицына эта деталь отсутствовала.
– Идемте, я вас к нему проведу.
– Если я вам больше не требуюсь, прошу позволения вас здесь оставить, – рассыпался в любезностях Жюден. – Вы знаете, где меня отыскать, если вам что-либо благоугодно будет пожелать. – И Жюден рысцой побежал обратно.
– Сюда, – указал аптекарь.
Они вошли. Из прихожей была видна торговая зала: шкапы, шкапы, шкапы и несчетные батареи пузырьков. Под потолком парило чучело небольшого крокодила. Все говорило о тайнах природы. Мурин испытал некую робость.
– Сюда. – Теперь аптекарь указал на лестницу, стал подниматься.
«Ногу? Отнять?» В какую еще передрягу угодил Шольц?» – Мурин терялся в догадках, ступеньки поскрипывали под его ногами.
Они взошли на второй этаж, помещавшийся над аптекой. Здесь были жилые помещения, а потолки ниже, даже Мурину, который не отличался кавалергардским ростом, пришлось наклонить голову. Аптекарь стукнул в дверь и тут же отворил ее:
– Шольц, дружище, к тебе гость. Господин Мурин желает обсудить случай какой-то вашей общей знакомой. Прошу, господин Мурин. Он лежит. Но вы можете сесть на стул у постели.
– Благодарю. Добрый…
Мурин шагнул внутрь тесной опрятной спаленки, и слова приветствия застряли у него горле. Большую часть комнатки занимала кровать. Пациент лежал под одеялом, худое лицо утопало в подушке. Но Мурин мгновенно его узнал. Это был тот самый человек, которого он видел в злополучный день лежавшим на мостовой с окровавленной ногой. Сразу после взрыва.
Глава 9
Господин Шольц почти сразу воспылал к Мурину неприязнью лежачего больного к ходячему здоровому. А Мурина, почти так же сразу, начала выводить из себя его привычка напирать голосом на слова, которые он желал подчеркнуть, нет, даже ткнуть собеседнику в лицо.
– Всем известно, какого рода дамы остались в Москве. И почему они остались.
– Мне вот неизвестно.
– Бляди-с.
Мурин глубоко вздохнул.
– И все же. Позвольте мне повторить вопрос. Какие отношения были у мадам Бопра с остальными… в театре? Были ли у нее подруги?
Шольц покачал головой.
– Приятельницы?
Тот же немой ответ.
– Соперницы? Хоть кто-то, кто знал ее раньше? Быть может, кто-то привел ее в этот театр?
– А как вообще распространяются сведения о том, где, как и чем можно поживиться?
– Вы мне скажите. Вы ведь тоже туда не по объявлению в газете поступили служить, я полагаю?
– Меня заставили! – выкрикнул Шольц тонким голосом. – Заставили!
Мурин понял, что вопрос успел воспалиться, а значит, его Шольцу задавали неоднократно. Одно дело остаться в Москве накануне вторжения. Другое – при французах служить и получать от них жалованье. Очевидно, что Шольцу пришлось и еще придется несладко.
– Ни у кого не спрашивали согласия. Нас просто согнали туда со всей Москвы, как скот. И заставили их развлекать! Если не верите мне, то убирайтесь. Мне не о чем с вами беседовать!
– Я пришел не ради вас. Я ищу мадам Бопра.
– Я ничем не могу помочь. Я не видал ее с того дня, как все эти как бы актрисы дали деру вместе с французской армией.
«Врет, – подумал Мурин. – Я сам видал его в день взрыва». Но наставления господина Армана достигли цели, Мурин не желал, чтобы и этот проходимец читал его как раскрытую книгу. Поэтому промолчал и сделал морду кирпичом. Шольц перевел дух, скосил глаза на сторону, как бы припоминая что-то.
– Вы спросили: какие отношения… Почти сразу между этими как бы актрисами начались соперничество и ревность.
– К некой особе?
– Пф! К неким суммам! Я раскрою вам глаза, сударь. Ваша мадам Бопра недурно заработала на этой театральной авантюре, сама даже не быв актрисою. Песенки, куплетики, танцы, в дело шло все. Господа военные клали деньги, не считая. Лучше меня вам расскажет все мамзель Фижу, Генриетта Фижу, с ней мадам Бопра выступала вместе и делила костюмерную. Да и в остальное время их можно было увидеть вместе. Женщины! Уж если возьмутся болтать, то выболтают все. Эта мадемуазель Фижу наверняка была конфиденткой многих секретов этой вашей мадам Бопра. Вот вам бы кого спросить. Ее.
«Ишь понесло, – думал Мурин. – То из него слова было не вытянуть, а то вдруг затрещал». И вдруг сообразил: «Так ведь он меняет предмет разговора! Нарочно уводит меня от темы. Его спугнул мой вопрос. А вопрос был: когда вы видели мадам Бопра. Вот оно!» Странное удовольствие от собственной догадки, как жар, окатило Мурина по самые плечи. Он почувствовал особую, спокойную собранность. Все вдруг переменилось. Ему не нужно было ломать голову над следующим вопросом. Слова сами выскакивали из него, и ровно такие, как надо. Глаза зорко подмечали нужное. Словно некий инстинкт нес его вперед.
– Да только какой же толк мне ее искать. Этой мамзель Фижу, поди, и след простыл… – озадаченно бормотали губы Мурина. А глаза заметили: хоть голова Шольца и лежала на подушке, но шея напряглась. «Вот оно», – понял Мурин.
– Почему ж простыл? – оживился пациент. – Не скажите.
– Вы сказали, все эти дамы сбежали вместе с французской армией.
– Сбежать-то сбежали. Да, может, и недалеко, – увлеченно болтал Шольц.
«Радуется, что меня надул», – сердито думал Мурин, а миной выражал почтительное внимание. –
Особа эта не глупа. Смекнула, что к чему. В Москве затеряться даже и проще. Улавливаете мою мысль, сударь? Пересидит лихое время. А потом незаметно смешается с мирною толпой. Имея капиталец, наваренный во время войны. Недурно! И никто не задаст вопросов о том, откуда он взялся, особливо если эта особа смекнет назваться другим именем.
Мурин счел, что достаточно усыпил его бдительность. Пора было прыгнуть, выпустив когти. Он улучил миг, когда Шольц набрал воздух в грудь, и опередил вопросом:
– Так зачем мадам Бопра приходила к вам в тот день, когда дом ваш сгорел?
Шольц запнулся, забыл выдохнуть, дважды попытался вдохнуть. Наконец сумел заговорить:
– Что-о-о? Вы меня не поняли, сударь. Я вам сказал, я не видал мадам Бопра еще с той поры, когда…
– Хватит! – Мурин вскочил. – Я сам видел ее в тот злополучный день в вашем доме. И видел там вас. Вас ранило взрывом. Будете отрицать?
Мурин навис над Шольцем, дал ощутить ничтожество его положения: враг его был на ногах, при сабле и полностью одет, тогда как сам Шольц лежал распластанным и даже не мог откинуть одеяло, ибо был в одной ночной рубахе. Мурин приблизил к нему лицо:
– Отвечайте!
Из глубины дома донесся голос, спросивший что-то по-немецки. Не получил ответа.
– Ну! – встряхнул за плечо Мурин.
Шольц вжался в подушку, в матрас, в сетку кровати. Моральный дух его улетучился. Челюсть затряслась. Заблеял:
– Ранен – был! Но ее я не видел!
– Лжете! Я вас видел!
– Да, я был там. Что странного? Это мой дом. Потом раздался взрыв. Меня выбросило на мостовую, нога моя была повреждена, и Баумгартен взял меня к себе. Говорю вам, я не видал никакой мадам Бопра. Если вам угодно мне не верить, то не верьте. Правды это не изменит.
– Допустим, не видали.
– О чем я и толкую!
– Тогда какое дело привело ее в ваш дом?
Аптекарь Баумгартен приоткрыл дверь:
– Господин Шольц, вы в порядке?
В руке у аптекаря был молоток. Он вряд ли прихватил его сюда, чтобы прибить в комнате вывеску. Мурин, хоть и был при сабле, решил не испытывать судьбу. Но и Шольц решил ее не испытывать. Оборотил лицо к своему товарищу:
– Мой друг, господин офицер немного взволнован. Но теперь уж уходит.
С вызовом посмотрел Мурину в глаза:
– Спросите саму мадам Бопра, по какому делу она желала меня видеть, потому что я не имею ни малейшего представления, что ей от меня было надо. Всего хорошего, сударь!
Аптекарь посторонился и дал Мурину выйти.
На появление хозяина Азамат отозвался фырканьем, заплясал на месте, как бы говоря: «Ну и носило ж тебя. Я чуть со скуки не помер».
– Ну дела, – пробормотал Мурин, вставляя ногу в стремя. Запрыгнул в седло. Шольц либо солгал, либо – и правда не знал, что Луиза Бопра была в тот день в его доме. Она могла проскользнуть туда незамеченной и тайком дожидаться хозяина. Чтобы застать Шольца врасплох? Но зачем ей это понадобилось? Шольц, возможно, сказал правду, что не знал, что Луиза Бопра находилась тогда в его доме. Но что он не имел с ней никаких дел? – враньем несло за версту. Эти ассигнации, которыми французы швырялись в театре направо-налево. Эти зарытые в землю товары. Этот взрыв…
Все это нравилось Мурину меньше и меньше. «Надо же, – вдруг пришло на ум, когда он ехал кривыми московскими улицами. – А ведь последние дни я совсем не думал о Нине». Он заставил себя вызвать в памяти ее лицо. Но оно растаяло прежде, чем выступило из мглы. Две вещи не могут одновременно занимать одно и то же место, говорят философы. Мысли Мурина были заняты мадам Бопра.
Было объявлено, что войскам предстоит в самое ближайшее время выдвинуться вослед армии Наполеона, которая отступала тем же путем, что пришла: по Большой Смоленской дороге. Дорога представляла собой разбитую канаву посреди разграбленной, разоренной и сожженной местности. Ни людей, ни еды, ни корма лошадям. Все шумно радовались этой ошибке великого человека (еще не соображая, что, идя след в след, и сами столкнутся со всеми теми же тяготами). «В самое ближайшее время!» – думал Мурин. Он почти осязал, как оно утекает сквозь его пальцы. Приказ выступать мог быть отдан в любой день. И тогда уже ничего поделать будет нельзя. «Я должен успеть. Я должен успеть», – повторял он мысленно и чувствовал, как покалывает в ладонях.
Изотова он нашел у окна. Они не встречались с того дня, как их рассыпали. А тем паче не обсуждали происшествие.
Изотов брился. Круглое легкомысленное зеркальце он пристроил на подоконник. Оно было таким маленьким, что Изотов, скашивая глаза, то и дело поворачивался то одной намыленной щекой, то другой, водил задранным подбородком. Пена похрустывала под ножом бритвы. Изотов вдруг остановил и отнял нож. Улыбнулся сквозь мыльную бороду. Мурин понял, что Изотов заметил его отражение в своем зеркале.
– Уж не явился ли ты сообщить мне, что никак не можешь быть на моей попойке, или что-нибудь такое же дурацкое?
Улыбнулся и Мурин – уж больно смешная физиономия была у Изотова в этой мыльной пене:
– Твою попойку я б в жизни не пропустил! Но ты прав: пришел с вопросом, и весьма дурацким.
– В карты продулся?
Мурин отмахнулся.
– Не гадай – не угадаешь. А лучше брейся, пока пена не засохла.
Изотов снова принялся водить бритвой, то так, то эдак вытягивая физиономию, чтобы обеспечить бритью гладкость. Поглядывал то в зеркальце, то на Мурина, который заговорил:
– Ты помнишь тот случай, когда мы с тобой в заброшенном доме нарвались на мародера с гранатой?
– Слава богу, не рамолик.
– Там была какая-то женщина.
– Была. Досадный случай. Уж лучше б не напоминал. – Изотов скривился под мыльной пеной.
– Но ведь там был кто-то еще, ты это помнишь?
– Ну да. Каналья этот. Мародер. Если хочешь спросить, не жалею ли я, что его уложил, то отвечу: жалею, что не уложил несколькими мгновениями раньше, пока сука гранату не швырнул.
– Ты успел его рассмотреть?
Изотов опустил бритву, задумался:
– Да так. Там особо глядеть некогда было. Отребье и есть. А тебе на что?
Мурин встал между ним и зеркальцем.
– Изотов, я тебя очень прошу, теперь подумай хорошенько, прежде чем ответишь.
Тот попытался усмехнуться, стрельнул глазами:
– Мурин, теперь ты меня пугаешь.
– Мне это важно.
Изотов посмотрел ему в глаза, тоже сделался серьезен:
– Ладно.
– Припомни. Когда мы там были, внутри, ты крикнул мне, что там кто-то был.
– Ну да. Женщина была. До смерти напуганная. По-моему, она нас самих приняла за мародеров или вроде того. Ну и этот мерзавец. Который в нас гранату бросил.
Мурин, сам не заметив, сжал его плечо, приблизил лицо к лицу Изотова, ощутил миндальный запах его пены:
– Изотов, а не было ли там кого-то еще?
– Как это?
– Припомни, где был ты, где я.
Изотов сдвинул брови, взгляд его ушел внутрь, он кивнул.
– Как ты крикнул: ложись.
С тем же отрешенно-хмурым видом Изотов опять кивнул.
– Как ты мерзавца этого подсек.
– Разумеется. Такое разве забудешь. Но куда ты клонишь?
– А откуда граната прикатилась, помнишь?
Изотов задумался. Ответил не сразу.
– Нет.
– Вспомни.
Изотов покачал головой.
– Попытайся!
– Нет, – повторил он. – Выдумывать не стану. Я просто этого не видел. Только услышал стук, будто что-то под ноги катится. Крикнул: ложись! А что, кто, откуда, не спрашивай. Все так быстро вышло. Да ты сам знаешь, как в бою бывает. Соображать некогда. Действуешь на животном магнетизме.
– Да, – Мурин задумчиво выпустил его плечо, распрямился. – Знаю.
Надул щеки, выпустил воздух: пф-ф-ф-ф.
– Ладно, Изотов. Бог с этим всем. Случилось и случилось. Забудь. Горю нетерпением напиться на твоей холостяцкой пирушке.
Тот осклабился:
– Это не пирушка. Это поминки по свободе.
– Ты ж сам мне только недавно говорил, как счастлив, что пойман.
– Станешь сам женихом, поймешь, какие сложные и противоположные чувства обуревают в это время!
Но лицо его говорило иное: оно дышало счастьем и радостным нетерпением. Мурин умилился.
– Я – женихом? Никогда. Я рожден свободным и умру свободным, – заверил он.
– Да. Но в промежутке может случиться всякое, – заржал Изотов.
– Пошел ты… – Мурин хлопнул его по спине и двинулся восвояси, слегка разочарованный тем, что разговор оказался пустым.
– Погоди, – вдруг окликнул Изотов.
Мурин обернулся. Изотов сидел, ссутулившись. Лицо было задумчивым.
– Знаешь, Мурин, может, все это и ерунда… – как издалека пробормотал он.
– Что ж?
– Я просто до сих пор об этом не думал… А тут ты спросил, и я задумался. Там была эта женщина. Но я почуял, что там был кто-то еще. Кроме нас. Должно быть, спрятался, когда мы туда ворвались. Но далеко не убежал. Я почуял то ли шаги, то ли дыхание. Теперь припоминаю ясно… А потом тот упырь. Но шаги, дыхание. Нет, их я почуял с другой стороны. Понимаешь? Мурин, там кроме нас, упыря и этой несчастной был кто-то еще. Видать, его сообщник. Точно был. Теперь я в этом уверен.
– О чем трепитесь? – В дверях на Мурина чуть не налетел Соколов. На этот раз он ничего не жевал, и в руках было пусто. Поглядел на одного, на другого.
– Ни о чем, – промычал, не оборачиваясь, Изотов, он уже опять скреб бритвой намыленную физиономию.
– Я уже ухожу, – почти одновременно ответил и Мурин.
Соколов преградил ему путь:
– А я как раз тебя разыскивал.
– Меня? – удивился Мурин.
– Полковой командир просил тебе передать: ему настоятельно надобно потолковать с тобой, зайди к нему, как будешь свободен.
Мурин был настолько погружен в свои мысли, что не обратил внимания на слово «настоятельно».
– Всенепременно, – пробормотал на ходу, обогнув Соколова, точно тот был фонарным столбом.
Мурин решил уговорить некоторых товарищей по полку обменяться дежурствами, чтобы выкроить время на свои поиски.
Глава 10
Господин Арман сидел в кружке своих компатриотов (теперь еще и связанных общим несчастием плена) и явно обрадовался, увидав Мурина. Тотчас поднялся и пошел ему навстречу.
– Господин Мурэн! Какими судьбами.
Но от Мурина не укрылось, что взгляд француза исподтишка скользнул по его рукам, а потом в нем промелькнуло разочарование. Руки Мурина были пусты. «Он же голоден. Ах я скотина и дурак, не сообразил прихватить с собой съестное», – обругал себя Мурин.
Господин Рыбий Глаз – начальник партии пленных – обрадовался его появлению куда меньше. Насторожился:
– Все вопросы – через меня.
Мурин не спешил ему улыбаться: это могло быть истолковано как заискивание. Скроил угрюмую харю человека, которому только что накрутил хвост собственный командир.
– Как изволите… А только я француза этого сюда отвел, как открылось, что там, где его держали, недосчитались кое-каких вещиц – огнива, бритвы.
Мурин посмотрел на Рыбий Глаз со значением: ну, сами понимаете.
– Хорошо бы прояснить. Потолковать с ним.
– Он – спер?
Мурин пожал плечами и, поскольку догадывался, что Рыбий Глаз посоветует, напомнил:
– По морде дать ему нельзя: за ним от Кутузова пришлют, и хрен знает, каким боком потом выйдет – зачем он им сдался.
– Шпион?
– Или родня знатная, связи. Может, в самом Петербурге. Все может быть, – коварно добавил Мурин.
Совсем недавно грянул скандал, когда сразу несколько влиятельных петербургских фамилий бросились хлопотать и жаловаться государю на обращение с иностранными родственниками, которые служили у Наполеона и в России угодили в плен. Рыбий Глаз короткой памятью не страдал, поэтому приуныл. Мысль о том, чтобы все вопросы шли через него, уже не казалась ему такой привлекательной. Некоторые вопросы были подобны удару молнии. Мир определенно стал слишком сложным местом. Поэтому Рыбий Глаз сделал то, что сделал бы на его месте всякий, у кого за спиной влиятельной родни не было. Махнул Мурину рукой:
– Ладно. Валяйте. Потолкуйте с ним сами. Только это… Я ничего не знал, вы мне забыли доложить.
– Совершенно так. Забыл.
Рыбий Глаз позволил себе ухмылку.
Мурин отвел Армана подальше, где им не помешали бы, и без предисловий изложил суть. Арман слушал, не перебивая. Мурин умолк. Помолчал и Арман.
– Вот, собственно, и все. Я не могу теперь не думать: а что, если этот парфюмер, режиссер, черт в ступе – словом, Шольц был тогда в доме с ней? Взрывом его просто выбросило на улицу. У Шольца могли быть причины желать смерти мадам Бопра.
Карие глаза на исхудалом заросшем лице стали задумчивыми:
– Преступление…
– Я сам не знаю, – признался Мурин. – Но в то же время что-то внутри меня это знает.
Француз кивнул:
– Этому чувству следует доверять.
– Я хочу поймать мерзавца.
– Но…
– Поймите же.
– Да я понимаю.
Француз помолчал еще, печально разглядывая его лицо.
– Но, мой друг, боюсь, я ничего не могу. Вы видите, я сам арестант.
Мурин подумал, что француз намекает на ответную услугу, и разозлился – сразу и на него, и на свое бессилие:
– Я не могу добиться вашего освобождения.
– Я не предполагал, что можете. Я лишь назвал факт. Кстати, это первейшее, что должны делать и вы: выделять факты. Которые равны самим себе. Чистые факты. Без примеси чувств, лжи, выдумки, искажений дурной памяти или ваших личных склонностей. Вы должны быть непредвзяты, как сама смерть. Я говорил вам: это сродни науке.
Мурин был в отчаянии:
– Ах, я и сам понимаю, сколь многого не умею. Помогите мне. Научите, что делать. – В глазах его была мольба.
Арман смотрел на его лицо, точно изучал новую местность. Морщины на лбу, возле рта вдруг разгладились, в глазах блеснуло лукавство:
– Да ведь я уже вас научил.
Арман улыбнулся, его худое лицо опять собралось морщинами – на лбу, на щеках. Он постучал себя пальцем по лбу:
– Выделите чистые факты, составьте их в логической последовательности и проверьте здравым смыслом. Voilà!
– Это не может быть все! – вскричал Мурин.
Арман лукаво посмотрел исподлобья, легкая насмешка приподняла уголок рта.
– Что ж, по-вашему, я упустил?
– Как мне уличить Шольца?
Арман с хитрой улыбкой прикрыл глаза, предостерегающе вскинул указательный палец:
– …Непредвзяты, как сама смерть.
Мурин осекся. Задумался. Медленно молвил, как будто учился говорить заново:
– Как мне уличить преступника?
– Только у преступника есть мотив для преступления, возможность его совершить и способ его совершить. Мотив. Возможность. Способ, – он по очереди разогнул еще два пальца, встряхнул ими тремя перед лицом Мурина.
Раздался свист. Оба обернулись. Рыбий Глаз вскинул руку, убедился, что Мурин смотрит, и провел ребром ладони себе по горлу. «Тревога», – понял Мурин. Надо быстро убираться. К ним уже шел казак с пикой. Поодаль раздавались голоса. Пленных торопливо поднимали, сгоняли.
– По мою душу, – усмехнулся Арман. – Что ж, прощайте. Приятно было повидать вас. Боюсь, затрудняюсь сказать, когда смогу вернуть вам визит.
Он изысканно поклонился.
– Способ… – бормотал Мурин, взгляд его ушел в себя. – Ну, он же кинул гранату. Это очевидно. Что тут выяснять?
Казак качнул пикой. Арман приподнял ладони, показывая смиренное желание подчиниться приказу, и пошел к толпе пленных. Только сейчас Мурин увидел, что из рук Арман по-прежнему не выпускал узел, который от него получил. Все свое ношу с собой, и как же ничтожно было это имущество! Арман вдруг обернулся на ходу:
– Спросите саму мадам Бопра, как она умерла!
Казаку, который не понял ни слова, это не понравилось. Он пихнул пленного в спину:
– Топай давай, мусью.
Мурин остался стоять, озадаченно поскреб подбородок. Спросить ее? Но она же мертва. Или это еще одна насмешка?
Пленные, понукаемые казаками, стали строиться в колонну.
Опыт общения с медиумами у Мурина, конечно, был. Один-единственный, правда. Но исключительно положительный. Дело было в гостиной графини Веры. Близилась полночь. Графиня с таинственным видом принялась обходить группы гостей, одну за другой, что-то шепча и иногда указывая подбородком в угол, куда провели и усадили в кресла толстую даму с водянистыми голубыми глазами. Шепнула, наверное, и Мурину. Только он не сводил глаз с Нины и потому не слышал, даже если бы ему в самое ухо протрубил слон. Просто в какой-то момент все задвигались, дамы зашуршали платьями, все стали подходить к большому круглому столу, который лакеи раздвинули в центре гостиной, рассаживались со смущенными смешками. Мурин пошел за Ниной. Надо было изловчиться и сесть с ней рядом, потому что на тот же стул нацелилась посланница Мюнтер. Мурин сильно рисковал, что посланница, уже слегка оттопырившая зад и готовая к приземлению, плюхнется прямо ему на колени. Кашлянул, Мюнтерша обернулась, втянула корму, но женщина она была добрая, все приписала своей рассеянности, с улыбкой погрозила Мурину пальчиком и села на соседний стул. Графиня Вера сделала вдохновенное лицо:
– Сегодня нам предстоит прикоснуться к одной из величайших тайн мироздания…
Мурин глядел на профиль Нины. Как прекрасна она была! Тем временем графиня Вера одолела слово «трансцендентный», почти не споткнувшись, и все уставились на толстую даму. Нина тоже повернулась на нее, поэтому посмотрел и Мурин. Толстуха закрыла глаза и сопела. «Она что, уснула?» – не поверил Мурин. Но, кажется, только он. Остальные благоговейно ждали, что будет.
– Соедините ваши руки, – громким шепотом распорядилась графиня Вера, знакомая с процедурой. В ее гостиной уже не первый раз устраивали спиритический сеанс.
Нина не глядя протянула Мурину узкую ладонь. Он коснулся ее. И – о боже! – крошечный твердый квадратик ткнулся ему в пальцы, Мурин тотчас зажал его, ничем себя не выдав, спустил в рукав. Записка! Графиня Вера говорила что-то еще. Он не слышал. Не видел. Он не мог думать ни о чем ином, кроме как о листке бумаги, сложенном в восемь раз, который царапал ему кожу под рукавом. А потом по знаку графини Веры потушили свет, и ножка Нины в шелковой туфельке легонько прокралась под столом, чтобы… Словом, стало совсем интересно.
То есть опыт был замечательный, но совсем не в том смысле, который мог подразумевать господин Арман.
Спросите Бопра! Мертвую. Что бы это значило? Француз показался Мурину человеком здравомыслящим. Если не сказать скептиком. И даже атеистом. Чтобы он советовал положиться на какую-нибудь толстуху с водянистыми глазами? Не может быть. Но, черт возьми, что тогда он вообще имел в виду? «Спросите саму мадам Бопра». Как спросить мертвую?
– Мур-рин!
Мурин вздрогнул, подскочил – и увидел перед собой полкового командира. А потом вспомнил, что тот настоятельно желал его видеть. «А я и забыл. Закрутился. Черт».
– Прошу прощения, – поклонился он.
Вряд ли Мурин по-настоящему отдавал себе отчет в том, что отношение командира к нему было не вполне свободно от мысли, что старший брат Мурина – Ипполит, человек влиятельный и близкий государю. Мурину казалось, что никакой связи тут нет. Командиру казалось, что есть. Поэтому он, начав громко и определенно, пожевал губами, точно никак не мог вспомнить, зачем Мурин ему понадобился. А за это время успел, говоря фигурально, придержать своих коней. И не заорать сразу «Какого черта!». Мурин-младший слыл в полку славным малым; вероятно, отнесся бы к выволочке как мужчина. Но после всех этих историй в Петербурге, когда чуть не у половины русского двора обнаружилась родня в высшем эшелоне наполеоновской армии, командир предпочел отвергнуть вероятности и действовать осторожно. Мир стал слишком сложным местом! К тому же фортуна переменчива. Сегодня французы наши друзья, завтра наши враги, послезавтра снова подружимся. Он начал так:
– Вот что, Мурин… – пощипал себя за губу, точно опять забыл, что ему надо.
Мурин ждал.
– Я полностью понимаю ваши… человеколюбивые чувства, – начал командир.
Мурин удивился.
– Человек с сердцем не может чувствовать иначе.
На конце фразы, как пень, торчало толстенное НО. Мурин тоже сузил глаза, ожидая продолжения. И оно последовало:
– …Но ваше, скажем так, ревностное участие в судьбе… судьбах… как бы это выразить… неких особ несколько удивляет некоторых… э-э-э… лиц. Тем более что это замечено не впервые. Меня огорчило это удивление, так как я знаю вас как отличного и храброго офицера. Я, разумеется, немедленно выразил мое о вас мнение.
– Из ваших слов как будто явствует, что это внимание было неодобрительным. Могу ли я узнать, что такого сделал, чтобы его вызвать?
«Распетушился сразу. Ох уж эти мальчики».
– Дружок. – Он положил руку Мурину на плечо, давая понять, что субординационный разговор окончен, теперь пойдет задушевный. – Я в самом деле понимаю, что вам жаль каждого несчастного, который попадается на вашем пути. Вы руководствуетесь душевным порывом. Видите перед собой человека, безразлично нации.
– Так точно, – сухо перебил Мурин. – А разве следует смотреть на людей иначе?
«Хоть не финтит и не виляет, – порадовался командир. – Может, и вразумлю дурака».
– В условиях военного времени слушаться сердца не всегда желательно. Необходимо четко понимать, где враг. Иначе ваши мотивы и поступки могут быть поставлены другими под сомнение, которое вам нежелательно, если не сказать может быть прямо вредно.
– Вот оно что.
История с пленным дошла, значит. «Кто ж эта крыса? – задумался Мурин. – Неужто Долохов?» Ведь тот пообещал неприятности и выглядел человеком слова. А командир увещевал:
– А теперь вдобавок говорят, вы разъезжаете везде и пытаетесь выяснить судьбу некой французской дамы.
– Кто это говорит?
– Ах, я сам был молод. Сам обжигался. Поэтому мой долг вас предостеречь. Ваши поступки, необдуманные и продиктованные сердечным порывом, могут быть истолкованы как симпатии французам, а таковые симпатии сейчас вызывают вполне понятное неодобрительное внимание.
У Мурина раздувались ноздри:
– Что ж, разве сейчас нет более важных предметов для внимания?
– Дорогой Мурин. Это война. Война сопряжена с людскими страданиями. Всех не пожалеешь. Слюни распускать на этот счет – чистой воды ребячество, дурость. Не мне вам напоминать русскую поговорку: лес рубят – щепки летят…
Мурин сделал уклончивое движение плечом. Командир успел отнять руку прежде, чем его ладонь шлепнулась бы вниз. Мурин вытянулся во фрунт, сделал оловянные глаза. Дал понять, что предпочитает разговор не задушевный, а субординационный:
– Изволите отдать мне какой-либо приказ?
Фальшиво-отеческое выражение улетучилось с лица командира. «Я думал, вы…» – скользнуло тенью. Оно стало холодным, настороженным. Рявкнул:
– Смир-на!
Мурин хлопнул себя руками по бокам, вздернул подбородок. У командира стала наливаться красным шея над воротником:
– Приказ я отдам! Извольте! Вы свои шалости оставьте. И рыскать по Москве тоже. Это приказ! Все поняли, ротмистр? Повторите! И кругом – марш!
Мурин звонко отрапортовал:
– Так точно! Понял! Лес рубят! Никак нет, человек – не щепка!
Что бы там ни отразилось на физиономии командира, Мурин этого не увидел, потому что крутанулся на каблуках и, пребойко стуча сапогами, вышел.
Командир возвел очи горе, фыркнул. Не помогло. Он кипел. Мысли клокотали… Вот она, молодежь. Мы такими не были. Вот что с такими делать? Понабрались от французов всякой дряни: человечество, либерте эгалите, фратерните, прочая чепуха, – и в армию. Офицеры, епт. А ты теперь веди их против французов воевать – как?.. И у каждого мамаша, или папенька, или тетушка в Петербурге, верещат чуть что: ах, Руссо, ах, права личности, ах, детей нельзя сечь. Воспитали? А я расхлебывай. Куда катится этот мир?.. Вот что теперь сказать господину Коза… Козло… как там звать его, этого черта… тьфу!
Командир вынул платок, промокнул потную шею. Вспомнил имя: господин Козодавлев.
Глава 11
Мурин ехал теперь уже знакомой ему горбатенькой улицей.
Кузнецкий Мост преображался на глазах. На мостовой сидели мужики и стукали деревянными молотками, забивали булыжники, чинили мостовую. Уже над некоторыми лавками повисли вывески. Мурин с ухмылкой проводил взглядом «Торговлю Юдина» и мысленно пожелал господину Жюдену коммерческих благ, в которых, впрочем, не сомневался: юноша показался ему бойким, малейшие дуновения в общественном воздухе улавливал на лету. А не это ли самое важное, когда предмет твоей торговли – непостоянная мода?
Обгорелый остов парфюмерной лавки Шольца торчал среди главной московской модной улицы, как бельмо на глазу. Мурин спешился рядом. Так как теперь он знал, что лавка была парфюмерная, потянул носом. Но никаких ароматов не уловил. Только резкий запах гари. Торчала печная труба. Мурин отвязал от седла короткую лопатку, одолженную у саперов. Прошел по пепелищу на задний двор. Огляделся, остатки обгорелого дома защищали его от любопытных взоров с улицы. Мурин сел на корточки. Ров с телами, присыпанными известью, уже зарыли и разровняли, на поверхности остался только своего рода шрам, полоска земли, где не было ни бурой травы, ни все еще мясистых листьев вездесущих одуванчиков. Наособицу возвышался бугорок земли, в него были воткнуты два прутика крест-накрест, перевязанные сухими стеблями травы. У Мурина при виде них защемило сердце. Он понял, что это была могила мадам Бопра. Старший похоронной команды тогда огрызался из-за хлопот, которых от него потребовал Мурин, но – вот ведь! – сам все же попытался придать могиле некоторое благообразие. Мурин был благодарен ему за это. Выдернул незатейливый крест, кинул рядом. Вонзил лопату в землю. Она еще не слежалась и легко поддалась. Яма оказалась неглубокой. Вскоре Мурин поддел и вытащил осыпанную землей холщовую котомку. Сглотнул комок в горле. Развязал. Обхватил ладонями череп. Интимность этого прикосновения поразила его. Вынул и положил череп осторожно, точно мадам Бопра можно было причинить боль. Посидел, стараясь не глядеть в пустые глазницы, унял бившееся сердце. Потом раздвинул края мешка, открыв взору обгорелые ребра. Он ждал от себя отвращения. Но его не было. Ничего не было. Только странное спокойствие. Чувства погасли. Внутри была пустота, может быть, только совсем чуть-чуть тронутая печалью. Он был чужд всему и при этом всеведущ. Он был как бы жив и мертв одновременно. Глаза скользили по обгорелым дугам ребер, точно это была вещь вне смысла. Потом заскользили пальцы, касаясь самыми кончиками. Остановились. Зазубрина. Вернулись. Провели по выщербленному краю еще раз. Точно обладали собственным и зрением, и разумом.
Мурин отнял пальцы. Приблизил лицо. Изучил обгорелые кости вершок за вершком. Быть «беспристрастным, как сама смерть» требовал от него Арман, и сейчас Мурин вдруг в самом деле ощутил себя смертью, которая глядит на бренный остов из своей вечности. Ему стало жутко, он отпрянул.
Вернулся в себя. Вернулись чувства, мир навалился снаружи – осенний воздух, голоса галок, мокренькие облака, печная труба, поодаль пофыркивал Азамат. Мурин снова стал собой. Рядом лежала саперная лопатка. «А мотив?» – думал он. Возможный мотив таится в недавнем настоящем мадам Бопра в оккупированной французами Москве. Или в ее довоенном прошлом? Шольц, скользкий мерзавец, утверждал, что она была шлюхой. Верить ему не должно. Однако ж в обмолвках лжеца нередко скрыта правда. Он бросил вскользь: мадам Бопра, мол, даже актрисой не была. Вот это на правду похоже. Не актриса. Тогда чем именно занималась она до войны? Вопросительный взор Мурина остановился. Но Луиза Бопра уже сказала ему все, что могут мертвые. Череп пялил пустые глазницы.
Мурин осторожно вернул его в мешок и принялся забрасывать землей.
Как найти в Москве человека, если этот человек иностранец? Мурин перебирал возможности. Навести справки в управе благочиния. Спросить полицейского пристава. Луиза Бопра, французская подданная в Москве, наверняка оставила чернильный след на бумаге. Вот только московские архивы тю-тю. Сгорели, и дым развеялся. Мурин не стал садиться в седло, а потянул Азамата за повод. Туда, где свежей голубой краской блистала вывеска «Товары Юдина». Ибо – если верить саморекламе – сейчас господин Жюден по степени осведомленности о компатриотах временно заменял в Москве и полицейский департамент, и управу благочиния, и частного пристава, и квартального надзирателя. Мурин постучал.
– Bonjour, monsieur.
На сей раз ему открыла краснощекая француженка в чепце. Возможно, и ее Мурин уже видел в тот роковой день, когда у горевшего дома собралась толпа. Да только ни за что не признал бы: в тот день все они, едва покинув свои подвалы, в которых прятались всю оккупацию, выглядели горсткой бродяг. Ничто так не меняет внешность женщины, как кусок мыла! При виде ее такой мирной внешности на Мурина снизошел давно не навещавший его покой. Точно внутри все улеглось. Как бы сохранить это чувство?
Француженка спросила, что господину благоугодно. Мурин представился и был проведен в залу.
Жюдена он застал за работой. Без сюртука и жилета, в штанах и рубахе, он ползал по полу с метровой лентой, прикладывал, ставил метки. Присмотревшись, Мурин заметил, что не просто по полу, а по большому листу бумаги. Завидев посетителя, портной тотчас поднялся, перекинул ленту через плечо и выразил готовность к услугам.
– Ах, снова эта мадам Бопра! – воскликнул он, когда узнал, что Мурину надобно. – Далась же она вам.
На лице его мелькнула досада, которая Мурина насторожила.
– Вы имеете что-нибудь против?
Жюден замялся. Пробормотал:
– Как я могу быть против. Вовсе нет. Это совершенно ваше дело.
«Он говорит так, будто расспросы об ней ему наскучили, – заметил Мурин. – Значит ли это, что до меня кто-то задавал ему такие же самые? Кто ж» Но как об этом спросить – не знал: тут требовалась хитрость. «О, дорогой господин Арман, как мне вас не хватает», – думал Мурин простосердечно.
– …Просто не имею счастья оказаться вам в этом полезным, вот и все. – Жюден пожал плечом. – Я ничего о ней не знаю. Я же вам уже сказал. Она прибилась к нам уже после пожара. Сказала, мол, дом, где она снимала комнату, сгорел.
– А где она снимала комнату?
– В Арбатской части, точнее не сказала. Вы мне не верите?
Мурин помедлил с ответом. Тот, который первым пришел ему на ум, не мог быть сказан вслух и вдобавок огорчил его самого: «Не верю». Жюден, конечно же, не мог читать мысли, но улавливал малейшие оттенки в выражении лица, искусство, отточенное общением с покупателями.
– Сожалею, что мой ответ не принес вам желаемых сведений.
Мурин покачал головой:
– Я просто задумался, как мне быть.
– Увы, я больше ничего о ней не знаю.
«И как-то уж слишком тычешь этим мне в глаза», – пришло Мурину на ум, точно какой-то дух афеизма опять принялся нашептывать: не верь никому.
– А где после этого жила мадам Бопра? В смысле, не жила, а укрывалась. Когда уже прибилась к… другим… к вам… здесь.
– Как? – изумился Жюден. – Но… разве вы не знаете?
– Откуда?
– Ведь это очевидно!
«Только не мне», – начал сердиться Мурин.
– В подвале под лавкой господина Шольца.
– Господина Шольца? – переспросил Мурин нехорошим голосом.
То-то парфюмер об этом помалкивал! Покой, которым всего несколько минут назад наслаждался Мурин и который мечтал задержать в себе подольше, испарился. Бешенство раздувало свое пламя.
Жюден пояснил:
– Ну да. Парфюмер. У которого лавка погорела. Бедняжка мадам Бопра, она, должно быть, не успела выбраться и задохнулась в дыму.
– Господин Шольц, значит.
Мурин повернулся и даже не заметил, поблагодарил он Жюдена за сведения или нет. Он ничего не замечал. Пронесся мимо француженки, так что у той раздуло на сторону подол.
Кулаки сжаты, зубы скрипят.
Парфюмер Шольц был куда ближе знаком с мадам Бопра, чем пытался представить! И у него уж, конечно, были причины скрывать это. Вот только какие? «М-мерзавец. Лжец. Ну вздую. Вытрясу из мерзавца правду!» Мурин выскочил из лавки, точно его выбросила вон пара дюжих молодцов.
«Сейчас. Сейчас я тебе задам», – нехорошо обещал он, раздувая ноздри. Быстро шагая по Кузнецкому Мосту, он вглядывался, как бы не пропустить нужный поворот.
– Господин Мурин!
Он не слышал, что его окликнули, пока привычный рявкать голос не рявкнул:
– Р-ротмистр!
Мурин остановился. Он узнал офицера, который торопливо шагал к нему, придерживая на боку шпагу. Это был его товарищ по полку – граф Сиверский. Он хмурился и косился по сторонам. Рядом трусили два солдата.
– Сиверский, чего тебе? Я страшно спешу.
Сиверский поравнялся с ним. Но избегал его взгляда. Мурин понял, что здесь что-то не так.
– Господин ротмистр, – он по-прежнему глядел в сторону. Выругался, посылая проклятия неким «им». И добавил уже своим голосом:
– Мурин, просто сделай, как я попрошу. Так для всех будет лучше.
Мурин скрестил руки на груди:
– Попросишь?
– Мне приказано.
Сиверский хоть и носил титул, не мог похвастаться состоянием, служба была для него единственной надеждой выдвинуться. «Они» – кем бы эти они ни были – не могли на это не рассчитывать. Сиверский лишь стыдливо отводил глаза. Мурину было и жаль его – и противно стало.
– Что ж тебе приказано?
– Препроводить тебя в полк.
– Препроводить?
Мурин бросил красноречивый взгляд на солдат, присутствие каковых уже невозможно было истолковать двояко. Это был конвой.
– Я арестован?
Сиверский стал красен, как рак:
– Просто идем с нами. Очень тебя прошу.
– То есть если я не хочу, то могу не идти?
– Мурин, не проси у меня объяснений. Я сам не знаю, что происходит. И мне это все противно совершенно так же, как тебе.
«Сомневаюсь, что в той же степени», – просилось на язык, но Мурин промолчал.
– Где твоя лошадь?
Мурин сказал, где оставил Азамата. Сиверский кивнул солдату, тот потрусил к пепелищу на месте парфюмерной лавки. Мурин усмехнулся: зная злой нрав своего преданного Азамата, он мог только пожелать им удачи. Но солдат-то уж точно ни в чем не был виноват.
– Останови этого бедолагу, – обратился он к Сиверскому по-французски, – не то мой конь его убьет.
Сиверский коротко свистнул. Солдат остановился. Сиверский махнул рукой: назад. Они подошли к обгорелым развалинам. Азамат, увидев чужих, подобрался, заплясал.
– А злющий черт, – заметил один из солдат.
Сиверский повернулся к Мурину:
– Хорошо. Поезжай сам. Но, Мурин, я тебя очень прошу. Без глупостей.
– Можете держать меня за руки, один за правую, другой за левую. Как в кадрили.
Сиверский сгорал со стыда:
– Я просто выполняю приказ.
«Сколько мерзавцев повторяют то же самое: я просто выполнял приказ», – подумал Мурин. Но так как Сиверский – малый, в сущности, честный, наверняка подумал то же самое, а дуэль с ним не входила в планы Мурина, он оставил это соображение не высказанным и вскочил в седло.
Комната эта, вероятно, служила библиотекой владельцам особняка. Все стены были закрыты шкапами. Но то было до войны. Теперь шкапы были пусты. Книги валялись грудами в углах. Кое-где полки были выломаны – на растопку. Светильников не было. На столе стоял шандал, весь в оплывшем воске, так что и не видно: модный, старинный, дорогой, дешевый? Дневной свет придавал лицу командира усталую серость.
– Извольте садиться, – сухо распорядился полковой командир, указав Мурину на одно из кресел. Сам он, однако, предпочел стоять. Сложил руки на груди.
Кресло пискнуло, заскрипело под Муриным.
– А теперь, мой друг, выкладывайте мне, как на духу.
– Могу я узнать, за что арестован?
Командир почувствовал, как к шее опять приливает жар. Дядюшка у него – вот так и умер апоплексическим ударом. Командир не желал повторить судьбу родственника. По мнению докторов, такие вещи передаются в семьях. И он постарался дышать размеренно. Вдох носом, выдох ртом.
– Не выдумывайте!
Идти вместе с этим петербургским франтиком на дно командиру не хотелось. Потому, что в дело встрял господин Козло… Коза… как его, этого черта… Главное, командир понимал, что угодили они в глубокое дерьмо. Понимал и то, что каким бы глубоким оно ни было, Ипполит Мурин решительно сунет в это дерьмо руку и вытащит своего младшего братца за шкирку. Тогда как его самого тащить было некому. В отставку, конечно, не отправят. Не прямо сразу. Какая сейчас отставка? – вон, война. Но Наполеон не мог быть вечным, вот тогда и попрут.
– Я желаю вам помочь.
– Помочь – мне? – удивленно спросил Мурин. – Но я не в беде. Или я заблуждаюсь?
Командир тоже сел, как бы намекая ротмистру на равенство их бедственного положения.
– Дорогой Мурин. Как насчет того, что вы попробуете изложить мне по порядку и подробно, что именно вы делали со времени вступления в Москву.
– С самого первого дня?
– С самого первого дня.
– Всё?
– Всё.
– Это будет долгая история.
– Ничего не упускайте. Чтобы я лучше понял, как могу вам помочь.
– Хорошо ж.
Мурин
Издательство благодарит Banke, Goumen & Smirnova Literary Agency за содействие в приобретении прав
Редактор Ольга Виноградова
Издатель Павел Подкосов
Главный редактор Татьяна Соловьёва
Руководитель проекта Мария Ведюшкина
Ассистент редакции Мария Короченская
Художественное оформление и макет Юрий Буга
Корректор Юлия Сысоева
Компьютерная верстка Андрей Фоминов
Иллюстрация на обложке Артем Чернобровкин / Иллюстраторское агентство Bang! Bang!
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Ю. Яковлева, 2024
© Художественное оформление, макет. ООО «Альпина нон-фикшн», 2024
Глава 1
Почты не было.
– Может, завтра кто закинет. Если будет оказия. Может, послезавтра. Может, в среду, – пожал потемневшим от дождя плечом поручик Ельцов. Он не видел разницы, ибо не был влюблен.
Но Мурин, услышав это, чуть не расплакался от обиды и досады, поспешил отвернуться, сделал вид, что очень уж озабочен, как бы половчее пристроить повод. Шея коня была темной от дождя и пота, грива висела плетьми, шерсть набухла от влаги, а низкое свинцовое небо собиралось наддать еще. Они только что вернулись из объезда – искали французские дозоры (не нашли). Мурин провел по шее коня рукой, как бы отжимая, отряхнул брызги. Стряхнул брызги с кивера. Разозлился:
– Черт знает что такое! Свинство!
Он был зол сразу на все – на дождь, на грязь, на французов, на бестактного Ельцова, на лентяя курьера, который сваливал все почтовые мешки в штабе, чтобы они там дожидались, когда рак на горе свистнет. А пуще всего злился Мурин на Нину. Вот уж два месяца от нее не было ни листка. Что стоило послать хоть записку? Что за финты? Разозлился – но тут же подумал: а вдруг больна? Или вообще умерла. В Петербурге с его промозглым климатом, особенно осенью, это запросто: еще ночью весело скакала в душной бальной зале, утром озноб, а вечером – несут гроб. Сердце тут же тяжело застучало. Измученный и отупевший от усталости ум был готов верить во что угодно.
– Мурин, ты чего? – удивился Ельцов. – Ты куда?
Но Мурин уже снова лез в седло. Зад его взмолился о пощаде, казалось, там образовалась сплошная мозоль, твердая и красная, как у особого рода обезьян. Хотелось сползти и лечь прямо на землю. Мурин фыркнул, дал повод. Но Азамат, его конь, не сдвинулся ни на йоту, только покосился недоверчиво и жалобно: мол, серьезно? Мурину стало совестно перед верным товарищем.
– Ну пожалуйста, – взмолился.
Азамат вздохнул, почти как человек, которому поручили неприятное задание, исключительно зная его доброе сердце, и, чмокнув, вынул копыта из грязи, чтобы снова в нее погрузить, побрел обратно к размокшему руслу, называемому подмосковной дорогой. Мурин поклялся себе, что едва доедет до отряда Давыдова, выпросит для Азамата хоть клок сена, а как только доберется до штабного села, то и овса, сколько бы тот ни стоил.
Безлюдный осенний пейзаж расстилался, покуда хватало глаз. Ветер обрывал последние желтые листы. Березы казались особенно продрогшими, а редкие ели – особенно колючими. Мурин ехал и представлял себе Нину в гробу. Передернул плечами. «Чушь». Если рассудить… Уж такую новость кто-нибудь наверняка сообщил бы своему в полк, а этот свой непременно прочел бы вслух товарищам: ба! – слыхали? – княгиня Звездич! – фьють – горячка – а как была хороша.
«То-то и оно, то-то и оно, прочел бы» – заворочались в ответ другие мысли: весь фокус в том, что было что прочесть. Письма из Петербурга в действующую армию шли регулярно с самого начала войны. Писали жены мужьям, матери сыновьям, невесты женихам, писали дедушки, друзья, тетушки, любовницы, кормилицы, студенты, братья, сестры, кузины, дядюшки, бывшие гувернеры и учителя русского языка. Строчили, корябали, выводили. Пересказывали сплетни, делились новостями, надеждами, тревогами, рассказывали о прочитанных романах и премьере «Дмитрия Донского» (при слове «отечество» зал вскочил в порыве, многие рыдали, несколько дам подчеркнуто упали в обморок). И только Нина не прислала и записки. Почему? Хороший вопрос. Ответа на него не было. Вернее, был, и даже очевидный, но такой, что Мурин не проехал и трех верст, как не только обсох, а даже и пылал от бешенства.
Только этим можно объяснить то, что случилось потом.
Сперва, правда, Мурин решил, что уснул дорогой и спит наяву.
Такое с ним случалось во время длинных маршей отступления, когда сутками не сходили на землю. Происходил этот сон наяву обычно так. Сперва седло под Муриным начинало как-то слишком уж раскачиваться. Будто лодка или колыбель. Мир качался в такт, но при этом запаздывал на четверть мига, как неуклюжий партнер в танце. Затем где-то в задней части головы как бы растягивалась черная ширма. И на ней начинали двигаться удивительно яркие цветные картины. По их слегка ядовитой яркости Мурин и понимал, что спит. Глаза его при этом были открыты, уставлены вперед. Но крупы лошадей и спины товарищей впереди, небо, затоптанные конницей поля, обгорелые остовы деревень скользили по его глазам, как по двум выпуклым стеклянным пуговицам. Только в самый первый раз, когда в голове вдруг расцвели лихорадочно-яркие видения, Мурин испугался, что спятил. Потом привык и уже спал с открытыми глазами запросто.
В этот раз он тоже сперва решил, что просто спит.
…Пам!
Никак выстрел? Голоса донеслись как сквозь воду. Голоса были русские, это точно. Мурин вскинул голову, обернулся, заметил за деревьями яркие пятна. Он еще не сообразил, что к чему, а Азамат уже направился туда, угадав желание всадника. Мурин едва успел пригнуться, проехав под ветками, холодные капли сорвались, окропили его. Он выехал на поляну. Краски – неожиданно яркие в серо-буром подмосковном лесу – заставили сердце екнуть. Синий всегда бьет по глазам в соседстве с белым, хоть и – как сейчас – замызганным. А уж после Бородина все французские мундиры заставляли екать сердце. Но сейчас эти французы не скакали, не орали, навострив сабли или пики, а на своих двоих стояли в ряд посреди поляны. Их плечи были сутуло опущены. Руки болтались, как пришитые. Пленные, понял Мурин. Его воспаленным от усталости и бессонницы глазам показалось, что красные детали на их воротниках и плечах шевелятся, как кипящее варенье. Все стояли, а один лежал. Пам!.. – и следующий синий француз осел, подогнув белые голени. Так же тихо кровь стала расползаться вокруг его головы. Затем Мурин увидел усача в растрепанных бакенбардах и с дымящимся пистолетом в руке. Тот деловито сунул пистолет ординарцу, взял из его рук другой, заряженный, перешел к следующему пленному. Приставил дуло к его виску. Пам!..
Мурин опять вздрогнул, и наконец тупость слетела с него. Скатился из седла:
– Ты что, падла, творишь!
(Как все юноши его круга, он был с пеленок воспитан французскими нянями и гувернерами, и как все – с начала войны весьма развил свой русский язык в общении с солдатами, хоть и не в том направлении, которое бы одобрил гувернер.)
Мурин сграбастал падлу-усача за грудки, встряхнул, притянул:
– Спятил? Пистолет! Сюда! Живо!
Усач и ухом не повел. С веселой наглостью изучал его лицо. Мурин видел собственное отражение в его глазах, ясных и светлых, совершенно спокойных. «Уж точно ли я не сплю?» – усомнился он и только тогда заметил остальных. Они стояли вокруг, глазели. Все в русском платье и заросшие, но оружие было армейским, выправка военной, а под космами на мордах можно было угадать усы и бакенбарды, как в одичавшем саду угадываются очертания когда-то стриженных садовником куртин. Партизаны, вспомнил Мурин новое слово.
– Чего лупитесь! – крикнул им. – Сюда!
Но и тогда никто не дернулся ему на помощь: вязать спятившего. Мурин перевел взгляд ему в лицо, в глаза. Такие чистые и пустые, что Мурин невольно ощутил внутри себя дрожь, будто наступил на гадюку.
– Ты что, сволочь, творишь, – повторил.
Усач внезапно расхохотался. Смахнул руки Мурина, точно они были ватные. Оборвал смех, сомкнул красиво изогнутые губы. На лице его была не то чтобы скучающая мина, а никакой вовсе.
– Да ну.
– Не нукайте, не запрягли!
Во взгляде усача впервые мелькнуло что-то, похожее на чувство. Злой интерес.
– А вам что до этого, ротмистр?
Но Мурин не собирался уступать.
– Убивать безоружных… Жестокость с пленными недопустима, господин… Не имею чести понять ваше звание в этом маскарадном платье.
Тишина. Среди глазевших побежал шепоток: «Ты что, ты что, оставь, это ж Долохов». А кто-то даже хмыкнул: это еще что за кретин? О Долохове, скандальном московском бретере, который был разжалован в солдаты, потом стал правой рукой Дениса Давыдова и в партизанских вылазках быстро прославился беспримерной смелостью, пошел вверх и стал уже чуть не полковником, об этом Долохове Мурин, конечно, слыхал. «Черт побери».
– А вам не нравится мое платье? – процедил тот.
Краем глаза Мурин видел зернышки лиц вокруг. Неодобрение, любопытство, злорадство было написано на них.
– Мне не нравятся ваши поступки, – парировал Мурин.
Светлые глаза холодно уставились ему в лоб.
– Вот оно как… – процедил Долохов. – Кто же это у нас такой чувствительный? Надо же. С таким нежным сердцем – и уже ротмистр! Чудеса.
Стая тут же заворчала, подхватила:
– Набрали сосунков… Молоко на губах не обсохло… А командовать…
Зерно истины в этих попреках было. После Бородина звания в самом деле раздавали как баранки, как еще набрать офицеров?
На Мурина снова, как тошнота, накатило чувство, будто он спит. Действительность зыбилась и подрагивала, как подрагивает горячий воздух над степной дорогой.
«А я среди них один, – мелькнула мысль. И еще одна: – А спишут на французов».
Когда проваливаешься в страшный сон, важно хвататься за простые правила, прописные истины. Если повезет, вылезешь. Несколько таких простых правил Мурин на войне уже выучил. Например, то, что лицо у людей – на удивление твердое. Глупо бить по нему кулаком.
Мурин откинул голову и со всей силы врезал лбом Долохову в нос.
Услышал приятный мягкий хруст. «Рыло, может, сломал». Успел ощутить по этому поводу удовлетворение. А в следующий миг на него уже, конечно, кинулись, облапили, скрутили. И как бы выставили перед вожаком, предлагая тому решить участь незваного гостя. Мурин тяжело дышал. Вырваться нечего было и думать. Азамат тихонько заржал, топоча, мотая головой.
– Ишь, – Долохов потрогал нос тыльной стороной руки, которой держал пистолет. Опустил ее, уставился на Мурина.
Кровь струилась из его носа, стекала в рот, капала с подбородка. Долохов держался с восхитительным равнодушием. Мурин не мог не отдать ему должное. Легенды о долоховском самообладании уже не казались преувеличенными.
Долохов стряхнул с пальцев кровь, сделал мимолетное движение в воздухе. Хватка вокруг Мурина тотчас разжалась. От него отступили, но недалеко. Тянули шеи, наблюдая за словесной дуэлью. Потеха!
– Куда ж тогда прикажешь девать эту сволочь? – спросил Долохов, как будто спрашивал в гостях, куда можно положить шляпу.
Мурин все не мог отвести глаз от его перепачканных кровью зубов.
– Пленных надобно доставлять… – Но куда доставляют пленных и что с ними делают потом, Мурин и сам не знал. В штаб?
– …в указанное для этого место, – нашелся.
– Да у нас и кормить этих дармоедов нечем, – задумчиво заметил Долохов. Почесал лоб дулом пистолета. – Сами жрем что попало, да и то не каждый день. Людей лишних, чтобы нянчиться с ними, у нас нет. А таскать их с собой мы тоже не можем. Так нас быстро обнаружат.
– Зачем тогда в плен брали?
– В самом деле, – согласился Долохов легко. Так же легко, как только что убивал безоружных. – Не отпускать же их теперь.
Мурин понял, что имеет дело с законченным безумцем. Кровь капала и капала с его подбородка. Долохов, не глядя, промокнул рукавом.
– Что ж теперь с вами делать, а? – обернулся на пленных. Вернее, на пленного, потому что остальным уже все было равно: редкие осенние мухи собрались вокруг их быстро подсыхающей крови.
Стоял лишь один. Хотя говорили по-русски, он понял, что речь зашла о нем. Когда светлые глаза Долохова остановились на нем оценивающе, он заметно побледнел.
Долохов прищурился. Поднял руку с пистолетом, вытянул, нацелил на пленного француза, надул щеки, выдохнул:
– Паф.
Обернулся к Мурину:
– Ну и забирай его себе, раз такой умный.
Мурин посмотрел ему в лицо: шутит? Глаза у Долохова были все такие же – ясные и чистые. Совершенно неодушевленные. Мурин подошел к французу. Стараясь не смотреть ему в лицо и говорить тихо (опасался пробудить в людях лихо), бросил по-французски:
– Следуйте за мной.
И пошел к своему Азамату. Завидев хозяина, тот натянулся, как струна.
Но француз не двинулся. Громко («Ну что за идиот!») позвал:
– Господин офицер!
Мурин обернулся. Несколько партизан обернулись тоже – в глазах их проглянуло то самое лихо, которое опасался разбудить Мурин. И только французу было хоть бы хны:
– Мои сапоги.
Мурин посмотрел вниз, куда тот указывал. Француз стоял в мокрых чулках:
– Велите вашим товарищам вернуть мне сапоги.
Страха в его голосе Мурин не услышал, только легкую насмешку. Ему стало стыдно. Так и подмывало ответить: они мне не товарищи. Но это бы значило дать перед французом слабину. Так и подмывало рявкнуть: заткнись. Но и заискивать перед партизанами не хотелось. Мурин нахмурился. Он почувствовал, как взоры снова оборотились на него: новая потеха.
– Какие еще сапоги? – сказал по-русски, стараясь, чтобы вышло нетерпеливо и строго, и бросил по-французски: – Следуйте за мной.
– Скажите им, чтобы вернули мне сапоги.
Азамат нервно водил ушами, косил жаркими глазами. Мурин взял его под уздцы, похлопал по шее, успокаивая; его бы самого кто похлопал и успокоил! Он чувствовал, что колени мелко дрожат, в ладонях покалывало. Все это могло кончиться дурно.
Долохов насмешливо крикнул по-французски:
– Сапоги тебе дать? Скажи спасибо, что живой. Морда вражья. В ножки поклонись, – перешел он на русский. – Второй раз так не повезет.
Француз не отступил:
– Без сапог я не смогу передвигаться. Господин офицер! – снова взмолился он, обращаясь к Мурину.
«Нашел же себе заступника», – разозлился тот про себя. Но все же подошел к Долохову:
– Велите вашим людям вернуть ему сапоги. Мне плевать, кто что у кого и почему взял, я не потащу его на своей лошади. Она устала, уж это-то вы, конный офицер, должны уважать.
Что-то человеческое впервые мелькнуло во взгляде Долохова. Он посмотрел на Азамата. Оглядел с головы до ног. Потом глянул сквозь Мурина. Не сразу, но поднял руку, щелкнул пальцами. Пара сапог упала перед французом.
– Это не мои… – попробовал было возразить тот.
Но Мурин прошипел:
– Надевайте! Черт вас дери.
Француз сел на траву, вырвал пучок, отряхнул, набил в мыски, стал натягивать на ноги черные трубы.
Долохов задумчиво смотрел Мурину в лоб своими чистыми глазами.
– Лошадь устала… – весело передразнил. – Эх, ротмистр, это цветочки. Ваши беды только начинаются.
Глава 2
Мурин за повод вывел Азамата из леса. Француз шел впереди, высоко вынимая из бурой травы ноги. Сам он был тощий. Ноги в длинных узких сапогах казались особенно голенастыми.
Мурин слушал спиной. Не собираются ли сзади пальнуть. «Нет, ну не до такой же степени они все… и этот Долохов тоже…» – возражал он-разумный, сам себе тому, у которого по спине от страха катил пот. Наконец позади опустился полог леса, и Мурин почувствовал себя спокойнее.
Сразу навалились опять и голод, и умственная тупость от дурного сна, и усталость, и досада. Опять впилась в сердце надежда. Мурин остановился. Теперь надо было решать, как же в самом деле быть. Ехать направо или налево?
Ситуация вырисовывалась былинная: витязь на распутье. Отличалась она от былинной только тем, что какое бы направление Мурин ни выбрал, коня наверняка угробит. Он на всякий случай посмотрел на товарища. Азамата тоже отпустило напряжение, от которого он несколько минут назад трепетал, как натянутая струна. Во всей осанке коня теперь видна была глубокая усталость. Уши разъехались в разные стороны, точно не было никаких сил, чтобы собрать их вместе. Шерсть пропиталась потом и грязью. Бока ввалились, брюхо отвисло. Шелудивый одр, да и только. В животе у Мурина ныло от голода. Вдобавок начинало темнеть. О том, чтобы продолжать путь в штаб, нечего было и думать. Тут бы в полк вернуться подобру-поздорову. Или все же рискнуть и?.. Что, если в этот самый миг заветное письмо, письмо от Нины, жжет сквозь холстину почтового мешка? Как прожить еще один день? А может, два, или три, или вообще до четверга?
Француз тоже остановился, сорвал соломинку, сунул в рот, пососал, с любопытством разглядывая пейзаж. Обернулся на Мурина:
– Черт возьми, там, среди этой публики, я уж было…
– Вы можете не трещать хотя бы минуту? – вскипел Мурин.
Француз пожал плечами, вынул изо рта соломинку, отбросил:
– Как скажете.
И улыбнулся. Как бы всем лицом сразу: гармошка на лбу, гармошки на небритых щеках, морщинки вокруг глаз. Он был очевидно старше Мурина. Улыбался – а глаза всматривались в Мурина с опаской. «Да он же меня боится! – понял Мурин. – Как собаку бешеную… Не удивительно». Ему стало стыдно.
– Извините, – вздохнул. – Дело в том, что нам придется идти пешком.
И побрел в направлении, откуда совсем недавно выехал, кипя гневом, страстью и надеждами – и напрасно.
– Это-то я сразу понял, – с живостью заметил француз.
– Что? – на миг испугался Мурин: он что, читает мысли?
Но француз продолжал как ни в чем не бывало:
– Понял. Поэтому сапоги потребовал. Такие маленькие жилистые лошади, как у вас, обычно весьма выносливы, но уж коли устанет, то никакой силой с места не сдвинуть. А вы какого мнения?
Мурин глянул на его форму. Она была кирасирской. Кавалерист. Разбирается. Мурин смягчился:
– Так и есть. Но на самом деле он быстро приходит в себя.
Француз кивнул на Азамата:
– Что это за порода? Казацкая?
– Черкесская.
– Как-как?
Мурин повторил. Затем пришлось объяснить, кто такие черкесы и в какой части империи обитают. Француз спросил, сколько он платил за коня и в каком возрасте взял. Потом спросил, сколько еды выходит в неделю. Чем болел. Как тренировали. Каким шагом ходит лучше всего. Подыскал приличествующие случаю вопросы и Мурин, хотя кирасирские лошади – рослые и медлительные – никогда его не интересовали. Француз отвечал охотно. Помолчали. Сеялся дождь. Стрекотал по бурым листьям. Оба вжимали голову, будто желали втянуть ее сквозь воротник совсем, как черепаха в панцирь.
– Вот что интересно. В каждой нации порода лошадей соответствует темпераменту местных женщин. Вы не замечали? – предложил новую тему француз.
Мурин сказал, что не замечал. Но тут же представил Нину. Можно ли сравнить ее с кобылой орловского завода? Он не заметил, как вытянул шею из воротника:
– Что вы имеете в виду?
Разговор опять ожил. Оба изо всех сил старались избегать опасных ям: ошибся ли Наполеон, решив зимовать в старой русской столице? И – кто сжег Москву: русские или французы? Обходили издалека. Говорили о женщинах (в основном француз) и лошадях (в основном тоже он). Так, за разговорами, и пришли. Звали француза Жан-Пьер Арман.
Это Мурин и ответил Ельцову, который поднял от подушки сонное лицо, заморгал, прищурился от света лучины и хрипло пробормотал: «А это еще кто?» Выслушал ответ. Выпучился:
– Ты что, Мурин, спятил? Где ты его взял?
Полковой командир сказал почти то же самое.
Рано утром Мурин отчитался ему о своем приключении. Подробности, которые могли возбудить слишком много пустых вопросов, он выпустил, потому что ответов на них и сам не знал. Почему он вмешался? На это Мурин мог только пожать плечами с новенькими офицерскими эполетами.
Командир поскреб небритую щеку.
– Хм. На кой он нам?..
– Допросим!
– Хм. Допросить-то можно. Только нам оно зачем? Все приказы идут из штаба, а наше дело – выполнять.
Мурин испугался, что командир скажет, как Долохов: «На черта он нам? – Уведи и расстреляй».
Заговорил с преувеличенной энергичностью:
– Вдруг он сообщит сведения исключительной важности.
