Цветы со шрамами. Судьбы женщин в русской истории. Измена, дружба, насилие и любовь бесплатное чтение
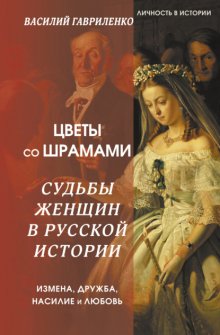
Василий Гавриленко
Цветы со шрамами. Судьбы женщин в русской истории. Измена, дружба, насилие и любовь
Терпеть боль
«Анька, спишь?» – шепот мужа обдал плечо тринадцатилетней Анны. Нет, она не спала, но не подала вида.
Убедившись, что супруга спит, Александр Матвеевич поднялся и, набросив халат, стал красться к выходу из комнаты. В сенях почивала Матрена – молодая дородная крестьянская девка.
Анна услыхала скабрезную шутку мужа, приглушенный смех Матрены и открыла глаза. Межкомнатных дверей в доме не было, в сени падал лунный свет и все было прекрасно видно.
Барышне не хотелось смотреть на происходящее, но она, сжав зубы, смотрела. Ведь не зря дорогая маменька с раннего детства учила ее терпеть боль…
В семье надворного советника Евдокима Яковлевича Яковлева 28 ноября 1758 года родилась девочка, которую назвали Анной. Ее детство прошло в деревенской усадьбе неподалеку от Екатеринбурга.
Анной занималась мать – женщина властная, строгая и очень религиозная. С ранних лет девочку воспитывали с учетом грядущего замужества и рождения детей. Мать приучала Анну «терпеть боль», так как для женщины это «естественное состояние». По мнению Яковлевой-старшей, спартанская выучка должна была помочь Анне вытерпеть боль при родах. Девочку кормили грубой пищей, в холодную погоду легко одевали, ограничивали сон и заставляли работать физически.
При всей подготовке к замужеству и постоянных разговорах о нем Анне ровным счетом ничего не говорили об отношениях мужчины и женщины. Даже французские романы – единственный источник информации о взрослой жизни для дворянских дочерей – Анне было строго-настрого запрещено читать.
Мать постоянно твердила о том, как важно поскорее выйти замуж, спрятаться за спиной мужа от тягот и треволнений жизни. По словам помещицы, на пути от девичества до замужества было крайне важно не «пасть», не оказаться «обесчещенной» и «погибшей».
Когда Анне исполнилось 13 лет, ее выдали замуж за «доброго» жениха – 27-летнего будущего маркшейдера (горного инженера) Берг-коллегии Александра Матвеевича Карамышева. Александр Матвеевич, несмотря на достаточно молодой возраст, преподавал химию в горном училище, занимался геологической разведкой по всему русскому Северу.
Свадьба состоялась 21 мая 1772 года, сразу после которой Карамышев забрал юную жену в Петербург. В своих знаменитых мемуарах, которые Анна Евдокимовна начала писать в зрелом возрасте, она рассказала об испуге, который охватил ее, когда в первую ночь почти тридцатилетний Карамышев стал намекать ей на необходимость отдать супружеский долг. Анна наотрез отказалась, и Александр Матвеевич, что называется, подался в разгул: карты, выпивка, крестьянские девицы. Причем все это происходило не в каком-нибудь кабаке, а прямо в доме Карамышевых.
Вскоре Александр Матвеевич привел в «супружеское гнездышко» свою племянницу – молодую красивую девушку. Вот как эти события описала в дневнике Анна:
«Приехали в город, начались веселья у нас в доме, в которых я не могла участвовать. Племянницу свою взял к себе жить. Днем все вместе, а когда расходились спать, то ночью приходила к нам его племянница и ложилась с нами спать. А ежели ей покажется тесно или для других каких причин, которых я тогда не понимала, меня отправляли спать на канапе».
Так Анна, не совсем осознавая, что происходит вокруг, жила в доме на правах то ли приживалки, то ли воспитанницы. Карамышев, впрочем, к ней не притрагивался, однако Анне от этого было ненамного легче:
«Ночью, так как от болезни сна у меня не было, я лежала молча, опасаясь обеспокоить мужа моего, вижу, что он встает очень тихо и подходит ко мне, спрашивает, сплю ли я?
Но я не отвечала ему, и он, уверившись, что я сплю, пошел в другую комнату, где спала девка, и я увидела все мерзости, которые он с ней делал!
Я видела свое несчастие и считала худшим…».
Однако худшее было впереди. Муж Анны совсем распоясался:
«Была у нас девочка десяти лет, которая служила матушке: водила ее и подавала что должно; он и до этой девочки добрался. Меня не было дома…»
Анна прекрасно понимала, насколько безнравственен и порочен ее муж, но поделать ничего не могла: разводы в империи были большой редкостью и требовали от женщины огромных усилий и денег. Где все это было взять пятнадцатилетней девочке?
С Карамышевым Анне пришлось много попутешествовать по России. Семья жила в Екатеринбурге, в Петрозаводске, на Медвежьих островах. И повсюду Александр Матвеевич находил себе «подруг».
В 1774 году Карамышевы перебрались в Петербург, где прожили более пяти лет. Анне наконец-то повезло, ее покровителем и добрым ангелом стал знаменитый русский поэт Михаил Херасков. Михаил Матвеевич был вице-президентом Берг-коллегии и непосредственным начальником Карамышева. В Хераскове барышня «нашла себе второго отца, который всячески оберегал ее от несправедливостей мужа».
В своих мемуарах Анна отзывается о Михаиле Матвеевиче и его супруге Елизавете Васильевне с исключительной теплотой. В доме Херасковых к ней относились как к дочери, заботились об ее образовании и воспитании.
После того как Карамышева назначили директором банковской конторы в Иркутске, Анне снова пришлось покинуть столицу. На протяжении нескольких лет она жила с мужем в Иркутске и Нерчинске. И здесь Анне приходилось терпеть несправедливости от супруга:
«В первом часу приехал муж мой пьян и чрезвычайно сердит, разделся и лег; я уже была в постели.
… Начал меня бранить и называть непокорною женою и не любящею мужа своего и что он несчастлив мной очень…
Потом вытолкнул меня на крыльцо в одной юбке и без чулок, и сени запер.
Сколько от горести, а более от морозу, дух у меня занимало.
Вдруг вижу – идет кто-то к крыльцу на стон мой, и я узнала, что это Феклист, но я уж говорить не могла. Он взял меня на руки и снес в баню, которая накануне была топлена, надел на меня свою шубу, затопил печь, согрел воды с шалфеем и напоил меня и горько плакал: „Ты, мать наша, всех нас несчастнее! Нам доставляешь покой, а сама не имеешь!“»
Карамышевы возвратились в Петербург. Длительное пребывание на Севере подорвало здоровье Александра Матвеевича: он начал подолгу и тяжело болеть. Карамышев скончался 22 ноября 1791 года в возрасте 47 лет.
Анна стала вдовой в 33 года. На повторное замужество она не рассчитывала: молодость прошла рядом с мужем, которого она презирала, и ожидать, что кто-то составит ей партию, не приходилось.
Однако нашелся тот, кто сделал Анну счастливой.
Александр Федорович Лабзин был моложе госпожи Карамышевой почти на восемь лет. Молодой красавец, блестящий философ, писатель, издатель, переводчик, один из крупнейших деятелей русского масонства.
Мистически настроенный Лабзин, основатель масонской ложи «Умирающий сфинкс», нашел в религиозной Анне верного друга и сторонника.
Брак был заключен 15 октября 1794 года. Годы, проведенные рядом с Александром Федоровичем, Анна считала своего рода компенсацией за те несчастья, что она перенесла:
«Жизнь со вторым мужем, продолжавшаяся около 29 лет, была, в противоположность жизни с Карамышевым, от которого я перенесла много страданий, исполнена счастья».
Анна помогала мужу в издательском деле, редактировала его статьи, переводила масонскую литературу, участвовала в заседаниях «Умирающего сфинкса».
Муж стал для Анны центром Вселенной: она любила его больше жизни. И Александр Федорович отвечал супруге полной взаимностью.
В 1822 году Лабзина отправили в ссылку в Сенгилей. Анна, ни мгновения не сомневаясь, поехала вместе с ним.
26 января 1825 года, находясь в ссылке в Симбирске, Александр Федорович простудился и умер на руках у жены. Горе, которое испытала Анна Евдокимовна, трудно описать словами.
После смерти дорогого супруга Лабзина переехала в Москву, где стала приживалкой в семье профессора московского университета М. Я. Мудрова. Последние годы жизни посвятила написанию мемуаров. Детей ни от Карамышева, ни от Лабзина у Анны Евдокимовны не было.
3 октября 1828 года Анна Евдокимовна тихо скончалась в Москве в возрасте 69 лет. Лишь в 1903 году была издана книга «Воспоминания Анны Евдокимовны Лабзиной», ставшая настоящей сенсацией и до сих пор являющаяся ценнейшим источником сведений о жизни российского дворянства XVIII–XIX веков.
Так сложилась жизнь женщины, которую в 13 лет мать учила «терпеть боль» и отдала замуж за порочного человека. Казалось, что счастье для Анны в этом мире не было предусмотрено… Но оно случилось.
Вошла в тело
«Поиграем в мужа и жену?» – смеясь, воскликнул одиннадцатилетний император. Пятнадцатилетняя Мария побледнела, едва не упав в обморок. Этот капризный, жестокий подросток был ей противен, его поступки и игры ужасали.
Увы, поделать Мария ничего не могла: злой и распущенный недоросль был не только ее женихом, но и государем. Красавица вспомнила напутственные слова своего дорогого батюшки, требовавшего быть ласковой с императором и выполнять все его приказы.
Изящная дрожащая ручка несчастной невесты потянулась к шнуровке платья, но государь вдруг воскликнул: «С тобой неинтересно, фарфоровая кукла! Дениска, зови Аньку и Лизавету!»
Паж стремительно кинулся к дверям, и через минуту в них вбежали, весело смеясь, две фрейлины. Не удостоив даже взглядом остолбеневшую от унижения Марию, красавицы присели на ложе его величества.
Игра в мужа и жену началась.
В семье Александра Даниловича Меншикова 26 декабря 1711 года произошло долгожданное событие: его супруга, Дарья Михайловна Арсеньева, подарила светлейшему князю малютку-дочку, назвали которую Марией.
Батюшка новорожденной являлся в ту пору правой рукой государя Петра Алексеевича. «Полудержавный властелин», в босоногом детстве продававший пироги в Москве, ныне вместе с царем вершил судьбу Руси, создавая из Московского царства величайшую империю в мире.
Дочку Данилыч обожал и стремился дать ей наилучшее образование. Когда Марии исполнилось шесть лет, в дом Меншиковых были приглашены учителя-иностранцы, обучавшие девочку языкам, пению и танцам.
Александр Данилович очень рано начал задумываться о женихе для дочери. По мнению светлейшего, тянуть с этим делом не следовало, ведь сегодня он был в фаворе, но кто знал, как судьба распорядится завтра. Нужно было успеть выдать дочь за знатного да богатого человека, что обеспечит и ее будущее, и будущее зарождающегося славного рода Меншиковых.
В России Данилыч женихов для дочери не видел: подобно Петру I, он не шибко жаловал старую русскую аристократию, вышедшую из боярских палат, пропахших брусничным морсом да кислыми щами. В этом вопросе Меншиков смотрел на «цивилизованный» Запад.
В 1720 году во время встречи Меншикова с литовским гетманом Яном Сапегой зашла речь и о будущем детей двух государственных мужей – 9-летней Марии и 20-летнего Петра.
Александр Данилович посчитал Петра Сапегу весьма привлекательной партией для своей дочери: потомственный граф, сын богатейшего человека Речи Посполитой, претендента на польский трон. Да и сам Петр считался вполне вероятным соискателем короны великой династии Ягеллонов. Породниться с Сапегами для Меншиковых было очень престижно. Да, Мария Александровна была княжной, но вот только отец ее не так давно кричал на извозчичьем вокзале в Москве: «Кому пироги сладкие, да с капусткой, да с брусникой?»
К тому же Петр Сапега был красавцем. Конечно, разница в возрасте была велика, но в те времена на такие мелочи смотреть было не принято, а кроме того, Данилыч и граф Ян Казимир договорились, что жених подождет, пока невеста «войдет в тело».
Ожидать этого момента Петру предстояло в России. В 1721 году юный граф приехал в Петербург. Из уважения к Данилычу Сапега сменил европейский костюм на вошедший тогда в моду в России зеленый сюртук, как у Петра I.
Меншиков поселил будущего зятя в своем великолепном дворце на набережной Невы.
Петр редко видел десятилетнюю невесту, но этого хватило, чтобы девочка влюбилась в галантного графа полудетской влюбленностью. Сапега, впрочем, большого интереса к Марии не проявлял. С первых дней в Петербурге он погрузился в светскую жизнь столицы и немало времени проводил в царском дворце, премило общаясь с красивыми фрейлинами.
Император Петр I скончался 28 января 1725 года в Петербурге в возрасте 52 лет.
Марии к тому моменту исполнилось 13 лет, и она превратилась в прехорошенькую девушку. Петр Сапега также времени даром не терял: за четыре года он занял при императорском дворе весьма заметное место.
Новой самодержицей всероссийской стала Екатерина I, которую до крещения звали Мартой Скавронской. Екатерина исключительно благоволила Меншикову и была благодарна ему за все, что он для нее сделал. А сделал он немало.
Привлекательную прибалтийскую крестьянку Марту захватил в плен во время русского наступления на Мариенбург (современный город Алуксне в Латвии) пожилой фельдмаршал Борис Шереметев, и сразу же сделал своей метрессой (любовницей). Вскоре красавица заинтересовала Меншикова, и светлейший отнял ее у Шереметева, к большому того неудовольствию.
Однако и с Данилычем Марта пробыла недолго: ее приметил сам государь Петр I. Меншиков государевой воле разумно противиться не стал, хоть и крепко был к Марте привязан.
Петр полюбил Скавронскую до безумия, окрестил ее Катенькой (после перехода в православие она стала Екатериной Алексеевной Михайловой) и женился.
После смерти Петра Меншиков с помощью гвардии возвел Екатерину на престол и фактически стал единоличным правителем государства, самым могущественным человеком в империи.
Судьба Марии Меншиковой сильно интересовала Екатерину I, равно как и будущее Петра Сапеги. Польский шляхтич являлся одним из фаворитов любвеобильной императрицы, и, давая благословение на брак его с дочерью светлейшего, царица, что называется, «отрывала от себя».
В марте 1726 года архиепископ Феофан Прокопович в присутствии всего императорского двора обручил 25-летнего Петра Сапегу с 14-летней красавицей Марией Меншиковой.
Александр Данилович по случаю обручения дочери закатил в своем дворце роскошнейший бал. Казалось, счастью молодых ничто не могло помешать. Мария обожала своего жениха, Петр отвечал ей взаимностью. Не было никаких проблем и с деньгами: 100 тысяч рублей выделила Екатерина I, а отец невесты расщедрился аж на 700 тысяч золотых.
Однако время шло, а свадьба все откладывалась. Александру Даниловичу, ставшему фактически правителем государства, Петр Сапега уже не казался блестящей партией для дочери. Теперь Меншиков метил гораздо выше.
Светлейший задумал породниться с императорской фамилией, выдав дочь за наследника престола, великого князя Петра Алексеевича.
В 1726 году внуку Петра Великого, сыну царевича Алексея исполнилось 11 лет. Мальчик, по воспоминаниям современников, был крайне избалованный, самолюбивый и капризный. Наследник не любил учиться, предпочитая проводить время на охоте с молодым князем Иваном Долгоруковым и юной дочерью своего деда, Елизаветой.
Пребывая с раннего возраста при дворе, Петр рано испытал на себе его тлетворное влияние. Не изучив еще как следует букваря, наследник уже вовсю интересовался красивыми фрейлинами и заводил себе взрослых метресс.
Императрице Екатерине I, по большому счету обязанной Данилычу не только троном, но и самой жизнью, «прожект» Меншикова о свадьбе его дочери и царевича показался вполне дельным. Петру Сапеге предложили взять в жены племянницу императрицы, молодую красавицу Софью Карловну Скавронскую. Польский шляхтич, которому уже надоело ждать «вхождения в тело» невесты, с удовольствием согласился.
Екатерине не удалось погулять на свадьбе бывшего фаворита: 6 мая 1727 года царица скончалась в возрасте 43 лет. Новым императором стал одиннадцатилетний Петр II, но всю полноту власти в своих руках сохранял Александр Данилович Меншиков.
Сиятельный князь был так уверен в своем могуществе, что вместе с бароном Остерманом, князем Голицыным и графом Головкиным практически обязал Петра II жениться на своей дочери с помощью так называемого «духовного завещания» императрицы Екатерины. Одним из его пунктов значилось следующее: «Цесаревнам и администрации вменяется в обязанность стараться о сочетании браком великого князя с княжною Меншиковой».
Невиданная доселе наглость, но Данилычу она сошла с рук.
Князь П. В. Долгоруков в своих «Записках» утверждал, что одиннадцатилетний император «рыдал до изнеможения», когда ему сообщили о скорой свадьбе с Марией Меншиковой. Царь не хотел жениться, он мечтал только об играх и охоте, а женщин предпочитал веселых и озорных, а не серьезных и спокойных, как Марья.
Тем не менее всесильного Меншикова государь все еще боялся как огня. Петр II провозгласил своего будущего тестя генералиссимусом, а после обручился с Марией Меншиковой.
Мария, которую насильно разлучили с любимым человеком – Петром Сапегой, своего венценосного жениха терпеть не могла и как мужчину не воспринимала. Дикие выходки истеричного, самовлюбленного подростка пугали ее и вгоняли в депрессию.
При этом отец регулярно отправлял Марию в покои к императору, увещевал быть ласковой с женихом. Ослушаться отца барышня не могла, а государь жестоко насмехался над невестой, обзывал ее «фарфоровой куклой», без стеснения приглашал в свои покои веселых и активных метресс.
Частичной компенсацией для Марии стали титул императорского высочества и собственный двор, включавший в себя камергера, четырех камер-юнкеров, два десятка фрейлин, множество пажей и слуг. Из казны на содержание двора государевой невесты выделялось по 34 тысячи рублей в год. Все эти милости вручил Марии не жених, а ее всесильный отец.
Не обидел Меншиков и других членов своей семьи. Так, младшая дочь Александра и свояченица В. М. Арсеньева получили ордена святой Екатерины.
Все большее влияние на государя начало оказывать семейство Долгоруковых, прежде всего близкий друг императора Иван Долгоруков. Позиции всесильного князя Меншикова и контролируемого им Верховного тайного совета пошатнулись. Петр II уже не так сильно боялся Данилыча, которого, по слухам, Иван Долгоруков презрительно называл «бесполезным старикашкой».
Государь злился на Меншикова за то, что тот хотел женить его на Марии, но не, имея пока возможности достать до светлейшего, вымещал злость на его сыне – тринадцатилетнем Александре Меншикове.
Историк Костомаров писал об этом:
«Около государя в числе сверстников был сын Меншикова, Петр, в досаде против его отца, мстил сыну и бил до того, что тот кричал и молил о пощаде».
Мало-помалу Петр II начал «доставать» и до Меншикова. Так, однажды государь отправил своей сестре Наталье 9000 червонцев, преподнесенных царю в дар Петербургскими каменщиками. Меншиков эти деньги у служителя-курьера отнял, заявив: «Государь слишком молод и не знает, как употреблять деньги». Это вызвало гнев у Петра. «Как вы смели помешать моему придворному исполнить мой приказ?!», – топнув ногой, закричал император. Не ожидавший такой суровой реакции Меншиков был вынужден прилюдно унижаться перед малолетним государем, обещать ему миллион из собственных средств.
Свою невесту Петр больше видеть не желал и проводил время в компании метресс, щедро поставляемых во дворец Иваном Долгоруковым.
Летом 1727 года Александр Данилович сильно захворал. Для Алексея и Ивана Долгорукова эта новость стала как отмашка для беговых собак. Князья изолировали императора от любых поползновений Меншикова и всячески мешали общению Петра с будущим тестем.
Лишь 4 сентября Данилычу удалось добиться приема у императора в Петергофе. Петр II выделил светлейшему князю не больше получаса, был с Меншиковым вежлив, но невероятно холоден. Выйдя от императора, Данилыч уже знал, что ему грозит опала. Чутье не подвело всесильного временщика.
8 сентября во дворец Меншикова пришли гвардейцы. «Полудержавный властелин» был взят под стражу, а 11 сентября со всей семьей выслан в принадлежавшее Данилычу имение Раненбург (ныне – Липецкая область).
Вскоре светлейшего лишили всех званий, чинов и орденов, в его дворце прошли обыски с изъятием всех государственных документов. Марии Меншиковой царь приказал вернуть обручальный перстень. Синод строго-настрого запретил священнослужителям упоминать имя «обрученной невесты при отправлении службы Божией».
Дорвавшиеся до власти Долгоруковы старательно вымарывали ненавистного «пирожочника» Меншикова из истории семьи Романовых. Весной 1728 года начался последний акт этой драмы. У Меншиковых было отобрано почти все: обширные имения, больше 100 тысяч крестьян, семнадцать домов в Петербурге и Москве, двести торговых лавок, девять миллионов рублей на разных банковских счетах, огромное количество драгоценностей. Даже одежду, постельное белье, медную и оловянную посуду у опальной семьи конфисковали.
В апреле Меншиков с женой, двумя дочерями и сыном отправился в ссылку в сибирский городок Березов. На подъезде к Казани, не выдержав тягот дороги и свалившегося на семью несчастья, скончалась супруга Данилыча, княгиня Дарья Михайловна.
Меншиков, как мог, старался подбодрить детей. Знаменитым на всю Россию стало высказывание опального князя: «С простой жизни начинал, простой жизнью и закончу».
Слова светлейшего не разошлись с делом. Едва приехав в Березов, он взялся за топор и вместе с восемью верными слугами построил себе деревянный дом и возвел церквушку, которой могли пользоваться все березовцы.
Меншиков, продававший когда-то пирожки, познал в своей жизни немало, поэтому ему было проще переносить тяготы ссылки. А вот его дети, привыкшие к роскоши, сильно страдали. Особенно тяжело приходилось «обрученной невесте» Марии. Бедняжке пришлось вести однообразную, тяжелую, скудную и томительную жизнь. Мария с сестрой Александрой сами стирали одежду, готовили пищу, убирали в доме.
Пока был жив отец, у барышень Меншиковых была твердая защита, но вскоре ее не стало. Осенью 1729 года в Березов пришла напасть – эпидемия оспы. Меншиков заразился и 12 ноября скончался в возрасте 56 лет.
По слухам, после смерти светлейшего караулившие семью Меншиковых солдаты стали регулярно захаживать в избу барышень. Мучения Марии, впрочем, были недолгими: 26 декабря 1729 года (в день своего рождения) 18-летняя красавица скончалась от оспы, как и ее отец.
Мария так и не узнала, что за 10 дней до ее смерти несостоявшийся жених Петр II издал указ о возвращении детей Александра Даниловича в Петербург.
Указ Петра не был исполнен – воспротивились Долгоруковы. Но и им недолго оставалось упиваться властью: 19 января 1730 года Петр II скоропостижно скончался в возрасте 14 лет все от той же оспы.
Лишь в 1731 году Анна Иоанновна возвратила из Сибири остатки разрушенного «гнезда Меншикова» – 17-летнего Александра и 19-летнюю Александру.
Александр впоследствии стал генерал-аншефом, сделал блестящую карьеру в армии, был в фаворе у Екатерины II. Александра стала фрейлиной при дворе Анны Иоанновны, счастливо вышла замуж за Густава Бирона, но 13 сентября 1736 года в возрасте 23 лет умерла при родах.
Княжну Марию похоронили рядом с отцом у алтаря церкви, построенной Александром Данилычем. Через много лет вышедшая из берегов могучая река Северная Сосьва смыла эти могилы.
Так сложилась судьба девушки, которая из-за амбиций отца была лишена любви, свободы, счастья и самой жизни…
«Обрюхачена»
Постель была измята. В неясном свете луны Владимир Сергеевич с изумлением увидел Варвару. Она сидела, закрываясь руками. Тот, кому вся прелесть Варвары только что в полной мере принадлежала, находился в комнате.
Чуть ли не физически ощущая поднимающийся из глубины души черный гнев, Владимир Сергеевич решительно шагнул к незнакомцу. Тот неторопливо и хладнокровно одевался.
«Мсье», – начал Владимир по-французски и осекся, вытянувшись по струнке. Перед ним, как всегда невероятно спокойный и даже в такой ситуации кажущийся величественным, натягивал панталоны император.
Князь хотел что-то сказать царю, но слова застряли в горле. Государь застегнул золоченый мундир и, не взглянув на рыдающую женщину и своего соперника, вышел из комнаты.
Владимир и Варвара остались одни.
Морозной ночью 15 декабря 1775 года в семье князя Ильи Борисовича Туркестанова и княгини Марии Алексеевны Туркестановой (урожденной Еропкиной) родилась девочка. Когда малышка издала первый крик и стало понятно, что роды прошли вполне благополучно, Илья Борисович присел на колени перед иконой и стал горячо молиться – девочка была его первым, долгожданным ребенком от любимой супруги.
Через несколько дней новорожденную окрестили в ближайшей церкви, дав имя Варвара, что с греческого можно перевести как «иноземка». Предки малышки действительно были иноземцами в России. Илья Борисович Туркестанов принадлежал к старинному грузинскому роду Туркистанишвили. Дедушкой Варвары был знаменитый князь Баадур (Борис) Туркистанишвили, который в 1722 году выполнял различные поручения грузинского царя Вахтанга VI в его переговорах с императором Петром I относительно судьбы царства Картли (Восточная Грузия). Баадур и стал родоначальником славного рода Туркестановых.
Илья Борисович, несмотря на знатное происхождение, начал службу простым солдатом в лейб-гвардии Семеновского полка, дослужился до должности кабинет-курьера императрицы Елизаветы Петровны, получил звание секунд-майора. После завершения военной службы долгое время служил в Верховном надворном суде, став со временем его председателем.
Мама новорожденной Варвары была дочерью действительного статского советника Алексея Михайловича Еропкина и Анны Васильевны Олсуфьевой, родной сестры видного «птенца гнезда Петрова» Адама Васильевича Олсуфьева. Адам Васильевич был статс-секретарем Екатерины II и одним из крупнейших деятелей русского Просвещения, внесшим неоценимый вклад в отечественную культуру.
Так что родня у Вареньки была весьма примечательной и известной, но ту до поры до времени это совершенно не интересовало. Девочка росла в усадьбе родителей, бродила по тенистым аллеям, купалась в маленьком прудике и играла с крестьянскими детьми.
В 1788 году, когда Варваре было 12 лет, скончался ее 51-летний отец. К этому моменту в семье Туркестановых росло уже трое детей, а еще семь умерли в младенческом и раннем возрасте.
Похоронив Илью Борисовича в Донском монастыре, 38-летняя Мария Алексеевна замуж больше не выходила и посвятила себя воспитанию дочерей – Варвары, Екатерины и Софьи.
Увы, княгиня ненадолго пережила супруга – в 1795 году Мария Алексеевна скончалась. Варвара и ее сестры остались сиротами и без средств к существованию. В результате девушек «разобрали» родственники. Варвара «досталась» дяде по материнской линии, бригадиру Василию Дмитриевичу Арсеньеву.
Арсеньев отнесся к девушке как к родной дочери и в полной мере заменил ей отца. Тихая, не отличавшаяся большой красотой Варвара нашла в доме дядюшки тишину, покой и уют, в которых она так нуждалась после смерти родителей.
Княжна Туркестанова очень редко выходила в свет, большую часть времени проводя в имении дяди. Лишь в 1808 году она была наконец пожалована во фрейлины вдовствующей императрицы Марии Федоровны.
Умная, обходительная, образованная женщина сильно выделялась на фоне молодых и ветреных красавиц императорского двора. Все придворные обожали Варвару, а императрица считала ее своей ближайшей подругой. Вот что писал о княжне в своих «Записках» тайный советник и известный живописец граф Федор Толстой:
«Почти ежедневными посетителями были <…> и княжна Турхистанова, самая короткая приятельница обеих сестриц и любимица Марьи Алексеевны и ее мужа [не первой уже молодости], уже порядочно взрослая девушка, очень умная, хитрая, ловкая, веселая и [весьма] занимательная в салонных беседах. Почтенный дядюшка, как мне казалось, очень за ней ухаживал, и она скоро, по его просьбе, была сделана фрельною большого двора».
Интерес к княжне Туркестановой проявлял не только «почтеннейший дядюшка» Федора Толстого, но и сам император Александр I. Государю нравилось беседовать с умной фрейлиной, он с удовольствием проводил с ней время; впрочем, поначалу отношения не выходили за рамки дозволенного.
В 1813 году государь расстался со своей фавориткой Марией Нарышкиной и отправил ее за границу. Сразу после этого Александр Павлович стал все чаще заговаривать с Варварой, приглашать ее на прогулки в сад. Вскоре пошли разговоры, что княжна Туркестанова – новая фаворитка его императорского величества.
Александр был младше Варвары на два года, но отдавал ей предпочтение перед всеми юными красавицами двора. Княжна Туркестанова не могла противиться желаниям государя, но, скорее всего, по-настоящему Александра не любила. Ее сердце еще не испытало подлинного чувства. Но всему свое время.
В 1818 году княжне Туркестановой было 42 года, и именно в этом возрасте она до безумия влюбилась в молодого красавца. Флигель-адъютанту Александра I князю Владимиру Сергеевичу Голицыну было всего 24 года. Мужчина богатырского роста, герой Отечественной войны 1812 года, получивший за храбрость Георгиевскую ленту. Веселый, богатый, остроумный, невероятно обаятельный Владимир имел репутацию коварного обольстителя.
Вот что писал о князе мемуарист Филипп Вигель:
«Более всех из братьев наделал шуму меньшой, Владимир, употребляя во зло дары природы. Его называли Аполлоном, он имел силу Геркулеса и был ума веселого, затейливого и оттого вся жизнь его была сцепление проказ, иногда жестоких, иногда преступных, редко безвинных».
О князе Голицыне грезили многие девушки, в том числе молодые красавицы из самых благородных семей. Но достался он разменявшей пятый десяток Варваре Туркестановой.
Княжна была так сильно влюблена, что сама открылась Владимиру. Князь ответил на чувства фрейлины, они стали регулярно встречаться.
Теперь княжне Туркестановой приходилось скрывать оба романа. При этом князь Голицын, хоть и был в курсе слухов, связывающих Варвару с императором, но не верил им.
Однако поверить пришлось. Однажды Владимир в спальне возлюбленной застал… самого императора. Государь, не обращая внимания на стоящего по стойке смирно соперника, спокойно оделся и вышел из комнаты. Варвара умоляла Владимира остаться с ней, то тот был непреклонен. Так княжна Туркестанова потеряла обоих своих мужчин.
А вскоре фрейлина узнала страшную новость – она ждет ребенка. В августе императрица Мария Федоровна отправлялась в длительное путешествие по Европе, и Варваре Ильиничне необходимо было сопровождать ее.
За границей пробыли долго, и через четыре месяца животик княжны стал неумолимо расти. Свое состояние Варваре пришлось скрывать под корсетом, что доставляло ей и моральные и физические мучения.
В конце 1818 года императрица Мария Федоровна со своим двором вернулась в Петербург, но Варваре Ильиничне как придворной фрейлине все равно приходилось участвовать в светских раутах и официальных мероприятиях. Растущий живот она прятала под одеждой.
Весной, сославшись на недомогание, княжна Туркестанова выпросила двухмесячный отпуск. В апреле Варвара благополучно родила девочку, которую назвала Марией. Отцом малышки мог быть как Владимир Голицын, так и император.
Появление на свет дочери Марии привело к большому скандалу. «Пала княжна Туркестанова», – говорили при дворе. Это и правда было неслыханно – незамужняя фрейлина рожает ребенка неведомо от кого. Какой пример эта 44-летняя дама подает барышням?
На голову несчастной Варвары обрушился настоящий позор. При дворе ее больше не ждали, а на улице только что не показывали пальцами.
В середине апреля дошедшая до крайней степени отчаяния фрейлина приняла яд. Зелье подействовало не сразу, бедняжка мучилась несколько недель.
Императрица Мария Федоровна, узнав об отравлении Варвары, специально приехала из Павловска, приласкала бедняжку и пробыла с ней последние часы.
Княжна Туркестанова скончалась 20 мая 1819 года.
В обществе известие о смерти княжны восприняли столь же остро, как и новость о рождении ею дочери. Князь П. А. Вяземский писал своему другу А. И. Тургеневу:
«Вчера скончалась княжна Туркестанова. Что ни говори, но она была и добрая, и любезная, и необыкновенно умная женщина. Благодетельствовала многим, несмотря на недостаточное состояние, и оставила приятные о себе воспоминания в многочисленном знакомстве…»
Эти слова Петра Андреевича в полной мере передают характер княжны Туркестановой. Рано потерявшая родителей, небогатая женщина находила возможность помогать нуждающимся…
После смерти княжны в свете началось обсуждение: кто же ее погубил? Государя, как особу священную, от слухов старались оградить, поэтому виновником падения Варвары был «назначен» Владимир Голицын. Даже Пушкин, не любивший Александра I, отмечал в дневнике:
«Княжна Туркистанова, фрейлина, была в тайной связи с покойным государем и с кн. Владимиром Голицыным, который ее обрюхатил».
Чтобы не провоцировать дальнейших слухов, императрица Мария Федоровна повелела сообщить, что ее фрейлина скончалась от холеры.
Но что же «коварный обольститель» Владимир? Обрюхаченная князем Варвара даже после драматичного разрыва верила в добрую душу Вольдемара:
«Он раскаивается во всех своих безумных поступках; в нем заронены семена всего доброго и прекрасного, но никто не позаботился о их развитии; у него есть ум и доброе сердце».
Чуткая душа Варвары не обманула ее. Владимир принял дочь фрейлины в своем доме, дал свое отчество. В семье князей Голицыных Марию прозвали Мими и очень любили.
В 1821 году Владимир женился на дочери помещика Прасковье Матюниной, которая родила ему семерых детей. Добрая и простая женщина, Прасковья Николаевна всем сердцем привязалась к Мими и считала ее своей дочерью.
Впоследствии Владимир Сергеевич служил на Кавказе, был ранен, прославился в свете как балагур, весельчак и сочинитель неплохих стихов. Дружил с Пушкиным и Лермонтовым.
Князь Голицын выдал 23-летнюю дочку Мими за Ивана Аркадьевича Нелидова, брата фаворитки Николая I Варвары Нелидовой.
Казалось, судьба девушки будет счастливой, но через год после свадьбы Мими тяжело заболела и скончалась. Отец сильно переживал утрату. Спасло его только новое назначение по службе: генерал-майора Голицына определили в командующие центра Кавказской линии, и он с головой ушел в работу.
Выйдя в 1849 году в отставку, Голицын поселился с семьей в Москве в большом доме у Бутырской заставы. Здесь генерал прожил много лет в счастье и покое. Скончался Владимир Сергеевич 7 января 1861 года в возрасте 66 лет.
О княжне, которую князь когда-то «обрюхатил», Владимир Сергеевич предпочитал не вспоминать и очень обижался на преследовавшие его до конца жизни неприятные слухи.
Так сложилась судьба женщины, которая заплатила страшную цену за краткий миг счастья, за беззаветную любовь. Пожалела ли она об этом, когда яд проникал в ее кровь? Кто знает…
На глазах у отца
Отказа князь не стерпел. Зазвенели мечи, запылали соломенные крыши, заголосили девки. Вскоре все было кончено.
Юная Рогнеда укрылась в тереме и, дрожа всем телом, смотрела из окошка, как княжеская дружина расправляется с людьми, которых она знала и любила с детства.
«Где Рогнеда? – услышала княжна жуткий крик и тут же на площадь перед теремом выскочил крупный бородатый ратник. – Княже желает быть с нею на глазах ея отца и матери!»
Рогнеда, услыхав эти слова, едва не лишилась чувств. Она сразу же поняла, как именно князь хочет «быть» с ней. Но за что этот кошмар ее родителям? Уж лучше бы смерть!
«В тереме небось, Добрыня!» – с мерзким смешком крикнул кто-то во дворе. Дверь затрещала от страшных ударов, и вскоре на пороге опочивальни появился тот самый бородач.
«Вот ты где, княжна! – усмехнулся он. – Отвергнутый тобою князь потолковать хочет».
Жена князя полоцкого Рогволода подарила супругу дочку, которую назвали Рогнедой.
Отец княжны был из варягов, имя его по-скандинавски звучало как Рёгнвальд. Имя же Рогнеды звучало как Рагнхильд. С отрядом верных воинов Рогволод пришел на Русь из-за моря, осел в Полоцке (ныне – Витебская область Белоруссии) и стал этим городом владеть как князь.
В отличие от многих других русских князей, Рогволод не принадлежал к Рюриковичам, осевшим сначала в Новгороде, затем в Киеве, и правившим на многих землях восточных славян. Полоцкий владыка был основателем собственной княжеской династии – Рогволодовичей.
Рогнеда росла в Полоцке, в тереме посреди великолепной природы. Помимо дочери, у князя было еще двое сыновей, имена которых в истории не сохранились.
Вокруг юной княжны крутился целый штат мамок, нянек да дворовых девок. Рогнеду с детства учили быть услужливой будущему мужу, но при этом в обучение девочки входили также уроки езды на лошади, стрельбы из лука и даже сражения на мечах – в те неспокойные времена женщина должна была уметь постоять за себя.
Когда Рогнеде исполнилось 16 лет, она превратилась в настоящую красавицу: высокая, стройная, с длинной толстой косой и чистейшей белой кожей. Многие достойные князья присматривались к Рогнеде, но ее объявили невестой Ярополка Святославича, великого князя Киевского.
Рогволод прекрасно понимал, что усилить небольшое княжество можно только за счет укрепления связей с Рюриковичами, а брак для этого – самое надежное средство.
Прознав, что Ярополк желает взять в жены полоцкую княжну, Рогнедой заинтересовался и его брат, новгородский князь Владимир.
С 975 года между братьями шла усобица, и Владимир стремился во всем опередить Ярополка. Историк культуры Константин Богданов так писал об этом:
«Между братьями с самого начала сложились довольно непростые отношения. Они были рождены от разных матерей и в дальнейшем воспитывались порознь. У каждого из них были свои родичи и наставники, к советам которых они прислушивались гораздо чаще, чем следовало бы это делать. Позднее отсутствие взаимной симпатии и доверия между братьями сыграло с ними роковую роль. Амбиции наставников только усугубили разлад, наметившийся еще в их детских душах и с возрастом становившийся все сильнее».
На этот раз предметом соперничества невольно стала Рогнеда.
Не дожидаясь, пока Ярополк прибудет в Полоцк, Владимир сам заявился к князю Рогволоду и попросил руки его дочери. Ответ дала сама Рогнеда: «Не хочу розути робича».
Это было вдвойне оскорбительно. Во-первых, княжна отказала Владимиру: невесты на Руси снимали с женихов обувь; это означало, что предложение о свадьбе принято. Во-вторых, Рогнеда назвала Владимира «робичем», то есть сыном рабыни.
Матерью князя была Малуша – наложница его отца Святослава Игоревича. Нельзя исключать, что Владимир не обратил бы внимания на оскорбление и, получив отказ, спокойно удалился бы в новгородские земли. Однако в дело вмешался воевода Добрыня Малкович – наставник князя, его дядя по материнской линии.
Добрыня взбеленился из-за слов Рогнеды в адрес сестры и, как сказано в «Лаврентьевской летописи», приказал Владимиру «быть с ней перед отцом ее и матерью». Князь не пожелал или же не посмел перечить дяде. Собрав рать из новгородцев, кривичей, чуди и варягов, Владимир снова пришел к стенам Полоцка. Князь Рогволод как раз готовился везти дочь в Киев, где она должна была стать женой Ярополка.
После ожесточенного боя Полоцк взяли ратники Владимира. Рогволода с женой и детьми вывели на крепостную стену, после чего Владимир «был» с Рогнедой на глазах у ее отца и матери.
Совершив свое черное дело, князь не успокоился и, выхватив меч, расправился с отцом и братьями несостоявшейся невесты.
Рогнеду Владимир забрал с собой, сделав своей наложницей.
Закончив «дела» в Полоцке, князь Владимир отправился в Киев. Новгородцы подошли к древнему граду. Осада продолжалась длительное время, пока в окружении Ярополка не нашлось предателя. Воевода Иона Блуд убедил князя, что Киев отстоять невозможно, поэтому необходимо переждать с дружиной в городе-крепости Родень близ впадения в Днепр реки Рось.
Ярополк послушался Блуда, укрылся в Родне, а уже через неделю город окружило войско Владимира. В крепости начался голод, люди Ярополка стали роптать. Блуд уговорил Ярополка вступить с братом в переговоры. Киевский князь прибыл к Владимиру, где два варяга «подняли его мечами под пазухи».
Став после гибели брата великим князем киевским, Владимир задумал жениться на Рогнеде. Юная княжна была против, но ничего поделать не могла. Именно в это время Рогнеда и получила второе имя – Горислава.
У Владимира на тот момент уже была супруга – некая гречанка, так что Рогнеда стала второй женой. В дальнейшем князь взял в жены еще четырех женщин, так как многоженство в языческой Руси не осуждалось.
Княгине Рогнеде выделили сельцо на реке Лыбедь, неподалеку от Киева. Владимир регулярно заезжал к жене, чтобы получить причитающиеся ему «милости».
Рогнеда родила великому князю сына – Изяслава Владимировича. Следом появились на свет сыновья Ярослав (будущий князь Ярослав Мудрый), Всеволод, Мстислав, дочери Предслава и Премислава.
Вероятно, с рождением детей всегда настороженный князь утратил бдительность и стал все чаще оставаться у супруги на ночь. Владимир решил, что Рогнеда позабыла нанесенную ей смертельную обиду. Но он ошибался.
Рогнеда терпеливо ждала возможности отомстить Владимиру за злодейство. В 987 году княгиня наконец решилась.
Владимир остался на ночь и после «милостей» со стороны супруги завалился спать. Заметив, что князь уснул, Рогнеда вытащила из-под изголовья острый кинжал и набросилась с ним на мужа.
Князь спал чрезвычайно чутко и, внезапно проснувшись, отбил удар. После недолгой борьбы кинжал оказался в руках у Владимира.
Великого князя шокировал поступок жены. Согласно законам Древней Руси, наказание за покушение на государя было одно – смертная казнь. Владимир решил немедленно привести в исполнение свой же приговор.
Князь приказал супруге надеть самый нарядный сарафан и приготовиться встретить смерть. Вдруг в опочивальню вбежал 9-летний Изяслав с мечом в руках и встал между матерью и отцом.
Теперь, чтобы казнить Рогнеду, Владимиру нужно было сначала расправиться с сыном. Спрятав меч в ножны, князь покинул опочивальню.
На следующий день в Киеве собрался совет бояр. Лучшие люди города посоветовали князю следующее: «Не убивай ее ради дитяти сего, но воздвигни отчину отца ее, и отдай ей с сыном твоим». Иными словами, бояре предложили восстановить Полоцкое княжество и посадить туда на правление Рогнеду и Изяслава. Владимир так и поступил: он отослал в Полоцк жену и старшего сына, остальных же детей оставил при себе.
В разоренной ранее Полоцкой земле на берегу реки Свислочь был заложен город, получивший название Изяславль. Так образовалась полоцкая ветвь Рюриковичей, князья которой считали себя в первую очередь потомками Рогволода, а уже во вторую – Владимира.
Владимир, после того как спровадил жену, жил, как сказано в «Лаврентьевской летописи», «блудно». У князя было несколько жен и, как утверждает летописец, 800 наложниц:
«Был же Владимир побежден похотью, и были у него жены: Рогнеда, которую поселил на Лыбеди, где ныне находится сельцо Предславино, от нее имел он четырех сыновей: Изяслава, Мстислава, Ярослава, Всеволода и двух дочерей; от гречанки имел он Святополка, от чехини – Вышеслава, а еще от одной жены – Святослава и Мстислава, а от болгарыни – Бориса и Глеба, а наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове, в сельце, которое называют сейчас Берестовое. И был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растляя девиц. Был он такой же женолюбец, как и Соломон, ибо говорят, что у Соломона было 700 жен и 300 наложниц».
Все изменилось в 988 году, после крещения Руси великим князем киевским. Осознав, что жил неправедно, Владимир предложил Рогнеде развестись и выйти за любого из его бояр. Та ответила: «Царицей была, а рабыней быть не хочу».
Рогнеда осталась с любимым сыном в городе Изяславле, где и прожила вплоть до своей смерти около 1000 года в возрасте 40 лет.
Так сложилась судьба женщины, ставшей женой человека, который сотворил с нею невиданное злодейство, но нашедшей утешение и радость в сыне.
Широкорожая
«Ох и страшна», – шептались за спиной. Но когда пятнадцатилетняя фрейлина смотрелась в зеркало, она видела вполне симпатичное лицо. Ну, скулы широковаты…
Юная Лизавета не могла понять, что основной причиной насмешек было то, что она играла в солдатики с 26-летним наследником престола. Молодая супруга цесаревича простить ей такую вольность никак не могла.
Единственным человеком при дворе, считавшим ее изумительно красивой, был наследник. И Лизе этого было вполне достаточно. Когда игры в солдатики на полу заканчивались, пара перемещалась под балдахин, где начиналась иная игра.
Елизавета Воронцова родилась 13 августа 1739 года. Отцом девочки был генерал-аншеф, действительный камергер и сенатор граф Роман Илларионович Воронцов. Мать, Марфа Ивановна Сурмина, происходила из богатой купеческой семьи.
Елизавета была вторым ребенком в семье. Первой родилась Мария – в 1737 году. А после Елизаветы еще трое – Александр, Екатерина и Семен.
В 1745 году Марфа Ивановна заболела тифом и скончалась в возрасте 26 лет. Пятеро детей, в том числе годовалый Семен, остались без матери. Лизе на тот момент едва исполнилось 6 лет. Смерть супруги самым негативным образом отразилась на характере Романа Илларионовича. Он совершенно забросил домашние дела, перестал интересоваться детьми.
Вскоре на бедственное положение семьи Воронцовых обратила внимание императрица Елизавета Петровна. Старших девочек Марию и Елизавету взяли ко двору, сыновей отправили к их деду, престарелому графу Воронцову, а младшая Екатерина стала воспитанницей ее дяди Михаила Воронцова, растившего дочь примерно такого же возраста.
Роман Илларионович, разбросав детей по городам и весям, стал жить с некой англичанкой Елизаветой Брокет, родившей ему двух сыновей, получивших вымышленную фамилию Ранцовы. Отпрысков от Брокет граф любил всем сердцем и, как сказал современник, «они пользовались особенною нежностью своего родителя, так что на них уходило его состояние».
В 1749 году императрица определила десятилетнюю Лизу в придворный штат 20-летней великой княгини Екатерины Алексеевны, супруги наследника престола Петра Федоровича. Будущая государыня Екатерина II так описала юную фрейлину:
«Очень некрасивый, крайне нечистоплотный ребенок с оливковым цветом кожи, а после перенесенной оспы стала еще некрасивее, потому что черты ее совершенно обезобразились и все лицо покрылось не оспинами, а рубцами».
Екатерина Алексеевна как чувствовала, что эта некрасивая девочка с рубцами на лице вскоре уведет у нее мужа…
Лиза Воронцова росла во дворце в весьма фривольной атмосфере, постоянно наблюдая за «игрищами» великой княгини Екатерины, великого князя Петра, их многочисленных придворных. Девочку практически не обучали ни наукам, ни каким-то премудростям, и она жадно впитывала то, что ее окружало, а именно великосветскую распущенность.
Несмотря на то что над Лизой откровенно потешались и обзывали «широкорожей», в возрасте 15 лет фрейлина смогла обратить на себя внимание самого наследника – Петра Федоровича, которого при рождении звали Карлом Петером Ульрихом.
Удивительно, но цесаревич, и по крови, и по убеждениям немец, да к тому же женатый на немке Екатерине (Софии Августе Фредерике Ангальт-Цербстской), влюбился в русскую барышню, дочку купчихи Марфы Сурминой. При этом свою жену Петр ненавидел всей душой, а та в полной мере отвечала ему взаимностью.
В своих знаменитых «Записках» Екатерина Алексеевна, уже ставшая императрицей, рассказывала, что Петр Федорович имел весьма странные вкусы: цесаревича тянуло на всевозможные уродства. Именно поэтому, по мнению Екатерины, наследник и изменил ей с «широкорожей» Лизой Воронцовой.
Юную протеже Петр называл как какую-нибудь старушку из народа – Романовна.
При дворе выбор цесаревича вызвал немалое удивление. По мнению большинства, сделав метрессой Романовну, наследник «выказал очень прискорбный вкус».
Изумлены были и за границей. Вот что писал о Елизавете посол Франции в России Жан-Луи Фавье:
«Безобразие Воронцовой было невыразимо и не искупалось ни хорошим сложением, ни белизной кожи. Она была не лишена ума и при случае смогла бы воспользоваться своим положением, если бы на то представилась хоть малейшая возможность».
Петр Федорович, который в 26 лет был сущим ребенком, обожал играть со слугами в солдатики. Девица Романовна – тоже неуклюжий, веселый и добродушный ребенок – полностью соответствовала его представлениям о дружбе и любви. В отличие от великой княгини Екатерины Алексеевны Лизе от Петра не нужны были ни дорогие подарки, ни награды, ни власть.
Воронцова искренне и с большим удовольствием участвовала в играх Петра, едва ли не единственная при дворе понимала и разделяла его детские причуды. Умная, властная, образованная, серьезная и жестокая Екатерина пугала наследника. Рядом с женой Петр чувствовал себя крайне некомфортно и после тяжелых разговоров с супругой подолгу плакал в объятиях доброй и ласковой Елизаветы.
Екатерина прекрасно знала о романе великого князя с фрейлиной, но не стремилась пресечь эти отношения. Дальновидная будущая государыня понимала: увлечение «широкорожей» окончательно уничтожает и без того ничтожную репутацию Петра, а значит, Воронцова невольно льет воду на ее, Екатерины, мельницу. Не видела ничего страшного в романе Петра с Лизкой и императрица Елизавета Петровна, называвшая Воронцову «госпожа Помпадур».
В январе 1762 года Елизавета Петровна скончалась в Петербурге в возрасте 52 лет. Новым Императором и Самодержцем Всероссийским стал 33-летний Петр Федорович, принявший тронное имя Петр III.
Едва вступив на престол, Петр III объявил 22-летнюю графиню Елизавету Романовну Воронцову своей официальной фавориткой. Как зафиксировал современник, один из первых русских агрономов Андрей Тимофеевич Болотов, Петр почти все время проводил с Лизкой и «не скрывал ни перед кем непомерной любви к ней». Все это при живой и здравствующей супруге, императрице Екатерине Алексеевне, которую государь называл «запасная мадам».
Государевы милости посыпались на «госпожу Помпадур» как из рога изобилия. Император сделал барышню камер-фрейлиной, подарил шикарные апартаменты в Зимнем дворце неподалеку от своей опочивальни. 9 июня 1762 года Елизавета Воронцова получила вторую по значимости награду империи – орден Святой Великомученицы Екатерины, которым жаловали великих княгинь.
Не обделил Петр любимую и в материальном плане. Воронцова получила из казны 5 тысяч империалов на уплату ее многочисленных долгов, также ей было выделено золота и драгоценностей на 50 тысяч рублей.
Елизавета, получив огромное влияние на государя, стала вести себя высокомерно по отношению к императрице, ведь Екатерина Алексеевна была помехой на пути к счастью Петра Федоровича и фрейлины. Послы иностранных государств дружно сообщали своим правителям, что русский царь готовится заключить супругу в монастырь и сделать своей женою графиню Воронцову.
Возможно, так бы оно и вышло, если бы не ум, прозорливость и храбрость Екатерины Алексеевны. Помогла 33-летней императрице и красота, позволившая сделать фаворитами многих влиятельных мужчин империи.
Ранним утром 28 июня 1762 года братья Алексей и Григорий Орловы тайно перевезли Екатерину из Петергофа в Петербург, где императрице присягнули на верность гвардейские части. Узнав о переходе военных на сторону супруги, Петр III отрекся от престола, после чего его взяли под стражу. Вот как описывал дальнейшие события историк А. В. Гаврюшкин:
«Где-то достали вино, и началась всеобщая попойка. Разгулявшаяся гвардия явно собиралась учинить над своим бывшим императором расправу. Граф Никита Панин насилу собрал батальон надежных солдат, чтобы окружить павильон. На Петра III было тяжело смотреть. Он сидел бессильный и безвольный, постоянно плакал. Улучив минуту, бросился к Панину и, ловя руку для поцелуя, зашептал: „Об одном прошу – оставьте Лизавету Воронцову со мной, именем Господа милосердного заклинаю!“»
Разумеется, Лизавету с Петром не оставили. Гвардейцы под командованием Алексея Орлова вывезли низложенного императора из Петербурга в его дворец в Ропше. Здесь Петру Федоровичу было суждено прожить чуть больше недели. 6 июля 1762 года бывший самодержец погиб при невыясненных обстоятельствах.
Официальное следствие называло причиной смерти «геморроидальные колики» из-за неумеренного употребления горячительных напитков. В народе же были уверены, что Петра Федоровича убил Алексей Орлов. Не сомневались в насильственной гибели государя и за границей.
Но что же Лизавета? Графиню, только что жившую во дворце и купавшуюся в роскоши, взяли под стражу. Арестовал Воронцову все тот же Никита Панин. Фрейлина бросилась перед ним на колени и так же, как и ее возлюбленный, целовала Панину руки, умоляя не лишать ее жизни и позволить воссоединиться с Петром Федоровичем.
По приказу Екатерины метрессу низложенного императора отправили в подмосковное имение ее отца. Перед этим Лизавету лишили звания камер-фрейлины, отобрали орден Святой Екатерины. Отцу фрейлины, графу Роману Илларионовичу Воронцову, ее императорское величество написала следующее:
«Чтобы она уже ни с кем дела не имела и жила в тишине, не подавая людям много причин о себе говорить».
Приказ государыни Елизавета исполнила: не стремилась ко двору, не появлялась в Петербурге, нигде не рассказывала о романе с императором. 18 сентября 1765 года в подмосковном Конькове она тихо вышла замуж за статского советника А. И. Полянского, а через год родила дочь Анну.
Мало-помалу злость Екатерины II на «широкорожую» соперницу прошла, и императрица разрешила Елизавете перебраться с семьей в Петербург. В 1774 году 35-летняя Елизавета родила сына Александра. Екатерина II к тому моменту настолько сменила гнев на милость, что стала мальчику крестной матерью.
В 1776 году императрица выделила Воронцовой 45 тысяч рублей для уплаты долгов. Несмотря на расположение Екатерины, графиня предпочитала как можно реже показываться при дворе, большую часть времени посвящая воспитанию детей.
Пятнадцатилетняя Анна Полянская, дочка Елизаветы Романовны, в 1782 году была принята во фрейлины и получила от императрицы шифр – золотой с бриллиантами знак отличия для придворных дам.
Зимой 1792 года графиня Воронцова сильно простудилась и умерла в возрасте 52 лет. Ее дочь Анна удачно вышла замуж за барона Вильгельма д’Оггера, нидерландского посла в Петербурге, почти всю жизнь прожила за границей. Сын Александр, крестник Екатерины II, построил блестящую карьеру при дворе и в 1817 году, уже при Александре I, стал сенатором.
Так сложилась судьба женщины, которая стала другом одинокому и растерянному наследнику престола и едва не поплатилась за это жизнью.
Багрянородная
В палаты ввели четырнадцатилетнюю девочку в традиционном русском наряде. Молодой датский принц, насмотревшийся при дворе своего отца на самых поразительных красавиц, глядел со скукой. Ну, девочка и девочка.
«Походи, походи, Ирина, – приказал государь. – Покажи себя дорогому гостю».
Царевна прошлась по палатам, опустив прекрасные, опушенные длинными ресницами глаза. Принц отметил стройную да ладную фигурку, щечки румяные, как райские яблочки.
Царь, заметив промелькнувший в глазах молодого человека интерес, с гордостью сказал: «Хороша царевна! Багрянородная! Ради такой и душу диаволу продашь, не то что веру поменяешь».
О рождении царевны Ирины Михайловны в «Книге, глаголемой Новый летописец» сообщалось:
«В лето 7135 (1627) году родилась у государя царя и великого князя Михаила Федоровича всея Русии дочь царевна и великая княжна Ирина Михайловна и крещена была в Чудовом монастыре. А крестил ее сам святейший патриарх Филарет Никитич московский и всея Русии, а отец крестный – троицкий келарь Александр».
Появление на свет Ирины было знаковым событием как для государя Михаила, так и для всей династии Романовых. Доселе бездетный 31-летний царь наконец-то доказал и себе, и народу, что он способен на деторождение, а династия обрела надежду на получение в дальнейшем наследника престола.
Важно и то, что девочка была «багрянородной» царевной – то есть рожденной не от наследника московского престола, а от государя. Так ее и стали называть при дворе – Багрянородная.
Дочку царю подарила вторая жена, калужская дворянка Евдокия Стрешнева, которая чудом стала супругой государя и царицею. На смотре невест 1626 года, организованном матерью Михаила Федоровича, инокиней Марфой, Евдокия была всего лишь прислужницей одной из знатных невест. Но царю приглянулась не та, которой расчесывали косы, а та, которая это делала. Марфа зело была недовольна, но ничего поделать не могла.
Рождение царевны было широко отпраздновано на Руси. В городах звонили в колокола, в церквях проходили службы во здравие Багрянородной и ее венценосных родителей. На улицах Москвы устроили народные гуляния.
Росла девочка в тереме под приглядом многочисленных мамок да нянек. По приказу царя Ирину обучали грамоте и рукоделию. В 1640 году царевне Ирине исполнилось 13 лет. Глядя на живую, умную и красивую дочку, Михаил Федорович решил, что ее пора выдавать замуж. Новой правящей династии для укрепления влияния требовались родственные связи с иностранными государствами, поэтому жениха государь приказал искать за границей.
Прежде всего отправили посла в Данию. Это королевство вполне лояльно относилось к невестам из «варварской» Московии. Конечно, смерть в Москве 29 октября 1602 года датского принца Иоанна, жениха царевны Ксении Годуновой, несколько подпортила брачную репутацию русского царства – в Дании были уверены, что Иоанна отравили. Тем не менее Михаил Федорович надеялся, что события 38-летней давности не повлияют на судьбу его дочери.
Так оно и вышло. Русские послы без труда нашли Багрянородной жениха – 17-летнего Вальдемара Кристиана, графа Шлезвиг-Гольштейнского. Молодой человек был сыном короля Дании Кристиана IV и его второй морганатической (в неравном браке) супруги Кирстен Мунк. Вальдемар Кристиан был по сути бастардом (незаконнорожденным ребенком) и не являлся претендентом на престол, но Московскому царству на большее рассчитывать вряд ли приходилось.
Царя Михаила Федоровича предложенная датским королем кандидатура устроила, однако он попросил послов собрать в Дании побольше сведений о Вальдемаре. Выяснилось, что король Кристиан нежно любил младшего сына, подарил ему остров Тосинге и владение Керструп с замком Вальдемар Слот. К семнадцати годам принц объездил всю Европу, бывал во Франции, Англии, Италии, неоднократно выполнял дипломатические поручения отца в Швеции.
В целом Вальдемар Кристиан был завидным женихом, несмотря на сомнительность происхождения. Чтобы не упустить неплохую партию, Михаил Федорович поспешил пригласить юношу в Москву.
В 1641 году 18-летний граф (которого в России называли исключительно королевичем) прибыл в Белокаменную. При дворе Михаила Федоровича иностранного жениха приняли с небывалым почетом. Вальдемар привез русскому государю богатые дары, в том числе дошедший до наших времен уникальный кубок из серебра и золота.
В Москве королевич познакомился с четырнадцатилетней невестой и остался очень доволен красотою и статью Ирины.
Заключив по приказу отца торговый договор с Москвой, Вальдемар Кристиан отправился восвояси с обещанием вскоре вернуться и взять царевну в жены.
Возвратился Вальдемар в 1644 году, когда Ирине исполнилось 17 лет. Сразу после приезда королевича началось обсуждение условий брака.
К тому моменту Михаил Федорович крепко привязался к Вальдемару и очень желал, чтобы именно этот молодой человек стал его зятем. Препятствием было нежелание датчанина принимать православную веру взамен лютеранской. На переходе, причем непременно через перекрещивание, настаивал патриарх Иосиф. Королевич наотрез отказался сменить веру своих предков и заявил о желании вернуться в Данию.
Михаил Федорович не отпустил жениха. Между тем патриарх Иосиф отправил королевичу письмо, в котором попытался переубедить его. Вальдемар Кристиан, прекрасно разбиравшийся в богословии, написал ответ с весьма грамотными и содержательными возражениями. В конце послания Вальдемар попросил патриарха ходатайствовать перед государем о скорейшей отправке его на родину.
Для сочинения второго письма патриарх Иосиф привлек священника-справщика Ивана Наседку, известного своей ученостью. Но и это письмо не возымело на Вальдемара Кристиана необходимого действия. Тогда государь Михаил Федорович повелел провести в Москве открытые прения о вере.
Прения начались 2 июня 1644 года. Позицию православных отстаивали все тот же Иван Наседка, протопоп благовещенский Никита, протопоп черниговский Михаил Рогов и несколько видных греческих и малороссийских священников, оказавшихся в тот момент в столице. Противостоял этой «команде» лютеранский пастор Матфей Фильгобер, личный духовник Вальдемара Кристиана.
Православные доказывали, что девица русская, крещеная не может выйти за представителя иной веры. Однако Иван Наседка со товарищи не смогли свою правду в полной мере обосновать. Пастор Фильгобер в свою очередь напомнил, что великий князь Иван III выдал дочь замуж за католика – князя Литовского Александра Казимировича.
Понимая, что проигрывают в богословском споре, представители русского царя стали описывать прелести Ирины Михайловны:
«Быть может, он думает, что царевна Ирина нехороша лицом; так был бы покоен, будет доволен ее красотою, также пусть не думает, что царевна Ирина, подобно другим женщинам московским, любит напиваться допьяна; она девица умная и скромная, во всю жизнь свою ни разу не была пьяна».
После года богословских споров, в 1645 году, Вальдемар Кристиан категорически отказался принять православие. Для бедной Ирины, которая успела полюбить жениха и привыкнуть к мысли, что он ее суженый, это стало тяжелейшим ударом. Глядя на страдания дочери, царь осерчал и лишил королевича возможности покинуть Россию. По сути дела, датский жених был посажен под домашний арест.
В мае 1645 года Вальдемар и несколько рыцарей из его свиты предприняли дерзкую попытку бегства. Они разоружили охрану и бросились к Тверским воротам, намереваясь покинуть Москву. Однако у Тверских ворот беглецов задержали и разоружили.
Королевич предстал перед лицом русского государя и потребовал отпустить его к отцу. Царь отверг это требование и приказал содержать жениха под стражей. Так бедняга Вальдемар, столь недальновидно приехавший в Россию для женитьбы на юной красавице-царевне, оказался узником.
Датчане предпринимали и другие попытки освободить графа. Так, послы Дании организовали заговор с целью вытащить Вальдемара из России – тщетно. Михаил Федорович не внял даже настойчивой просьбе его величества короля Дании Кристиана.
Спасла графа только смерть царя Михаила. 14 июля 1645 года Алексей Михайлович вступил на престол, и уже 17 августа этого же года Вальдемар Кристиан преспокойно покинул Россию и отправился в Данию, даже не попрощавшись с 18-летней несостоявшейся невестой.
Ирина так и не стала супругой заморского королевича, зато играла большую роль при дворе своего младшего брата Алексея. Шестнадцатилетний царь полностью доверял старшей сестре, в своих письмах он неоднократно называл Ирину матерью.
Царевна зимой жила в палатах в Москве, летом – в Покровском, перешедшем ей по наследству от бабки – инокини Марфы. Усадьба Ирины Михайловны была одной из самых благоустроенных в России: царевна отличалась искренней любовью к садоводству. Значительную часть денег, которые выделял венценосный брат, она тратила на благотворительность, например на строительство женской Успенской обители.
Ирина выступала против преследования старообрядцев. В лице царевны нашли защитницу протопоп Аввакум и боярыня Феодосия Морозова. Только вмешательство царевны уберегло протопопа Аввакума от «усекновения языка» и отрубания руки; к этим карам он был приговорен в 1660 году. Ирина Михайловна была адресатом не одного письма Аввакума.
Царевна Ирина узнала о гибели Вальдемара Кристиана в 1656 году. По возвращении из России королевич перессорился с двором своего отца, а с матерью разругался в пух и прах по финансовым вопросам. В конце концов пребывание в Дании стало для Вальдемара не только невыносимым, но и небезопасным, и он отправился в Польшу, где поступил на военную службу.
В составе армии короля Швеции Карла X в 1656 году Вальдемар Кристиан принимал участие в польско-шведской войне и погиб в ходе битвы при Люблине в возрасте 33 лет.
В королевича Ирина была влюблена в детстве, но по большому счету она его совершенно не знала. Тем не менее после неудачи с Вальдемаром Кристианом Багрянородная больше никогда не стремилась под венец. Замуж так и не вышла, занимаясь своим садом в Покровском, а также воспитанием многочисленных племянников и племянниц – детей царя Алексея Михайловича. В июле 1672 года Ирина Михайловна стала крестной матерью новорожденного царевича Петра Алексеевича, будущего Императора Всероссийского.
Царевна тяжело заболела в 1679 году и скончалась в возрасте 51 года. В историю Ирина Михайловна вошла как одна из самых добрых, нестяжательных и скромных русских царевен.
Так сложилась судьба женщины, жених которой не захотел поменять веру ради нее и, вполне возможно, лежа со смертельной раной на усыпанном телами люблинском поле, пожалел об этом.
Турчаночка
Айша замерзла. «Мама», – позвала она. Но та не ответила. Девочка заплакала, прижимаясь к матери в тщетной попытке уловить хоть немного тепла.
Костер давно догорел, угли были похожи на черные камни. Стало еще холоднее, и Айша начала впадать в какое-то странное оцепенение. Никогда ранее за свою короткую жизнь она ничего подобного не ощущала.
Девочка едва различила шум – тысячи подошв стучали по пыльной дороге. Айша приоткрыла глаза и увидела шеренги солдат, проходящих мимо. Форма у них была не такая, как на тех, что сделали холодной ее маму, и Айша осмелилась пошевелиться.
Тут же от шеренги отделилась тень, и вот над оцепеневшей от страха девочкой склонился человек. Айша услышала слова на незнакомом языке: «Турчаночка… Живая… Господи ты мой Исусе Христе». Сильные руки подняли девочку.
Зимой 1878 года очередная Русско-турецкая война подходила к концу. Русские разгромили армию Сулейман-паши, захватили Филиппополь (ныне Пловдив, Болгария) и успешно наступали на Константинополь. Турецкое население в панике покидало насиженные места по Адрианопольскому тракту вместе с деморализованной турецкой армией.
В турецких и болгарских селениях творилось страшное. Отряды башибузуков, не подчинявшихся официальному турецкому командованию, устроили местному населению сущий ад. «Бешенные головы» (так буквально переводится с турецкого слово «башибузук») грабили беженцев, рубили их саблями, зверски насиловали болгарских (да и турецких) девушек.
К вечеру 12 января русский Кексгольмский гренадерский полк вступил в деревню Курчешма, выбив из нее осатаневших башибузуков. Нашим солдатам открылись тяжкие картины, которые генерал-майор Даниил Васильевич Краснов описал как «апокалиптические».
Уже стемнело, но зоркий глаз рядового 11-й нестроевой роты Михаила Саенко разглядел на коленях у погибшей турецкой женщины маленький живой комочек. Это был ребенок. Малыш, вцепившись в одежду матери, дрожал на пронизывающем январском ветру. Саенко выскочил из строя и, схватив ребенка, который оказался девочкой, спрятал под шинель. Шедшие рядом с Михаилом понурые солдаты приободрились, начали шутить.
Девочка отогрелась на груди у Саенко, начала что-то лопотать по-турецки. Так солдаты узнали имя найденыша – Айша.
Воины попеременно несли малышку, и эта «ноша» никому не была в тягость. Напротив, каждый хотел нести как можно дольше, этот маленький комочек жизни посреди всеобщего хаоса согревал души суровых мужчин. К Айше было приковано всеобщее внимание, с ней хотели поделиться тем немногим, что было, – краюхой хлеба, кусочком желтого сахара или просто улыбкой и добрыми словами. «Бог благословил нас дочкой», – тихо переговаривались бойцы, боясь потревожить уснувшую Айшу.
Девочка осталась в Кексгольмском полку. Все солдаты и офицеры сильно к ней привязались. Полковой портной сшил Айше теплое платьице из солдатской шинели, в аптечной телеге солдаты соорудили некое подобие комнатки, где малышка спала во время длинных переходов.
На биваках (привалах под открытым небом) осмелевшая Айша важно разгуливала среди палаток, заходила во все, особенно любила посещать офицерскую столовую. Воины старались угостить чем-нибудь вкусненьким или рассмешить ее.
Как писал фельдфебель Григорий Косарев, это было потрясающее единение вокруг ребенка множества мужчин, закаленных в боях, каждый день смотрящих в глаза смерти.
В феврале 1878 года Кексгольмский полк в составе русских войск достиг мыса Бююкчекмедже на побережье Мраморного моря в двадцати пяти верстах от столицы Турции. Офицеры, обсуждая готовящийся штурм Константинополя, нашли время для того, чтобы проголосовать о будущем Айши в полку. Решение было единогласным: «Признать Айшу дочерью полка, взять ее с собой в Россию и принять на себя все заботы о ее воспитании и благосостоянии ко времени совершеннолетия ее».
Офицеры собрали приличную сумму денег, на которую приобрели девочке одежду, обувь, большой сундук с провиантом и игрушками. В связи с предстоящим штурмом держать девочку в полку было опасно, поэтому ее пришлось временно передать монахиням местного женского монастыря.
Вскоре в полевой госпиталь поступила первая партия раненых, командование распорядилось отправить их в Варшаву, где на постоянной основе квартировал Кексгольмский полк. Айшу решили отправить в Польшу, где полк стоял постоянно, с сопровождающими.
Османский султан Абдул-Хамид II 19 февраля согласился подписать мирный договор. Пакт заключили в местечке Сан-Стефано в западной части Константинополя (ныне стамбульский район Ешилькёй). Турецкая официальная пресса опубликовала воззвание Абдул-Хамида к народу, объясняющее необходимость заключения мира с русскими:
«Наш милостивый и победоносный государь на этот раз совершенно один вышел из борьбы победителем неверных собак. В своей неимоверной благости и милосердии он согласился даровать нечистым собакам мир, о котором они унижено просили его. Ныне, правоверные, вселенная опять будет управляться из Стамбула. Брат повелителя русских имеет немедленно явиться с большою свитою в Стамбул и в прах и в пепел, в лице всего мира, просить прощения и принести раскаяние».
Вот такой интереснейший образчик восточной хитрости «для внутреннего пользования». Султан в информации для подданных перевернул все с ног на голову, обернул разгромное поражение своей победой, а триумфальный визит великого князя Николая Николаевича преподнес как визит по требованию Абдул-Хамида.
Как бы то ни было, война закончилась, и в 1878 году Кексгольмский полк вернулся в Варшаву. Здесь своих многочисленных «отцов» с нетерпением ждала Айша.
Примерно через год состоялось крещение турчаночки (так девочку называли солдаты) в православную веру. Окрестил Айшу полковой священник о. Стефан Мещерский, а на обряде присутствовали все офицеры полка.
Девочку нарекли Марией в честь императрицы Марии Александровны, ее крестным отцом стал поручик Константин Коновалов, крестной матерью – Софья Алексеевна Панютина, супруга командира полка Всеволода Федоровича Панютина. Девочка вошла в церковь как Айша, а вышла как Мария Константиновна Кексгольмская.
Сразу после крещения состоялось офицерское собрание, посвященное дальнейшей судьбе Марии. Был сформирован опекунский совет в составе ее крестного отца Константина Николаевича Коновалова, капитанов Александра Константиновича Райхенбаха и Петра Ивановича Толкушкина, штабс-капитана Якова Ивановича Петерсона. Председателем опекунского совета назначили Райхенбаха.
Для материального содержания дочери Кексгольмского полка был создан специальный фонд, куда каждый месяц поступал один процент от жалования всех офицеров. Также каждый офицер обязался вносить в фонд Марии 10 % от возможных наград и поощрений. Отдельной строкой прописали доходы офицеров с карточной игры – военные пообещали давать по 10 копеек от любого выигрыша больше этой суммы. Таким образом к совершеннолетию Марии сформировался бы солидный капитал, который она могла бы получить.
Но самым главным было то, что командир полка генерал-майор Всеволод Федорович Панютин принял девочку в свою семью. И он, и его супруга Софья Алексеевна сильно привязались к ребенку и относились к ней как к родной дочери.
В августе 1879 года Кексгольмский полк посетил император Александр II. Принимали государя в офицерской гостиной, и его величество обратил внимание на фотографию девочки на стене. Государь с удивлением спросил, кто это. Офицеры рассказали императору историю Марии и от имени всего полка попросили помочь «их дочери» получить место в Варшавском Александро-Мариинском институте благородных девиц. Взволнованный Александр II заявил, что сделает все возможное и будет лично просить императрицу об этом.
Государь не забыл о данном обещании. Уже в конце лета 1879 года в полк пришло письмо от императрицы Марии Александровны, в котором Мария Кексгольмская была определена в институт благородных девиц как личная пансионерка ее императорского величества.
Когда Марии исполнилось девять лет (примерно, так как точной даты рождения девочки никто не знал), в 1883 году, она поступила в учебное заведение, которое наметили для нее «отцы».
За обучением Марии следил весь полк. В офицерской гостиной даже вывешивали баллы, которые получила девочка, а генерал Панютин регулярно наведывался в институт, чтобы узнать, как поживает воспитанница. Постоянно посещали Марию и ее опекуны, и простые офицеры полка. Все привозили гостинцы – пряники, конфеты, игрушки, цветы.
Мария училась хорошо, отличалась примерным поведением. Когда одноклассницы «приглашали ее к шалостям», отвечала: «Вам все равно, а за меня будет краснеть весь мой полк». Обожала рукодельничать, стала лучшей ученицей по шитью и вышивке. Вышитые платочки дарила приходившим в гости офицерам, для них это был невероятно важный подарок, который хранят всю жизнь.
В возрасте 16 лет Мария успешно выпустилась из Александро-Мариинского института. Это событие отметили в офицерском собрании Кексгольмского полка, где девушке преподнесли бриллиантовый браслет стоимостью в несколько сотен рублей.
Побыв еще немного в полку, Мария отправилась в город Луцк, где, вышедши в отставку, проживал генерал Панютин с крестной матерью девушки, Софьей Алексеевной Панютиной.
Связей с Кексгольмским гренадерским полком Мария не оборвала, регулярно получала письма от офицеров. Осенью 1890 года полк участвовал в Волынских маневрах, на которые прибыла императрица. Мария Кексгольмская находилась на трибуне и обратила на себя внимание ее императорского величества. Царица с большим участием пообщалась с дочерью полка и пригласила в царскую ставку. Церемониальный марш Кексгольмского полка Мария смотрела уже из императорского ложа вместе с государем Александром III и императрицей Марией Федоровной. В следующем году на святки Мария побывала в Варшаве, где, разумеется, посетила родной полк. Офицеры устроили в ее честь бал и спектакль.
Один из офицеров, Борис Адамович, всего на пару лет старше Марии, писал в своих воспоминаниях:
«В нашей офицерской среде было какое-то отеческое чувство, которое исключало всякий намек на ухаживание, претящее чувству и сознанию родства. Маша была для нас дочерью полка, то есть – сестрой».
Если в Кексгольмском полку офицеры избегали ухаживаний за Марией, то на представителей других соединений это «правило» не распространялось. В 1891 году семнадцатилетняя турчаночка начала общаться с корнетом Александром Шлеммером, который служил в 33-м драгунском Изюмском полку, расквартированном в Луцке.
На следующий год Александр прибыл в расположение Кексгольмского гренадерского полка и на офицерском собрании попросил у кексгольмцев «руку их дочери». Офицеры, посовещавшись, дали разрешение.
Свадьба состоялась 4 ноября 1891 года в Варшаве, в храме Александровской крепости. Бракосочетание Марии Кексгольмской и Александра Шлеммера стало огромным событием для русской общественности Варшавы. В церкви яблоку негде было упасть, Мария и Александр получили более 300 поздравительных открыток, писем и телеграмм.
Своего представителя прислал шеф полка, император Австрии Франц Иосиф I, подаривший невесте крупный золотой браслет, украшенный бриллиантами. Драгоценный браслет подарила Марии и ее венценосная тезка, императрица Мария Федоровна. Но самый большой презент сделал Кексгольмский полк – офицеры преподнесли барышне собранные за годы 12 тысяч рублей. По тем временам – немалая сумма, но самое поразительное, что офицеры собирали деньги много лет буквально по копеечке.
Приглашение на свадьбу было отправлено и солдату Михаилу Саенко. К сожалению, он не смог прибыть, но отправил турчаночке телеграмму:
«Покорнейше прошу передать мое сердечное поздравление новобрачным. Желаю им счастья и благополучия. Общество дорогого полка благодарю за приглашение и поздравляю с семейным, радостным праздником. – Запасный рядовой Кексгольмского полка Михаил Дмитриевич Саенко».
Сразу после свадьбы корнет Шлеммер увез молодую супругу в свое имение Дубно в Орловской губернии. Однако Мария регулярно гостила у своих дорогих «родителей».
Став вполне состоятельной помещицей, Мария Константиновна щедро жертвовала деньги лазарету Кексгольмского полка, куда поступали раненые солдаты.
Шлеммеры переехали в Москву. К тому моменту в семье было двое детей – Павел и Георгий.
Через два года началась Первая мировая война, и в августе Кексгольмский полк должен был выступить в поход. Мария Константиновна, которой уже было 40 лет, просто не могла оставаться в стороне от событий, сотрясающих ее любимую страну, ее полк-семью.
Мария Шлеммер стала сестрой милосердия и самоотверженно выхаживала раненых. В лазарете им. Великого князя Николая Николаевича Марию Константиновну прозвали «Нет ли кексгольмцев?»: такой вопрос она неизменно и с огромным волнением задавала при поступлении в лазарет новой партии солдат. Мария лечила всех, не боялась ни язв, ни ран, ни разрывающего душу кашля, что привело к тяжким последствиям – женщина заразилась туберкулезом. Пройдя сложное лечение, ослабленная, исхудавшая сестра милосердия снова заступила на пост.
Октябрьскую революцию Мария встретила во Владикавказе. Треволнения и страдания привели к обострению болезни. Женщину отправили в туберкулезный санаторий в Сочи, где в июне 1918 года она узнала страшную новость – погиб ее старший сын Павел, вступивший с началом Гражданской войны в Добровольческую армию.
В 1920 году Мария отправилась в Новороссийск, где находился ее муж, офицер армии Врангеля. Оттуда они переправились в Ялту, где Мария лечилась от туберкулеза, а Александр от тифа. Увы, победить болезнь Марии Константиновне не удалось, она умерла 20 августа 1920 года в возрасте 46 лет, а через два месяца в Севастополе большевики расстреляли ее 54-летнего мужа.
После революции в живых остался лишь младший сын, офицер Кексгольмского полка Георгий. Ему удалось эвакуироваться. Он жил в Германии и скончался в 1977 году, не оставив потомства.
Так сложилась жизнь женщины, которую спас от смерти простой русский солдат. Она отплатила за добро, став сестрой милосердия, вытащив с того света множество безымянных бойцов, которые защищали нашу Родину.
Неплодная невеста
«Обрюхатить бы поскорее невесту», – вздохнула царица-инокиня Марфа, поглядывая на сына. Молодой царь усмехнулся: «Не тревожься, государыня, обрюхачу».
Они шли по сводчатым коридорам Московского кремля к Грановитой палате, где и должен был состояться смотр невест.
Барышни уже давно ожидали царя и сильно волновались. Десять прелестниц из разных сторон земли русской. Девять прошли жесткий отбор, включая унизительную проверку на плодовитость, осуществляли которую придворные врачи вместе с толстобрюхими, алчущими приятных зрелищ боярами.
Десятая претендентка, Татьяна, в отборе не участвовала. Ее заранее привезла на последний этап смотра мать государя, та самая инокиня Марфа. Послушный сынок должен был ткнуть пальцем именно в невысокую, востроносую Татьяну, а остальные барышни служили не более чем ширмой…
Но вот царь прошел вдоль ряда испуганных претенденток и указал на обворожительную, высокую и статную очаровательную девушку с длинной толстой косой. «Она!» – сказал государь.
Инокиня Марфа за его спиной издала звук, похожий на кряканье утки. Востроносая Татьяна, побледнев, едва не лишилась чувств.
Мария Хлопова родилась в семье коломенского боярина Ивана Хлопова. Детство провела в родительской усадьбе в Коломне. Грамоте девочку не обучали, изначально готовили к замужеству.
Иван Хлопов был не сильно знатным и не шибко богатым, но родню имел обширную и влиятельную, поэтому рассчитывал выдать дочь как можно выгоднее. В 1616 году Хлопов узнал, что новый государь, царь и великий князь всея Руси, 20-летний Михаил Федорович Романов, по примеру Иоанна Грозного затеял смотр невест. Мамкам да нянькам было приказано немедленно собирать в дорогу шестнадцатилетнюю Марию, ставшую к тому времени писаной красавицей.
Отправляясь с дочкой в Белокаменную, Иван Хлопов и не подозревал, что смотрины устроил вовсе не юный царь, а его мать, царица-инокиня Марфа, в миру Ксения Иоанновна Романова – женщина властная, самолюбивая да суровая. По большому счету мероприятие было фикцией, так как Марфа заранее выбрала сыну невесту из семьи знатных московских бояр, состоящих в родстве с Салтыковыми – родственниками и ближайшими союзниками царицы.
Смотр, по всей видимости, Ксения Иоанновна затеяла, чтобы показать народу: каждый знатный род Руси может возвыситься через женитьбу с государем.
Девиц в Москву съехалось множество, со всех концов государства. Отсев был строгим. Любые дефекты во внешности, проблемы со здоровьем, сомнения в плодородности становились причиной отправки барышни восвояси. В конце концов осталось десять претенденток, которых и представили Михаилу Федоровичу Романову.
Среди честно отобранных счастливиц находилась и, как сказали бы в наше время, внеконкурсная, примеченная Марфой невеста Татьяна – девка видная, но далеко не красавица. Между Михаилом Федоровичем и царицей была, скорее всего, устная договоренность, что государь укажет именно на предложенную Марфой девушку. Но царь спутал все планы.
Проходя мимо ряда взволнованных чаровниц, Михаил остановился рядом с Марией Хлоповой. Она зарделась от смущения, что маков цвет, скромно потупила очи, еще более взбудоражив государя.
Марию объявили царской невестой, выделили великолепные апартаменты во дворце. Кроме того, боярышня получила новое имя – Анастасия. Имя было выбрано неслучайно: Анастасией звали первую супругу царя Ивана Грозного, представительницу рода Захарьиных-Юрьевых, впоследствии ставшего Романовыми. Тем самым Михаил Федорович хотел в очередной раз подчеркнуть преемственность от Рюриковичей своей зарождающейся династии.
Для боярского рода Хлоповых настали радостные дни. Многочисленная родня невесты массово прибывала ко двору в ожидании милостей государевых.
Но вдруг Мария захворала. У нее начались рези в животе, а также рвота. Осмотр девушки проводили придворные лекари Балсырь и Валентин Бильс. Доктора не выявили отравления либо каких-то опасных заболеваний. По результату осмотра было выдано заключение: «Плоду и чадородию от того порухи не бывает».
Для государя, который хотел как можно скорее заполучить наследника, это было самым важным. Казалось, тучи над Марией Хлоповой рассеялись, но тут в дело вмешались царица-инокиня Марфа и царский окольничий Михаил Салтыков, родственник отвергнутой государем «внеконкурсной» невесты.
Салтыков заставил лекаря Балсыря признать болезнь Марии неизлечимой, а саму девушку – бесплодной. Как только об этом доложили царю Михаилу, Марфа немедленно потребовала удаления Хлоповой из Москвы. Дальнейшая судьба «неплодной» невесты решалась на Земском соборе. Марию-Анастасию защищали ее родственники, обвиняли – бояре Салтыковы да вездесущая Марфа.
Дядя невесты, Гаврила Хлопов, утверждал следующее: «Болезнь произошла от сладких ядей. Болезнь проходит, невеста уже здорова. Не след отсылать ее с верху!»
Сладкие яди – это пряники, леденцы и сахарная вода, коими щедро одарили Марию бояре Салтыковы сразу после того, как девицу выбрал царь. Наивная красавица с удовольствием отведала гостинцы, а вскорости ее скрутило.
Земский собор доводы Гаврилы Хлопова не убедили. Да и боялись бояре прогневить царицу-инокиню. Поэтому было вынесено решение: «Мария Хлопова к царской радости непрочна».
Наказание в отношении «неплодной» было суровым – ссылка в Тобольск. Вместе с Марией в Сибирь отправились ее бабка, тетка и два дяди. С отцом девушку разлучили: Ивану Хлопову было приказано отправиться на воеводство в Вологду.
Для Михаила Федоровича обвинение в адрес невесты стало ударом. Государь долго плакал, узнав о том, что Мария не сможет родить ему наследника.
Царь Михаил и сам от рождения не отличался крепким здоровьем и «скорбел ножками» настолько, что порой его «до возка и из возка в креслах носили». Хлоповой государь сильно сочувствовал и приказал сообщать ему обо всех изменениях в ее здоровье.
Чувство царя к Марии Хлоповой было настолько сильным, что он игнорировал все увещевания царицы Марфы, требовавшей от сына жениться и продолжить династию. А Мария оставалась в Тобольске.
В 1619 году из польского плена вернулся отец государя митрополит Филарет. Михаил Федорович с почестями встретил родителя, а вскоре его выбрали в патриархи. Возвращение Филарета отодвинуло на второй план инокиню Марфу: царица перестала играть столь заметную роль при дворе.
Узнав о ссылке в Тобольск несостоявшейся невесты царя, Филарет пожурил сына за малодушие. В результате Марии и ее родственникам было позволено поселиться сначала в Верхотурье, а затем, в 1621 году, в Нижнем Новгороде.
Впрочем, Филарет не призывал сына заключить брак с Хлоповой. Положение первого царя Романова было настолько шатким, что патриарх советовал сыну взять в жены иностранную невесту и тем самым укрепить позиции государства. По совету отца Михаил Федорович посватался к Доротее-Августе, племяннице датского короля Христиана. Однако Христиан отказал русскому царю, сославшись на то, что его брата Иоанна, приехавшего в Московию для женитьбы на дочери царя Бориса Годунова царевне Ксении, «уморили отравою».
Михаил Федорович в 1623 году отправил сватов в Швецию. Целью посольства была местная княжна Екатерина, близкая родственница шведского короля. Однако она ни в какую не хотела перейти в православную веру, и послы воротились ни с чем.
Михаил Федорович, отчаявшись найти суженую за границей, снова заговорил о Марии Хлоповой: «Сочетался я по закону Божию, обручена мне царица, кроме нея, не хочу взять иную». Эти слова вызвали раздражение у инокини Марфы, которая снова обвинила Марию в бесплодии. Патриарх Филарет усомнился в том, что девушка «неплодна», и приказал провести новое дознание.
Создали комиссию во главе с боярином Федором Ивановичем Шереметевым. Он первым делом допросил родителей несостоявшейся невесты, а также врачей Бильса и Балсыря. Все сходились во мнении, что Мария – совершенно здоровая барышня.
Летом 1623 года комиссия выехала в Нижний Новгород, чтобы провести повторный осмотр Марии. Вместе с дознавателями отправились врачи Бильс и Балсырь. Используя все доступные достижения медицины того времени, эскулапы освидетельствовали девицу и пришли к выводу: «Марья Хлопова во всем здорова».
В записях боярина Шереметева сохранился и протокол допроса невесты. Мария относительно своей внезапной хвори сказала следующее:
«Как была я у отца и у матери, и у бабки, так болезни никакие не бывали, да и на государеве дворе будучи, была здорова шесть недель, а после того появилась болезнь, рвало и ломало нутрь и опухоль была, а чаю, то учинилось от супостата, и была та болезнь дважды по две недели. Давали мне пить воду святую с мощей, и оттого исцелена, и полегчало вскоре, и ныне здорова».
Получив доклад врачей, следственная комиссия заявила государю о раскрытии заговора. Обвинили двух братьев Салтыковых – Михаила и Бориса. Главным виновником интриги против государевой невесты Шереметев назвал Михаила Салтыкова, а дядя отвергнутой красавицы, Гаврила Хлопов, заявил, что злодейство учинено Салтыковым из вражды лично к нему. От комиссии Шереметева не укрылась и неприглядная роль в этом деле царицы-инокини Марфы.
Ознакомившись с выводами следствия, Михаил Федорович крепко осерчал. Михаил и Борис Салтыковы были официально обвинены в том, что они: «Государской радости и женитьбе учинили помешку».
Царь Михаил отнял у братьев-злодеев все вотчины и поместья, лишил их придворных чинов и вместе с семьями сослал по самым отдаленным деревням. Мать Михаила и Бориса, боярыню Салтыкову, заключили в монастырь.
Свою родительницу Михаил Федорович не тронул, но отправил в Суздальский монастырь ее верную наперсницу, старицу Евникию.
Разобравшись с обидчиками своей невесты, государь вознамерился вернуть Марию Хлопову в Москву и немедленно на ней жениться. Однако снова на пути влюбленного встала его старуха-мать, заявившая: «Если Хлопова будет царицей, не останусь я в царстве твоем».
Для Михаила это была суровая угроза, и ровно через неделю после наказания Салтыковых он отправил Ивану Хлопову царскую грамоту, поставившую точку в любовной истории слабого ножками государя и «неплодной» невесты: «Мы дочь твою Марью взять за себя не изволим».
Инокиня Марфа победила.
В 1624 году Михаилу Федоровичу исполнилось 28 лет. С учетом мужской смертности XVII века возраст для холостяка достаточно зрелый. Марфа постоянно подсовывала сыну невест по своему усмотрению, но государь, все еще тосковавший по Марии, всякий раз отказывался.
Наконец, в сентябре 1624 года Марфа предложила Михаилу Федоровичу новую кандидатку в жены – княжну Марию Владимировну Долгорукову, представительницу одного из древнейших русских аристократических родов, отменную красавицу. И на этот раз Михаил Федорович не сильно упорствовал: «Аще и не хотя, но матере не преслушав, поять вторую царицу Марью».
Пышная свадьба состоялась в 1624 году в Москве. Торжества продолжились и на следующий день, но юная царица в них уже не участвовала. Ей стало дурно еще во время пира, а затем ее состояние ухудшилось:
«Во второй же день царица Мария Владимировна обретеся испорчена. Грех ради наших от начала враг наш диавол, не хотя добра роду христианскому, научи враг человека своим дьявольским наущениям и ухищрениям, испортиша царицу Марью Владимировну, и бысть государыня больна, и бысть скорбь ея велия зело».
Какая именно хворь приключилась с Долгоруковой – непонятно, известно только то, что через несколько месяцев царица скончалась. В народе смерть царицы Марии Владимировны называли наказанием Романовым за то, что они так подло поступили с безвинной Хлоповой.
Отец «второй Марии», князь Владимир Тимофеевич Долгоруков, был так потрясен смертью дочери-царицы, что заперся в полном одиночестве в своем московском доме и вскоре совершенно сошел с ума.
Огромным ударом смерть жены стала и для Михаила Федоровича. Государь был уверен, что Господь не подарит ему «добрую невесту».
Но царь ошибался.
В 1626 году состоялись новые смотрины, участвовали в которых 60 красавиц из аристократических семей. Знатные барышни не приглянулись царю, но вот прислужница одной из них, дочь мещовского дворянина Евдокия Стрешнева, вызвала живейший отклик.
На этот раз царь не прислушался к увещеваниям матери-инокини и 5 февраля 1626 года сыграл с Евдокией свадьбу. Обвенчал молодых сам патриарх Филарет, полностью поддержавший выбор сына.
В этом браке Михаил Федорович Романов и нашел долгожданное семейное счастье. Супруга любила царя всем сердцем, не участвовала ни в каких придворных интригах и родила десятерых детей, в том числе наследника престола Алексея.
Но что же стало с Марией Хлоповой, с той, что тоже могла подарить царю счастье, но была лишена этой возможности из-за интриг царицы и братьев Салтыковых? Михаил Федорович, окончательно отказавшись от «неплодной невесты», не забыл о ней. По приказу царя молодой женщине предоставили великолепные палаты в Нижнем Новгороде, большой штат слуг и полное содержание.
В Нижнем Мария жила в богатстве и уважении, но замуж так и не вышла, храня себя в чистоте, как она говорила, «для государя». В 1633 году Марья Ивановна захворала неведомой болезнью и скоропостижно скончалась, на два года пережив своего главного врага – умершую в 1631 году царицу-инокиню Марфу.
Так сложилась судьба женщины, которую злодейски лишили заслуженного шанса на личное счастье.
«Давай в темноте»
«Пала Софья», – шептались в свете. Короткий, но яркий роман с князем Вяземским обошелся юной барышне слишком дорого: она забеременела.
Стоя на берегу прудика в родительском имении, Софья плакала и думала о своей тяжкой судьбе. Боженька не дал ей красивого личика, но дал кое-что другое. Сколько раз Софья слышала, проходя мимо мужской компании: «Какие изумительные изгибы, вот бы еще и лицо посимпатичнее!»
Впрочем, для большинства и изгибов было вполне достаточно. Вот, например, как для Вяземского. Теперь-то она поняла, почему князь Григорий так настаивал, чтобы в их секретной комнатке не было света. «Давай в темноте, Софочка», – шептал он горячо.
Осенний лист, кружась, опустился на холодную гладь пруда. Софья вздрогнула, выйдя из оцепенения. Да, теперь она носит внебрачного ребенка, ее репутация погублена, а жизнь пройдет в темноте… В темноте…
В 1827 году в селе Смольково Пензенской губернии в семье небогатого местного помещика Андрея Николаевича Бахметева и его супруги, Варвары Петровны Бахметевой (в девичестве Ермолаевой), родилась девочка, которой дали имя Софья.
Отец Софьи был человеком образованным и начитанным, он сумел с раннего детства привить девочке любовь к учению. Особый талант у нее обнаружился к иностранным языкам: уже к четырнадцати годам девочка свободно говорила на английском, французском и итальянском. В зрелом возрасте Бахметева владела четырнадцатью иностранными языками.
Еще одним большим увлечением Софьи было чтение. Барышня умудрялась быть в курсе почти всех новинок европейской и отечественной литературы, даже находясь в селе Смольково, а уж после того, как семья Бахметевых временно поселилась в Москве, Софья погрузилась в мир изящной словесности в полной мере. Юная провинциалка стала посещать литературные салоны, где познакомилась со многими выдающимися деятелями искусств.
Несмотря на скромные внешние данные, Софья пользовалась у мужчин немалым успехом. Вот как рассуждал о секрете ее привлекательности современник Бахметевой, публицист и драматург Константин Головин:
«Она была живым доказательством, что обаяние не нуждается в красоте. Черты лица ее привлекательными не были, но умные глаза и умный тоже золотой голос придавали малейшему ее слову что-то особенно завлекательное».
Головин забыл упомянуть еще один «секрет» Софьи – потрясающая фигура, стройная и гармоничная, коей позавидовала бы любая светская красавица. Знакомые высказывались еще категоричней: «Бог усадил некрасивую голову Бахметевой на тело Венеры».
Помимо прочего, Софья была невероятно обаятельной, веселой и общительной.
В 1846 году на одном из литературных салонов 19-летняя Софья познакомилась с 23-летним князем Григорием Вяземским. Между молодыми людьми начался пылкий роман, и вскоре барышня забеременела.
Ситуация предельно ясна: девушка, что называется, «пала», поэтому семья Бахметевых ждала от князя предложения в адрес Софьи. Однако Вяземский не спешил засылать сватов, и мать Софьи, Варвара Петровна, обвинила Григория в затягивании времени и нежелании жениться. Вяземский никак не отреагировал, после чего за честь Софьи вступился ее брат Юрий. Князь получил вызов на дуэль.
Поединок состоялся в конце 1847 года в Петровско-Разумовском. Вяземский оказался метким стрелком: убил Юрия Бахметева наповал. Для Софьи известие о том, что она является невольной виновницей смерти брата, стало шокирующим.
Тем не менее 29 февраля 1848 года она благополучно родила совершенно здоровую девочку, которую назвали так же, как и мать, и для предупреждения кривотолков оформили как дочь старшего брата Софьи – Петра.
Несмотря на эти усилия, избежать сплетен не удалось. В свете Софью за глаза обвиняли в гибели брата. Чтобы как-то спастись от косых взглядов и упреков, молодая женщина была готова выйти замуж за первого встречного. Этим человеком оказался Лев Миллер, офицер-кавалергард, родственник поэта и дипломата Федора Ивановича Тютчева.
Брак оказался несчастливым. Миллеру жена вскоре надоела, он надолго исчезал из дома. Общение между супругами почти прекратилось, они стали жить раздельно. Другая барышня, скорее всего, не выдержала бы обрушившихся на нее испытаний, но природное жизнелюбие Бахметевой помогло ей не только выстоять, но даже наслаждаться жизнью.
Софья все так же посещала литературные салоны, участвовала в светских раутах и маскарадах, ставших особенно популярными в Москве невероятно холодной зимой 1851 года.
Барышни обожали костюмированные балы по той причине, что на них любая девица, даже самых строгих правил, могла вести себя более раскованно, не рискуя стать предметом светского злословия. Софью маскарад привлекал тем, что на нем она была настоящей красавицей. Скрыв под нарядной маской далеко не самое привлекательное лицо, Бахметева, обладавшая идеальной фигурой, словно магнит притягивала мужчин.
И вот на одном из балов она «притянула» сразу двух молодых, но уже познавших славу писателей – Алексея Константиновича Толстого и Ивана Сергеевича Тургенева. Великолепно сложенная девушка в венецианской маске и изумительном французском платье вызвала у Тургенева и Толстого живейший интерес. Нежный голос Софьи и волновал, и убаюкивал, и обещал путешествие в неведомые дали.
Молодые люди непринужденно болтали с незнакомкой весь вечер. Барышня проявляла невероятный ум, свободно и обстоятельно говорила о литературе, философии, истории. Увлеченность Алексея и Ивана была неподдельной.
Тургенев, более известный и считавшийся намного талантливее Толстого, явно привлекал Софью в гораздо большей степени, чем его приятель. Алексей, очарованный дамой в маске, был «совершенно раздавлен» ее пренебрежением.
Тургенев, не замечавший, что творится с другом, пригласил собеседницу на свидание. Бедняга Толстой унизительно напросился с товарищем.
Но вот красавица сняла маску и… оказалась совсем не красавицей.
На Тургенева это «разоблачение» произвело неизгладимое впечатление: очевидно, Иван Сергеевич нафантазировал себе невесть что. Впоследствии писатель вспоминал: «Что же я тогда увидел? Лицо чухонского солдата в юбке!»
Внешность Софьи и правда была далека от идеала «тургеневской барышни». Вместо тонких аристократических черт лица Иван Сергеевич увидел нос утицей, большой лоб и тяжелый подбородок. Тургенев сразу же скис, потерял интерес и разговаривал с молодой женщиной неохотно, чуть ли не зевая.
А вот Толстого внешность Бахметевой ничуть не смутила. Крупный, невероятно сильный Алексей Константинович разглядел в миниатюрной Софье не неказистый нос и тяжелую челюсть, а добрые, лучистые и невероятно печальные глаза. Эти глаза покорили Толстого на всю жизнь, сподвигли на написание стихотворения, положенного на музыку Петром Ильичом Чайковским и ставшего одним из самых известных, самых чарующих русских романсов:
Граф Алексей Константинович Толстой был представителем знатной фамилии, другом детства царя Александра II, талантливым писателем и наследником немалого состояния. В свете он считался завидным женихом, но вот Софье Бахметевой здоровяк, спокойно поднимающий взрослого человека одной рукой и скручивающий винтом кочергу, почему-то не понравился. Но она все равно принимала ухаживания Толстого и давала понять, что считает его своим женихом.
Пока Алексей Константинович писал Бахметевой восторженные и пылкие письма, сочинял полные нежности стихи, Софья во время оздоровительной поездки в Саратов «пала в объятия» писателя Дмитрия Григоровича. Из Саратова Бахметева отправилась в родное имение Смольково в Пензенской губернии, там в те годы жили ее родители.
Между тем до Толстого дошли слухи о романе невесты с Григоровичем. Слухи были настолько неприличными, что Алексей Константинович немедленно выехал в Смольково.
Бахметевы встретили графа с распростертыми объятиями. Софья спокойно выслушала жалобы Толстого, после чего честно поведала ему все о своей жизни.
Алексей Константинович из уст любимой женщины узнал о соблазнителе-Вяземском, о гибели брата, о внебрачной дочери, об осуждении света.
Толстого потряс рассказ Софьи. От гнева не осталось и следа. Теперь эта женщина была для него несчастным человеком с тяжелым прошлым. Алексей Константинович надеялся, что именно он сможет избавить Софью от «демонов прошлого» и подарить ей покой и семейное счастье.
«Бедное дитя, с тех пор как ты брошена в жизнь, ты знала только бури и грозы… Мне тяжело даже слушать музыку без тебя. Я будто через нее сближаюсь с тобой!»
В ослеплении любви граф забывал, что Софья – замужняя женщина. Миллер, несмотря на то что брак был фиктивным, развода супруге не давал. Толстой и Бахметева встречались тайно и очень редко.
Развитию этого романа не способствовала и позиция матери Алексея Константиновича, Анны Алексеевны Толстой. Графине было известно о «падении» Бахметевой-Миллер, о внебрачном ребенке, доходили до нее и непристойные слухи о том, что с каждого бала Софья уезжает с новым кавалером.
Однажды увидав Бахметеву в свете «вживую», Анна Алексеевна поразилась, как сын мог влюбиться в эту «чернавку» (так называли служанок в барском доме, выполняющих самую черную работу).
В разгар Крымской войны, в 1855 году, 38-летний Алексей Константинович надумал создать добровольное ополчение из жителей его имений Красный Рог, Почеп, Погорельцы и прочих. Однако сделать это не удалось, и Толстой поступил добровольцем в стрелковый полк Императорской фамилии. До фронта Алексей Константинович так и не доехал. В Одессе произошла вспышка тифа, выкосившая чуть ли не половину полка. Толстой выжил лишь чудом. И чудо это звали Софья Андреевна Бахметева-Миллер.
Узнав о болезни друга, Софья Андреевна немедленно отправилась в Одессу. На этот раз женщина ни от кого не таилась и, не обращая внимания на осуждение общества, выхаживала больного писателя. Тиф отступил, а вскоре Лев Миллер все-таки дал супруге развод.
Когда скончалась мать Алексея Константиновича, графиня Анна Алексеевна, на пути влюбленных больше не имелось препятствий. Однако Толстой и Бахметева сочетались законным браком лишь в 1863 году в Дрездене, спустя 12 лет после знакомства.
Поначалу жизнь молодоженов была безоблачной. Чрезвычайно деликатный и добрый Алексей Константинович и словом не упрекнул супругу за прошлое. Толстой относился к Софье, как к ребенку, бесконечно жалел ее, наивно полагая, что жена хочет только покоя. Писатель ошибался: в имении Красный Рог под Брянском его супруга вовсе не чувствовала себя счастливой. Женщина сильно скучала, раздражалась по пустякам. Мужа Софья Андреевна называла исключительно по фамилии: «Какие глупости ты говоришь, Толстой!!»
Алексей Константинович стремился исполнять все пожелания жены. Зимой пара вместе с внебрачной дочерью Софьи Андреевны (которую граф удочерил) отправлялась в Европу, где скучающая дама без зазрения совести тратила графские деньги на роскошь.
Раздражение Софьи Андреевны на супруга усиливалось с каждым годом. Женщина считала Толстого довольно слабым писателем, уж конечно, значительно хуже Ивана Тургенева, когда-то метко назвавшего ее «чухонским солдатом в юбке». Алексей Константинович, сильно страдавший из-за плохого отношения жены, начал болеть. У него появились головные боли, невралгия. Однажды местный врач предложил Толстому снимать болезненные ощущения с помощью морфия. Это предложение стало билетом на тот свет.
Граф Толстой погибал медленно, но верно. Софья Андреевна видела это и ужасно страдала. Чуть ли не на коленях она умоляла супруга остановиться или хотя бы не повышать дозировку препарата. Но Алексей Константинович отшучивался: «Вечный сон не страшнее постоянной головной боли».
В 1875 году Софья Андреевна обнаружила мужа в его постели мертвым. Врач диагностировал передозировку морфином. Писателю на момент смерти исполнилось 58 лет.
Когда Толстого хоронили на кладбище в Красном Рогу, графиня плакала навзрыд и умоляла покойного мужа простить ее. По словам безутешной вдовы, никогда еще она не оказывалась в такой темноте. После похорон Софья Андреевна перебралась с дочерью в Петербург.
В городе на Неве у графини Толстой имелся собственный литературный салон, весьма популярный. Мнением Софьи Андреевны дорожили, к нему прислушивались. Дочь, Софья Петровна, к тому времени уже находившаяся замужем за дипломатом и поэтом Михаилом Александровичем Хитрово, повсюду сопровождала мать.
В конце 70-х годов у Софьи Андреевны, по некоторым сведениям, возник роман с писателем Федором Михайловичем Достоевским. Тот очень ценил мнение Толстой о своем творчестве, регулярно посещал дом графини, о чем в свете немало судачили. Отношения эти, по всей видимости, продолжались вплоть до смерти Достоевского в 1881 году.
Последние годы жизни Толстая посвятила любимому делу – путешествиям. Она объехала всю Европу, подолгу жила в Париже, Баден-Бадене, Лиссабоне. Она скончалась в Португалии в 1895 году в возрасте 68 лет. В соответствии с завещанием графини Толстой, ее тело привезли в имение Красный Рог и похоронили рядом с мужем.
Так сложилась жизнь женщины, которая, не была красавицей, не обладала добрым характером и не имела репутацию «честной девушки», но смогла навеки покорить сердце добрейшего человека и гениального поэта и прозаика Алексея Константиновича Толстого.
«Порочный зверь»
Муж рвался в опочивальню. Наташа умоляла Владимира образумиться, но тот не отступал. Дверь содрогалась под ударами, и наконец замочек не выдержал.
Затрещала ткань платья, всхлипнула под внезапно обрушившейся тяжестью кровать. Наташа рыдала, стараясь представить себя в другом месте, далеко отсюда. Бедняжка не знала, что ее страдания только начинаются.
Юлия Вячеславовна Свенцицкая, супруга московского присяжного поверенного Сергея Александровича Шереметьевского, 27 июня 1880 года родила девочку, назвали которую Натальей. Наташа появилась на свет на съемной летней даче в Перово на окраине Москвы. Она была третьей и самой младшей дочерью Сергея Александровича и Юлии Вячеславовны.
Семья Шереметьевских не была ни знатной, ни особо богатой. Отец Наташи сам пробил дорогу в жизни, создав юридическую контору, в которой в лучшие годы трудилось до одиннадцати адвокатов. Среди москвичей Сергей Александрович пользовался большим уважением, что позволило ему избраться в Московскую городскую думу.
Детство Наташи проходило на съемных квартирах: за время жизни в Москве семья сменила несколько адресов. Отец нанял девочке французскую гувернантку, обучавшую иностранным языкам, правильной речи и изящным манерам. После того как гувернантка исчерпала свой «образовательный потенциал», Наташа поступила в частную школу.
В 1902 году красавица Наталья Шереметьевская познакомилась с Сергеем Ивановичем Мамонтовым, двоюродным племянником знаменитого предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова.
Сергей трудился дирижером и музыкантом-аккомпаниатором в принадлежавшей его дяде Частной русской опере. После банкротства мамонтовской оперы Сергей перешел в Большой театр. Мамонтов познакомил Наталью со многими знаменитостями, например с Сергеем Рахманиновым и Федором Шаляпиным.
Осенью 1902 года влюбленные обвенчались. Наталья родила дочку Наташу, или, по-домашнему, Тату, 2 июня 1903 года.
После этого отношения в семье, до того безоблачные, ухудшились. Наталье, любившей блестящую великосветскую жизнь, супруг стал казаться скучным и неинтересным человеком. Он действительно был очень замкнутым, чему способствовало сильное заикание и комплексы по поводу своей довольно заурядной внешности.
Пока Сергей сидел в библиотеке с книжкой, Наталья выходила в свет. На вопросы, почему она без мужа, смеясь, отвечала, что ее супруг «социально скучен».
На одном из светских раутов Наталья внезапно встретила друга детства, Владимира Вульферта, и с трудом узнала его. Пухлый мальчик по прозвищу Вово превратился в высокого стройного мужчину с лихо подкрученными черными усами. Поручик Вульферт служил в лейб-эскадроне «синих кирасир», командовал которым великий князь Михаил Александрович, младший брат императора Николая II.
Наталья была изумлена переменам в Вово и не заметила, как влюбилась. Пара начала тайно встречаться на съемной квартире.
В 1905 году Наталья поняла, что больше не может скрывать свою любовь, и во всем призналась мужу. Сергей Мамонтов был совершенно разбит известием о неверности супруги, но согласился дать ей развод. Более того, в связи с законами Российской империи, Мамонтову пришлось выступить в роли «неверного партнера», то есть он назвал себя виновным в прелюбодеянии с некой молодой особой. Благодаря самоотверженности Сергея развод состоялся быстро, и после развода Наталья вышла за Владимира Вульферта.
Поначалу брак был довольно счастливым, хотя Наталью тревожили вспышки ревности супруга.
В начале декабря 1907 года Владимир познакомил жену со своим командиром, великим князем Михаилом Романовым. Князь был поражен красотой Натальи, не отходил от нее ни на шаг, шутил, рассказывал интересные истории. Для мадам Вульферт внимание Михаила Александровича было настоящим открытием: оказывается, она могла очаровывать не только пианистов и поручиков, но и особ царской крови.
В январе на Полковом зимнем балу состоялась вторая встреча Натальи с великим князем. Его императорское высочество был исключительно любезен и внимателен.
Встречи Натальи и Михаила стали регулярными, в полку распространился слух, что жена прапорщика Вульферта ему неверна. Владимир поверил сплетням и избил супругу ремнем. В ответ Наталья наотрез отказалась исполнять супружеский долг.
В июле 1909 года Наталья написала письмо близкой подруге, в котором рассказала, что супруг изнасиловал ее. Произошедшее стало последней каплей: Наталья спешно выехала в Швейцарию с дочерью Татой, двоюродной сестрой и двумя горничными.
Между тем Михаил Александрович предпринимал попытки воссоединиться с любимой женщиной. Министру двора барону Фредериксу было приказано откупиться от Вульферта должностью адъютанта. Владимир от «взятки» отказался и заявил, что застрелится из револьвера, если Наталья не вернется к нему.
Немного позднее великий князь получил от поручика Вульферта официальный вызов на дуэль. Поединок не состоялся. Николай II, узнав о произошедшем, перевел Михаила Александровича в 17-й гусарский Черниговский полк в Орле.
В августе из Орла великий князь отправился в отпуск в Данию, заранее договорившись с Натальей встретиться в Копенгагене. В одном из отелей датской столицы и состоялось воссоединение влюбленных: они впервые провели ночь под одной крышей.
В ноябре Наталья вернулась в Москву, а Михаил проследовал в Орел, к месту службы.
Вульферт, узнав о возвращении супруги, написал письмо с требованием немедленно прийти к нему, в противном случае выразил готовность застрелить Наталью.
Женщине приходилось скрываться, вести затворническую жизнь. Вскоре Наталья поняла, что беременна, и ее желание поскорее развестись с мужем стало еще сильнее.
Представители Михаила Александровича в то же время вели напряженные переговоры с Владимиром. В конце концов 200 тысяч рублей и обещание хорошей должности при дворе решили дело: Вульферт согласился на развод.
Наталья родила сына 24 июля 1910 года, назвали которого Георгием. Николай II, узнав о появлении у брата незаконнорожденного ребенка, был вынужден смягчиться. Император позволил Наталье жить в орловском поместье Брасово, принадлежащем Михаилу Александровичу, а кроме того, ей и сыну присвоили фамилию Брасовы.
Великий князь всей душой желал жениться на Наталье, но государь был категорически против этого брака. Николай отзывался о возлюбленной брата самым жестким образом: «Такой хитрый, порочный зверь, что о ней противно даже говорить».
Михаил не послушался венценосного брата и 17 октября 1912 года в Вене в сербской православной церкви Святого Саввы вступил с Натальей в морганатический брак. Николай II был вне себя, когда узнал о случившемся:
«Между мною и им сейчас все кончено, потому что он нарушил свое слово. Сколько раз он сам мне говорил, не я его просил, а он сам давал слово, что на ней не женится. И я ему безгранично верил! Ему дела нет ни до нашего горя, ни до скандала, который это событие произведет в России».
Государь запретил Михаилу Александровичу возвращаться в Россию, исключил из списка претендентов на престол (а ведь Михаил находился там на втором месте вслед за цесаревичем Алексеем). Наталье было строго-настрого запрещено называть себя великой княгиней. В Европе изгнанница именовала себя графиней Брасовой.
С началом Первой мировой войны в 1914 году в России наблюдался невиданный патриотический подъем. На этой волне великий князь Михаил Александрович написал письмо императору и попросил разрешения вернуться и отдать долг Родине. Ответ государя был положительным.
Уже в августе 1914-го Михаил Александрович и Наталья Сергеевна вернулись в Россию. Великого князя назначили командующим недавно созданной Кавказкой туземной конной дивизией. Наталья Сергеевна тоже не сидела без дела – обустроила в своем доме в Гатчине госпиталь на тридцать пациентов.
Николай II в этот период относился к жене брата гораздо терпимее. Он издал высочайшее повеление о признании брака великого князя и разведенной дворянки Натальи Сергеевны Вульферт 29 сентября 1915 года. Наталье и ее сыну Георгию официально присвоили титулы графини и графа Брасовых.
Колесо русской истории закрутилось с невероятной быстротой. Изнурительная война привела к резкому всплеску протестных настроений, которые в 1917 году вылились в Февральскую революцию.
В марте 1917 года в заблокированном на станции Дно поезде Николай II под давлением собственных генералов и некоторых членов Государственной Думы подписал отречение от трона в пользу Михаила Александровича. Брату государь отправил следующую телеграмму:
«3 марта 1917 г.
Петроград.
Его Императорскому Величеству Михаилу Второму. События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот крайний шаг. Прости меня, если огорчил тебя и что не успел предупредить. Остаюсь навсегда верным и преданным тебе братом. Горячо молю Бога помочь тебе и нашей Родине.
Твой Ники».
Получив известие о своем «назначении», Михаил Александрович обратился за советом к председателю Государственной Думы Михаилу Владимировичу Родзянко. Парламентарий однозначно заявил: если великий князь примет пост, начнется новая революция, безопасность Михаила II и его семьи едва ли будет можно гарантировать.
Михаил Александрович, проведя бессонную ночь, наутро «временно» отрекся от престола, передав все права государственного управления Учредительному собранию. Монархия в России пала.
После отречения Михаил Александрович с семьей жил в гатчинском доме. В марте 1918 года председатель Совнаркома Владимир Ильич Ленин вынес решение арестовать «гражданина Михаила Романова» и отправить в Пермь. Наталья Сергеевна рвалась ехать с мужем, но великий князь с огромным трудом убедил ее остаться.
Как только Михаила Александровича забрали, Наталья Сергеевна отправила Георгия в Данию под видом сына своей английской гувернантки. Графиня Брасова и сама имела хорошую возможность покинуть Советскую Россию, но не могла оставить мужа.
В апреле 1918 года Наталья Сергеевна отправилась в Пермь, где встретилась с супругом в гостинице «Эрмитаж». Условия содержания великого князя были вполне нормальными, а сам он с оптимизмом смотрел в будущее. Окрыленная, Наталья Сергеевна воротилась в Петроград.
Едва приехав домой в Гатчину, Наталья Сергеевна снова стала собираться к мужу: видно, ее сердце предчувствовало беду. В июне 1918 года она была полностью готова к выезду в Пермь, как вдруг получила телеграмму от полковника штаба Отдельного корпуса жандармов Петра Людвиговича. Знамеровского об исчезновении Михаила Александровича.
Наталье Сергеевне удалось попасть на прием к председателю Петроградской ЧК Урицкому. Напуганная ужасными слухами из Перми, графиня Брасова не сдержалась и открыто обвинила Моисея Соломоновича в убийстве «родного Миши». Урицкий немедленно приказал арестовать Наталью Сергеевну.
Через несколько месяцев, симулировав туберкулез, графиня Брасова добилась помещения в тюремный госпиталь, откуда сбежала с помощью дочери Таты Мамонтовой. Воспользовавшись царившей в стране неразберихой, Наталья Сергеевна и Тата, переодевшись медсестрами Красного Креста, добрались до Одессы, а оттуда переправились в оккупированный немцами Киев. К тому моменту графиня Брасова была убеждена: ее муж, Михаил Романов, расстрелян в Перми большевиками.
В эмиграции женщина сначала устроилась в Лондоне, но затем перебралась в Париж, так как там жизнь была значительно дешевле. Георгий отправился с матерью, а Тата, в 1921 году в возрасте 18 лет самовольно вышедшая за молодого репортера Вэла Гилгуда, осталась в Лондоне. Чтобы выжить, Наталье Сергеевне приходилось продавать драгоценности, которые удалось вывести из Советской России.
В 1931 году случилось новое страшное горе: в автомобильной аварии в 150 км от Парижа погиб 20-летний сын Георгий.
Деньги и драгоценности Брасовой довольно быстро закончились, наступила унизительная бедность. Наталья Сергеевна старалась вернуть имущество Михаила Романова в Польше, но тщетно. Поляки заявили, что вся «имперская собственность» принадлежит народу.
К 1940 году положение графини стало совсем плачевным: 60-летняя женщина осталась без гроша в кармане и жила на чердаке дома, где когда-то снимала квартиру.
Дочь Тата, обосновавшаяся в Великобритании с третьим мужем, помогала матери, чем могла, но переводы были маленькими и часто не доходили до адресата.
В январе 1952 года в благотворительную больницу Леннек в Париже доставили нищую полусумасшедшую старуху. У несчастной был рак, помочь ей уже никто не мог. К вечеру она скончалась. В кармашке грязной, разорванной кофточки нашли клочок бумаги, исписанный мелким красивым почерком. Знавший русский язык сотрудник больницы прочел написанное и сообщил изумленным врачам и медсестрам, что на их руках только что умерла графиня Наталья Сергеевна Брасова, супруга последнего русского императора Михаила II Романова.
Наталья Сергеевна в последнем послании попросила похоронить ее на кладбище Пасси рядом с сыном Георгием. Эта просьба была исполнена.
Так сложилась судьба женщины, которая, поехав к супругу через охваченную Гражданской войной страну, доказала, что она не «хитрый, порочный зверь», а глубоко любящая, преданная женщина.
Провинциальная Анна Каренина
«Наутешалась с полюбовником?» – прошипел супруг, зажимая Александре рот. Он набросился на нее прямо с порога, повалил на пол. Александра беззвучно рыдала, крупные слезы бежали по ее щекам. Она вернулась ради детей, но сейчас будет подвергнута самому жестокому для женщины унижению. И кем подвергнута, собственным мужем!
«Ты принадлежишь мне, – губы графа обжигали, как раскаленное тавро. – Ты – моя собственность!»
Затрещала разрываемая ткань.
В селе Коровино Самарской губернии 13 ноября 1854 года 22-летняя красавица Екатерина Тургенева, урожденная Багговут, родила своему супругу, предводителю местного дворянства Леонтию Борисовичу Тургеневу, милейшую дочку. Окрестили малышку Александрой.
Росла Сашенька в родительском доме в Самаре. Когда девочке исполнилось десять лет, она поступила в Самарскую женскую гимназию, в возрасте шестнадцати лет превратилась в поразительную красавицу. На гимназистку Тургеневу засматривались и ровесники-подростки, и юнкера, и гусары, и даже преподаватели гимназии, включая бородатого священника, учившего девиц Закону Божиему.
Но Сашеньке и дела не было до восторженных взглядов. Девушка даже слышать не хотела о замужестве. Ее интересовало иное: Саша мечтала стать писательницей, при помощи живого слова бороться за счастье своего народа.
С юных лет кумиром Саши был ее двоюродный дядя, декабрист-эмигрант Николай Иванович Тургенев, заочно приговоренный Николаем I к вечной ссылке на каторжную работу. Дядя скончался во Франции в 1871 году в возрасте 82 лет, и 16-летней Саше так и не довелось его увидеть.
Зато гимназистка внимательно изучила свободолюбивые труды Николая Ивановича и под их впечатлением написала в год смерти дяди свое первое литературное произведение – повесть «Воля», в которой рассказывалось о тяготах жизни прислуги в дворянских поместьях.
После окончания гимназии Саша хотела начать писательскую карьеру, стать общественным деятелем или же устроиться работать в какой-то журнал или газету. Однако судьба распорядилась иначе.
На выпускном балу в гимназии в 1873 году – 18-летнюю красавицу приметил 24-летний граф Николай Александрович Толстой. Он был богат, красив и считался опытнейшим светским львом. В провинции Николай очутился из-за буйного характера: молодой граф так покуролесил в лейб-гвардии гусарском полку, что его выслали в Самару без права жить в Москве и Петербурге.
Иная барышня была бы счастлива вниманию со стороны Николая, но Саше граф совершенно не приглянулся. Рафинированный аристократ, с презрением отзывавшийся о народе, вызывал в душе племянницы декабриста лишь негативные эмоции. А вот родители Сашеньки были в восторге! Породниться с Толстыми, одной из богатейших и влиятельнейших семей страны, разве можно упускать такой шанс?
Вскоре Николай посватался к Александре Тургеневой, и родители заставили дочь принять предложение. Осенью 1873 года в Самаре состоялось торжественное венчание, вчерашняя гимназистка Саша стала графиней Толстой.
Буквально через два месяца после свадьбы Николай проявил тяжелый характер: публично оскорбил в нецензурной форме самарского губернатора Федора Дмитриевича Климова. О вопиющем событии узнали в Петербурге и вскоре было дано высочайшее повеление отправить графа Толстого в Кинешму под надзор полиции. Лишь благодаря хлопотам влиятельной родни Николай через полгода смог вернуться в Самару к супруге.
С 1874 и вплоть до 1880 года Александра строго раз в два года рожала мужу детей – дочерей Елизавету и Прасковью, сыновей Александра и Мстислава. Несмотря это, характер Николая Александровича не изменился, даже стал хуже.
Так, после появления на свет в 1878 году сына Александра невероятно ревнивый граф заподозрил жену в измене и… стрелял в нее из пистолета. К счастью, промахнулся.
К 1881 году жизнь в браке стала для Александры совершенно невыносимой.
Молодая графиня жаждала творческой самореализации, читала прогрессивные книги, свято верила в идеалы молодежи, прежде всего народников. Супруг, холодный, циничный аристократ, насмехался над устремлениями жены и даже запрещал ей писать.
В конце осени 1881 года на светском вечере в Самаре 27-летняя Александра познакомилась с 29-летним либералом-народником Алексеем Аполлоновичем Бостромом. Его недавно избрали на должность председателя уездной управы в городке Николаевск (ныне – г. Пугачёв), и он сразу же начал бороться с коррупцией.
Честность и принципиальность Бострома, его невероятное желание изменить Россию к лучшему, святая вера в русский народ поразили Александру. Кроме того, Алексей Аполлонович со светлыми волосами, аккуратной бородкой и голубыми добрыми глазами был очень привлекателен. Александра влюбилась.
В ноябре 1881 года графиня А. Л. Толстая, оставив мужа и детей, внезапно уехала в Николаевск.
Николай Александрович был взбешен, шокирован, раздавлен. Одно за другим слал жене письма, умолял вернуться, угрожал, обещал за свои деньги опубликовать ее книгу, грозил, что Александра никогда не увидит детей. В каждом письме Толстой намекал, что рано или поздно расправится с разлучником Бостромом. К уговорам присоединились родители: мать и отец выражали готовность отказаться от дочери, если та не вернется к мужу.
Александра не выдержала давления и прибыла в Самару. Едва женщина ступила на порог, как Николай Александрович набросился на нее и посреди гостиной взял то, что ему причиталось «по праву».
Через два месяца Александра узнала, что в очередной раз беременна, и поняла, что рождение ребенка, скорее всего, навсегда лишит ее возлюбленного и привяжет к мужу. Графиня написала Алексею Бострому отчаянное письмо:
«Первое и главное, что я почти уверена, что беременна. Желать так страстно ребенка от тебя и получить ребенка от человека, которого я ненавижу. Понимаешь, что теперь все от тебя зависит. Скажешь ты, что не будешь любить его ребенка, что этот ребенок не будет нашим ребенком, и я должна буду остаться…»
Алексей ответил, что примет ребенка как своего и будет любить как родного сына. В 1882 года Александра Толстая, находившаяся на втором месяце беременности, во второй раз сбежала от мужа к Алексею Бострому.
Через месяц в Николаевск заявился Николай Александрович Толстой. Граф больше не собирался уговаривать жену. Он приехал с одной целью – передать Бострому вызов на дуэль. Алексей Аполлонович, прогрессивный молодой человек, вызов отклонил, сославшись на то, что «мы живем не в те времена, чтобы стреляться, как дикари». Раздосадованный Толстой пригрозил Бострому смертью, проклял жену и уехал из Николаевска.
В августе 1882 года Алексей Бостром и Александра Толстая ехали в поезде из Самары в Сызрань. На станции Безенчук в их купе 1-го класса ворвался граф Николай Толстой и выстрелил в Алексея Аполлоновича. Молодой мужчина получил ранение в ногу.
Толстого тут же скрутили проводники. Александра Леонтьевна лишилась чувств.
Стрельба на станции Безенчук стала общероссийской сенсацией. О семейной драме Александры Толстой говорили повсюду. В прессе графиню назвали «провинциальной Анной Карениной». История Александры и правда во многом напоминала житейскую коллизию из книги, написанной Львом Николаевичем Толстым, кстати сказать, четвероюродным дядей подсудимого графа Николая Александровича Толстого.
Пока готовился суд, графиня Толстая родила сына. Назвали мальчика Алексеем.
Симпатии публики были на стороне Николая Александровича. В глазах общества он защищал семейные устои, честь своих детей. Александра Леонтьевна же представлялась многим распутной и бессердечной женщиной.
Суд оправдал графа Толстого и расторг брак. Графине Толстой было вынесено предписание «находиться во всегдашнем безбрачии». Обвенчаться с Алексеем Бостромом она теперь не могла.
Бострома не переизбрали на должность председателя уездной управы в 1883 году. Единственным средством к существованию для Алексея Аполлоновича, Александры Леонтьевны и маленького Алеши стал хутор Сосновка.
Граф Толстой лишил неверную жену возможности видеться с детьми. Родители писали Александре Леонтьевне, что бывший муж воспитывает детей в ненависти к ней.
«Умоляю вас не проклинать меня перед детьми. Это говорю не ради меня, а ради них. Для них это будет вред непоправимый. Скажите, что я уехала куда-нибудь, а потом со временем, что я умерла. Действительно, я умерла для них… Детей я вам оставила потому, что я слишком бедна, чтоб их воспитывать, а вы богаты».
Николай Александрович даже не подумал прислушаться. Напротив, стал еще активнее настраивать детей против матери.
Утешением для Александры Леонтьевны стали сынок Алеша и творчество. Графиня Толстая много писала, публиковалась в «Самарской газете», журнале «Русское богатство», «Саратовском листке», других изданиях. Тонкий ручеек гонораров служил большим подспорьем для семьи в трудные времена.
Заметив у сына желание сочинять, Александра Леонтьевна всячески поощряла его, учила Алешу писательскому мастерству и журналистике.
Одновременно графиня начала многолетнюю тяжбу с бывшим мужем о законности рождения сына, настаивая, чтобы у Алексея были отцовские фамилия, отчество и титул.
Николай Александрович Толстой скончался в Ницце от инфлюэнцы 9 февраля 1900 года. Александра Леонтьевна хотела побывать на похоронах бывшего мужа, но старшие дети категорически воспротивились.
В 1901 году суд постановил вернуть семнадцатилетлетнему Алексею Бострому имя настоящего отца. Так на свет появился граф Алексей Николаевич Толстой, будущий великий русский писатель, создатель советской фантастики. «Третий Толстой», как называли Алексея Николаевича в СССР.
Вот только матери не довелось узнать о славе сына. Александра Леонтьевна Бостром скончалась 25 июля 1906 года в Самаре от менингита. Ей был 51 год.
Так сложилась жизнь женщины, которая в юном возрасте вышла за нелюбимого человека по настоянию родителей и почти повторила судьбу самой трагической героини русской литературы – Анны Карениной.
Пятилетняя невеста
Невесту в хоромы внес на руках отец. Пятилетняя малышка, хлопая глазками, с испугом смотрела на собравшихся бояр да бородатых дьяков.
«А вот и наша девица-краса, – смеясь, сказал великий князь. – Покажь Ивану невесту, Борис Александрович».
Отец, улыбаясь, опустил дочку на пол. Великий князь подтолкнул навстречу смущенного мальчика.
«Бери невестушку за руку, Иван», – приказал князь. Мальчик, краснея до корней волос, повиновался.
«Во имя отца, и сына, и святаго духа», – козлиным голосом запел дьячок.
В столице Тверского великого княжества, в 1442 году родилась девочка, назвали которую Марией. Отцом малышки был местный князь Борис Александрович Тверской, матерью – Анастасия, дочь удельного князя Можайского, родоначальника князей можайских Андрея Дмитриевича. По материнской линии Мария приходилась внучкой великому князю Московскому и Владимирскому Дмитрию Ивановичу Донскому.
Во время междоусобной войны на Руси в 1447 году князь Василий II Темный, теснимый своим главным противником, Дмитрием Шемякой, сыном великого князя Юрия Дмитриевича, оказался в Твери. Таким образом Борис Александрович Тверской стал вершителем судьбы московского князя. Борис не выдал Василия противнику, напротив, отнесся с огромным уважением, дал приют и подмогу. Василий Темный в благодарность предложил обручить дочь Бориса, пятилетнюю Марию, со своим семилетним сыном Иваном, которого называл Иван Горбатый.
Борис Александрович с радостью согласился. С обручением тянуть не стали: оно прошло в Твери с невероятным размахом. Для тверичан, равно как и для московитов, было очень важно получить сильного союзника во времена тяжелой смуты. Вот как писал об этом событии тверской инок-летописец Фома:
«И бысть радость велиа. Но якоже и преди рекохомъ, но обратил Богь плач на радость. И москвичи же радовашеся, яко учинися Москва Тферь, а тферичи радовашеся, якоже Тьферь Москва бысть, но два государя воедино совокупишася».
Вскоре после обручения Василий Темный отправился отвоевывать Москву у Дмитрия Шемяки. Мальчик Иван сопровождал отца. Василию удалось занять Москву и вновь утвердиться на великокняжеском престоле. Однако его враги не желали сдаваться, междоусобная война продолжалась.
В конце 1448 года имя восьмилетнего Ивана Васильевича начинает упоминаться в летописях в качестве единственного наследника престола и великого князя. В 1452 году отец назначил двенадцатилетнего мальчика главой войска для похода на устюжскую крепость Кокшенгу. Конечно, при Иване находились опытные воеводы, которые в основном и командовали на поле боя, но после успешного взятия крепости вся слава досталась наследнику. Василий Темный возлагал на сына огромные надежды и стремился как можно скорее создать ему репутацию талантливого военачальника и государственника.
Битва при Кокшенге стала одним из последних сражений междоусобной войны на Руси. Дмитрий Шемяка к тому моменту был практически разбит, шансов как-то выправить дела у него не было. Междоусобица русская пошла на убыль.
В 1452 году княжич Иван с дружиной возвратился в Москву. Здесь его уже ожидала десятилетняя невеста Мария. Венчание состоялось 4 июня 1452 года в Спасском соборе Московского кремля – Иван и Мария спустя пять лет после обручения стали мужем и женой.
Борис Тверской дал за дочерью богатейшее приданое, в том числе жемчужное украшение – «саженье», ставшее впоследствии причиной большого скандала при московском княжеском дворе.
В 1458 году шестнадцатилетняя Мария родила сына – Ивана Молодого. Ее восемнадцатилетний супруг был невероятно счастлив.
Зимой 1462 года тяжко захворал Василий II Темный. Сухотная болезнь (туберкулез) отнимала у него все силы. Василий приказал лечить себя прижиганиями: в соответствии с лечебной практикой того времени на теле князя сжигали куски бересты. В результате на местах многочисленных ожогов образовалась гангрена, от последствий такого «лечения» князь Василий скончался.
Новым великим князем московским стал 22-летий сын Темного, Иван III Васильевич.
Княгиня Мария Борисовна отличилась большим вниманием к народу. Летописец называл ее «доброй и смиренной», а также отмечал, что она сильно преуспела в «книжной премудрости».
Иван III был очень счастлив в браке: красавица-супруга не давала ему ни малейшего повода для ревности, полностью посвящая себя семье. Казалось, Иван и Мария будут жить долго и безоблачно, но судьба распорядилась иначе. В апреле 1467 года Иван отправился в Коломну по княжеским делам. В его отсутствие 25-летней Марии внезапно стало плохо, и она скончалась. Придворные, руководила которыми свекровь великой княгини Мария Ярославна, дочь князя Ярослава Боровского, похоронили Марию Борисовну 24 апреля, на второй день после смерти. Поспешные похороны вызвали в народе подозрение, что Мария Борисовна умерла «от смертного зелия».
Срочно вернувшийся в Москву князь был крайне опечален и разгневан произошедшим. Однако обвинять мать в убийстве жены не стал. Подозрение высказал служанке Наталье, жене княжеского дьяка Алексея Полуектова. Говорили, что Наталья «княгинин пояс посылала к ворожее». Князь запретил дьяку и его супруге показываться на глаза в течение шести лет. Столь мягкое наказание, вероятно, было связано с тем, что Иван не до конца верил в версию об отравлении.
Шесть лет князь Иван проходил в холостяках, а в 1473 году решил все же жениться. Государственные интересы требовали заключения международного брака. Поэтому Иван Васильевич взял в жены константинопольскую царевну Софью Палеолог.
Именно Софья Палеолог и оказалась в центре скандала с участием жемчужного саженья первой супруги князя Марии Тверской. В 1483 году Иван III решил подарить какое-нибудь ценное украшение своей невестке Елене Волошанке, жене Ивана Молодого, родившей великому князю внука Дмитрия. Тут же государь и вспомнил о саженьи Марии Борисовны. Кому его дарить, если не супруге единственного сына Марии?
Бросились искать, туда-сюда, а саженья-то и нет. Оказалось, что его присвоила себе Софья Палеолог, а затем подарила племяннице Марии Андреевне Палеолог, супруге князя Верейского Василия Михайловича.
Иван III крепко осерчал и приказал Марии Андреевне немедленно вернуть саженье. Василий Михайлович выразил неудовольствие, что княжеская чета так дурно поступила с его супругой. Слово за слово – и московские ратники уже готовились выдвинуться в Верею. Князь Василий Михайлович, забрав супругу и детей, от греха подальше сбежал в Литву, предварительно вернув Ивану III саженье Марии Борисовны. Верейский княжий удел ликвидировали.
Скандал с жемчужным украшением много говорит о тех чувствах, что испытывал к первой супруге Иван III. Так получилось, что его обручили с пятилетней Марией в возрасте семи лет, женили на ней двенадцатилетним мальчишкой. Однако это тот редкий случай, когда династический брак был осенен невероятно нежной, вечной любовью.
За басурманина
«Басурмане слишком грубы в опочивальне». Настя не раз слышала это от сенных девиц. А теперь ее, боярышню, родной отец отдает за татарина, инородца! Давно ли скакали по Руси татарские полчища, осыпая города стрелами, угоняя девок в полон, где творилось с ними страшное? И вот, когда Русь победила, когда великий князь Московский сокрушил хана да сделал его своим верным вассалом, ее, Настю Мстиславскую, отдают басурманину на поругание!
Боярышня упала на постель и зарыдала. Страшное, ухмыляющееся лицо басурманина чудилось ей повсюду, бедная девушка была уверена, что никогда в жизни не бывать ей счастливой.
Юная боярышня Анастасия Ивановна принадлежала к славному роду Мстиславских, в жилах ее текла кровь русской царицы Софьи Палеолог. Отец Анастасии, Иван Федорович Мстиславский, был наместником новгородским. Мать, Анастасия Владимировна Воротынская, являлась родственницей Ивана Федоровича Телепнева-Оболенского по прозвищу Овчина – фаворита царицы Елены Глинской, матери Иоанна Грозного.
Анастасия воспитывалась как настоящая царевна, родители были уверены, что супругом ее станет особа царских кровей. Однако девица, как тогда говорили, вошла в тело, стала настоящей красавицей, но подходящего жениха все не было. Поняв, что на Руси царевича для дочери не сыскать, боярин Иван Федорович обратил взгляд на восток. И тут же нашел того, кого нужно.
Михаил Кайбалович Звенигородский был царевичем астраханским, внуком одного из последних астраханских ханов Ак-Кубека. Михаил Кайбалович перешел в православную веру совсем недавно, до крещения звался Муртазой-Али.
В Московии Звенигородский стал главой Боярской думы, а значит, вторым лицом в государстве после царя. Иван Федорович несказанно обрадовался вдруг пробудившемуся интересу Михаила Кайбаловича к его дочери.
«За басурманина выдают Настю», – тревожно шептались девки в тереме, не думая о том, что после крещения Михаил перестал быть басурманином, то есть мусульманином.
Однако имелись у Михаила Кайбаловича и настоящие недостатки. Так, он был вдовым стариком, больным да немощным. Боярышня Анастасия, которой еще и двадцати лет не исполнилось, горько плакала, узнав, кого отец назначил ей в мужья. Но поделать ничего было нельзя.
Старик-царевич, впрочем, недолго пробыл супругом Насти. Примерно через год после заключения брака он скончался, оставив жене немалые богатства. Детей пара не завела, хотя отец Анастасии всячески настаивал на скорейшем появлении наследников.
Новоиспеченная вдова вскоре обратила на себя внимание самого царя Ивана Грозного. Государь заявил, что негоже девке молодой да красивой оставаться без мужа. Тем более, что у Ивана Васильевича был на примете жених для Анастасии, и жених хоть куда. Когда Насте сообщили, кого имел в виду царь, она лишилась чувств – снова басурманин.
«Басурманина» звали Саин-Булат, он был правнуком Ахмат-хана, последнего правителя Золотой Орды, в политической зависимости от которого находились московские князья. Отец Саин-Булата, Бек-Булат, был астраханским царевичем, как и первый муж Анастасии, однако принадлежал к гораздо более древней и знатной ханской ветви – Тукатимуридов, прямых потомков Чингисхана.
Саин-Булат вместе с отцом Бек-Булатом перешли на службу к Ивану Грозному и исполняли долг верой и правдой. В конце 1560-х годов Иван Васильевич посадил Саин-Булата во главе Касимовского ханства – марионеточного феодального государства татар, созданного в 1452 году в среднем течении Оки на территории современной Рязанской области.
В июле 1573 года Иван Грозный потребовал от Саин-Булата окреститься и принять русское имя – Симеон. Касимовский хан даже не подумал перечить великому государю и смиренно исполнил его повеление: давно минули те времена, когда Чингизиды диктовали свою волю московским князьям.
Весной 1575 года Симеону Бекбулатовичу объявили, что государь желает женить его на Анастасии Мстиславской, дочери князя Ивана Федоровича Мстиславского. Симеон хорошо знал Ивана Федоровича, неоднократно сражался с ним бок о бок в битвах Ливонской войны и был рад породниться со Мстиславскими. Анастасия горевала, не хотела идти за касимовского хана.
Вскоре произошло нечто совершенно удивительное, не имеющее аналогов не только в отечественной, но и в мировой истории. Осенью 1575 года царь Иван Грозный внезапно заявил об отречении от престола в пользу касимовского хана Симеона Бекбулатовича. Неслыханно!
Все – народ, придворные, иностранцы – гадали: что за блажь втемяшилась в светлую голову государя Ивана Васильевича? Но никто не мог дать вразумительного объяснения.
Осенью того же года Иван Грозный в Успенском соборе Кремля по всем правилам посадил Симеона Бекбулатовича на царство, сделав его Великим Князем всея Руси. Сам же Иван с семьей удалился из Кремля и поселился на Петровке, взяв себе имя Ивана Московского. Государевы палаты, пышный двор, кареты – все осталось Симеону Бекбулатовичу. Грозный же ездил по Москве «просто, как боярин, в оглоблях».
Несмотря на всю странность и даже дикость произошедшего, жених Анастасии Мстиславской из касимовского хана превратился вдруг в государя. В 1575 году в Кремле в присутствии Ивана Московского состоялась пышная свадьба: царь Симеон венчался с боярышней Анастасией. После церемонии Мстиславская стала царицей московской.
Уже при первой встрече Анастасия влюбилась в Симеона, который оказался молодым стройным красавцем. Но главное – у него была невероятно добрая, отзывчивая душа. Симеон души не чаял в невесте, называл ее своею царицей и всячески оберегал.
Правление Симеона, представляя, по сути, маскарад, внешне ничем не отличалось от правления других русских государей. Симеон и Анастасия восседали на тронах в Грановитой палате, на них были царские одежды. Придворные оказывали монаршим особам положенные почести, благоговели перед ними ничуть не меньше, чем пред Иоанном Грозным.
Царь Симеон заседал во главе Боярской думы (земских бояр, у Ивана Грозного и Дума была своя), издавал государственные указы, подписанные своим именем. Иван Московский, отправляя с Петровки письма государю, соблюдал уничижительную форму общения с царем:
«Государю великому князю Семиону Бекбулатовичю всея Русии Иванец Васильев с своими детишками, с Ыванцом да с Федорцом, челом бьют».
Отправляясь на аудиенцию к царю, «Иванец Васильев» приниженно кланялся, просил государевой милости за себя и за детишек. Вся полнота власти при этом сохранялась за Грозным.
В народе поговаривали, что царь посадил басурманина на царство, чтобы избежать гибели, якобы предсказанной ему в 1576 году. Гораздо правдоподобнее выглядит версия современника Грозного, английского посла Джайлса Флетчера:
«К концу года заставил он нового государя отобрать все грамоты, жалованные епископиям и монастырям, коими последние пользовались уже несколько столетий. Все они были уничтожены. После того, как бы недовольный таким поступком и дурным правлением нового государя, он взял опять скипетр и будто бы в угодность церкви и духовенству дозволил возобновить грамоты, которые роздал уже от себя, удерживая и присоединяя к казне столько земель, сколько ему самому было угодно».
Таким образом, Симеон Бекбулатович был нужен Ивану Грозному лишь для того, чтобы лишить монастыри их исторических земель, не навлекая на свою особу ни Господнего, ни народного гнева. Теперь Иоанн Васильевич повсюду костерил «плохого царя» Симеона за «обиду» монастырям, а сам был как бы ни при чем.
Симеона царь выбрал как представителя рода Чингизидов, то есть человека, в венах которого текла кровь государей, когда-то владевших русскими землями. Кроме того, Симеон был верным, незлобивым, послушным и не нес Ивану никакой опасности.
Правление Симеона Бекбулатовича продолжалось 11 месяцев. Все это время Анастасия Мстиславская была русской царицей.
После «свержения» Симеона Иван Грозный пожаловал бывшему царю Тверское великое княжество. Это был невероятно щедрый, но вполне заслуженный дар.
Пара переехала в Тверь на княжение. За несколько лет Анастасия подарила мужу сыновей Федора, Дмитрия, Иоанна, дочерей Евдокию, Марию, Анастасию. Дети великого князя и великой княгини Тверских имели уникальную родословную: они являлись последними потомками Ивана III и Софьи Палеолог (не считая Ивана Грозного и его потомства) и одновременно потомками Чингисхана, Тукатимуридами. К несчастью, царское происхождение стало роковым для отпрысков Симеона и Анастасии.
В Твери великокняжеская чета жила богато. В их распоряжении был великолепный дворец, огромный княжеский двор, собственные бояре и стольники. В отличие от пребывания на русском престоле, в княжестве Тверском Симеон правил вполне свободно, судил и миловал «людишек своих». Построил шатровую церковь, которая сохранилась до наших дней и по праву считается великолепным образцом русской архитектуры XVI века.
Иван Грозный умер 18 марта 1584 года, на царство заступил его сын Федор Иванович. При Федоре положение Симеона тоже оставалось вполне благополучным, но вот после его смерти в 1598 году великое княжение Бекбулатовича в Твери затрещало по швам.
Всесильный Борис Годунов прекрасно понимал, что он, всего-навсего шурин царя Федора, имеет гораздо меньше прав на трон, чем коронованный самим Грозным Симеон, а главное – его дети, потомки Софьи Палеолог.
Между тем вокруг великого князя Тверского начали объединяться силы, противостоящие Борису. Годунов не стал ожидать, пока сторонники Бекбулатовича окрепнут, и 17 февраля 1598 года короновался как Государь, Царь и Великий Князь всея Руси Борис, основатель новой династии Годуновых.
Принося присягу царю на верность, бояре должны были произносить следующую фразу:
«Царя Симеона Бекбулатовича и его детей и иного никого на Московское царство не хотети видети».
Симеона, который, кстати сказать, в тронных спорах совершенно не участвовал и все время находился в Твери, лишили великокняжеского удела и сослали с семьей в тверское село Кушалино. Годунов приказал Симеону и Анастасии постричься в монашество, что те и сделали. Бывший царь постригся под именем Стефан, царица – под именем инокини Александры.
У супругов отняли все: удел, драгоценности, деньги. Более того, в Симоновом Успенском монастыре, где заточили семейство, бывший царь ослеп, согласно утверждению из Никоновской летописи, не без участия Бориса Годунова:
«Враг вложи Борису в сердце и от него Симеону быти ужасу… и повеле его ослепити».
Анастасия, Симеон и их дети жили в скудости, а как только кто-то в Москве поднимал голос за «ивановского царя», напуганный Борис Годунов тут же приказывал ужесточить содержание неугодных. Ничуть не улучшилось их положение и после смерти в 1605 году царя Бориса. Вознесенные на самый верх Смутным временем Лжедмитрий I, Василий Шуйский, Лжедмитрий II ощущали от Симеона и его детей смертельную угрозу и всячески способствовали ухудшению их существования.
Увы, тягости лихолетья подкосили здоровье инокини Александры, бывшей царицы Анастасии, и 7 июня 1607 года она скончалась.
Похоронили ее на кладбище Симонова монастыря.
А далее один за другим начали умирать дети Симеона и его горячо любимой супруги. Вскоре от большой семьи, где было четверо законных наследников русского престола, остался только слепой старец Стефан, в котором никто бы не узнал блестящего касимовского хана, гордого русского царя и всесильного Тверского князя Симеона Бекбулатовича.
Царь Василий Шуйский на всякий случай отослал старца Стефана сначала в Кирилло-Белозерский монастырь на Вологодчине, а затем и вовсе спровадил его на Соловки. Симеону пришлось на островах тяжко, и он постоянно отправлял в столицу грамоты, умоляя государя вернуть его на житие в Кирилло-Белозерскую обитель.
В 1612 году при номинальном Государе, Царе и Великом Князе всея Руси, польском королевиче Владиславе Жигимонтовиче, инока Стефана вернули в город Кириллов, а уже после воцарения Михаила Романова – в Москву. 5 января 1616 года человек, правивший Русью при живом Иване Грозном, скончался. По просьбе старца его похоронили в Симоновом монастыре рядом с драгоценной супругой и детьми. На надгробии с соизволения Михаила Романова было выбито:
«Лета 7124 году генваря в 5 день преставился раб Божий царь Симеон Бекбулатович во иноцех схимник Стефан».
Так сложилась судьба царя-«басурманина» и женщины, которая боялась выходить за него замуж, а в результате получила верного, доброго, любящего и преданного супруга.
«Обрюхатил чухонку»
Четырнадцатилетняя девица была хороша! Царевич, пока нагружались с дьяком разнообразными яствами, только и смотрел на нее. Ладная, стройная. Коса толщиной в руку! Румянец на щечках горит – стесняется, волнуется. Еще бы, часто ли наследника престола воочию увидишь!
«Откуда взялась такая краса?» – спросил Алексей, отпивая из кружки.
«Да чухонка, – хмельным голосом отозвался дьяк, взмахнув рукой. – Родители померли, вот и досталась мне с братцем своим, Иваном. Работает исправно, да и красавица, посмотреть, как сами убедились, приятно».
«Приятно», – повторил Алексей, словно зачарованный. Где-то в холодной, такой неприветливой России его ждала беременная жена-принцесса, но он совсем не думал о ней. Думал о чухонке.
Царский дьяк Никифор Вяземский был человеком видным да уважаемым. Будучи правнуком небогатого дворянина Казарина Петровича Вяземского, благодаря уму и учености сумел обратить на себя внимание государя и стать одним из «птенцов гнезда Петрова». В 1696 году Петр поручил дьяку обучение своего сына и наследника, шестилетнего царевича Алексея Петровича. Никифор Кондратьевич успешно обучил мальчика чтению, письму, арифметике, географии, истории, французскому и немецкому языкам. Отцу, Петру Алексеевичу, Никифор с гордостью писал про успехи ученика:
«Сын твой начал учиться немецкого языка чтением истории, писать и атласа росказанием, в котором владении знаменитые есть города и реки, и больше твердил в склонениях, которого рода и падежа».
Алексей относился к учителю с уважением и впоследствии, став взрослым человеком, регулярно встречался с Никифором «для беседы». Эти встречи и погубили Алексея, да и самого Никифора едва не привели на плаху.
При дворе Никифора Кондратьевича появилась новая крепостная – малолетняя пленная чухонка (финка), принявшая при крещении имя Ефросиньи Федоровны. Девка ловкая, расторопная, все приказы исполняла послушно, и дьяк был ею вполне доволен. К тому же Ефросинья отличалась отменной красотою, а глазам, как говорил Никифор, «тоже приятность надобна».
Тем временем 21-летний воспитанник Никифора, царевич Алексей, в немецком Торгау сочетался законным браком с 17-летней принцессой Шарлоттой-Кристиной-Софией Брауншвейг-Вольфенбюттельской. В результате этого династического брака особой любви между супругами не возникло. Алексей постоянно бывал в поездках, иной раз не видя жены по году и более. Когда царевич наведывался в Петербург, где проживала Шарлотта, то предпочитал проводить время в хмельных компаниях, а не с супругой, вечно жалующейся на бытовые условия, притеснения и безденежье.
Жалобы принцессы стали еще более невыносимыми для Алексея, когда она забеременела:
«Я постоянно страдаю, ибо так полна, что принуждена почти всегда лежать на спине; ходить я не могу, и если мне нужно сделать два шага, то приходится меня поддерживать с обеих сторон, а если посижу одну минуту, я не знаю, куда деться от боли».
Летом 1714 года супруге настало время рожать, а Алексей сообщил, что едет на лечение в Карлсбад. Шарлотта испытала ужас, но ничего поделать не могла. Несмотря на треволнения, 21 июля 1714 года принцесса благополучно разрешилась от бремени, родив дочь Наталью.
Алексей воротился в Петербург только в декабре. Прибыв в столицу, царевич впервые взял на руки своего ребенка и был растроган. Благодаря малышке отношения между наследником и его супругой несколько улучшились, но ненадолго.
«Лечение» Алексея в Карлсбаде было весьма своеобразным – он беспробудно пьянствовал. Как-то один из друзей сообщил царевичу, что в Карлсбаде находится и дьяк Вяземский. Изъявив желание задушевно побеседовать со своим учителем, Алексей встретился с Никифором Кондратьевичем. Прислуживала господам за столом та самая чухонка Ефросинья.
Царевич был поражен красотою четырнадцатилетней крестьянки и немедленно попросил у Вяземского «уступить» ему ее. Дьяк не осмелился противиться этому пожеланию. Ефросинья вместе с ее братом стали жить в доме Алексея, и вскоре тот влюбился в девушку до беспамятства.
Так что Шарлотта, стараясь вернуть утраченный интерес мужа, напрасно тратила душевные силы: сердце Алексея было несвободно. Не помогла и вторая беременность принцессы, очень тяжелая, сопровождавшаяся сильными болями.
В конце августа 1715 года Шарлотта упала с лестницы, получив сильный ушиб левой части тела. По всей видимости, падение негативно сказалось на течении беременности.
Шарлотта родила здорового мальчика (будущего императора Петра II) 12 октября 1715 года, однако вскоре скончалась от «родильной горячки». Царевич, неотступно присутствовавший при супруге, невероятно страдал и несколько раз лишался чувств.
После смерти Шарлотты единственным утешением для Алексея стала Ефросинья.
В 1716 году царевич Алексей покинул Россию. В Европе он намеревался связаться с врагами Петра. С ним отправились шестнадцатилетняя Ефросинья, ее брат Иван и трое слуг. Чтобы не вызывать подозрений, Ефросинья переоделась в мальчика-пажа. В Тироле беглецы на протяжении некоторого времени жили в крепости Эренберг, затем перебрались в Вену и наконец в Неаполь.
В Вене вице-канцлер Шенборн встречался с Алексеем Петровичем. В своих записках называл присутствовавшего при царевиче мальчика-подростка «petite page», что означает «маленький паж». С 17 мая 1717 года Алексей и Ефросинья жили в неаполитанском замке Сант-Эльмо, из окон которого открывался великолепный вид на город, залив и вулкан Везувий.
К этому моменту за царевичем уже установили постоянную слежку, руководил которой действительный статский советник граф П. А. Толстой. Помимо прочего, Петр Андреевич рапортовал в Петербург: «Нельзя выразить, как царевич любит Ефросинью и какое имеет об ней попечение». Невысокая хрупкая красавица повсюду сопровождала Алексея. Разумеется, под видом пажа.
В деньгах пара не нуждалась, много путешествовала по лучшим местам Европы, осматривала достопримечательности, вкусно и обильно ела, регулярно посещала театры.
Алексей, как ранее дьяк Вяземский, уделял большое внимание образованию Ефросиньи. Барышня много читала, владела иностранными языками, ее письма к царевичу были грамотными и содержали большое количество «благородных» слов. Вот что Ефросинья написала любимому из Венеции, куда ездила с братом Иваном Федоровичем и итальяно-российским торговым агентом Петром Ивановичем Беклемишевым:
«А оперы и комедий не застала, токмо в един от дней на гондоле ездила в церковь с Петром Ивановичем и с Иваном Федоровичем музыки слушать, больше сего нигде не гуляла…»
Вскоре после приезда в Европу Ефросинья забеременела. Будущего ребенка царевич Алексей в письмах к возлюбленной называет «селебеный», что с чешского можно перевести как «обещанный». Его высочество очень ждет сына от любимой женщины, ведь его двое других детей рождены женщиной нелюбимой.
О скором рождении «селебеного» узнают и в России. Петр I, который и сам обожал амурные дела с представительницами низкого сословия, крайне недоволен выбором сына. «Обрюхатил чухонку», – с неприязнью говорит он. Государю есть отчего беспокоиться: бастард, которого носила Ефросинья, в будущем мог стать серьезным оружием европейских держав против России.
По приказу Петра граф Толстой подкупил чиновника вице-короля Неаполя, который вызвал Алексея к себе и сообщил: итальянские власти намерены «отлучить от него женщину в мужской одежде», если тот не примет волю отца и не вернется в Россию. Для царевича это была страшная угроза. Он попросил передать графу Толстому, что согласен вернуться на родину, если император позволит ему жениться на Ефросинье.
Вскоре состоялась личная встреча графа Толстого и Алексея, в ходе которой вельможа сказал царевичу, будто бы Петр собирает войско для похода на Неаполь, чтобы силою оружия «достать» сына. Перепуганный Алексей вернулся домой и все поведал Ефросинье. Барышня призвала его покориться воле государя и просить у отца прощения. Так все страхи и сомнения царевича были преодолены, он окончательно решил возвратиться в Россию.
Домой Алексей ехал в компании графа Толстого. Ефросинья путешествовала отдельно, более медленной «оказией». В дороге царевич неоднократно просил графа подождать его любимую, чтобы он и Ефр�
Терпеть боль
«Анька, спишь?» – шепот мужа обдал плечо тринадцатилетней Анны. Нет, она не спала, но не подала вида.
Убедившись, что супруга спит, Александр Матвеевич поднялся и, набросив халат, стал красться к выходу из комнаты. В сенях почивала Матрена – молодая дородная крестьянская девка.
Анна услыхала скабрезную шутку мужа, приглушенный смех Матрены и открыла глаза. Межкомнатных дверей в доме не было, в сени падал лунный свет и все было прекрасно видно.
Барышне не хотелось смотреть на происходящее, но она, сжав зубы, смотрела. Ведь не зря дорогая маменька с раннего детства учила ее терпеть боль…
В семье надворного советника Евдокима Яковлевича Яковлева 28 ноября 1758 года родилась девочка, которую назвали Анной. Ее детство прошло в деревенской усадьбе неподалеку от Екатеринбурга.
Анной занималась мать – женщина властная, строгая и очень религиозная. С ранних лет девочку воспитывали с учетом грядущего замужества и рождения детей. Мать приучала Анну «терпеть боль», так как для женщины это «естественное состояние». По мнению Яковлевой-старшей, спартанская выучка должна была помочь Анне вытерпеть боль при родах. Девочку кормили грубой пищей, в холодную погоду легко одевали, ограничивали сон и заставляли работать физически.
При всей подготовке к замужеству и постоянных разговорах о нем Анне ровным счетом ничего не говорили об отношениях мужчины и женщины. Даже французские романы – единственный источник информации о взрослой жизни для дворянских дочерей – Анне было строго-настрого запрещено читать.
Мать постоянно твердила о том, как важно поскорее выйти замуж, спрятаться за спиной мужа от тягот и треволнений жизни. По словам помещицы, на пути от девичества до замужества было крайне важно не «пасть», не оказаться «обесчещенной» и «погибшей».
Когда Анне исполнилось 13 лет, ее выдали замуж за «доброго» жениха – 27-летнего будущего маркшейдера (горного инженера) Берг-коллегии Александра Матвеевича Карамышева. Александр Матвеевич, несмотря на достаточно молодой возраст, преподавал химию в горном училище, занимался геологической разведкой по всему русскому Северу.
Свадьба состоялась 21 мая 1772 года, сразу после которой Карамышев забрал юную жену в Петербург. В своих знаменитых мемуарах, которые Анна Евдокимовна начала писать в зрелом возрасте, она рассказала об испуге, который охватил ее, когда в первую ночь почти тридцатилетний Карамышев стал намекать ей на необходимость отдать супружеский долг. Анна наотрез отказалась, и Александр Матвеевич, что называется, подался в разгул: карты, выпивка, крестьянские девицы. Причем все это происходило не в каком-нибудь кабаке, а прямо в доме Карамышевых.
Вскоре Александр Матвеевич привел в «супружеское гнездышко» свою племянницу – молодую красивую девушку. Вот как эти события описала в дневнике Анна:
«Приехали в город, начались веселья у нас в доме, в которых я не могла участвовать. Племянницу свою взял к себе жить. Днем все вместе, а когда расходились спать, то ночью приходила к нам его племянница и ложилась с нами спать. А ежели ей покажется тесно или для других каких причин, которых я тогда не понимала, меня отправляли спать на канапе».
Так Анна, не совсем осознавая, что происходит вокруг, жила в доме на правах то ли приживалки, то ли воспитанницы. Карамышев, впрочем, к ней не притрагивался, однако Анне от этого было ненамного легче:
«Ночью, так как от болезни сна у меня не было, я лежала молча, опасаясь обеспокоить мужа моего, вижу, что он встает очень тихо и подходит ко мне, спрашивает, сплю ли я?
Но я не отвечала ему, и он, уверившись, что я сплю, пошел в другую комнату, где спала девка, и я увидела все мерзости, которые он с ней делал!
Я видела свое несчастие и считала худшим…».
Однако худшее было впереди. Муж Анны совсем распоясался:
«Была у нас девочка десяти лет, которая служила матушке: водила ее и подавала что должно; он и до этой девочки добрался. Меня не было дома…»
Анна прекрасно понимала, насколько безнравственен и порочен ее муж, но поделать ничего не могла: разводы в империи были большой редкостью и требовали от женщины огромных усилий и денег. Где все это было взять пятнадцатилетней девочке?
С Карамышевым Анне пришлось много попутешествовать по России. Семья жила в Екатеринбурге, в Петрозаводске, на Медвежьих островах. И повсюду Александр Матвеевич находил себе «подруг».
В 1774 году Карамышевы перебрались в Петербург, где прожили более пяти лет. Анне наконец-то повезло, ее покровителем и добрым ангелом стал знаменитый русский поэт Михаил Херасков. Михаил Матвеевич был вице-президентом Берг-коллегии и непосредственным начальником Карамышева. В Хераскове барышня «нашла себе второго отца, который всячески оберегал ее от несправедливостей мужа».
В своих мемуарах Анна отзывается о Михаиле Матвеевиче и его супруге Елизавете Васильевне с исключительной теплотой. В доме Херасковых к ней относились как к дочери, заботились об ее образовании и воспитании.
После того как Карамышева назначили директором банковской конторы в Иркутске, Анне снова пришлось покинуть столицу. На протяжении нескольких лет она жила с мужем в Иркутске и Нерчинске. И здесь Анне приходилось терпеть несправедливости от супруга:
«В первом часу приехал муж мой пьян и чрезвычайно сердит, разделся и лег; я уже была в постели.
… Начал меня бранить и называть непокорною женою и не любящею мужа своего и что он несчастлив мной очень…
Потом вытолкнул меня на крыльцо в одной юбке и без чулок, и сени запер.
Сколько от горести, а более от морозу, дух у меня занимало.
Вдруг вижу – идет кто-то к крыльцу на стон мой, и я узнала, что это Феклист, но я уж говорить не могла. Он взял меня на руки и снес в баню, которая накануне была топлена, надел на меня свою шубу, затопил печь, согрел воды с шалфеем и напоил меня и горько плакал: „Ты, мать наша, всех нас несчастнее! Нам доставляешь покой, а сама не имеешь!“»
Карамышевы возвратились в Петербург. Длительное пребывание на Севере подорвало здоровье Александра Матвеевича: он начал подолгу и тяжело болеть. Карамышев скончался 22 ноября 1791 года в возрасте 47 лет.
Анна стала вдовой в 33 года. На повторное замужество она не рассчитывала: молодость прошла рядом с мужем, которого она презирала, и ожидать, что кто-то составит ей партию, не приходилось.
Однако нашелся тот, кто сделал Анну счастливой.
Александр Федорович Лабзин был моложе госпожи Карамышевой почти на восемь лет. Молодой красавец, блестящий философ, писатель, издатель, переводчик, один из крупнейших деятелей русского масонства.
Мистически настроенный Лабзин, основатель масонской ложи «Умирающий сфинкс», нашел в религиозной Анне верного друга и сторонника.
Брак был заключен 15 октября 1794 года. Годы, проведенные рядом с Александром Федоровичем, Анна считала своего рода компенсацией за те несчастья, что она перенесла:
«Жизнь со вторым мужем, продолжавшаяся около 29 лет, была, в противоположность жизни с Карамышевым, от которого я перенесла много страданий, исполнена счастья».
Анна помогала мужу в издательском деле, редактировала его статьи, переводила масонскую литературу, участвовала в заседаниях «Умирающего сфинкса».
Муж стал для Анны центром Вселенной: она любила его больше жизни. И Александр Федорович отвечал супруге полной взаимностью.
В 1822 году Лабзина отправили в ссылку в Сенгилей. Анна, ни мгновения не сомневаясь, поехала вместе с ним.
26 января 1825 года, находясь в ссылке в Симбирске, Александр Федорович простудился и умер на руках у жены. Горе, которое испытала Анна Евдокимовна, трудно описать словами.
После смерти дорогого супруга Лабзина переехала в Москву, где стала приживалкой в семье профессора московского университета М. Я. Мудрова. Последние годы жизни посвятила написанию мемуаров. Детей ни от Карамышева, ни от Лабзина у Анны Евдокимовны не было.
3 октября 1828 года Анна Евдокимовна тихо скончалась в Москве в возрасте 69 лет. Лишь в 1903 году была издана книга «Воспоминания Анны Евдокимовны Лабзиной», ставшая настоящей сенсацией и до сих пор являющаяся ценнейшим источником сведений о жизни российского дворянства XVIII–XIX веков.
Так сложилась жизнь женщины, которую в 13 лет мать учила «терпеть боль» и отдала замуж за порочного человека. Казалось, что счастье для Анны в этом мире не было предусмотрено… Но оно случилось.
Вошла в тело
«Поиграем в мужа и жену?» – смеясь, воскликнул одиннадцатилетний император. Пятнадцатилетняя Мария побледнела, едва не упав в обморок. Этот капризный, жестокий подросток был ей противен, его поступки и игры ужасали.
Увы, поделать Мария ничего не могла: злой и распущенный недоросль был не только ее женихом, но и государем. Красавица вспомнила напутственные слова своего дорогого батюшки, требовавшего быть ласковой с императором и выполнять все его приказы.
Изящная дрожащая ручка несчастной невесты потянулась к шнуровке платья, но государь вдруг воскликнул: «С тобой неинтересно, фарфоровая кукла! Дениска, зови Аньку и Лизавету!»
Паж стремительно кинулся к дверям, и через минуту в них вбежали, весело смеясь, две фрейлины. Не удостоив даже взглядом остолбеневшую от унижения Марию, красавицы присели на ложе его величества.
Игра в мужа и жену началась.
В семье Александра Даниловича Меншикова 26 декабря 1711 года произошло долгожданное событие: его супруга, Дарья Михайловна Арсеньева, подарила светлейшему князю малютку-дочку, назвали которую Марией.
Батюшка новорожденной являлся в ту пору правой рукой государя Петра Алексеевича. «Полудержавный властелин», в босоногом детстве продававший пироги в Москве, ныне вместе с царем вершил судьбу Руси, создавая из Московского царства величайшую империю в мире.
Дочку Данилыч обожал и стремился дать ей наилучшее образование. Когда Марии исполнилось шесть лет, в дом Меншиковых были приглашены учителя-иностранцы, обучавшие девочку языкам, пению и танцам.
Александр Данилович очень рано начал задумываться о женихе для дочери. По мнению светлейшего, тянуть с этим делом не следовало, ведь сегодня он был в фаворе, но кто знал, как судьба распорядится завтра. Нужно было успеть выдать дочь за знатного да богатого человека, что обеспечит и ее будущее, и будущее зарождающегося славного рода Меншиковых.
В России Данилыч женихов для дочери не видел: подобно Петру I, он не шибко жаловал старую русскую аристократию, вышедшую из боярских палат, пропахших брусничным морсом да кислыми щами. В этом вопросе Меншиков смотрел на «цивилизованный» Запад.
В 1720 году во время встречи Меншикова с литовским гетманом Яном Сапегой зашла речь и о будущем детей двух государственных мужей – 9-летней Марии и 20-летнего Петра.
Александр Данилович посчитал Петра Сапегу весьма привлекательной партией для своей дочери: потомственный граф, сын богатейшего человека Речи Посполитой, претендента на польский трон. Да и сам Петр считался вполне вероятным соискателем короны великой династии Ягеллонов. Породниться с Сапегами для Меншиковых было очень престижно. Да, Мария Александровна была княжной, но вот только отец ее не так давно кричал на извозчичьем вокзале в Москве: «Кому пироги сладкие, да с капусткой, да с брусникой?»
К тому же Петр Сапега был красавцем. Конечно, разница в возрасте была велика, но в те времена на такие мелочи смотреть было не принято, а кроме того, Данилыч и граф Ян Казимир договорились, что жених подождет, пока невеста «войдет в тело».
Ожидать этого момента Петру предстояло в России. В 1721 году юный граф приехал в Петербург. Из уважения к Данилычу Сапега сменил европейский костюм на вошедший тогда в моду в России зеленый сюртук, как у Петра I.
Меншиков поселил будущего зятя в своем великолепном дворце на набережной Невы.
Петр редко видел десятилетнюю невесту, но этого хватило, чтобы девочка влюбилась в галантного графа полудетской влюбленностью. Сапега, впрочем, большого интереса к Марии не проявлял. С первых дней в Петербурге он погрузился в светскую жизнь столицы и немало времени проводил в царском дворце, премило общаясь с красивыми фрейлинами.
Император Петр I скончался 28 января 1725 года в Петербурге в возрасте 52 лет.
Марии к тому моменту исполнилось 13 лет, и она превратилась в прехорошенькую девушку. Петр Сапега также времени даром не терял: за четыре года он занял при императорском дворе весьма заметное место.
Новой самодержицей всероссийской стала Екатерина I, которую до крещения звали Мартой Скавронской. Екатерина исключительно благоволила Меншикову и была благодарна ему за все, что он для нее сделал. А сделал он немало.
Привлекательную прибалтийскую крестьянку Марту захватил в плен во время русского наступления на Мариенбург (современный город Алуксне в Латвии) пожилой фельдмаршал Борис Шереметев, и сразу же сделал своей метрессой (любовницей). Вскоре красавица заинтересовала Меншикова, и светлейший отнял ее у Шереметева, к большому того неудовольствию.
Однако и с Данилычем Марта пробыла недолго: ее приметил сам государь Петр I. Меншиков государевой воле разумно противиться не стал, хоть и крепко был к Марте привязан.
Петр полюбил Скавронскую до безумия, окрестил ее Катенькой (после перехода в православие она стала Екатериной Алексеевной Михайловой) и женился.
После смерти Петра Меншиков с помощью гвардии возвел Екатерину на престол и фактически стал единоличным правителем государства, самым могущественным человеком в империи.
Судьба Марии Меншиковой сильно интересовала Екатерину I, равно как и будущее Петра Сапеги. Польский шляхтич являлся одним из фаворитов любвеобильной императрицы, и, давая благословение на брак его с дочерью светлейшего, царица, что называется, «отрывала от себя».
В марте 1726 года архиепископ Феофан Прокопович в присутствии всего императорского двора обручил 25-летнего Петра Сапегу с 14-летней красавицей Марией Меншиковой.
Александр Данилович по случаю обручения дочери закатил в своем дворце роскошнейший бал. Казалось, счастью молодых ничто не могло помешать. Мария обожала своего жениха, Петр отвечал ей взаимностью. Не было никаких проблем и с деньгами: 100 тысяч рублей выделила Екатерина I, а отец невесты расщедрился аж на 700 тысяч золотых.
Однако время шло, а свадьба все откладывалась. Александру Даниловичу, ставшему фактически правителем государства, Петр Сапега уже не казался блестящей партией для дочери. Теперь Меншиков метил гораздо выше.
Светлейший задумал породниться с императорской фамилией, выдав дочь за наследника престола, великого князя Петра Алексеевича.
В 1726 году внуку Петра Великого, сыну царевича Алексея исполнилось 11 лет. Мальчик, по воспоминаниям современников, был крайне избалованный, самолюбивый и капризный. Наследник не любил учиться, предпочитая проводить время на охоте с молодым князем Иваном Долгоруковым и юной дочерью своего деда, Елизаветой.
Пребывая с раннего возраста при дворе, Петр рано испытал на себе его тлетворное влияние. Не изучив еще как следует букваря, наследник уже вовсю интересовался красивыми фрейлинами и заводил себе взрослых метресс.
Императрице Екатерине I, по большому счету обязанной Данилычу не только троном, но и самой жизнью, «прожект» Меншикова о свадьбе его дочери и царевича показался вполне дельным. Петру Сапеге предложили взять в жены племянницу императрицы, молодую красавицу Софью Карловну Скавронскую. Польский шляхтич, которому уже надоело ждать «вхождения в тело» невесты, с удовольствием согласился.
Екатерине не удалось погулять на свадьбе бывшего фаворита: 6 мая 1727 года царица скончалась в возрасте 43 лет. Новым императором стал одиннадцатилетний Петр II, но всю полноту власти в своих руках сохранял Александр Данилович Меншиков.
Сиятельный князь был так уверен в своем могуществе, что вместе с бароном Остерманом, князем Голицыным и графом Головкиным практически обязал Петра II жениться на своей дочери с помощью так называемого «духовного завещания» императрицы Екатерины. Одним из его пунктов значилось следующее: «Цесаревнам и администрации вменяется в обязанность стараться о сочетании браком великого князя с княжною Меншиковой».
Невиданная доселе наглость, но Данилычу она сошла с рук.
Князь П. В. Долгоруков в своих «Записках» утверждал, что одиннадцатилетний император «рыдал до изнеможения», когда ему сообщили о скорой свадьбе с Марией Меншиковой. Царь не хотел жениться, он мечтал только об играх и охоте, а женщин предпочитал веселых и озорных, а не серьезных и спокойных, как Марья.
Тем не менее всесильного Меншикова государь все еще боялся как огня. Петр II провозгласил своего будущего тестя генералиссимусом, а после обручился с Марией Меншиковой.
Мария, которую насильно разлучили с любимым человеком – Петром Сапегой, своего венценосного жениха терпеть не могла и как мужчину не воспринимала. Дикие выходки истеричного, самовлюбленного подростка пугали ее и вгоняли в депрессию.
При этом отец регулярно отправлял Марию в покои к императору, увещевал быть ласковой с женихом. Ослушаться отца барышня не могла, а государь жестоко насмехался над невестой, обзывал ее «фарфоровой куклой», без стеснения приглашал в свои покои веселых и активных метресс.
Частичной компенсацией для Марии стали титул императорского высочества и собственный двор, включавший в себя камергера, четырех камер-юнкеров, два десятка фрейлин, множество пажей и слуг. Из казны на содержание двора государевой невесты выделялось по 34 тысячи рублей в год. Все эти милости вручил Марии не жених, а ее всесильный отец.
Не обидел Меншиков и других членов своей семьи. Так, младшая дочь Александра и свояченица В. М. Арсеньева получили ордена святой Екатерины.
Все большее влияние на государя начало оказывать семейство Долгоруковых, прежде всего близкий друг императора Иван Долгоруков. Позиции всесильного князя Меншикова и контролируемого им Верховного тайного совета пошатнулись. Петр II уже не так сильно боялся Данилыча, которого, по слухам, Иван Долгоруков презрительно называл «бесполезным старикашкой».
Государь злился на Меншикова за то, что тот хотел женить его на Марии, но не, имея пока возможности достать до светлейшего, вымещал злость на его сыне – тринадцатилетнем Александре Меншикове.
Историк Костомаров писал об этом:
«Около государя в числе сверстников был сын Меншикова, Петр, в досаде против его отца, мстил сыну и бил до того, что тот кричал и молил о пощаде».
Мало-помалу Петр II начал «доставать» и до Меншикова. Так, однажды государь отправил своей сестре Наталье 9000 червонцев, преподнесенных царю в дар Петербургскими каменщиками. Меншиков эти деньги у служителя-курьера отнял, заявив: «Государь слишком молод и не знает, как употреблять деньги». Это вызвало гнев у Петра. «Как вы смели помешать моему придворному исполнить мой приказ?!», – топнув ногой, закричал император. Не ожидавший такой суровой реакции Меншиков был вынужден прилюдно унижаться перед малолетним государем, обещать ему миллион из собственных средств.
Свою невесту Петр больше видеть не желал и проводил время в компании метресс, щедро поставляемых во дворец Иваном Долгоруковым.
Летом 1727 года Александр Данилович сильно захворал. Для Алексея и Ивана Долгорукова эта новость стала как отмашка для беговых собак. Князья изолировали императора от любых поползновений Меншикова и всячески мешали общению Петра с будущим тестем.
Лишь 4 сентября Данилычу удалось добиться приема у императора в Петергофе. Петр II выделил светлейшему князю не больше получаса, был с Меншиковым вежлив, но невероятно холоден. Выйдя от императора, Данилыч уже знал, что ему грозит опала. Чутье не подвело всесильного временщика.
8 сентября во дворец Меншикова пришли гвардейцы. «Полудержавный властелин» был взят под стражу, а 11 сентября со всей семьей выслан в принадлежавшее Данилычу имение Раненбург (ныне – Липецкая область).
Вскоре светлейшего лишили всех званий, чинов и орденов, в его дворце прошли обыски с изъятием всех государственных документов. Марии Меншиковой царь приказал вернуть обручальный перстень. Синод строго-настрого запретил священнослужителям упоминать имя «обрученной невесты при отправлении службы Божией».
Дорвавшиеся до власти Долгоруковы старательно вымарывали ненавистного «пирожочника» Меншикова из истории семьи Романовых. Весной 1728 года начался последний акт этой драмы. У Меншиковых было отобрано почти все: обширные имения, больше 100 тысяч крестьян, семнадцать домов в Петербурге и Москве, двести торговых лавок, девять миллионов рублей на разных банковских счетах, огромное количество драгоценностей. Даже одежду, постельное белье, медную и оловянную посуду у опальной семьи конфисковали.
В апреле Меншиков с женой, двумя дочерями и сыном отправился в ссылку в сибирский городок Березов. На подъезде к Казани, не выдержав тягот дороги и свалившегося на семью несчастья, скончалась супруга Данилыча, княгиня Дарья Михайловна.
Меншиков, как мог, старался подбодрить детей. Знаменитым на всю Россию стало высказывание опального князя: «С простой жизни начинал, простой жизнью и закончу».
Слова светлейшего не разошлись с делом. Едва приехав в Березов, он взялся за топор и вместе с восемью верными слугами построил себе деревянный дом и возвел церквушку, которой могли пользоваться все березовцы.
Меншиков, продававший когда-то пирожки, познал в своей жизни немало, поэтому ему было проще переносить тяготы ссылки. А вот его дети, привыкшие к роскоши, сильно страдали. Особенно тяжело приходилось «обрученной невесте» Марии. Бедняжке пришлось вести однообразную, тяжелую, скудную и томительную жизнь. Мария с сестрой Александрой сами стирали одежду, готовили пищу, убирали в доме.
Пока был жив отец, у барышень Меншиковых была твердая защита, но вскоре ее не стало. Осенью 1729 года в Березов пришла напасть – эпидемия оспы. Меншиков заразился и 12 ноября скончался в возрасте 56 лет.
По слухам, после смерти светлейшего караулившие семью Меншиковых солдаты стали регулярно захаживать в избу барышень. Мучения Марии, впрочем, были недолгими: 26 декабря 1729 года (в день своего рождения) 18-летняя красавица скончалась от оспы, как и ее отец.
Мария так и не узнала, что за 10 дней до ее смерти несостоявшийся жених Петр II издал указ о возвращении детей Александра Даниловича в Петербург.
Указ Петра не был исполнен – воспротивились Долгоруковы. Но и им недолго оставалось упиваться властью: 19 января 1730 года Петр II скоропостижно скончался в возрасте 14 лет все от той же оспы.
Лишь в 1731 году Анна Иоанновна возвратила из Сибири остатки разрушенного «гнезда Меншикова» – 17-летнего Александра и 19-летнюю Александру.
Александр впоследствии стал генерал-аншефом, сделал блестящую карьеру в армии, был в фаворе у Екатерины II. Александра стала фрейлиной при дворе Анны Иоанновны, счастливо вышла замуж за Густава Бирона, но 13 сентября 1736 года в возрасте 23 лет умерла при родах.
Княжну Марию похоронили рядом с отцом у алтаря церкви, построенной Александром Данилычем. Через много лет вышедшая из берегов могучая река Северная Сосьва смыла эти могилы.
Так сложилась судьба девушки, которая из-за амбиций отца была лишена любви, свободы, счастья и самой жизни…
«Обрюхачена»
Постель была измята. В неясном свете луны Владимир Сергеевич с изумлением увидел Варвару. Она сидела, закрываясь руками. Тот, кому вся прелесть Варвары только что в полной мере принадлежала, находился в комнате.
Чуть ли не физически ощущая поднимающийся из глубины души черный гнев, Владимир Сергеевич решительно шагнул к незнакомцу. Тот неторопливо и хладнокровно одевался.
«Мсье», – начал Владимир по-французски и осекся, вытянувшись по струнке. Перед ним, как всегда невероятно спокойный и даже в такой ситуации кажущийся величественным, натягивал панталоны император.
Князь хотел что-то сказать царю, но слова застряли в горле. Государь застегнул золоченый мундир и, не взглянув на рыдающую женщину и своего соперника, вышел из комнаты.
Владимир и Варвара остались одни.
Морозной ночью 15 декабря 1775 года в семье князя Ильи Борисовича Туркестанова и княгини Марии Алексеевны Туркестановой (урожденной Еропкиной) родилась девочка. Когда малышка издала первый крик и стало понятно, что роды прошли вполне благополучно, Илья Борисович присел на колени перед иконой и стал горячо молиться – девочка была его первым, долгожданным ребенком от любимой супруги.
Через несколько дней новорожденную окрестили в ближайшей церкви, дав имя Варвара, что с греческого можно перевести как «иноземка». Предки малышки действительно были иноземцами в России. Илья Борисович Туркестанов принадлежал к старинному грузинскому роду Туркистанишвили. Дедушкой Варвары был знаменитый князь Баадур (Борис) Туркистанишвили, который в 1722 году выполнял различные поручения грузинского царя Вахтанга VI в его переговорах с императором Петром I относительно судьбы царства Картли (Восточная Грузия). Баадур и стал родоначальником славного рода Туркестановых.
Илья Борисович, несмотря на знатное происхождение, начал службу простым солдатом в лейб-гвардии Семеновского полка, дослужился до должности кабинет-курьера императрицы Елизаветы Петровны, получил звание секунд-майора. После завершения военной службы долгое время служил в Верховном надворном суде, став со временем его председателем.
Мама новорожденной Варвары была дочерью действительного статского советника Алексея Михайловича Еропкина и Анны Васильевны Олсуфьевой, родной сестры видного «птенца гнезда Петрова» Адама Васильевича Олсуфьева. Адам Васильевич был статс-секретарем Екатерины II и одним из крупнейших деятелей русского Просвещения, внесшим неоценимый вклад в отечественную культуру.
Так что родня у Вареньки была весьма примечательной и известной, но ту до поры до времени это совершенно не интересовало. Девочка росла в усадьбе родителей, бродила по тенистым аллеям, купалась в маленьком прудике и играла с крестьянскими детьми.
В 1788 году, когда Варваре было 12 лет, скончался ее 51-летний отец. К этому моменту в семье Туркестановых росло уже трое детей, а еще семь умерли в младенческом и раннем возрасте.
Похоронив Илью Борисовича в Донском монастыре, 38-летняя Мария Алексеевна замуж больше не выходила и посвятила себя воспитанию дочерей – Варвары, Екатерины и Софьи.
Увы, княгиня ненадолго пережила супруга – в 1795 году Мария Алексеевна скончалась. Варвара и ее сестры остались сиротами и без средств к существованию. В результате девушек «разобрали» родственники. Варвара «досталась» дяде по материнской линии, бригадиру Василию Дмитриевичу Арсеньеву.
Арсеньев отнесся к девушке как к родной дочери и в полной мере заменил ей отца. Тихая, не отличавшаяся большой красотой Варвара нашла в доме дядюшки тишину, покой и уют, в которых она так нуждалась после смерти родителей.
Княжна Туркестанова очень редко выходила в свет, большую часть времени проводя в имении дяди. Лишь в 1808 году она была наконец пожалована во фрейлины вдовствующей императрицы Марии Федоровны.
Умная, обходительная, образованная женщина сильно выделялась на фоне молодых и ветреных красавиц императорского двора. Все придворные обожали Варвару, а императрица считала ее своей ближайшей подругой. Вот что писал о княжне в своих «Записках» тайный советник и известный живописец граф Федор Толстой:
«Почти ежедневными посетителями были <…> и княжна Турхистанова, самая короткая приятельница обеих сестриц и любимица Марьи Алексеевны и ее мужа [не первой уже молодости], уже порядочно взрослая девушка, очень умная, хитрая, ловкая, веселая и [весьма] занимательная в салонных беседах. Почтенный дядюшка, как мне казалось, очень за ней ухаживал, и она скоро, по его просьбе, была сделана фрельною большого двора».
Интерес к княжне Туркестановой проявлял не только «почтеннейший дядюшка» Федора Толстого, но и сам император Александр I. Государю нравилось беседовать с умной фрейлиной, он с удовольствием проводил с ней время; впрочем, поначалу отношения не выходили за рамки дозволенного.
В 1813 году государь расстался со своей фавориткой Марией Нарышкиной и отправил ее за границу. Сразу после этого Александр Павлович стал все чаще заговаривать с Варварой, приглашать ее на прогулки в сад. Вскоре пошли разговоры, что княжна Туркестанова – новая фаворитка его императорского величества.
Александр был младше Варвары на два года, но отдавал ей предпочтение перед всеми юными красавицами двора. Княжна Туркестанова не могла противиться желаниям государя, но, скорее всего, по-настоящему Александра не любила. Ее сердце еще не испытало подлинного чувства. Но всему свое время.
В 1818 году княжне Туркестановой было 42 года, и именно в этом возрасте она до безумия влюбилась в молодого красавца. Флигель-адъютанту Александра I князю Владимиру Сергеевичу Голицыну было всего 24 года. Мужчина богатырского роста, герой Отечественной войны 1812 года, получивший за храбрость Георгиевскую ленту. Веселый, богатый, остроумный, невероятно обаятельный Владимир имел репутацию коварного обольстителя.
Вот что писал о князе мемуарист Филипп Вигель:
«Более всех из братьев наделал шуму меньшой, Владимир, употребляя во зло дары природы. Его называли Аполлоном, он имел силу Геркулеса и был ума веселого, затейливого и оттого вся жизнь его была сцепление проказ, иногда жестоких, иногда преступных, редко безвинных».
О князе Голицыне грезили многие девушки, в том числе молодые красавицы из самых благородных семей. Но достался он разменявшей пятый десяток Варваре Туркестановой.
Княжна была так сильно влюблена, что сама открылась Владимиру. Князь ответил на чувства фрейлины, они стали регулярно встречаться.
Теперь княжне Туркестановой приходилось скрывать оба романа. При этом князь Голицын, хоть и был в курсе слухов, связывающих Варвару с императором, но не верил им.
Однако поверить пришлось. Однажды Владимир в спальне возлюбленной застал… самого императора. Государь, не обращая внимания на стоящего по стойке смирно соперника, спокойно оделся и вышел из комнаты. Варвара умоляла Владимира остаться с ней, то тот был непреклонен. Так княжна Туркестанова потеряла обоих своих мужчин.
А вскоре фрейлина узнала страшную новость – она ждет ребенка. В августе императрица Мария Федоровна отправлялась в длительное путешествие по Европе, и Варваре Ильиничне необходимо было сопровождать ее.
За границей пробыли долго, и через четыре месяца животик княжны стал неумолимо расти. Свое состояние Варваре пришлось скрывать под корсетом, что доставляло ей и моральные и физические мучения.
В конце 1818 года императрица Мария Федоровна со своим двором вернулась в Петербург, но Варваре Ильиничне как придворной фрейлине все равно приходилось участвовать в светских раутах и официальных мероприятиях. Растущий живот она прятала под одеждой.
Весной, сославшись на недомогание, княжна Туркестанова выпросила двухмесячный отпуск. В апреле Варвара благополучно родила девочку, которую назвала Марией. Отцом малышки мог быть как Владимир Голицын, так и император.
Появление на свет дочери Марии привело к большому скандалу. «Пала княжна Туркестанова», – говорили при дворе. Это и правда было неслыханно – незамужняя фрейлина рожает ребенка неведомо от кого. Какой пример эта 44-летняя дама подает барышням?
На голову несчастной Варвары обрушился настоящий позор. При дворе ее больше не ждали, а на улице только что не показывали пальцами.
В середине апреля дошедшая до крайней степени отчаяния фрейлина приняла яд. Зелье подействовало не сразу, бедняжка мучилась несколько недель.
Императрица Мария Федоровна, узнав об отравлении Варвары, специально приехала из Павловска, приласкала бедняжку и пробыла с ней последние часы.
Княжна Туркестанова скончалась 20 мая 1819 года.
В обществе известие о смерти княжны восприняли столь же остро, как и новость о рождении ею дочери. Князь П. А. Вяземский писал своему другу А. И. Тургеневу:
«Вчера скончалась княжна Туркестанова. Что ни говори, но она была и добрая, и любезная, и необыкновенно умная женщина. Благодетельствовала многим, несмотря на недостаточное состояние, и оставила приятные о себе воспоминания в многочисленном знакомстве…»
Эти слова Петра Андреевича в полной мере передают характер княжны Туркестановой. Рано потерявшая родителей, небогатая женщина находила возможность помогать нуждающимся…
После смерти княжны в свете началось обсуждение: кто же ее погубил? Государя, как особу священную, от слухов старались оградить, поэтому виновником падения Варвары был «назначен» Владимир Голицын. Даже Пушкин, не любивший Александра I, отмечал в дневнике:
«Княжна Туркистанова, фрейлина, была в тайной связи с покойным государем и с кн. Владимиром Голицыным, который ее обрюхатил».
Чтобы не провоцировать дальнейших слухов, императрица Мария Федоровна повелела сообщить, что ее фрейлина скончалась от холеры.
Но что же «коварный обольститель» Владимир? Обрюхаченная князем Варвара даже после драматичного разрыва верила в добрую душу Вольдемара:
«Он раскаивается во всех своих безумных поступках; в нем заронены семена всего доброго и прекрасного, но никто не позаботился о их развитии; у него есть ум и доброе сердце».
Чуткая душа Варвары не обманула ее. Владимир принял дочь фрейлины в своем доме, дал свое отчество. В семье князей Голицыных Марию прозвали Мими и очень любили.
В 1821 году Владимир женился на дочери помещика Прасковье Матюниной, которая родила ему семерых детей. Добрая и простая женщина, Прасковья Николаевна всем сердцем привязалась к Мими и считала ее своей дочерью.
Впоследствии Владимир Сергеевич служил на Кавказе, был ранен, прославился в свете как балагур, весельчак и сочинитель неплохих стихов. Дружил с Пушкиным и Лермонтовым.
Князь Голицын выдал 23-летнюю дочку Мими за Ивана Аркадьевича Нелидова, брата фаворитки Николая I Варвары Нелидовой.
Казалось, судьба девушки будет счастливой, но через год после свадьбы Мими тяжело заболела и скончалась. Отец сильно переживал утрату. Спасло его только новое назначение по службе: генерал-майора Голицына определили в командующие центра Кавказской линии, и он с головой ушел в работу.
Выйдя в 1849 году в отставку, Голицын поселился с семьей в Москве в большом доме у Бутырской заставы. Здесь генерал прожил много лет в счастье и покое. Скончался Владимир Сергеевич 7 января 1861 года в возрасте 66 лет.
О княжне, которую князь когда-то «обрюхатил», Владимир Сергеевич предпочитал не вспоминать и очень обижался на преследовавшие его до конца жизни неприятные слухи.
Так сложилась судьба женщины, которая заплатила страшную цену за краткий миг счастья, за беззаветную любовь. Пожалела ли она об этом, когда яд проникал в ее кровь? Кто знает…
На глазах у отца
Отказа князь не стерпел. Зазвенели мечи, запылали соломенные крыши, заголосили девки. Вскоре все было кончено.
Юная Рогнеда укрылась в тереме и, дрожа всем телом, смотрела из окошка, как княжеская дружина расправляется с людьми, которых она знала и любила с детства.
«Где Рогнеда? – услышала княжна жуткий крик и тут же на площадь перед теремом выскочил крупный бородатый ратник. – Княже желает быть с нею на глазах ея отца и матери!»
Рогнеда, услыхав эти слова, едва не лишилась чувств. Она сразу же поняла, как именно князь хочет «быть» с ней. Но за что этот кошмар ее родителям? Уж лучше бы смерть!
«В тереме небось, Добрыня!» – с мерзким смешком крикнул кто-то во дворе. Дверь затрещала от страшных ударов, и вскоре на пороге опочивальни появился тот самый бородач.
«Вот ты где, княжна! – усмехнулся он. – Отвергнутый тобою князь потолковать хочет».
Жена князя полоцкого Рогволода подарила супругу дочку, которую назвали Рогнедой.
Отец княжны был из варягов, имя его по-скандинавски звучало как Рёгнвальд. Имя же Рогнеды звучало как Рагнхильд. С отрядом верных воинов Рогволод пришел на Русь из-за моря, осел в Полоцке (ныне – Витебская область Белоруссии) и стал этим городом владеть как князь.
В отличие от многих других русских князей, Рогволод не принадлежал к Рюриковичам, осевшим сначала в Новгороде, затем в Киеве, и правившим на многих землях восточных славян. Полоцкий владыка был основателем собственной княжеской династии – Рогволодовичей.
Рогнеда росла в Полоцке, в тереме посреди великолепной природы. Помимо дочери, у князя было еще двое сыновей, имена которых в истории не сохранились.
Вокруг юной княжны крутился целый штат мамок, нянек да дворовых девок. Рогнеду с детства учили быть услужливой будущему мужу, но при этом в обучение девочки входили также уроки езды на лошади, стрельбы из лука и даже сражения на мечах – в те неспокойные времена женщина должна была уметь постоять за себя.
Когда Рогнеде исполнилось 16 лет, она превратилась в настоящую красавицу: высокая, стройная, с длинной толстой косой и чистейшей белой кожей. Многие достойные князья присматривались к Рогнеде, но ее объявили невестой Ярополка Святославича, великого князя Киевского.
Рогволод прекрасно понимал, что усилить небольшое княжество можно только за счет укрепления связей с Рюриковичами, а брак для этого – самое надежное средство.
Прознав, что Ярополк желает взять в жены полоцкую княжну, Рогнедой заинтересовался и его брат, новгородский князь Владимир.
С 975 года между братьями шла усобица, и Владимир стремился во всем опередить Ярополка. Историк культуры Константин Богданов так писал об этом:
«Между братьями с самого начала сложились довольно непростые отношения. Они были рождены от разных матерей и в дальнейшем воспитывались порознь. У каждого из них были свои родичи и наставники, к советам которых они прислушивались гораздо чаще, чем следовало бы это делать. Позднее отсутствие взаимной симпатии и доверия между братьями сыграло с ними роковую роль. Амбиции наставников только усугубили разлад, наметившийся еще в их детских душах и с возрастом становившийся все сильнее».
На этот раз предметом соперничества невольно стала Рогнеда.
Не дожидаясь, пока Ярополк прибудет в Полоцк, Владимир сам заявился к князю Рогволоду и попросил руки его дочери. Ответ дала сама Рогнеда: «Не хочу розути робича».
Это было вдвойне оскорбительно. Во-первых, княжна отказала Владимиру: невесты на Руси снимали с женихов обувь; это означало, что предложение о свадьбе принято. Во-вторых, Рогнеда назвала Владимира «робичем», то есть сыном рабыни.
Матерью князя была Малуша – наложница его отца Святослава Игоревича. Нельзя исключать, что Владимир не обратил бы внимания на оскорбление и, получив отказ, спокойно удалился бы в новгородские земли. Однако в дело вмешался воевода Добрыня Малкович – наставник князя, его дядя по материнской линии.
Добрыня взбеленился из-за слов Рогнеды в адрес сестры и, как сказано в «Лаврентьевской летописи», приказал Владимиру «быть с ней перед отцом ее и матерью». Князь не пожелал или же не посмел перечить дяде. Собрав рать из новгородцев, кривичей, чуди и варягов, Владимир снова пришел к стенам Полоцка. Князь Рогволод как раз готовился везти дочь в Киев, где она должна была стать женой Ярополка.
После ожесточенного боя Полоцк взяли ратники Владимира. Рогволода с женой и детьми вывели на крепостную стену, после чего Владимир «был» с Рогнедой на глазах у ее отца и матери.
Совершив свое черное дело, князь не успокоился и, выхватив меч, расправился с отцом и братьями несостоявшейся невесты.
Рогнеду Владимир забрал с собой, сделав своей наложницей.
Закончив «дела» в Полоцке, князь Владимир отправился в Киев. Новгородцы подошли к древнему граду. Осада продолжалась длительное время, пока в окружении Ярополка не нашлось предателя. Воевода Иона Блуд убедил князя, что Киев отстоять невозможно, поэтому необходимо переждать с дружиной в городе-крепости Родень близ впадения в Днепр реки Рось.
Ярополк послушался Блуда, укрылся в Родне, а уже через неделю город окружило войско Владимира. В крепости начался голод, люди Ярополка стали роптать. Блуд уговорил Ярополка вступить с братом в переговоры. Киевский князь прибыл к Владимиру, где два варяга «подняли его мечами под пазухи».
