Улыбка Катерины. История матери Леонардо бесплатное чтение
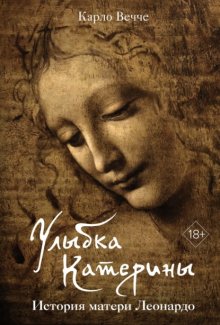
1. Яков
Березовая роща на берегу реки близ Хи-Миуте[1], летнее утро
Я не могу ее потерять!
Лошадь несется, то появляясь, то исчезая меж берез.
Мне остается только следить за ней глазами.
Глаза мои – руки мои. Тянутся, пытаясь схватить то, что ускользает навсегда.
Жизнь, всполох света, путаная череда воспоминаний и образов, тот бесконечно краткий срок, что мы прожили вместе.
Передо мною – белые, тонкие стволы, их кора – словно огрубевшая кожа. Они похожи на те деревья, что я обнимал двенадцать зим назад: не здесь, у моря, а в нашей священной роще, высоко в горах. Тогда я, вопреки запретам, проник в ее святая святых. О, я был не в силах ждать снаружи с прочими людьми и лошадьми! Стоны моей измученной жены уже несколько часов эхом разносились по долине, вселяя в меня неведомый страх. Вот-вот должно было свершиться ужасающее таинство.
Вцепившись в березу, я смотрел с края балки вниз, на поляну. В центре плато раскидистый грецкий орех, потрепанный осенними ветрами, воздевал ветви к небу, словно жрец в молитве. Узловатые корни обвивали скалу, из-под которой бил источник чистейшей воды. Меж корнями и стволом виднелся грубый деревянный крест. С моей женой осталась только мамику, бабка-повитуха, что сновала между ней и источником, сменяя окровавленные тряпки и тут же застирывая их. Распластавшись на соломе, моя жена пронзительно кричала и корчилась в судорогах, запрокидывая голову.
До вчерашнего дня долгие месяцы, проведенные в нашем большом доме посреди аула, мы исполняли каждый наказ мамику и старших женщин. Все ждали появления моего первенца: наследника пши Якова, благородного князя Якова, как пели женщины, чудо-мальчика, будущего богатыря, достойного нартских саг, отважного главы клана. Ему предстояло родиться в год Лошади, самого благородного и почитаемого нашим народом животного.
Жена моя не выходила на улицу после наступления темноты, не сидела на сундуках и камнях, не убивала змей, не пила воды из широких чаш. Бережно поддерживала огонь в очаге посреди жилища, не давая ему потухнуть. Но вопреки стараниям, тяжкое бремя с каждым днем иссушало и ослабляло ее. Из-за частых кровотечений женщины опасались, что мать и будущее дитя попали под власть демона. Возможно, то была жестокая Алмасти. Поговаривали, будто в сумерках по дому бродит нагая простоволосая старуха. Чтобы отпугнуть ее, в дверях ночи напролет горел очистительный огонь, а под подушку и тюфяк клали всякие металлические предметы – пару амулетов, ножницы, нож. К родам подготовили соломенную хижину за аулом, у шумной речной стремнины.
Срок подошел поздней осенью. Погода стояла мягкая, но старейшины предупреждали, что скоро из Страны Тьмы налетит ледяной ветер. Тогда все побелеет и замрет, погребенное под толстым покровом снега. Из последних сил, бледнея, жена настояла, чтобы мы немедленно отвели ее в священную рощу, под сень ореха. Утверждала, что нуждается в силе воды и камня, в соках большого дерева. Она была непреклонна. И тогда, вопреки слабости, мы решили отнести ее туда на носилках в сопровождении одной только мамику. В путь отправились на рассвете. Небо прояснилось, но воздух еще не прогрелся. В священную рощу вошли только женщины с носильщиками, да и те вскоре вернулись назад, подготовив ложе из соломы на сырой земле. Остальные, включая и меня, спешившись, ждали у края балки. Ближе мужчинам подходить запрещалось. Все, что там происходило, мы видели лишь смутно. Мамику заводила таинственные ритуалы, чтобы вызвать у роженицы схватки. Она ворожила с охапкой загадочных предметов, сплетенных веревками, заговаривая воду и ветер.
Резкий вопль заставил меня замереть. Жена внезапно выгнулась всем телом, потом обмякла и замерла. Я окаменел. Издали я едва различал их фигуры и не мог понять, что происходит. Мамику, укрыв мою жену, согнулась у ее ног. И вдруг раздался новый крик, слабый, но отчетливый. Несколько раз взмахнув чем-то похожим на нож, мамику бросилась к роднику с окровавленным комочком на руках и несколько раз окунула его в ледяную воду. Крик повторялся снова и снова. Едва заметив существо, уже отмытое от крови, я тотчас же ринулся к поляне. Мокрые от слез глаза мамику источали ужас, не столько от встречи со смертью, сколько от моего кощунственного присутствия, желания увидеть то, что от мужских взглядов скрыто. На земле одиноко лежало белое как снег тело моей жены: рот распахнут, в безжизненных глазах отражается синева небес. Кровь запеклась на рваной ране между ног, на соломе, на земле. «Всю ее Алмасти выпила, – глухо прошамкала мамику. – Теперь ей в землю путь держать, а священная кровь в корнях прорастет да в соке древнего дерева». Кровь за кровь, жизнь за жизнь… Вот тогда-то я ее впервые и увидел. Ясный, пронзительный взгляд распахнутых глаз. Они напомнили мне глаза ее матери, что словно бы наблюдали за мной, пока я держал малышку на руках.
Снова увидеть дочь я смог только шесть зим спустя, по возвращении из похода.
Похоронив жену в родовой усыпальнице, под громадами каменных плит дома мертвых, я доверил младенца бабушке и кормилице Ирине, рабыне из русов.
Тьма окутала землю, тьма Зла и Боли. Завывал северный ветер, сыпал снег. Снарядившись, я собрал воинов племени и без оглядки пошел прочь. До сих пор, в ожидании первенца, я медлил с ответом уорку[2] Нэху, одноглазому князю Иналу Великому[3], сыну Хурыфэлея из колена Абдун-хана, что уже давно обратился к вождям и дворянам нашего гордого и свободолюбивого народа, разбросанного по горам и долинам, с призывом объединиться в общей борьбе. Но после случившегося я последовал за ним со слепой решимостью, яростно бросаясь в бой, словно пытаясь найти для себя утешение в смерти, которую вместо того щедро дарил врагам. Другим воинам мой напор казался смелостью, героизмом, жестокостью. Но это было лишь отчаянное желание умереть.
На родину я вернулся совершенно другим. Лицо изрезали морщины и шрамы, лишь кое-где скрытые бородой и отросшими светлыми волосами. Печаль омрачила взор, в глазах запечатлелось пламя битв и реки крови. Жизнь и смерть перестали волновать меня. Голова и сердце опустели.
В нашем ауле я оказался нежданно, накануне новогодних гуляний, в самом конце зимы, прискакав в сопровождении немногих оставшихся в живых товарищей. За нами следовала небольшая повозка, на козлах которой восседал тщедушный человечек в черном. Под буркой, войлочным плащом и кольчугой я носил простую рубаху без воротника, присборенную поясом, широкие штаны заправлял в сапоги. За плечом – длинный лук с колчаном, в ножнах у пояса – легкая кривая шашка, гибкая и смертоносная, как змея, с крючковатой посеребренной рукоятью в виде орлиной головы, украшенной чернью.
Я снял шлем-шишак с подщечниками и, подставив голову ветру, стал потихоньку спускаться с холма в долину. На окраине аула по сторонам дороги молча собирались группки женщин, стариков и детей, пытаясь разглядеть в измученных фигурах воинов черты любимых мужей, сыновей, отцов.
Вот и мой дом посреди аула, он разве что чуть выше остальных, но в остальном – такая же вуна, мазанка из тростника, соломы и веток. Ничего не изменилось. За хижиной виднеется все та же дощатая изгородь, которую я возвел летом, пока жена была в тягости. Тут же знакомые конюшни, отдельная комната для гостей, загоны для скота, поле и фруктовые деревья, замершие в ожидании новой весны.
Под навесом, в стороне от слуг и работников, я узнал стройную фигуру матери, бесстрастной, словно статуя. Рядом служанка Ирина держала за руку девочку лет пяти-шести, светловолосую и голубоглазую. Судя по всему, мою дочь. Ее глаза смотрели на меня взволнованно, но без слез. Сухими были глаза бабушки, глаза Ирины и глаза всех на улице в ту минуту, потому что слезы для нас – знак слабости.
Спешившись, я обнял мать, с благодарностью взглянул на Ирину и наклонился к девочке, которая видела меня впервые. Должно быть, я показался ей чужим, и только тогда осознал, что мой вид мог ее напугать. Но улыбаться я не умел: наверное, за всю жизнь ни разу не улыбнулся. Я даже не знал, как ее зовут. «Вафа-нака, Синеглазка», – шепнула Ирина, упредив мой вопрос. И точно: глаза девочки были такими же васильково-голубыми, как у ее отца и матери. Я с болью вспомнил пронзительную синеву неба над поляной в тот день, когда Всевышний Тхашхо забрал любимую жену и подарил мне вместо первенца-наследника дочь.
Я осторожно потянулся к ней и тихо произнес: «Си-не-глаз-ка». Малышка неуверенно взглянула на Ирину, та улыбнулась в ответ. Тогда девочка робко приблизилась ко мне и, не опуская глаз, обвила ручонками шею.
Мы вошли в большой зал в самом центре вуны, где царил священный очаг, роль хранительницы которого, хозяйки дома и главы семьи в мое отсутствие все эти годы исполняла мать. Повозка тоже остановилась возле дома, и я представил возницу родным и друзьям: это был мой кунак, товарищ и гость, греческий купец Деметриос, который следовал за мной из самого Шанджира[4], цитадели князя Инала, основанной его дедом Абдун-ханом к югу от реки Псыжь[5]. Прежде мы не встречались, пока случай не свел нас. Деметриос не только немного говорил по-нашему, но и знал мое имя.
Оказывается, это имя, Яков, спасло грека, когда тот сошел со своего корабля на берегах Хи-Фице[6]. Окружившие Деметриоса стражники лишили бы в тот день чужеземца и товара, и свободы, если бы тот вовремя не назвался кунаком князя Якова, во имя священного долга гостеприимства моля о защите и возможности предстать перед покровителем. Деметриос привез мне не только товары, но и новости из дальних земель, что лежат за Хи-Фице. У него имелось даже личное сообщение для моей матери.
Представив ей грека, я дал им возможность поговорить наедине, отойдя в угол комнаты. К всеобщему изумлению, Деметриос поклонился ей. Произнеся всего пару слов, он достал из сумы какой-то предмет, похожий на кольцо, и вручил ей. Мать слушала безмолвно. Я знал, что она давно утратила дар речи. Не помню, чтобы в детстве я слышал от нее хотя бы звук. Только жесты. Считалось, что она онемела много лет назад, еще до замужества и моего рождения, когда, вернувшись к обугленным развалинам своего аула, сожженного татарами Железного Тимура, узнала, что брата ее похитили, а голову отца насадили на пику.
Мне на миг показалось, что мать растрогана.
Но это был всего лишь миг. Она тотчас оправилась, словно устыдившись минутной слабости, отпустила грека и присела на диван в центре комнаты, рядом с Синеглазкой, жестами приглашая всех угощаться нехитрым ужином, который женщины состряпали на скорую руку: супом с пшенными клецками, тушеной бараниной под чесночным соусом, орехово-медовым пирогом. Пенную брагу-махсыму разливали в серебряные чаши и осушали в честь приехавших: меня, воинов и кунака. Полилась протяжная мелодия, которую одна из девушек заиграла на шичепшине, водя длинным смычком по струнам из конских жил, закрепленным на продолговатом деревянном коробе.
Усевшись по окончании трапезы у очага, грек, коверкая слова и звуки, то и дело тонувшие в общем хохоте, завел разговор на чужом языке, столь сложном, что все вокруг наперебой бросались ему подсказывать. Однако он обладал редким даром передавать смысл истории при помощи гримас, лукавого прищура глаз, которые переводил с одного слушателя на другого, движений рук…
Постепенно смех стих. Все разинув рты уставились на рассказчика, слушая его дивные и невероятные для горцев истории, ведь за исключением нас, воинов и нескольких рабов из далеких стран, никто здесь не видел и пяди земли за горным хребтом или равнины, где ручей превращался в реку. Я смотрел на Синеглазку, но та меня не замечала, вся во власти непонятных и чарующих речей грека.
Там, за болотами Меотии, бесконечными Хи-Миуте, где катят свои воды Тана[7] и Псыжь, рассказывал Деметриос, за землями Тамреги[8], где берега будто тянутся друг к другу, простирается Хи-Фице, гигантское море, в воды которого садится солнце. Некогда греки дали ему имя Понт Эвксинский, то бишь Гостеприимный, а новые пришельцы с южных берегов кличут его Кара-Денизом, или Черным морем. Видел я это море: издалека, с горных хребтов, оно кажется лишь неясной полоской на горизонте. Но край света, продолжал Деметриос, не там, где садится солнце. Потому что даже великое Черное море заканчивается в той точке на юге, где находится его родной город, самый красивый и богатый на земле, царство куполов и золотых статуй. Дальше лежит другое море, еще больше прежнего, соленое и глубокое, с бесчисленными островами, окруженное всяческими землями, где обитают разнообразные народы. Море это истекает в огромную водную зыбь, что омывает все части суши. А по другую сторону того моря есть раскаленная страна, не знающая снега, под названием Эгиптос. Она населена народом, древним как мир, и пересечена рекой, истоки которой сокрыты.
Вот откуда вернулся Деметриос. В свою богатую столицу, Аль-Кахиру[9], что значит Сокрушительная, позвал его тамошний султан Барсбай[10], прознавший, что родом грек с северо-восточного побережья Черного моря. Оказалось, что из тех же мест происходит и сам султан, сын высоких гор, заметных даже с моря. Ребенком он попал в плен во время татарских набегов, был продан в рабство в Аль-Кахиру, но в конце концов сам стал править в той части мира. Деметриос показал нам небольшой металлический диск с изображением лилии. Вот его монета, пояснил он изумленным гостям. У нас, горцев, деньги не в ходу. Если несколько монет и попадет кому-то в руки, их хранят как амулеты или дырявят на бусины для ожерелий. У нас племена попросту обмениваются товарами между собой или с редкими еврейскими или армянскими торговцами.
Так вот, султан Барсбай отправил Деметриоса в родные края, чтобы донести весточку единственному в своей семье, кому удалось выжить, – старшей сестре. Насколько слышал Барсбай, она вышла за большого вождя из аула на северном плато, у истоков Псыжи, и вырастила сына по имени Яков. Деметриосу нужно было лишь передать им привет и дары. И вот, к всеобщему изумлению, грек принялся доставать из мешка диковинные вещи. Сестре султана – шелковый златотканый плат с лилией по центру; а сыну – кинжал с усыпанной драгоценными камнями рукоятью. Но главный подарок моя мать уже получила: то было чудесное кольцо, которое должно было уберечь ее саму и ее близких. Барсбаю оно досталось когда-то от юного послушника из монастыря на священной горе Синай, с вершины которой Всевышний говорил с пророком Моше.
Я попросил у матери это простенькое серебряное кольцо. На поверхности виднелись какие-то знаки, один побольше, другие поменьше. Крупный будто состоял из скрещенных линий, на манер тех, что мы используем на клеймах для лошадей и скота или для меток на камнях и оружии. Я долго изучал кольцо, но в значениях символов так и не разобрался.
Как и все мои сородичи, письму я не обучен, хотя видел его у соседних племен. Случалось мне и находить в курганах или могильниках древние каменные плиты, изрезанные странными и непонятными символами. Письмо для меня – суть колдовство, при помощи которого слова, сотворенные из воздуха, заключаются в плен знаков и застывают в вечности. Выходит, эти знаки способны пересечь грань между жизнью и смертью. Вот почему письмена высекают на камнях у могильников. Так выглядит язык умерших, вырезанный в скале, чтобы она не стала прахом, как их тела.
На кольце были такие же магические метки. Я вопросительно взглянул на Деметриоса. Грек указал мне на крупный знак, где сплетались линии: это монограмма, пояснил он. Такой символ составлен из нескольких, соединенных между собой. Здесь знаков было три, сообразно трем звукам: «A», «I» и «К» – в таком виде их чертили греки. Чтобы я понял другие штрихи, Деметриос расшифровал их для меня один за другим. Получилось ΑΙΚΑΤΕΡΙΝA. Затем он произнес вслух все слово целиком: Екатерини.
Оказывается, это просто имя. Имя Айя Екатерини, непорочной девы, чьи мощи покоились и почитались в том самом монастыре на священной горе Моше, Синае. Там кольцо, коснувшись тела святой, впитало его силу и магию[11]. Известно, что Екатерина была девой из Александрии и звалась Доротеей, то есть «данной Богом». Однажды ей во сне явилась Матерь Божья, Пресвятая Дева Марисса, покровительница пчел и меда, и младенец Христос, ее сын от Всевышнего, который назвал Доротею своей невестой и вручил ей кольцо. С тех пор ее звали Екатерини, что значит «пречистая». Гонители-язычники подвергли деву страшным пыткам, дабы заставить отречься от своего божественного жениха, а затем обезглавили, но тело ее, по частицам собранное ангелами, было вознесено на гору Моше[12]. Говорили, что и после смерти ее светлые волосы чудесным образом продолжали расти, а тело сочилось целительным елеем.
Сумерки окутали дома и долину. Наступала новогодняя ночь, и мощный жизненный вихрь уже готовился пронизать воздух, воду и землю. Все по-прежнему сидели вокруг очага, переживая услышанные диковинные истории. В тишине, нарушаемой лишь потрескиванием угольев, я поймал взгляд Синеглазки и вспомнил, что ей так и не дали имени, не погрузили в крестильные воды. Это должен был сделать я, поскольку священники-шогены и шекники, шаманы-крестители, сюда, в горы, обычно не добирались, хоть мы и поклонялись деревянному кресту, прибитому к стволу старого священного ореха близ родника.
Я давно там не бывал. Со времени смерти жены это место стало для меня юдолью смерти. Но ведь там же появилась на свет Синеглазка! Потому ей и надлежало вернуться сюда в главный праздник года, в час возрождения жизни растений, животных и всякой твари земной. Ребенок мог бы стать знаком возрождения, я бы очистил ее, смочив лоб благословенной ледяной водой, что била ключом у подножия креста, той самой, которой некогда мамику смыла с нее кровь матери.
Как же назвать Синеглазку? Сжимая в руках чудодейственное кольцо, я уже знал ответ, но сказал себе, что нужно следовать хабзэ, традициям и законам народа. Имя ребенку предлагает первый чужестранец, переступивший порог его дома после рождения. Этим человеком был Деметриос. Посмотрев по очереди на меня, на кольцо, а затем на мою мать, грек спросил, когда именно родилась девочка. Я не знал и обратился к Ирине, говорившей с сильным русским акцентом. Она сказала: спустя две луны и десять дней от начала осени последнего Жылги, года Лошади.
Прикрыв глаза, Деметриос по купеческой привычке попытался прикинуть в уме: похоже, этот день совпадал с праздником Айя Екатерини, выпадавшим по греческому календарю на двадцать пятый день месяца, называемого ноэмбриос. А последний год Лошади, судя по всему, приходился на 6936 год от сотворения мира. Сомнения рассеялись и, взглянув на девочку, он торжественно произнес ее имя: Екатерини. Я вручил ей чудесное кольцо столь же чинно, как Христос – своей невесте. С величественным видом, на глазах у всех, Екатерини надела это кольцо на палец и сжала маленький кулачок, поскольку оно было ей велико. А потерять кольцо – дурное предзнаменование.
Шесть зим спустя мне случилось снова оказаться на родине.
Я был в лагере Инала, к югу от гор. Когда лед начал таять и реки вздулись, неся новую воду к Хи-Фице, пришло известие о смерти матери. Получив разрешение князя, я в одиночку отправился похоронить ее в доме своих мертвых предков. Путь мой лежал вверх по реке, по хорошо знакомым извилистым горным тропам. Сначала я несся вскачь, потом шел пешком по заснеженным перевалам, по-братски вытягивая и помогая коню.
Сердце мое ожесточилось еще сильнее. В светлых волосах и особенно в бороде зазмеились снежно-белые нити. На одном боку у меня висела шашка, на другом – драгоценный кинжал Барсбая. Будучи воином, я привык гнать любую праздную мысль, воспоминание или чувство, существуя лишь во имя дела и битвы. И все же в груди екнуло, когда за последним отрогом открылась долина с лентой знакомой реки. Над соломенными крышами аула стелился дымок, а дальше, полого поднимаясь к нагорью, расстилались широкие равнины, где отец с детства учил меня скакать наперегонки с ветром. К востоку горы становились круче, долина сужалась, начиналась непроходимая чаща, священный лес с большим орехом и прозрачным источником. Занималась весна, луга покрывались ковром из свежей травы и цветов, фруктовые деревья превращались в бело-розовые облака.
Сердце сжалось при воспоминании о той единственной весне, которую я провел со своей любимой на усыпанном цветами ложе из шкур. Потом нахлынули мысли о дочери. Но память о последней и единственной нашей встрече шесть лет назад почти померкла. Где ее искать? Выросла ли она, стала ли женщиной? Что узнала за это время? Выучила ли все то, что предписывает закон хабзэ? Должно быть, пришло время подыскать ей достойного жениха, сильного и мужественного юношу из соседнего племени, заключить кровный договор с его родителями… И после отпустить навсегда, ведь такова женская доля. Дочь в семье – ровно гостья: как придет, так и уйдет, говаривали старики.
Что я скажу ей, когда увижу снова? Ответов я не знал. Я ведь и по жизни немногословен, не мастер слагать речи длиннее одной фразы. Никто в моей семье болтливым не был. Мать так и вовсе, раз онемев, со мной не говорила. Я подумал, что не справлюсь, но должен был хотя бы попытаться. Начал было про себя: «Синеглазка» – и осекся. Нет, теперь ее следовало называть чужестранным именем, данным при крещении – Е-ка-те-ри-ни. Екатерини, высокочтимая дочь благородного Якова.
Спускаясь по тропе, я приметил на вершине соседнего холма одинокую фигуру. Судя по одежде и стати, то был скорее мальчишка, не мужчина. В мою сторону он не смотрел, будто не замечая приближения всадника. Все его внимание было приковано к чему-то по ту сторону каменистого гребня, где лежала небольшая лощина, поросшая леском. Разнообразной дичи, даже и крупной, там всегда было вдоволь. В руках мальчишка держал непомерно длинный лук, непохожий на тот, что обычно дают детям: подстрелить из такого можно разве что какую-нибудь мелочь, зайца или птицу. Одет он был по-простому: облегающие штаны заправлены в сапоги, кафтан перетянут широким ремнем, за который заткнут короткий кинжал, на плече колчан… Одежда показалась мне знакомой, словно я уже видел ее раньше. На голове мальчишки сидела расшитая войлочная шапка, вероятно, скрывавшая длинные волосы, выбившиеся пряди которых он заправил за уши. Неподалеку к дереву была привязана неоседланная кобылка гнедой масти с белым пятном-звездочкой на лбу.
Что это за мальчишка? Чей он сын? Как знать, может, одного из моих товарищей, оставшегося с Иналом, или кого-то из тех, кто уже сошел в недра Матери-Земли?
А вдруг он из соседнего племени и отдан кому-то на воспитание по обычаям аталычества[13], как заведено в нашем народе?
Сгорая от любопытства, я тихонько спешился, снял плащ, кольчугу, оружие и бесшумно скользнул по влажной траве к юному лучнику. Подобравшись сзади, я сгреб его в охапку за секунду до того, как стрела ушла в сторону долины, и, смеясь, оторвал от земли. Стрела свистнула и пропала вдалеке. Кобылка испуганно заржала, а косуля скрылась в кустах. Мальчишка пытался вырваться, но что его потуги против моей хватки? Шапка свалилась, обнажив светлую макушку, длинные волосы разметались на ветру.
Наконец я отпустил парня. Скатившись в траву, он ошарашенно оглядел мою громадную фигуру. Должно быть, в ярком солнечном свете я показался ему великаном. Сперва он схватился за кинжал, готовясь броситься в яростную атаку, возможно, упустив из-за меня свою первую крупную добычу. И вдруг замер. Брови сошлись в гневной гримасе, но черты оказались неожиданно изящны, миловидны, почти женственны. А глаза – небесно-голубые! С дрожащих губ сорвалось единственное слово, которое я скорее угадал, чем услышал: адэ, отец? Я оцепенел.
Мы сидели с ней рядом, не глядя друг на друга, обратив лица к долине и облакам, плывущим над горами. Мой конь, подойдя к ее кобылке, принялся тихо щипать свежую травку. Вдруг она, не поднимая глаз, вскинула руку и произнесла одно слово: Вагвэ, Звезда. Я удивленно обернулся и только тогда понял, что так зовут лошадь. Я, в свою очередь, указал на своего коня, низкорослого вороного восточной степной породы, на каких некогда ездили монголы. Ненамного крупнее ее кобылки, конь этот был поджарым и мускулистым, с длинными гривой и хвостом, весь в шрамах от ран, которые получал вместе с всадником. Вместе мы и состарились. Звали коня Жэшь, Ночь.
Наши взгляды встретились. И пока я смотрел на ее озаренное солнцем лицо, она, будто в знак признания, показала мне левую руку с чудотворным кольцом. Таким ли было лицо моей невесты много лет назад? Я смешался, не знал, что ответить, мысли спутались. Слишком много ужасов видел я, слишком много отчаяния. Мы встали, отец и дочь, собрали разбросанные вещи и пошли к аулу пешком, ведя под уздцы Звезду и Ночь. Лошади покорно последовали за нами.
Старейшины проводили меня к месту похорон матери. Согласно предписаниям хабзэ, обряд начался несколько дней назад. Происходя из одного из знатнейших родов Псыжской долины, моя мать всегда пользовалась особым почтением у простых горцев. Из уст в уста передавали трагическую историю ее семьи времен нашествия Железного Тимура, а после приезда купца Деметриоса, когда распространился слух, что она сестра одного из самых могущественных правителей на свете, слава ее только выросла. Неслучайно старейшины решили почтить ее во время похорон и справить обряд, от века уготованный лишь вождям и величайшим из мужчин. Он предшествовал сопровождению тела в дом мертвых, где бессмертную душу отпускали в загробный мир Хедрыхэ, чтобы та из подземных глубин продолжила хранить живущих.
Я подошел к погребальному кострищу. Моя покойная мать, одетая в лучшее свое платье, восседала на вершине ритуального помоста, как королева на троне. Веки ее были сомкнуты, из рукавов платья торчали костлявые почерневшие руки. Тело, от которого после обряда изъятия внутренностей осталась только оболочка, провело на помосте почти восемь дней. Сюда стекались для поклонения жители нашего аула и близлежащих долин. У основания кострища складывали подношения: серебряные кубки, покрывала, оружие, луки и стрелы. Маленькая девочка, сидевшая слева от нее, время от времени взмахивала стрелой с привязанным к ней шелковым платочком, отгоняя мух. Я сел на камень и часа три неотрывно смотрел на мать. Молча, без слез, потому что рыдания считались у нас постыдной слабостью. На закате я в одиночку взобрался на помост, осторожно взял мать на руки и вместе с приношениями поместил в большой, выдолбленный изнутри ствол дерева. Его отнесли к дому мертвых и опустили в яму. Сверху каждый проходящий кидал горсть земли или камней. И вот среди древних плит возник новый высокий холм.
Мы с Екатерини остались одни в большом доме. Перед смертью мать освободила служанку Ирину с мужем Олегом, тоже из русов. Им оставили для жилья скромную хижину, некогда бывшую гостевым домом, и участок земли. Я был рад этому. Ирину, как и других русов, осевших здесь, много лет назад угнали в рабство татары, поэтому путь в горы в качестве военного трофея уже тогда казался им дорогой на волю. В нашем доме и в ауле ее по-человечески уважали, считая чуть ли не родней. Мать неслучайно выбрала ее кормилицей Синеглазки, поскольку Ирина незадолго до этого родила ребенка, зачатого с Олегом. Моя дочь, не знавшая родителей, вкусила из груди Ирины молоко жизни.
С моей онемевшей матерью Ирина прекрасно ладила. Они словно читали мысли друг друга. Понемногу Ирина усвоила и наш язык, хотя после крещения предпочитала называть малышку ласковым русским именем Катя, а то и Катюша. В речи Ирины до сих пор слышался сильный, безошибочно узнаваемый русский говор. И тогда Кате казалось, что она слышит голоса дальних стран и ледяных земель Севера, где на краю Страны Тьмы стынут реки, а в сине-зеленых волнах северного сияния можно увидеть танцующих в небе духов и волшебниц.
Качая колыбель, Ирина нянчила ребенка, напевая на своем родном языке таинственные колыбельные или рассказывая ей сказки. Девочка то смеялась, то вздрагивала, ведь русские сказки кишат жуткими персонажами, наподобие Бабы-яги, ведьмы, пожирающей детей. Чтобы удержать малышку подальше от опасных речных вод, Ирина утверждала, что там прячутся русалки, прекрасные нагие девы-колдуньи, что охотятся за детьми, желая их утопить. Но эти истории возымели обратное действие: Катя только ближе подходила к прозрачной воде, чтобы рассмотреть этих существ. Она искренне верила, что смогла узнать их в серебристой чешуе осетров, сновавших у самого берега.
Усевшись у очага, девушка с гордостью начала рассказ о том, как жила эти годы. Она была в той же одежде, что и на холме: волосы туго стянуты узлом на затылке, в голубых глазах огоньки, щеки раскраснелись. Я слушал, забавляясь ее задорным мальчишеским видом и манерой говорить. Разумеется, Катя не коверкала слова, но было в этой речи нечто странное. Впрочем, неудивительно – ее ведь растили немая бабушка и русская рабыня. Потому я и не услышал односложной шакобзы, тайного языка охотников, на котором общались между собой и высокородные женщины: этому ее никто не учил. Пару раз Катя сбивалась, будто подбирая нужное слово, но потом речь ее снова текла, словно речной поток. Мне это нравилось, поскольку сам я немногословен и больше предпочитаю слушать.
Мой приезд шесть лет назад она прекрасно помнила. Похоже, это было самое раннее и самое светлое ее воспоминание: воин, сошедший с коня у самого крыльца их дома, коснувшийся загрубевшей рукой ее лица… Она помнила и терпкий, резкий запах немытого тела, потного с дороги, и все прочие запахи: металла кольчуги, кожи сапог, грязи, лошадей, нервно бьющих копытами, и даже их испражнений.
Еще в памяти Катерины остался миг, когда я вручил ей чудотворное кольцо и она надела его на тонкий пальчик. Кулачок ее тогда инстинктивно сжался, ведь широкое кольцо предательски соскальзывало, а уронить его было стыдно. И как впервые услышала то самое чужое имя, Екатерини, которому суждено было стать ее собственным. Правда, другие женщины продолжали называть ее Вафа-нака, Синеглазка, но для Ирины она навсегда стала ее маленькой Катюшей. Гордо показав мне руку с кольцом, моя дочь вдруг нагнулась, порылась в сумке и достала какую-то ткань, одним движением развернув ее во всю ширину. То был великолепный златотканый плат, подаренный ей бабушкой перед смертью.
Катя росла в одиночестве. Не будучи мальчиком, она не могла быть отдана в аталычество другой семье. Ей пришлось взрослеть в нашем доме, ожидая возвращения отца, который решит ее судьбу. У Ирины и других женщин, которым во всем помогала, она научилась вести хозяйство, управляться с землей и животными. Умела пахать, упорно заставляя себя тянуть соху, пускай ее борозда и получалась не такой глубокой, как у остальных. Умела сеять просо, зарываясь рукой в мешок и разбрасывая драгоценные семена веером, не забывая подтягивать песню-закличку на будущий урожай с призывом богов плодородия и урожая Созериса и Тхегележа. Умела приглядеть за полями, отгоняя мелких зверьков и птиц, сбегавшихся поживиться семенами и саженцами. Умела сжать ниву, размашисто орудуя серпом.
Став постарше, она научилась ходить за домашними животными, свиньями, гусями и цыплятами, но забивать скотину отказывалась наотрез. Только на охоте она могла лишить жизни другое существо точным и смертоносным выстрелом, не причиняя ему страданий, а после, преклонив колени, молила богов принять его дух. С пчелами, правда, возиться не решалась и бежала от ульев, боясь быть ужаленной. Она молила пчелиную богиню, Святую Деву Мариссу, матерь Христа[14], о сохранении ее жизни и поклялась, что никогда не причинит пчелам вреда. Но сам мед любила и благодарила заступницу за сладкий золотой дар простым смертным, до которого была так охоча.
Катерина часто бродила по холмам с пастухами, но те, уводя скот в горы, никогда не позволяли ей преступать невидимую границу наших земель. Ей доверяли отгонять на пастбище лишь небольшое стадо коз, да и то в сопровождении большой длинношерстой белой собаки. Вечером она собирала коз в загон, наигрывая на маленькой свирели-мэлегжей мелодию выгона отары, сочиненную, как сказывали пастухи, самим богом – покровителем стад Амышем. Порой ветер в верхушках деревьев заводил заунывную мелодию, Катя убегала, пряталась за скалой, ведь так, по преданию, пел сам Амыш, косматый, словно медведь, полуголый бог, не желающий показываться на глаза смертным.
Она помогала козочкам окотиться и сразу обмывала новорожденных детенышей холодной ключевой водой. Научилась доить, а также сохранять молоко, настаивать айран, наполнять кадки, где зрел сыр. Для защиты от волков она, помимо посоха, носила теперь с собой кинжал, подаренный бабушкой: к счастью, он ей так и не пригодился. Ирина говорила, что бывают звери похуже волков, но стоило Кате спросить, о ком речь, кормилица замыкалась и умолкала.
Время от времени бабушка поручала ей важнейшую семейную задачу, которую обычно исполняла сама: заботу о главном очаге в сердце хижины, ведь священное пламя должно гореть всегда. Долгими зимними вечерами, когда все вокруг покрывал снег и нельзя было выйти на улицу, Катерина оставалась в большой комнате с женщинами: они пряли, ткали и переговаривались. Ее привлекала ловкость, с которой каждая из них, и даже бабушка, умели вышивать по коже. Быстрые пальцы сплетали нити и волокна на древнем вертикальном ткацком стане, где ткали платки, красочные ковры с фигурками сказочных животных, тотемных оберегов рода, символов отваги и силы: орлов, волков, львов, быков… А девочка внимательно наблюдала, попутно помогая разматывать и расчесывать лен, училась прясть шерсть, вращая веретено, зачарованная его гипнотическим танцем.
Катя часто просила бабушку показать ей златотканый плат, подарок султана, и могла часами разглядывать полупрозрачную ткань, разбирая, как тончайшие шелковые нити соединяются с золотыми. Ее удивляло, что можно превратить золото в почти невидимые, тонкие, словно волос, нити. Ирина, шутя, однажды пообещала остричь ее золотисто-русые волосы, чтобы вплести в шелк. Насупившись, Катя поспешила из дома в кузницу, которую называла «огненной пещерой», расспросить мастеров, можно ли так тонко выделать золото. Кузнец улыбнулся, отложил молот и ответил, что на такое способен только бог-кузнец Тлепш, создатель орудий ремесла и оружия для людей.
Мало-помалу, наблюдая за бабушкой, Катя научилась искусству, которое в нашем народе давалось только шаманам, ибо уловить очертания живого существа – суть то же, что поймать его душу. На полотне она при помощи ломкой красной глины или древесного угля пыталась воспроизвести контуры фигур. Вырезала кончиком ножа или пластинкой обсидиана на любой поверхности, будь то полированный камень или деревянная доска, те же фигурки фантастических животных, виденные на коврах или на золотом покрывале, в окружении причудливых растительных и цветочных орнаментов. Бабушка искусно переносила их красной глиной на большие отрезы льна, служившие образцом для других мастериц аула. Быть может, ей, не говорящей, эти рисунки позволяли общаться куда лучше, чем слова.
Покончив с делами, Катя уносилась в луга и рощи. Открывала для себя мир природы и диких животных, постигала ритмы роста растений и смены времен года, вечного земного цикла жизни и смерти. В лес она поначалу заходила с опаской, зажмуриваясь и призывая на защиту Мэзгуаше, богиню рощ и деревьев. Но вскоре научилась различать породы деревьев, смекнув, что в лесу, как у людей, все живут семьями, такие похожие и такие разные, все переговариваются шелестом листьев, формой и цветами одежд. Листва говорит, когда ловит капли дождя или шевелится от дуновения ветра. Березы, каштаны, орешник, липы, буки и дубы на склонах гор словно по волшебству переодеваются со сменой времен года. А еще Катя научилась различать присутствие животных, даже когда их не видела, будь то олень, косуля, кабан или же опасные и дикие хищники, от которых старалась держаться подальше. Она разглядывала их следы, различала каждый звук и шорох в чаще: вой волка, тявканье шакала или тяжелую поступь медведя по сухим листьям.
Бабушка, глядя, как она возвращается домой в перепачканной длинной юбке и деревянных башмаках с налипшими листьями, только головой качала. Однажды она отвела внучку к себе в комнату, открыла сундук, который прежде, сколько Катя помнила, всегда был заперт, и принялась доставать одежду на мальчишку лет десяти-двенадцати. То были мои детские вещи, которые мать бережно хранила для будущего внука. Вручив изумленной Кате рубаху без ворота, ремень, кафтан-бешмет, штаны и пару сапог, она жестом велела их примерить. Катя разделась, не сняв, правда, квеншибе, кожаного корсета на деревянных ребрах для жесткости. Вот уже несколько лун она чувствовала, как внутри происходит нечто странное, словно тело ее без всякого спросу вдруг начало тягостно преображаться. Руки и ноги непомерно вытянулись, и вся она теперь казалась себе бесформенной, неуклюжей. Грудь распухла: если раньше Катя носила квеншибе без труда, то теперь чувствовала, что кожаный корсет давит на соски, порой довольно болезненно. Недавно, почувствовав усталость и раздражение и совсем утратив силы от недомогания, она ощутила, как по ногам хлынул поток теплой жидкости, исходящий из небольшой расщелины между ног. Сунув руку под юбку, Катя обнаружила, что та вся перепачкана кровью. Увидев оторопь девушки, Ирина лишь лукаво усмехнулась, успокоив и поздравив ее: пришло время стать женщиной.
Мужская одежда поначалу была ей великовата, но со временем стала впору. С тех пор Катя надевала ее всякий раз, когда выходила на улицу, а зачастую и в доме. Она играла на равных с соседскими мальчишками, запросто войдя в их компанию. Ребята гонялись друг за другом по полям между домами и рекой, боролись, сражались на деревянных саблях. Именно они научили ее стрелять из маленького лука и ездить верхом.
И вот Катя поведала бабушке, что страстно мечтает иметь собственную лошадь. Однажды утром, когда она еще спала, кто-то потянул ее за руку. Это была бабушка, которая пришла разбудить девочку и отвела ее на улицу. Было промозгло, моросил дождь. Катя взволнованно выбежала на крыльцо и увидела жеребенка, привязанного снаружи. Шлепая босиком по грязи, она кинулась к нему, обняла за шею, а потом проводила в конюшню и сама обустроила стойло. Это оказалась молодая кобылка гнедой масти с белым пятном на лбу в форме звезды. Катя сразу окрестила лошадку Звездой, и та стала ее единственной подругой. Когда Звезду пускали в галоп, у нее будто вырастали крылья, словно у сказочного коня Альпа. А еще она, совсем как Альп, понимала человеческую речь. Благодаря Звезде Катя стала чаще убегать из дома, их вылазки становились все смелее и продолжительнее – до самого подножия горного плато, где царили ветра. Порой Катя, заставляя тревожиться Ирину и всю свою семью, возвращалась лишь день или два спустя. Ирина заливалась слезами, потому что не раз слышала волчий вой, а бабушка мимоходом даже ударила девочку костлявой рукой по лицу.
Всю ночь я слушал эти рассказы, снова и снова ощущая прилив нежности к дочери, казавшейся мне сыном. Что, если моя жизнь еще может возродиться, с ней и ради нее? Что, если двенадцать зим назад, когда жена моя умерла под старым орехом, а сам я уехал топить свою душу и жизнь в крови и битвах, история не закончилась? Быть может, для меня, моей семьи, моего рода и всего тлапка, нашего клана, еще осталась надежда, только воплотить ее суждено не мужчине, а женщине, моей Екатерини? В душе я твердо решил, что больше мы не расстанемся ни на минуту, пока не придет время выбрать ей жениха. Тогда я сам вручу дочь суженому. Жестом я попросил ее замолчать, взял за руку с кольцом и прижал белокурую голову к своей груди, поглаживая по волосам. Катя плакала, не стыдясь. Она наконец обрела отца.
Я стал брать ее с собой в походы за незримую границу холмов и лесов, на обширное плато – царство Уашхо, бога небес и ветра. Звезда повсюду следовала за Ночью, крепла на подъемах, все легче переходила в галоп. Катя научилась пользоваться длинным луком, сама делала стрелы, затачивая смертоносные наконечники кремнем и укрепляя их на древках из гибких тонких веток, приноровилась держать в руках шашку, со свистом вонзая ее в старый мешок.
Вечером, у костра под звездным небом, я показывал ей те далекие огни, что были душами предков. Среди прочих там сверкали и самые древние – души свободных дев-воительниц, о которых рассказывали легенды. Одевшись как мужчины, они сражались и охотились верхом, с луком и копьем. Это не просто байки, добавил я: я и сам находил их могилы близ течения Кобани, видел мечи и шлемы, лежащие рядом со скелетами. Их предводительницу звали Амезан, что означало «мать священного леса богини луны Амзы». Они не могли выходить замуж, не убив в бою хотя бы одного мужчину.
Тут я остановился и взглянул на дочь, чтобы уловить, не расстроили ли ее последние слова. Катя твердо встретила мой взгляд: если бы ей пришлось сражаться за спасение и честь своего народа, она пошла бы даже на убийство. Но ей решительно не нравилась идея лишать кого-то жизни. Ради одной лишь женитьбы она не хотела идти на крайность. Точнее сказать, Катя вообще не собиралась замуж. Куда лучше жить свободной, скакать верхом среди гор, навсегда остаться с отцом.
В начале лета меня пригласили на большой праздник тои, и я позвал Катю с собой. Там издавна знакомилась молодежь знатных родов. Гуляния готовились на берегу Терека, еще одной великой реки наших краев. Терек стекал с гор в противоположном от Псыжи направлении и впадал в великое море, из которого рождается солнце. Я видел, как Катя вспыхнула от радости: это было первое путешествие в ее юной жизни и первое – вместе с отцом.
В сопровождении всего двух воинов, без шлемов и доспехов, но с верным оружием, шашкой, луком и кинжалом, мы направились на север, покуда не достигли края плато. Катя, одетая, как и мы, в бурку и войлочную шапку, взяла с собой оружие, лук и кинжал. После двух дней похода, пробираясь мимо скал, чьи зубчатые вершины выделялись на фоне неба, я предложил ей на миг взглянуть направо. Там, на юге, за неровным плато, изрезанным глубокими ущельями, перед нами предстала высокая гора. Одинокая, сияющая белизной, увенчанная, словно рогами, двумя вершинами почти одинаковой высоты, она будто упиралась в небо.
То была Ошхамахо[15], наша священная гора, между двух вершин-близнецов которой обитают боги, а рядом – Уллу-Тау, мать всех гор. Эти края древние звали Кавказом, что значит «заснеженные вершины», или Тураном, страной гор. Здесь исток жизни, здесь рождается вода, что бьет ключом в нашей священной роще, и вода реки Псыжь, по которой поднимаются на нерест осетры, и воды всех других рек. Поскольку Ошхамахо – самая высокая гора в мире, именно меж ее вершин, любезно разошедшихся в стороны, чтобы дать ему место, причалил когда-то ковчег, огромная лодка пророка Ноя, что спас животных и прочих тварей от ужасного потопа, поглотившего во тьме времен всю землю и погубившего род человеческий. Гора спит под снегом и вечными льдами, но внутри нее сокрыт в заточении могучий огненный дух. Стоит ему пошевелиться, как все вокруг рокочет и наполняется клубами жаркого ядовитого пара.
Мы спешились среди этих скал, чтобы насладиться видом огромной горы и садящегося за горизонт солнца. Тьма, словно плащом, укрыла горные цепи и весь мир. Но раздвоенная вершина горы еще долго белела в мареве сумерек. Наконец во мраке остался тлеть лишь краешек правого пика: ледяной клинок, походивший на опрокинутый полумесяц или одну из тех блуждающих хвостатых звезд, что предвещают великие и ужасные потрясения. Когда-то древние волхвы последовали за такой звездой в поисках пещеры, где родился Христос, сын Вседержителя и Пресвятой Мерисы.
После долгого путешествия, спустившись с высокогорья, мы добрались к истокам Терека, где и поставили шатры среди прочих обитателей лагеря, пестревшего знаменами и флажками. Множество воинов, представителей древних родов, крестьян, ремесленников, женщин, детей и слуг было занято последними приготовлениями в недолговечном праздничном городке. Одни собирали лошадей, другие разводили костры, готовили еду и обустраивали огромную поляну к завтрашним гуляниям. Некогда именно здесь татары Тимура уничтожили воинов Золотой Орды, и в высокой траве до сих пор виднелись остатки костей, черепов, шлемов и сабель. А после исчезли, как исчезает в небе рой саранчи.
Воды Терека, стекая с вершин, выточили в горах узкий проход, практически единственную связь между севером и югом: Дарьяльское ущелье, или Врата аланов, одного из многих народов, истребленных Тамерланом. Ходили легенды о древнем завоевателе мира, великом Искандере, который с помощью магического искусства джиннов построил здесь гигантские железные врата, чтобы остановить нашествие варваров Гога и Магога. В былые годы я не раз проходил этим ущельем, но ни петель, ни створок не замечал. Правда, мне порой мерещились далекие взвизги труб, но, возможно, это просто ветер свистел среди скал, что нависли над долиной.
В дни нашего путешествия я говорил куда больше, чем когда-либо в жизни. Сын немой матери, я вырос угрюмым и молчаливым, но теперь занимал дочь рассказами, историями и легендами о богах и славных нартах, описывал места, где мы проезжали, и людей, которых встречали. В душе я чувствовал, что все эти речи призваны отсрочить ту единственную важную вещь, которую я должен был сказать ей перед отъездом из деревни, но до сих пор медлил.
Вечером, накануне гуляний на берегу Терека, когда мы с Катей расположились в своем шатре, я понял, что таиться больше не могу, и прибег к способу, который давным-давно перенял у матери, тому, что умел делать лучше всего: убеждать жестом, а не словом. Я взглянул на дочь, в моей одежде двадцатилетней давности, которая нисколько ее не стесняла, так похожую на мальчишку. Катя была высокой и стройной, длинные светлые волосы стянуты на затылке в узел. Меж скудного скарба я отыскал кожаную суму, что до сих пор лежала неоткрытой, и достал из нее белое, расшитое золотом и драгоценностями женское платье, которое расстелил на ковре. Рядом легли островерхая шапочка, пара мягких туфель и длинная полотняная рубаха.
Катя сперва с удивлением наблюдала за мной, но потом вдруг разом все поняла. На следующий день ей предстояло надеть все это, поскольку князья хорошо знали меня и помнили, что Всевышний не даровал мне сына. Но прежде всего она осознала, что ей придется вести себя как женщина. Разумеется, ведь ей предстояло принести брачные обеты. Быть может, в этом и заключалась истинная причина поездки, которую отец до сих пор от нее утаивал. Радости в этом было мало. Отец обманул ее. Выходит, все его слова о том, что свобода есть высшее благо, – ложь. И теперь он вероломно хочет отдать ее незнакомцу как предмет обмена между мужчинами. Может, свобода и была высшим благом, но только для мужчин, а не для женщин. Катя не хотела замуж. Ни за кого. Она желала вечно оставаться свободной и скакать рядом с отцом среди гор под звездами.
Я сурово велел дочери раздеться донага и повернуться. На ней оставался только тесный корсет-квеншибе. Подойдя сзади, я вспорол шнуровку кинжалом. Квеншибе упал, впервые за эти три года освободив маленькую грудь. Катя застыла на месте, спиной ко мне, вперившись в узоры на ковре. Я протянул ей льняную рубаху, а потом еще одну вещь, в которой она на ощупь сразу узнала шелковый златотканый плат, бабушкин подарок. Пожелав спокойной ночи, я вышел из шатра и отправился спать к другим воинам.
Лучи рассветного солнца играли в водах реки, дробясь на тысячи серебряных чешуек. Занимался день великого пророка Илии, что вознесся к Всевышнему в огненной колеснице. День Илии, повелителя гроз и грома. Старейшины часто звали его другим именем – именем змееподобного бога бури Шибле. Все устремились к большой поляне, где высился шест со знаком змеи на верхушке.
Я направился к шатру, ожидая выхода дочери. Но вот полог распахнулся, и в свете дня предстала фигура в белом. Платье скрывало все ее тело, кроме кистей рук, из-под шапочки и покрывала виднелось только лицо. Вокруг шеи обвился шелковый златотканый плат. Я понял, что впервые вижу ее такой. Меня пронзил неистовый взгляд небесно-голубых глаз. Затем мы вместе пошли на поляну.
Толпа уже возносила святому пророку мольбы ниспослать дождь на поля после засухи: «Уэ Йелеме, сыу шэуэ ныбжикиэ! О, Илиэ, сероглазый юноша!» Святость этого праздника подчеркнуло необыкновенное совпадение: посреди поляны, на телеге, запряженной парой бурых, в белых пятнах волов, лежало тело девушки. Далее стояла еще одна большая повозка, груженная ритуальными подношениями, едой и животными. Вокруг нее безостановочно водили неистовый хоровод с пением строк: копаи-элари-Илиэ. Но это не было траурной процессией. Восемь дней назад эту девушку в горах убила молния, что считалось благословением бога Шибле, который будто коснулся ее и позвал за собой. Песнями и танцами толпа выражала радость и благодарность за божественную милость.
На каменном алтаре в жертву Илии принесли серого козленка. Ему отрубили голову и сняли шкуру, вывесив то и другое на высоком шесте. Богатое девичье платье разместилось на шесте пониже. Мясо и внутренности козленка отнесли к большим кострам, пылавшим на опушке леса, и зажарили вместе с мясом других животных. Цельную баранью тушу, мелил гхэва, варили в огромном котле с горными травами и острыми специями. Закуски раскладывали в плошки и раздавали сидевшим прямо на земле людям. Вдоль рядов, наполняя кубки, ходили женщины с флягами браги-махсэмы.
Мы сидели тесным кругом рядом с князьями и представителями других знатных родов. Те тоже привезли с собой сыновей и дочерей и теперь представляли их друг другу. Мы мало участвовали в общем веселье, скупо приветствуя остальных. Но особенно замкнуто вела себя Катя, предмет восхищения многих благородных юношей. Они то и дело подходили пообщаться, но вскоре вынуждены были удалиться, обиженные ее молчанием и непроницаемым лицом. Я ловил обеспокоенные взгляды их отцов, казалось, вопрошавших меня издали о причине такого неподобающего поведения. Это явно было не к добру.
Но в тот момент я не придал значения взглядам и позволил себе увлечься беседой с князьями. Дозорные северо-восточных племен недавно заметили большой караван, идущий с побережья восточного моря, причем явно в направлении ордынских татар. За караваном, в облаке пыли, гнали более двух тысяч молодых степных скакунов. Глаза воинов заблестели при мысли о столь завидной добыче.
Ближе к вечеру этого жаркого летнего дня, когда солнце уже начало клониться к горам, воздух наполнился пронзительными звуками пшина в сопровождении пастушьих свирели и волынки. Бубны и барабаны отбивали ритм, приглашая молодежь танцевать. Первый танец, кафэ, считался самым чинным, его медленно, на цыпочках исполняли две длинные цепочки танцоров: одна из юношей, другая из девушек. Сближаясь, вереницы молодых людей брались за руки, и если между ними пробегала искра, ее легко было различить. В таком случае родителям стоило поторопиться и назначить помолвку, а может, и заключить ее сегодня же, в священный день пророка Илии.
К первому танцу Катя не встала, потому что не хотела никому подавать руки. Но когда ритм изменился и кафэ сменился хороводом-исламеем, сопровождаемым ритмичными хлопками, она тоже примкнула к общему кругу и закружилась в танце. Разомлев от движения, жары и парующей реки, юноши посбрасывали на землю верхнюю одежду, оставшись только в свободных рубахах поверх заправленных в сапоги штанов. Девушки, конечно, нарядных платьев снять не могли, и Катя с сожалением вспомнила о том времени, когда одевалась мальчишкой. По крайней мере, они могли сбросить шапочки и покрывала, чтобы плясать с распущенными волосами. Катя тоже, улучив момент, распустила свои светлые волосы, которые волнами рассыпались по плечам, и сняла с шеи златотканый плат, которым принялась взмахивать. В танце растворились все гнетущие мысли. Она была свободна.
Когда танцы закончились, молодежь под всеобщие восторженные аплодисменты расселась по местам, а старый сказитель принялся нараспев рассказывать саги о нартах. Кое-кто, разморенный едой и махсымой, потихоньку уснул. Какой-то юноша, воспользовавшись случаем, увлек девушку под сень деревьев. Но Катя, взмокшая и усталая, слушала не дыша, поскольку старик начал с ее любимого цикла о Шатане, матери нартов, полного мрачных и загадочных историй, связанных, как ей всегда казалось, с тайными истоками жизни и ее собственного существования.
Прекрасная Шатана, обольстительная, мудрая и искусная в магии, чудесным образом родилась из гробницы, где девятью лунами ранее была похоронена Дзерасса, мать героя Урызмага. Говорили, будто на поминках Урызмаг отхлестал труп своей матери войлочным кнутом, ненадолго воскресив тело, чтобы успеть возлечь с ней. Когда же гробницу вскрыли, услышав детский плач, то нашли внутри Шатану. Так что нарты считали ее не только дочерью покойной Дзерассы, своей бабушки, но и дочерью Урызмага, приходившегося ей также и братом. Урызмаг взял в жены Эльду, но Шатана, став взрослой, полюбила своего отца-брата. Обманом выманив у Эльды ее покрывало и платье, она возлегла с Урызмагом, что довело Эльду до безумия и смерти. Впрочем, Катя еще не понимала, что значит возлечь с мужчиной и почему этот проступок считался таким тяжким, что повлек за собой смерть невинной Эльды. Катя поведала мне, что и сама во время нашего короткого совместного пути испытывала желание полежать со мной, то есть просто спать, прижавшись к могучему телу отца.
Впоследствии Шатана вступала в связь и с другими нартами, поскольку жизнь и любовь текли в ней неудержимо, как воды реки, в которой она любила купаться обнаженной. Однажды это увидел пастух Зартыж, который мигом влюбился в нее и, не в силах сдержать нафси, то есть семени, исторг его на круглый камень у ног Шатаны. В этой части истории женщины многие девушки захихикали, но не Катя: она оставалась серьезной, поскольку не знала, что такое нафси. Между тем камень ожил, стал расти, и через девять лун Тлепша попросили разбить его, дабы извлечь младенца с раскаленной кожей, богатыря Сосруко, которого тут же омыли в проточной воде, а затем сделали практически неуязвимым, искупав в молоке волчицы. Было у Шатаны и множество других любовных связей. Часто, чтобы не быть обнаруженной, она переодевалась мужчиной, а затем ускользала верхом на коне, свободная, как ветер. Так она в конце концов и сделалась матерью почти всех нартов.
Серп месяца опускался за гору, словно его тянула вниз невидимая черная рука. Засияли звезды. Повсюду снова разгорелись костры. А когда меж мужчин пошли по кругу кувшины с крепкой брагой, полились и песни. Праздник закончился, многие семьи уже начали разъезжаться, чтобы успеть до темноты добраться в свои аулы. Но на поляне осталось еще много людей, прибывших издалека и разбивших свои шатры вдоль реки. Один из вождей кивнул молодым людям, сидевшим вокруг нас, приглашая на последний обряд, очищение. Все поднялись и направились к излучине реки, где, вдали от водоворотов и омутов, текли по неглубокому руслу, усыпанному гладкой галькой, спокойные и прозрачные воды. Мы тоже встали, и я подтолкнул Катю вслед другим юношам и девушкам. Ее переполняло любопытство, но я умолчал о том, что должно было случиться дальше. Я-то прекрасно это знал. Именно так я четырнадцать зим назад познакомился с ее матерью.
Дойдя до берега, она увидела, как молодежь сбрасывает одежду и нагишом, шутя и плескаясь, входит в воду. После минутного колебания она тоже начала раздеваться. Тела своего Катя нисколько не стыдилась. Сняв льняную рубаху, она ощутила кожей ночную прохладу. Бодрящие струи речной воды коснулись пальцев ее ног, поднимаясь выше, до бедер, живота и сосков, пока девушка не погрузилась в воду и не вынырнула снова, дрожа от возбуждения. По ее спине змеились длинные мокрые волосы, и я завороженно смотрел на это тело в неверном свете звезд и блеске воды. Такой, наверное, явилась некогда Шатана пастуху Зартыжу. То же случилось со мной и при виде другой обнаженной девы, выходящей из вод в такую же лунную ночь четырнадцать зим назад. Я с ужасом осознал, что влюбляюсь в собственную дочь.
На следующее утро я послал в шатер помощницу, чтобы та затянула корсет-квеншибе еще туже прежнего, и велел дочери снова надеть мужскую одежду. Возвращение домой получилось быстрее, чем путь на праздник, мы скакали почти без остановок. С нами отправились еще двадцать всадников, которым я предложил устроить засаду на татарский караван, в первую очередь для того, чтобы увести лошадей. Земли в нижнем течении Псыжи я знал прекрасно. Там-то, в березовой роще, в былые времена не раз служившей укрытием для наших набегов, мы и задумали напасть на караван. Катя ехала с нами, но теперь все было совсем не так, как прежде.
Я больше не говорил с ней, а она, не понимая причин столь внезапной перемены, боялась ко мне приближаться. Тема замужества была исчерпана, и больше мы о нем не вспоминали. Внешне Катя казалась безучастной, ее льдисто-голубые глаза сияли, как вершины Ошхамахо, но я был уверен, что в душе она глубоко опечалена. По приезде в аул я нарушил молчание только для того, чтобы объявить о своем немедленном отъезде. Больше она со мной не поедет. На прощание мне вдруг вспомнились слова, которыми герой Варзамег прощался с Шатаной: «Когда я буду в отъезде, уколи ладонь. Если увидишь каплю молока, я жив и вернусь; если кровь – значит, я ушел в Страну Теней, откуда нет возврата».
Я рассказал старейшинам нашего аула о своем плане засады и убедил их вверить мне двадцать юношей. Остальных собрал по аулам, которые проезжал, двигаясь вниз по реке. Когда мы достигли равнины, со мной была уже почти сотня. Я послал три пары разведчиков на восток, откуда ожидалось прибытие каравана и табуна. Небольшому отряду поручил напасть на хвост каравана: всего лишь уловка, чтобы отвлечь конвой и заставить купцов бежать на запад. Остальные же со мной во главе, укрывшись среди деревьев, должны были обрушиться на голову табуна, напугать лошадей и погнать их вверх по реке. С собой – никаких доспехов и шлемов, только кольчуги и легкое оружие: мы ведь не к настоящей битве готовились, а всего лишь лошадей собирались угнать.
Лагерь разбили в березовой роще близ устья Псыжи, почти у самого моря. К северу виднелся город франкских купцов, носивший то же имя, Тана, что и широкая река, протекавшая невдалеке. С другой стороны пробегала мелкая речушка, терявшаяся в болотах. Эти места совсем не похожи на наши горы. Тут особо не расскачешься, повсюду ямы и топи, только лошадь охромеет.
Туман, сгустившийся вчера вечером, окутал белой пеленой деревья, лошадей и людей, однако на рассвете рассеялся, оставив полупрозрачную млечную дымку, которая висела еще до позднего утра. Под лучами солнца воздух стал тяжелым и влажным, без единого намека на ветер. Многие из моих людей еще спали, утомленные скачкой. Повисла странная, неестественная тишина. Умолкли даже птицы. Лишь я один ходил меж берез, пытаясь разглядеть в тумане возвращающихся разведчиков. Вдруг в зарослях камыша среди болот я заметил медленно бредущую фигуру, которая тянула за собой лошадь. Но только успел изготовить лук и собрался пустить стрелу, как незнакомец заметил меня и вопросительно произнес одно лишь слово: адэ, отец?
Из туманной дымки ко мне вышел юный воин в темной войлочной шапке, с короткой шашкой за поясом. Катя, и с ней Звезда. Встала как вкопанная прямо передо мной, широко расставив ноги. Оказывается, она тайком следовала за мной от самого аула. Чего еще я должен был ожидать от собственной дочери! Слова, частые, торопливые, потекли из ее уст, как потоки крови из раны: она явилась сюда, повинуясь моему приказу, ведь если ей ради сохранения чести семьи придется выйти замуж, она должна сперва вступить в бой и убить человека. Кроме того, раз уж нам выпало воевать за свой народ, она хочет биться против татар наравне со всеми и ни за что не оставит меня одного. Смешавшись, я не знал, что сказать и что думать. Молча подошел к ней, грубо сгреб в объятия. По крайней мере так, чувствуя стук ее сердца, вдыхая аромат ее волос, мои глаза не видели ее взгляда и я не тонул в этой бездонной синеве.
Мы стояли так целую вечность, совсем забыв об обходе, который я сам же и устроил. Вдруг тишину прорезал звук рога. Не успел я опомниться, как рядом просвистела стрела, вонзившись в кору березы. Обнажив шашку, я обернулся и увидел, как с противоположной стороны в рощу врывается отряд всадников и пеших воинов. Юнцы, которых я поставил на страже с той стороны, должно быть, уснули и уже повержены. Остальные, по привычке расположившиеся в тени деревьев, рядом с лошадьми, заслышав рог, вскочили на ноги и теперь смотрели в мою сторону, ожидая приказа.
Я бросился к ручью, который обеспечивал нам пути отхода через болота, но там, среди камышей, уже плыли лодки, полные вооруженных людей. Мы окружены! Охотники стали добычей. Сопротивление бесполезно. Я кричу остальным седлать лошадей и бежать. Через несколько мгновений десятки лошадей уже мчатся в бешеном галопе, ища спасения. А с той стороны рощи кое-кто из наших воинов, сознавая, что жертвует собой ради жизней других, пытается остановить нападающих или хотя бы преградить им путь собственным телом.
Я оборачиваюсь к Кате, так и стоящей позади меня. В глазах застыл ужас. Я хватаю ее за плечи, словно для того, чтобы придать уверенности, смотрю в эти бездонные синие глаза. Потом резко поднимаю над землей, сажаю верхом на Звезду, бью шашкой плашмя, и лошадь, пустившись в галоп, скрывается в роще.
Свободной, Катя должна быть свободной.
Свистом я пытаюсь подозвать Ночь, но конь не откликается. Должно быть, сбежал или убит.
Все ближе и ближе топот лошадей, крики людей на незнакомых наречиях. Без коня мне не уйти. Значит, придется встретить врага лицом к лицу, с шашкой наголо. Умереть мужчиной и сойти в Хедрыхэ в хорошей компании. Но что-то мне мешает. Я отчаянно пытаюсь не упустить из виду Катю, которая скачет среди деревьев. Глаза мои – руки мои: тянутся, пытаясь схватить то, что ускользает навсегда. Хочу последний раз коснуться ее, последний раз по-отцовски приласкать. Я вижу, как она скачет, то появляясь, то исчезая, словно луч света мелькает меж берез.
Вдруг спину пронзает холодом. Что-то входит глубоко внутрь, пробивает мне сердце, пригвоздив к стволу. Шашка выпадает из рук. Я остаюсь стоять, вцепившись в кору березы, липнущей к пальцам, будто клочья омертвевшей кожи, и чувствую, как моя кровь жаркими ручьями стекает в недра Матери-Земли. Кровь за кровь, жизнь за жизнь. Белая пелена застилает мой взор, прежде чем в глазах навечно запечатлеется образ дочери, которой все-таки удалось бежать. Она свободна.
2. Иосафат
Неглубокая топь в окрестностях Таны[16], июльское утро 1439 года
Что я вообще забыл в этом мерзком болоте?
Вода, просочившись в сапоги, уже поднялась мне выше чулок, аж до самых штанов. В зарослях камыша посреди этой илистой топи стоит удушливый зной. Под тяжестью стальной кольчуги я весь взмок. Вооруженные стычки мне в новинку, так что меча из руки не выпускаю. Но боюсь до дрожи. Ситуацию усугубляет шлем, древний, с забралом, который я еще и под подбородком застегнул, поскольку черкесы чертовски хороши в обращении с луком, выцеливая, по обыкновению, глаза или шею. Меня заставили измазать металл грязью, чтобы солнечные блики не выдали нашей позиции. Но комары проникают даже через такую сбрую: я чувствую, как они кусают меня под рубахой и в шею. Глядишь, в этой мутной водице и пиявки водятся, но отогнать их я все равно не могу, руки-то заняты: в одной меч, чтобы прорубаться через камыши, другой тяну за собой лошадку.
Я замираю. Впереди, не далее чем в одном полете стрелы, березовая рощица. Странная, неестественная тишина. Даже птиц не слышно. Только зудение этих треклятых комаров. И снова накатывает непереносимый страх, от которого у меня внутри все скручивается. Должно быть, нас уже заметили и теперь целят стрелы, попрятавшись за деревьями. В этой игре глазом не успеешь моргнуть, как охотник с добычей поменяются местами. В любую секунду может раздаться свист, и я пойму, слишком поздно, конечно, что стальное острие насквозь прошило кольчугу и в клочья разорвало сердце. Я молча подаю знак остальным остановиться и укрыться в камышах. Теперь им нужно только дождаться сигнала.
Я закрываю глаза. Именно в такие моменты воспоминания о родном городе наиболее ярки. Городе, что кажется сотворенным из воды и камня, хотя на деле соткан из снов: лабиринте каналов и канальчиков, улочек-калле, крытых переходов и темных подворотен, площадей-кампо и тесных перекрестков; глядящей на лагуну пьяцце Сан-Марко с куполами собора и розовой филигранью Дворца дожей; родительском доме у церкви Санта-Мария-Формоза.
Оставшись после смерти моего доброго отца Антонио сиротой, я быстро возмужал. Тогда меня запихнули в грамматическую школу, чтобы выучил как следует сперва латынь, потом законы, да служил Республике на самых высоких и почетных должностях, вроде прокуроров, советников или наместников, а то выше: глядишь, и до шапки дожа недалеко. Денег, згей, предки заработали вдосталь, так что хватит с нас: не нужно больше пачкать руки торговлей, законной или не слишком, комиссионными, тяжким и унизительным общением с евреями, турками и прочими негодяями-язычниками по всему свету, не нужно задыхаться в смрадных, провонявших экскрементами трюмах галей с риском сгинуть в кораблекрушении. То ли дело: жить себе синьором, выстроить роскошную виллу на терраферме[17], в сияющей парче по пьяцце расхаживать… Едва двадцатилетним меня ввели в Большой совет, назначили avogador ad curiam forestieri[18], но дворцовые залы и весь этот замкнутый, полный интриг и борьбы за власть мирок с первого взгляда стали мне отвратительны.
Я чувствовал: за стенами дворцов ждет настоящий мир, мир из цветов, запахов, языков и звуков, что, сходя в утлые лодчонки с больших кораблей под знаменем крылатого льва, легко достигают лавок и причалов на Большом канале и канальчиках поменьше: пестрые одеяния восточных торговцев, парча и шелка, золото, серебро и драгоценные камни, тысячи пахучих приправ и эссенций, тысячи языков, слившихся наконец воедино на рынках Риальто. Мир без границ, который я представлял еще мальчишкой, слушая рассказы путешественников, посещавших дом Барбаро, или моряков, хваставших в какой-нибудь лавке женщинами, покоренными или купленными в портах Востока; или часами разглядывая тщательно выведенные на пергаменте румбы каталонских портуланов[19], столь ревностно хранимых в доме дяди, и выдумывая потом необычайные путешествия по маршрутам, указанным этими розами ветров. На пергаменте все это было таким простым и таким близким…
Участь моя в грамматической школе казалась мне тюрьмой куда худшей, чем та, что досталась заключенным в Пьомби[20]. Сквозь прутья решетки на первом этаже я смотрел на улицы Риальто, очаровываясь видениями надушенных восточных рабынь в прозрачной, облегающей тела кисее, их крохотных ножек в мягких туфлях без каблука, то обнажавшихся, завлекая очередного клиента, то скрывавшихся снова, хотя и не слишком быстро. К величайшему стыду моего наставника, я засыпал на текстах Цицерона, а просыпался на тех, что рассказывали о невероятных путешествиях или античных мифах, вроде «Метаморфоз» Овидия. И как же поражен был наставник, считавший меня косным и неспособным к наукам, когда я изъявил желание учить греческий, который сам он прекрасно знал, поскольку бывал ни более ни менее как в Константинополе, где брал уроки у лучших византийских учителей. Слушать его речи мне нравилось только тогда, когда он рассказывал об огромном городе с золотыми куполами и статуями, а я мечтал однажды там побывать; и после, когда нами читались и переводились отрывки из Геродота, Арриана, Ксенофонта и Страбона.
Дома я тайком доставал и жадно читал книги, написанные на простонародном или французском: историю Александра Македонского, романы и кантари[21] о путешествиях и любовных приключениях в Средиземноморье, вроде «Филоколо» мессера Джованни Боккаччо, «Прелестной Камиллы» Пьеро да Сиена и «Восточной царицы» Антонио Пуччи, «Истории Аполлония, царя Тирского», хроник Иоанна де Вандавиллы[22] или «Сферы» Горо Дати, одолженной мне одним флорентийским купцом и богато украшенной миниатюрами, в заключительной части изображавшими сказочный Восток; но главным образом хроник невероятного путешествия в страну Гаттайо, совершенного одним из членов семьи Поло, именем Марко Эмилионе. Наступит день, мечтал я, когда мне самому доведется описать свои путешествия.
Семья принудила меня жениться на дочери одного из самых знатных и богатых патрициев Республики, Ноне Дуодо. Но разве мог я отказаться от своей мечты? И вот, когда Сенат назначил моего тестя Арсенио Дуодо консулом колонии Тана, я под предлогом его сопровождения распрощался с женой, новорожденными детьми и в лето Господне 1435, взойдя на борт ромейской галеи, отправился на край света, в самый дальний порт венецианской империи.
Мне было всего двадцать два. В скудном багаже я вез кое-какие из самых любимых моих книг, в том числе «Сферу», так и не возвращенную флорентийскому купцу, и одолженный у дяди каталонский портулан; прочие же книги я сохранил в голове, откуда, как не раз говаривал мой наставник, никому не под силу было бы их украсть. После нескольких недель плавания по Адриатике и Эгейскому морю нам с моим тестем Арсенио и его секретарем, священником-нотариусом Никколо де Варсисом, пришлось сделать долгую томительную остановку в Константинополе, поскольку судовладельцы, недовольные скудностью платы, отказались продолжать путь за пределы проливов. Довольно скоро я обнаружил, что столица империи, грезившаяся мне столь великолепной, на деле является мрачным и зловонным вместилищем всех пороков и отбросов мира. А виденные мимоходом колоссальные византийские здания, дворцы и церкви, показались мне смертельно больными стариками, чей многолетний упадок грозил со дня на день оборваться неминуемым Апокалипсисом.
Желая как можно скорее продолжить свой путь, я предпочитал проводить время, путешествуя при помощи карандаша по румбам на страницах портулана, в запальчивости своей воображая то, что мог бы увидеть: легендарную столицу другой империи, Трабезонд; но главное – мифические земли, о которых я читал в античных текстах: Херсонес и Колхиду, которую теперь называли Менгрелией, цель путешествия Ясона и аргонавтов, искавших золотое руно, и родину племени женщин-воительниц, амазонок, сама мысль о которых будоражила мое воображение; и это еще не считая столь же мифического Меотийского болота, Боспора Киммерийского и владений легендарных народов, скифов, сарматов и половцев.
Однако ничего из того, что грезилось за портуланом, мне увидеть не удалось. Когда мы с первым попавшимся кораблем наконец отплыли из Константинополя, то, подгоняемые свежим, но непредсказуемым ветром начинающейся весны, взяли курс строго на север, в сторону Газарии и генуэзской колонии Каффа. Такому повороту я не слишком обрадовался. Генуэзцев я не любил – должно быть, это чувство, разделяемое всеми моими согражданами, досталось нам в наследство от предков, – хотя перед отплытием мне объяснили, что Большое море принадлежит Генуе практически целиком, и если мы хотим пересечь его в мире и спокойствии, с ними придется иметь дело. Да и потом, сами звуки этого имени, Каффа, немедленно вызывали леденящие душу воспоминания: ходили слухи, что именно оттуда почти сто лет назад пошло страшное моровое поветрие – черная смерть, опустошившая Европу.
Ветер, поначалу благоприятный, на полпути внезапно стих. Долгими днями тяжело груженная галея, переваливаясь с одного борта на другой, продвигалась сквозь легкую дымку штиля только силою весел. Я страдал морской болезнью, меня невыносимо мутило от запахов, что исходили от скамей гребцов и испорченной вяленой рыбы. Потихоньку заканчивалась питьевая вода, от развившейся цинги у меня выпали два зуба, и я поклялся себе больше никогда в жизни не пускаться в морское плаванье. Моя исследовательская карьера стартовала крайне неудачно.
В конце концов на горизонте снова появилась земля, однако ничего грандиозного или легендарного в ней не было. Меотийское болото теперь носило малопоэтическое название Забахское море, поскольку в его неглубоких водах то и дело можно было увидеть огромные стаи сардин, именуемых здесь забах. Ветер и течение, сбив корабль с курса, отнесли его на восток, и капитан решил отказаться от захода в Каффу: мы лишь сделали короткую остановку в генуэзском порту Матрега[23], уже в самом проливе, чтобы пополнить запасы пресной воды и свежих продуктов, а после продолжили путь.
Двигаться на север, вдоль пологих берегов, переходящих в топи и болота, к устью великой реки Таны, снова пришлось на веслах. Говорят, река эта такая длинная, что никто не знает, откуда она проистекает: быть может, из самого рая земного. Галея поднималась по ее спокойному течению, пока дозорный с верхушки мачты не заметил по правому борту башни последнего обитаемого города этой части света. Сойдя наконец на берег, я с трепетом в сердце прошел подо Львом святого Марка, что высечен над воротами. Не исключено, что дальше этого места Лев со своей огромной, раскрытой на середине книгой и впрямь не забирался.
Впрочем, Тана тоже не показалась мне сказочным городом, рассказы о котором я мальчишкой слышал от стариков, побывавших здесь еще в прошлом веке, городом, которому всего несколькими месяцами ранее кое-кто в Сенате сулил радужные перспективы восстановления. Реальность оказалась совсем иной, как иной была и Тана прошлого: ярмарка удачных возможностей, рискованных приключений и неожиданных богатств, конечная точка северной ветви Великого шелкового пути, куда тянулись караваны из Астрахани, Самарканда и даже Гаттайо. Следом в Тану хлынули драгоценные китайские и персидские шелка, ковры, пряности, фарфор, бронза и золото. А после явился Тамерлан со своими всадниками Апокалипсиса и все здесь сжег.
Венецианцы начали осторожно возвращаться в Тану лишь несколько лет спустя. Они возобновили приятельские отношения с татарами, которые, даже смягчив немного свой нрав, всегда были готовы напасть и разграбить колонию. С разрешения этих беспокойных соседей, умиротворяемых уплатой терратико, земельной подати, и коммеркиев или тамги, пошлины за торговлю, они снова принялись сооружать лавки и склады, а главное, кольцо крепких стен и башен, с тремя воротами и высоким донжоном. В город вернулись солдаты, перекупщики, ростовщики и сводники всех мастей, народностей, языков и религий. Священники и монахи воздвигли несколько церквей и колоколен, чуть выше и приметнее, чем башни и стены. В зловонном переулке за кабаком снова открылся публичный дом, лишившийся, правда, былого великолепия и оживляемый ныне лишь несколькими местными красавицами, давно поблекшими и располневшими, переговаривающимися на собственном наречии, в котором мешались все городские языки. Не вернулись лишь караваны золотого века. Купцы теперь предпочитали водный путь через Красное море в Индию, а кое-кто отваживался даже выходить за Геркулесовы столпы. С уменьшением числа караванов с Востока реже стали приходить и торговые галеи из Венеции, отныне груз их на обратном пути все больше состоял из товаров местных или привозных из северных степей и южных холмов: проса и гречки, шкур и мехов, воска, соленой рыбы и икры, а если повезет, то и меди или золота из горных копей.
В границах стен оставались еще обширные пустыри, где ветер шелестел в зарослях камыша и чахлого кустарника над вросшими в землю руинами или поднимал тучи сухой пыли, что с осенними дождями оборачивалась непролазной грязью, а зимой – сверкающей коркой льда.
Та первая зима в Тане стала для меня самой тяжелой. Вскоре я подхватил лихорадку и долго страдал изматывающими приступами кашля. Вернуться в Венецию мне уже не удалось: в октябре погода ухудшилась, прервав всякое морское сообщение. Я обнаружил, что жизнь в Тане, изолированной от остального мира, напоминала миф о Прозерпине: полгода под солнцем, среди живых, и полгода во тьме, в загробном мире, среди мертвецов. Северный ветер завывал без перерыва, неизменно находя способ пробраться сквозь щели в обшарпанных ставнях. Затем начался снегопад, пока наконец не замерзли и широкая река, и даже море, по крайней мере на сколько хватало глаз. Все казалось недвижным и безжизненным. Надеясь пережить суровую зиму, люди, словно насекомые, жались к кострам или очагам в глубине своих домов и лавок, полных вонючего дыма, грязи и крыс.
Я отдавал себе отчет, что если не хочу по весне с первым же кораблем униженно возвращаться в Венецию, то должен срочно что-нибудь придумать: стать независимым от тестя, высунуть голову из этой отвратительной Таны и начать исследовать окрестности, все эти области с загадочными названиями, вроде Тартарии, Руси, Кумании, Алании, Газарии, Черкесии, в поисках приключений, славы и богатства, которых я заслуживал. А кратчайшим путем к богатству в этой захудалой Тане, так и не оправившейся после разорения Тамерланом, была торговля живым товаром.
Глядя на благообразные лица нотариусов и священников, трудно было поверить, что вокруг работорговли вращается практически вся местная экономика. Мужчины, молодые и сильные, славяне, татары или черкесы, по-прежнему пользовались спросом на восточных базарах, особенно в Египте, где правила династия мамлюков, бывших на самом деле не кем иным, как черкесскими рабами султанов: впрочем, после протестов властителей Кипра, видевших в этой торговле лишь укрепление власти неверных, она была формально запрещена. В Венеции, напротив, спрос был главным образом на женщин и особенно девушек, которых отсылали работать в ткацкие мастерские или брали в дом в качестве прислуги: подметальщиц, кормилиц, сиделок для детей и стариков, а зачастую, втайне от жены, родни и священников, и для удовлетворения особых, куда более сокровенных запросов хозяина дома. Но в таком городе, как Венеция, все, разумеется, обо всем знали, хотя и делали вид, что не подозревают.
Сделки эти, какими бы скрытными и грязными они ни были, обладали видимостью законности и даже скреплялись нотариусом Республики, обычно специализирующимся на подобных делах, с составлением акта, который давал владельцу право совершать с новоприобретенным имуществом любые действия, какие только могут быть совершены с вещью или товаром: перепродавать, сдавать внаем, дарить, завещать. А когда вещь ломалась, ветшала или становилась негодной, ее можно было попросту выбросить. Так, над старухой-рабыней достаточно было лицемерно свершить акт освобождения, чтобы после вышвырнуть ее на улицу, за ворота палаццо, просить милостыню и умирать. Все это происходило с молчаливого благословения Церкви, которая, впрочем, формально порицала работорговлю и, заботясь о духовном здравии паствы, посылала священников и монахов крестить язычниц именами святых: Мариями, Маддаленами, Катеринами, Лючиями, Бенедеттами. Нотариусов и священников всегда обступал тесный круг поверенных, перекупщиков и посредников, сходный да и смыкающийся с тем, что стоял за процветанием куртизанок.
Мне этот круг нисколько не нравился. И я не нашел лучшего, чем заняться рыбной ловлей: рыба не так пачкает руки, как работорговля. Потратив все взятые с собой цехины и заложив ростовщику-еврею свое богатое платье, я завел привычку одеваться куда скромнее и вскоре смог приобрести у одного из татарских племен право на пользование тоней[24] со своими сушильней и солильней в месте, называемом Бозагаз[25], что вверх по великой реке, в сорока милях к востоку от Таны. Задумка оказалась неплоха и окупилась в кратчайшие сроки, поскольку вяленая рыба была одним из немногих товаров, крайне востребованных венецианскими морскими караванами-мудами, насущной пищей для моряков в тех дальних плаваниях по Средиземноморью, какие невозможно совершить, просто лавируя вдоль берега. Жаль только, что запах рыбьих потрохов, навевавший воспоминания о путешествии морем, вызывал у меня тошноту и вечно лип к одежде и рукам безо всякой надежды его смыть.
Когда реки снова стали покрываться льдом, склады уже ломились от вяленой и соленой рыбы, заготовленной на следующий сезон, к приходу муды. Теперь, почувствовав, что неплохо устроился в Тане, я начал общаться и даже заводить дружбу с татарскими племенами, жившими в окрестностях города. На тоню свою я нанял, вместе с парой ублюдков, рожденных от венецианцев местными женщинами, нескольких татар, а те, к моему удивлению, привели с собой рабов, русских или черкесов, на которых и возложили всю тяжелую работу, чтобы самим, как они заявили, надзирать, только забирая плату. Если так поступал парон Юсуф, хозяин Юсуф, как меня теперь звали, сидя на колченогой табуретке посреди собственного склада, отчего бы им тоже просто не посидеть и не посмотреть?
Я, Юсуф, прекрасно ладил с этими милыми мошенниками и в то же время поглядывал, чтобы они не слишком тиранили своих рабов. Я запретил пользоваться кнутом и следил за тем, чтобы на всех доставало еды. А сам понемногу стал учить татарский язык и даже одеваться начал, как они, в мешковатые штаны, заправленные в сапоги, тяжелую соболью шубу, раз и навсегда решившую проблему простуды, и остроконечную шапку-футряну, отороченную песцовым мехом. В сундуке копились згей: цехины, дукаты и серебряные византийские асперы, дирхамы и прочие самые странные и невероятные монеты, что были в ходу у этих варваров. Я сменил место жительства, купив каменный дом с просторным залом, двором, конюшнями и огородами у самой городской стены, поскольку предпочитал свежий запах полей, а не вонь лавок, лепившихся друг к другу на площади и вдоль берега. Еще немного, и я бы оставил Тану, отправившись исследовать огромный континент, который не смог бы окинуть взглядом, даже взобравшись на самую высокую башню.
Страсть к познанию мира, о котором я читал в античных книгах или слышал от наставника, владела мною всегда. Еще в ходе первых вылазок верхом на лошади в сопровождении пары слуг я пытался определить местонахождение древнегреческой Таны и даже, как показалось, узнал ее в облупившихся стенах, которые раскопал в грязи на северной стороне речной дельты, не обнаружив, впрочем, ничего, кроме совершенно порозовевшей от времени древней монеты. Отъехав чуть дальше, я заметил, что в степи нередко встречались более или менее высокие насыпи, вероятно, бывшие старыми захоронениями, которые в народе зовутся курганами. Некогда один из таких курганов, названный Контеббе, был испещрен колодцами, которые в течение двух лет копал египетский искатель приключений по имени Гульбедин. Этот Гульбедин приплыл из Каира в поисках баснословного сокровища, которое, по словам одной татарской рабыни, спрятал там Индиабу, последний царь аланов, прежде чем его народ был истреблен Тамерланом. Гульбедин умер, так ничего и не найдя, раскопки были прекращены, но слухи о кладе ходили по-прежнему.
И вот однажды, холодной и ненастной ноябрьской ночью, я оказался в доме купца Бортоламио Россо в компании еще пяти весьма достойных собутыльников: Франческо Корнарио, Катарина Контарини, Дзуана Барбариго из Кандии, Мойзе Бона д’Алессандро с Джудекки и Дзуана да Валле, который, побывав капитаном фусты в Дербенте на Каспии, успел снискать нелестную репутацию пирата, грабившего идущие из Астрахани корабли неверных. Мы выпили много отличного кипрского вина, привезенного Бортоламио, и уже переключились на граппу, в полный голос коверкая все песни гондольеров, какие только могли вспомнить.
Кончилось это шумное сборище тем, что мы всемером образовали товарищество с целью отыскать таинственное сокровище Контеббе. Инструменты для раскопок и строительства, заказанные Корнарио в Константинополе для укрепления стен, прибыли еще в июле. На клочке бумаги в пятнах от вина и жира Катарин составил контракт, слова которого из-за нетвердой руки и затуманенных вином глаз купца ползли вкривь и вкось. Был канун дня святой Екатерины Александрийской, той, что изображается с колесом, и в качестве восьмого участника, который принесет нам удачу и добрую прибыль, я предложил саму святую Екатерину, в которую после прочтения «Золотой легенды» Иакова Ворагинского бесповоротно уверовал. Конечно, я был слегка навеселе и лишь потому без конца повторял приятелям, что святой Екатерине тоже необходимо выделить долю добычи: справедливую осьмину, которую должно поднести в дар ее иконе в церковке Сан-Франческо, обители доброго епископа Франческо, поскольку тамошние монахи помогали милостыней беднякам и бывшим рабыням. Многих из них, в большинстве своем звавшихся Катеринами, я часто видел перед образом их покровительницы на коленях вымаливающими кусок хлеба.
Затея наша, предпринятая дважды, поздней осенью и ранней весной, закончилась полным провалом. Мы копали, копали, но так почти ничего и не нашли. И святая Екатерина нисколько не помогла, ибо тревожить сон мертвых – дело нечестивое. В Тану мы вернулись побежденными, и татары долго еще насмехались над нами, перекрестив разрытый курган во «франкскую яму». Я совсем пал духом, и не столько даже из-за дукатов, впустую потраченных на раскопки. Из величайшего исследователя древностей я превратился в мелкого расхитителя могил и начал все чаще взбираться на башню, оглядывая с высоты бескрайние степи и мечтая поскорее сбежать из Таны.
Именно с этой башни я, так никуда и не сбежав, в тепле и уюте наблюдал следующей зимой грандиознейшее зрелище: переселение народов. К Тане под предводительством хана Кичи, прозванного Малым Мухаммедом, приближалась часть татарской орды. Она вилась среди замерзших рек, будто гигантская змея, состоящая из людей и животных. Сперва появились отряды всадников, десятки, затем сотни: целый лес копий, знамен, высоких остроконечных шлемов и причудливых, отороченных мехом шапок. Потом, много дней спустя после начала этого бесконечного шествия, прибыл и сам хан, который вместе со свитой, родичами и наложницами расположился на расстоянии выстрела из лука от стен Таны, в разрушенной древней мечети.
По городу расползались страх и тревога. Купцы заколачивали мастерские и склады, евреи и армяне, памятуя о кровавых бойнях прошлого, запирались в своих похожих на крепости домах без окон. Ворота городской совет из осторожности решил оставить закрытыми, больше опасаясь не набега или осады, а болезней. И в самом деле, в былые времена в грязной и голодной массе людей и животных, что следовали за Ордой, скрывались ядовитые гуморы Черной Смерти, распространявшиеся с рулонами доставленных на продажу тканей или надушенными покрывалами проституток. Поговаривали, правда, что закрывать ворота бесполезно: крысы все равно пролезут сквозь щели, известные только им одним.
Пришлось немедленно направлять посольство. Консул приготовил три сундука с подарками: рулоны драгоценного шелка, а также испеченный с пряностями хлеб, медовое вино и бузу, иначе пиво; один сундук для хана, другой для его матери и третий – для командующего войсками Науруса. Доставить их он, естественно, поручил своему зятю Иосафату, то есть мне, к тому времени уже вполне смахивающему на атартарадо, полутатарина, еще и потому, что никто другой ехать не хотел. Вне себя от гордости, в татарском платье, я вошел в мечеть, где впервые повстречал одного из тех великих князей Востока, что повелевали жизнью и смертью миллионов людей: двадцатидвухлетнего юношу со скучающим взглядом, который, возлежа на ковре, вертел в руках украшенный драгоценными камнями кинжал; его могучий полководец Наурус выглядел не старше двадцати пяти.
Наурус представил меня своему господину как посла франков, поскольку именно так все они называли нас, западных латинян, независимо от того, были ли мы генуэзцами, венецианцами, французами или каталонцами. В тот миг я ощутил себя по-настоящему важной персоной: ведь встречались два мира, две цивилизации, и в моем лице пред варварством язычников и неверных стоял весь великий Запад, древние греки и римляне, христианство, папа, император и моя Светлейшая Республика Венеция. Мысль о том, что мне, Барбаро, выпала честь встретиться с князем варваров, вызвала у меня улыбку.
Заметив кивок Науруса, я опустился на колени и приветствовал хана татарской фразой, которую выучил наизусть: салям рахим итегез, мир вам и добро пожаловать. Дальнейшие мои слова, сказанные по-венециански, с грехом пополам перевел драгоман-переводчик: вместе с дарами я препоручал город защите и благосклонности владыки. Хан, не поднимая глаз, ответил, что милостиво принимает подношение и что город под его покровительством может считать себя в полнейшей безопасности.
Повисло неловкое молчание. Хан продолжал поигрывать кинжалом, и я не знал, что делать дальше. Снова, без разрешения, взять слово? Повернуться и уйти? Даже речи быть не может. Хан поднял голову, оглядел меня и моих нескладных товарищей по посольству, а потом вдруг принялся хохотать и хлопать в ладоши, булькая и глотая слова, которые драгоман торопливо пытался мне перевести: что же это за город, где на троих приходится всего три глаза? Наурус и другие сановники и воины смеялись вместе с ним, хотя лишь мгновение назад казались суровее и неподвижнее статуй. Я обернулся к своим спутникам: драгоман Буран Тайапьетры имел лишь один глаз; один был и у грека Дзуана, консульского жезлоносца; а также и у человека, что нес медовое вино.
Так и закончилось первое великое посольство мессера Иосафата Барбаро, известного как Юсуф, глашатая консула Таны, к великому хану Орды. Консулу же пришлось распахнуть ворота, дабы впустить восседающего на спине изможденного мула татарского мытаря Коцадахута, потного и жирного, назначенного ханом для сбора тамги, пошлины со всех поступающих в Тану товаров, вдобавок предоставив ему и его свите безлюдное место у самых ворот и рядом с моим домом, в полуразвалившемся караван-сарае, обнесенном собственными стенами.
После отъезда хана снова стал подходить народ со стадами, и шли они целых шесть дней: множество людей и повозок, бескрайние табуны лошадей, верблюдов, волов и всякой прочей домашней скотины. Везли с собой и жилища, деревянные каркасы, порой в несколько ярусов, поставленные на большие телеги и крытые камышом, войлоком или тканью. Я зачарованно смотрел на них со стен Таны. Они казались мне видением Судного дня, когда человечество вкупе с другими живыми существами призвано будет держать ответ за свои деяния перед Всевышним.
Только месяц спустя предстояло мне узнать, куда подевалась вся эта орава. Когда лед сошел и я смог подняться на лодке до своей тони у Босагаза, то был неприятно удивлен, обнаружив, что, хотя рыбаки зимой, в том числе подледным ловом, заготовили и засолили много лаврака и осетра, затем пришли тысячи и тысячи татар, голодных, словно саранча. Рыбаки разбежались, попрятавшись за деревьями. Татары забрали всю рыбу, соленую и несоленую, всю драгоценную икру и даже соль – крупную, дорогую, прекрасно подходящую для консервации; они разбили бочки, растащив доски на починку телег, разломали мельницы для соли, чтобы выкрасть железные сердечники. С тоскою созерцал картину этого разорения и бесславный конец моей столь многообещающей карьеры рыбопромышленника. Не слишком утешало даже то, что всю икру, не менее тридцати предусмотрительно зарытых в землю бочонков, украли и у моего нечистоплотного конкурента, друга-врага Дзуана да Валле.
Ушли, однако, не все татары. Через два дня после их отъезда под стенами объявился ханский родич Эдельмуг, который предложил мне честь сделаться его кунаком, иначе говоря, приятелем. Для этого сперва пришлось принимать его у себя в доме, где татарин вылакал весь запас драгоценных кандийских вин. Затем, полупьяный, он пожелал, чтобы я следовал за ним в большой татарский стан. Меня охватило возбуждение: наконец-то я мог путешествовать по-татарски, да еще и вместе с татарином. Мы ехали несколько бесконечных дней, пересекая еще не вскрывшиеся ото льда реки, пока наконец не достигли реки людской: это со всей степи стекались, словно муравьи, люди Орды, и каждый, признавая Эдельмуга своим господином, готов был предложить ему немного мяса, хлеба и молока. Наконец мы предстали перед ханом, который принял нас в шатре для приемов, на виду у сотен людей. И вышло так, что, привезенный пьяницей Эдельмугом, я жил с тех пор среди татар, не то как гость, не то как пленник, изучая их нравы и обычаи. Обратно в Тану меня отпустили, лишь когда Орда снова двинулась на север, разорять и грабить русские земли. Но вернулся я не один. Эдельмуг доверил мне на временное усыновление своего сына Тимура: величайшая честь, какую только может оказать татарский вельможа.
Принять Тимура было мне в радость: бойкий тринадцатилетний парнишка с раскосыми глазами и смуглой кожей стал мне, почти забывшему об оставленной в Венеции семье, как сын. Хотя и в окружении множества слуг и служанок, жил я практически отшельником. В отличие от всех прочих купцов и даже священника, время от времени подбиравших себе в лавке одного армянина, промышлявшего подобным товаром, какую-нибудь запуганную черкешенку или татарку, у меня не было даже женщины, чтобы согревать постель. В первые мои дни в Тане новые друзья сводили меня в публичный дом, но даже одного посещения мне оказалось достаточно, чтобы дать личный обет целомудрия. Вечером я предпочитал удалиться в крохотную спальню на втором этаже и побыть наедине с книгами, привезенными из Венеции, теперь уже полуистлевшими, заплесневевшими, прогрызенными крысами и изгаженными тараканами, и записной книжкой, в которую путано заносил свои заметки и воспоминания.
С Тимуром мой дом снова стал полон. Я научил его нескольким словам и даже фразам на венецианском, хотя и посмеивался над акцентом. Заглядывал в сияющие кошачьи глаза, гладил его темные кудри; в кадке, которую женщины наполняли горячей водой, не спеша омывал его стройное, гладкое тело, так напоминающее большую рыбу из тони у Босагаза. Тимур любил смеяться. И меня любил. Называл меня абзий Юсуф, дядя Юсуф.
Наступило лето. Оправившись от чувств и неприятностей, вызванных прохождением Орды, я возобновил торговлю с купцами, вернувшимися в Тану с наступлением оттепели, и даже заключил пару выгодных сделок, продав немного соленой рыбы из заново отстроенной тони, немного мехов, привезенных с гор, а теперь жду золота, обещанного мне еще год назад одним самаркандским купцом. Золото это, редкой чистоты, отправится прямиком в Венецию, в процветающие мастерские тамошних златокузнецов. Оно может прийти в любой момент, с первым же большим караваном.
Вчера поутру мы с Тимуром сходили на площадь, единственную часть города, напоминающую мне о цивилизации и моей Венеции: булыжная мостовая, торговые лавки под сенью портиков, дом консула, напыщенно именуемый «палаццо», пристроенная лоджия с нотариальной конторой, высокая лестница, откуда глашатай зачитывает постановления совета, герб со львом святого Марка, фасад церкви Санта-Мария, приземистая остроконечная колокольня.
Мы заскочили в мастерскую мастера по выделке стрел посоветоваться, куда в округе сходить поохотиться на куропаток и коростелей, гнездящихся в ложбинах пологих холмов. Вдруг я услышал какой-то шум под портиком – это прибежали татары-дозорные. Говорят, в роще, милях в трех к югу от Таны, у небольшой речушки, со вчерашнего дня расположился отряд конных черкесов, числом около сотни. Ясное дело, не ради невинной охоты они сюда прискакали: замышляют набег, могут и под стенами Таны появиться. Я сразу забеспокоился об идущем из Самарканда караване: украдут черкесы верблюда с сундуком моего золота – и пропал задаток, я ведь никакого залога не оговорил.
Тут слышу из глубины лавки голос: купец-татарин, что в Тану груз цитварного семени привез, предлагает захватить этих псов-черкесов. Да, их почти сотня, но купец тоже намерен принять участие в экспедиции, а он да слуги – уже пятеро. Я, сам не знаю почему, вмешался: могу, говорю, собрать человек сорок. Думал, кто еще присоединится, чтобы нас побольше было. Но остальные молчат, кроме татарина, а тот заявляет, что и сорока хватит: черкесы, мол, не мужчины, а бабы.
Я уже жалею, что заговорил с этим безумцем, да еще у всех на глазах. Уж мне-то хорошо известно, что черкесы – не бабы, а самые могучие и отважные воины, каких только рождала земля. В прежние годы, после Тамерланова нашествия и до появления этой новой Орды, они объединились под властью князя, чтобы изгнать татарские племена из своих неприступных гор, и во главе с легендарным и безжалостным воином по имени Яков гнали их до самой Таны. Чтобы захватить одного свирепого черкеса, нужно десятеро наших. Сотня черкесов – это в самом деле много. Но теперь отступать некуда. Я задумчиво брожу по площади, а Тимур, взволнованный предстоящим приключением, то и дело дергает меня за рукав. Наконец решаю зайти к своему другу Франческо да Валле, младшему брату Дзуана, наиболее сведущему в подобных делах, и мы с ним, тут же организовав товарищество, договариваемся, как, исходя из числа участников и степени риска, будем делить добычу. Франческо привлекает к делу армянского купца, капитана лигурийской гриппарии[26], нескольких воинов и арбалетчиков, жаждущих пополнить свое скудное жалованье, и кое-кого из старых партнеров по раскопкам в Контеббе вместе с вооруженными слугами. С Тимуром и тремя слугами-татарами нас пятеро: если захватить всех черкесов, на мою долю придется с десяток рабов, причем без всяких затрат. Неплохое возмещение за тоню. Хотя что-то всегда идет не так.
План Франческо прост. Часть наших людей, вооруженных луками и арбалетами, сойдут на берег, к пристани, и, рассевшись по лодкам, доберутся до устья одной мелкой речушки, по которой, в свою очередь, поднимутся до самой рощи, отрезав черкесам путь к бегству: заняв позицию, они выпустят белого голубя. Но как быть с Тимуром? Для его же безопасности пусть остается в лодке. Прочие, разделившись на две группы, подойдут к опушке с севера, укрывшись вместе с лошадьми среди поросшей камышом топи. Увидев голубя, они должны будут взобраться в седло и занять позицию. Потом слуга Франческо протрубит в рог, и наши люди, выскочив из засады, со всех сторон ворвутся в рощу. Вооружаться стоит легко, только кольчуги, луки, арбалеты и мечи – это же не настоящая битва, мы ведь не убивать черкесов идем, иначе прощай нажива. Однако тех, кто станет яростно сопротивляться, лучше прикончить сразу: они, как неукротимые звери, никогда не смирятся с жизнью раба и вечно будут пытаться сбежать или поднять бунт.
Я открываю глаза. Сколько уже прошло? Десять секунд, десять лет? И вдруг слышу какой-то шум. Оглядываюсь и сквозь прорези забрала замечаю на опушке, с той стороны камышей, мальчишку, ведущего за собой кобылку. Гнедая, шерсть лоснится, на лбу белое пятно, напоминающее звезду. Помнится, на площади в Тане мы спорили, как делить пленников: а что же лошади? О них мы позабыли. Такую гнедую я бы взял. Может, и вместе с мальчишкой, одетым по-черкесски, в богато расшитой шапке темного войлока и с сабелькой за поясом. Рабы из детей лучше, чем из взрослых. Их проще обучить – или более уместно здесь будет сказать «взрастить»? Впрочем, они бывают и хуже диких зверей, ничего не зная о цивилизованной жизни.
Похоже, мальчишка нас не заметил. Видя, что один из татарских лучников уже готов спустить тетиву, я жестом велю ему опустить лук. А когда оборачиваюсь снова, мальчишка уже скрылся среди деревьев: точнее, мне кажется, я вижу его рядом с другой фигурой, повыше, что, выйдя из рощи, его обнимает. Мы снова застываем. Нужно дождаться взмывающего в небо белого голубя – сигнала от подходящих сейчас по узкой речушке лодок, и только тогда, оседлав лошадей, занимать позиции, а после под звуки рога со всех сторон броситься на черкесов.
Однако сигнал застает нас врасплох: никто не видел голубя, никто не готов к атаке. Проклятье, если что-то пойдет не так, эти черкесы порежут нас на куски! Мы спешно пытаемся выбраться из топи и сесть на коней, а вокруг уже свистят первые стрелы. Татарин рядом со мной пытается натянуть лук, но получает стрелу в горло и падает замертво, из раны хлещет кровь. Проклятье, кричу я безмолвно, словно во сне, – а может, это и есть только сон, дурной сон. Потрепанный шлем, который мне одолжил Франческо, явно остался от какой-то давней войны с генуэзцами, в нем почти ничего не видно. Я пытаюсь взобраться на лошадь, но поскальзываюсь и падаю в грязь. Сейчас не до показного геройства. Слуга-татарин помогает мне вставить ногу в стремя, а все вокруг уже с криками бегут и скачут в сторону рощи, и я тоже кричу, и пришпориваю коня, и скачу с саблей наголо, строя из себя полководца, которым никогда не был.
Но, еще не успев добраться до рощи, я вдруг вижу, как среди деревьев несутся бешеным галопом черкесские всадники. И цель их вовсе не в том, чтобы опрокинуть и стоптать конями наш строй, – они мчатся левее, к бегущей вдоль самой опушки тропинке, которой смогут воспользоваться, чтобы спасти свои шкуры. А с ними летит стрелой и красавица гнедая, унося от меня мальчишку. Слишком поздно. Нам до них уже не добраться, к тому же это слишком опасно: прекрасно зная эти болота, они могут заманить нас в засаду. Внезапно от нашего отряда отделяется тот самый безумный купец-татарин, что называл черкесов бабами, и с криком бросается в погоню. Ему кричат: «Стой, вернись», – но он будто не слышит. Татарин скрывается в облаке пыли, поднятом черкесскими лошадьми. Тем хуже для него.
Мы с моими товарищами въезжаем в рощу. Здесь все уже кончено, и я, сняв бесполезный теперь шлем, сердито отбрасываю его в сторону. Под сенью деревьев, убитыми, раненными и пленными, осталось с четыре десятка черкесов. Одни еще яростно извиваются, когда их хотят стреножить, другие уже лежат на земле под прицелом луков и арбалетов, молчаливые и мрачные, связанные попарно, спиной друг к другу. Повсюду в беспорядке валяются убитые и раненые; большую часть последних, практически всех, даже в Тану не стоит везти: что их лечить, все равно совсем скоро умрут от гангрены. Надеюсь, останется хотя бы человек двадцать, по две головы на каждого участника нашего предприятия. А вот мальчишка и его красавица гнедая от меня ускользнули. И лошадей нет, все разбежались. Печальный итог, поскольку несколько наших тоже мертвы, в том числе двое из трех моих слуг. Хорошо еще, Тимуру, сидящему в лодке, ничто не грозит.
Я замираю, привлеченный странной позой одного из убитых черкесов: он так и остался стоять, обняв две березы и вцепившись руками в кору. На спине глубокая рана от меча, пробившего сердце: скорее всего, умер мгновенно. Судя по одежде, это их предводитель. Возможно, именно он обнимал мальчишку, но поклясться я не могу. Похоже, безоружен, хотя от такого удара острая шашка наверняка выпала из руки, и ее уже стащил какой-нибудь татарин. Странно умирать вот так, показав врагу спину. Он ведь даже не пытался бежать. Я обхожу его кругом и потрясенно останавливаюсь, увидев благородное лицо со светлыми волосами и бородой, в которых пробивается седина, глазами, по-прежнему широко распахнутыми в неведомую высь, которой мне не разглядеть. Я из милосердия закрываю их рукой. Тело оседает на землю, я пытаюсь удержать его, потом просто велю татарам, уже готовым отрубить головы и взять их с собой как трофеи, сложить тела вместе, забросав землей и камнями, чтобы не оставлять на растерзание шакалам и стервятникам. Татары подчиняются неохотно, да и то лишь тщательно обчистив трупы и забрав все, что можно использовать или продать.
Со стороны реки доносится крик. Мучимый дурным предчувствием, я скачу туда. Гребец одной из лодок держит на руках тринадцатилетнего мальчика: стрела попала ему прямо в сердце, но когда – никто не заметил. Во время беспорядочной перестрелки между лодками и берегом Тимур скорчился на корме, будто хотел спрятаться. Потом воины с мечами в руках бросились к берегу, и о нем все забыли. В лодке остался лишь один гребец; через какое-то время он потряс мальчика за плечо, но тот уже не дышал. Крича и плача, я беру его на руки, выношу на берег, взваливаю на лошадь и медленно бреду в сторону Таны, а верный Айрат, мой единственный оставшийся в живых слуга, следует за мной.
Вечер. Кто-то колотит в дверь.
Я сижу в углу, в темноте, не сводя глаз со стола, где лежит Тимур. Он кажется спящим. Вокруг отчаянно рыдают женщины, успевшие полюбить мальчика. Его уложили на стол, раздели донага, обмыли. Как прекрасно это юношеское тело, эта смуглая, будто светящаяся изнутри кожа! Если бы не крохотная дырочка на уровне сердца… Его отец в ханском стане, днях в пяти-шести от Таны. К нему уже послали гонца. До приезда Эдельмуга Тимур так и будет лежать обнаженным здесь, на столе. Очнувшись, я иду открывать и в тусклом, мерцающем свете фонаря узнаю Франческо, за ним еще кто-то: две или три смутные фигуры, скрытые тьмой.
Крепко обняв меня, Франческо сразу переходит к делу, поскольку между купцами, особенно в приграничье, вопросы доброй прибыли должно, не давая слабины, решать на месте. Пленники заперты в его складе на берегу. Никаких налогов, никаких посредников, венецианских или татарских: с лодок их выгружали, не заводя в город, а стража у ворот за приличную мзду просто закрыла на все глаза. Причитающуюся долю, двух рабов, я смогу выбрать когда захочу и вперед других, остальные партнеры отдают мне первенство. Один только капитан гриппарии просит сделать милость и поторопиться, корабль-то уже загружен и готов к отплытию; он смиренно просит не тратить слишком много времени на оплакивание, ведь тот, кто ушел, уже ушел, а живые должны заботиться о живых, и, кстати, тот мальчик, покойный, и христианином-то не был…
Я чувствую, что внутри все клокочет. Нет, хочется мне выкрикнуть, я не такой, как вы, я с юности слышал слова древних о роде людском и знаю, что одна смерть не важнее другой, какого бы племени, веры или звания ни был человек. А в этой проклятой Тане я с каждым днем все больше похожу на вас, и глаза мои уже масляно блестят, стоит только подумать о доброй прибыли и подсчетах барышей, которые можно получить с торговли людьми. Но сейчас, когда Тимур мертв и его тело простерто на обеденном столе, мне плевать на рабов и барыши. Пускай уходят: как вообще можно отнять у человека свободу, обращаться с ним будто с вещью, продавать и перепродавать? За что погибли Тимур и остальные? Хватит, хватит, хочется мне кричать; я едва сдерживаюсь, чтобы со всей силы не ударить Франческо.
И вдруг замираю. В сумраке зрачки мои успели расшириться, и мне кажется, что за спиной Франческо я узнаю физиономию другого мальчишки, того же роста, а может, и возраста, что и Тимур, с ног до головы перепачканного в грязи, которого тянут на веревке двое татар. Франческо бросает свою бесполезную болтовню: достаточно взглянуть мне в лицо, чтобы понять – дело не ладится. Он даже отказывается требовать два-три аспра в уплату за старый шлем, который я потерял, и, бормоча что-то себе под нос, отступает в сторону. Когда фонарь освещает мальчишку, я с трепетом узнаю юного черкеса, что пытался бежать на гнедой кобылке.
Бесславно возвращаясь вместе с товарищами в Тану, Франческо услышал в глубине топи, посреди зарослей тростника, тихие всхлипывания. Взяв слуг, он подъехал туда и обнаружил мальчишку стоящим на коленях возле едва живого коня с неестественно вывернутым копытом. Это явно был один из тех черкесов, что спасались бегством, но конь его, к несчастью, увяз в грязи и сломал ногу. Заметив преследователей, мальчишка, испустив яростный вопль, бросился на них с одним коротким кинжалом, однако поскользнулся и рухнул, так никого и не задев. Слугам Франческо, даже набросившись скопом, едва удалось его связать. По лицу мальчишки, покрытому коркой грязи, катились слезы, он пронзительно всхлипывал, повторяя одно-единственное непонятное слово – вагвэ. Гнедую кобылку, глядевшую ему вслед большими влажными глазами, милосердно прикончил сам Франческо.
Это лучший из пленников. Они с партнерами посчитали справедливым отдать его мне, вот и все, а потом… Потом, может… Довольно! Увидев мой окаменевший взгляд, Франческо отшатывается. Он сует мне веревку и вместе со слугами скрывается в сумраке. Я тяну ее на себя, и мои глаза встречаются с перепуганными глазами мальчишки. В свете фонаря они сияют синевой, словно безоблачное небо, какое, взобравшись зимним днем на колокольню в моем родном городе, видишь над дальними горами.
Будит меня солнечный луч.
Я лежу на полу, все тело ноет. Похоже, спал я долго и теперь понемногу восстанавливаю в памяти случившееся. На столе в центре комнаты тело Тимура, уже облепленное мухами. Нельзя ему там оставаться: кто знает, когда приедет его отец. Из-за колонны блестят глаза женщин, они смотрят на меня молча, испуганно, выжидающе. Потом я вспоминаю, что в доме есть кое-кто еще. Мальчишка-черкес. Я велел старой служанке запереть его в пустом курятнике. С нее станется ни рук ему не развязать, ни воды не дать. Я будто в тумане вижу полные страха и боли глаза под маской затвердевшей грязи. Он всего лишь мальчишка, как Тимур, покоящийся там, на столе, с миром, который уже никто не сможет потревожить.
Не поднимаясь, я зову своего верного Айрата: пусть приведет мальчишку из курятника и передаст двум женщинам, которые вымоют его, а после, переодев в чистую рубаху, дадут воды, хлеба и сыра. Айрату, конечно, придется посидеть с ними, присмотреть на всякий случай за этим маленьким дикарем. Потом, снова погрузившись в безмолвие, я сажусь на пол возле стола, на котором вечным сном спит Тимур.
Кто-то трясет меня за плечо. Это Айрат, взгляд у него смущенный. Я, поднявшись, иду за ним. Две женщины за дверью смущены не меньше. Одна держит в руках нечто напоминающее корсет и бормочет, будто бы по-венециански, но с жутким татарским акцентом: но се ун путело, но се ун путело. Это не мальчишка. Вхожу. В полутьме замечаю в углу его одежду и сапоги, по-прежнему покрытые коркой грязи; в центре комнаты, у лохани с водой, гибкое белое тело, опущенная голова в короне длинных светлых волос, скрещенные руки прикрывают лобковую поросль, талия сужается от бедер и снова расширяется к торсу, где вздымаются холмики маленьких крепких грудок. На пальце левой руки, похоже, кольцо. Пахнет чистой кожей, еще хранящей аромат воды и мыла после купания. Се уна путела. Это девушка.
Я молча замираю. Путела вскидывает голову. Глаза красные, но сухие: похоже, все слезы уже повыплаканы. Если не считать рук, прикрывающих гениталии, наготы своей она, кажется, нисколько не стыдится. Да и напуганной уже не выглядит. А меня вдруг охватывает смятение. Как же с ней общаться? С кем-либо из их народа я встречаюсь впервые. Пытаться что-либо объяснять бесполезно, она все равно не поймет, а я не пойму того, что скажет она, ведь каждому известно, что черкесы говорят на самом непонятном из всех языков мира, состоящем из взрывных и гортанных звуков, почти без гласных.
У кого просить помощи? В доме одни только татары, вряд ли кто-то из них может послужить мне переводчиком. Похоже, в Тане есть лишь один человек, знающий этот проклятый язык и при этом заслуживающий доверия. Я подзываю Айрата и отправляю его в лупанарий, велев как можно скорее привести ко мне хозяйку, черкешенку Маддалену: сиору Лену. Теперь главное – не проговориться, не сболтнуть никому, даже Лене, ничего лишнего. Обе женщины встревоженно молчат, хотя я сознаю, что долго это не продлится. Накинув на девушку простую льняную рубаху, я велю принести ей поесть и попить, но она, забившись в угол, ни к чему не прикасается, а я молча стою, прислонясь к дверному косяку, и ошалело гляжу на нее: глаза распахнуты, рот разинут, словно у соленой рыбы из моей тони.
Вернувшийся Айрат докладывает, что Лена ждет меня в зале. Иду туда, заперев за собой дверь. Потрясенная Лена, платком отмахивая мух, вглядывается в лицо мертвого мальчика. Одетая в темное платье, как бегинка, в черном чепце, прикрывающем волосы, она не похожа ни на черкешенку, ни на шлюху; немногие признаки роскоши – золотая цепочка с крестом в византийском стиле, чрезмерный запах лаванды да излишне броские кольца с искусственными камнями, память о былых возлюбленных.
Лена – женщина смелая, сильная, крупная, но уже увядшая, дочь одной из рабынь, захваченных во времена Тамерланова разорения, которую перекупщик-армянин много лет назад пристроил в публичный дом, когда его снова открыли. Хитрая, с маленькими лисьими глазками, ведь иначе женщине в этом волчьем логове не выжить. С помощью очередного любовника, нотариуса и одновременно священника, окрестившего ее весьма подходящим по случаю именем святой блудницы Магдалины, она поднакопила згей и перехватила у старого армянина лупанарий. Мне она должна быть обязана, поскольку год назад я дал работу в своей тоне маленькому ублюдку, которого Лена родила от венецианского моряка и которого больше не могла в рабочее время держать в публичном доме. Жизнь – странная штука, раз уж я прошу помощи у шлюхи; впрочем, будущее непредсказуемо, так сразу и не угадаешь, когда тебе понадобится помощь того, кому ты сам однажды помог.
Растерянный и взволнованный, я пытаюсь пересказать ей лихорадочную хронику последних двух дней, до появления путелы. Лена должна поговорить с ней, расспросить и попытаться выяснить, кто она и откуда, как ее зовут. На самом деле она могла бы даже ненадолго, всего на пару дней, остаться здесь, и я хорошо ей заплачу, если она научит путелу простейшим словам и фразам венецианского языка.
Лену это необычное предложение удивляет. За долгие годы в своей почтенной профессии она привыкла к самым странным и самым откровенным запросам, но роль драгоманки ей еще никто не предлагал. И потом, какой смысл говорить, слова тратить? На путелу достаточно взглянуть, осмотреть тело, нет ли в нем скрытых дефектов, прикинуть вес, понаблюдать за взглядом и движениями, в общем, оценить на предмет покупки или временного пользования.
Что толку в разговорах? Тана – не Венеция, где куртизанки, как она слышала от заезжего аристократа, читают стихи и рассуждают о философии. Здесь в нашем ремесле не до философий, за нас говорит тело, причем сотнями самых разных способов: запахами, прической, глазами, языком, руками, ногами, расчетливыми колыханиями живота. Клиенты же по непонятной причине, как правило, излишне болтливы, даже назойливы, они начинают пересказывать девочкам всю свою жизнь. Может, конечно, им только того и нужно, так что Лена обучила девочек, которые из этих разноязыких речей все равно ни слова не понимают, присаживаться рядышком на кровати и томно внимать, время от времени кивая и улыбаясь.
Но да, она готова ненадолго взять отпуск. Девочки справятся сами, тем более что в лупанарии ей и вправду лучше в ближайшие дни не появляться, поскольку там будет ад кромешный, ведь прибывает караван из Самарканда. Ах да, караван из Самарканда, я совсем забыл. Прошу ее сохранять все в строжайшем секрете. Лена, без сомнения, забавляется, воображая, что весь город, включая консула и священника, думают об этом угрюмом бабалуке Иосафате, который, оказывается, дни и ночи проводит, запершись в своем доме с ней, Леной. К тому же она знает, что у меня в погребе всегда есть запас хорошего кандийского вина.
Я велю проводить Лену к путеле, а сам остаюсь в одиночестве у стола, на котором по-прежнему лежит Тимур. Похоже, мухи становятся все многочисленнее и злее. Кожа темнеет, на животе проступают гнилостно-зеленые пятна, а между ног – полоса зловонной черной слизи, как будто тело разъедает изнутри. Поваро фиол, бедный мальчик. С ним тоже нужно что-то решать, по такой жаре и духоте я не могу позволить ему дожидаться Эдельмуга. Понадобится ящик с плотно пригнанной крышкой, гвозди и корабельный вар.
Но времени на раздумья не остается, потому что кто-то опять колотит в дверь. На улицах волнение, народ носится туда-сюда, со стены гремят трубы: караван из Самарканда наконец прибыл и потихоньку размещается в соседнем караван-сарае. А гонец уже кричит, что меня срочно ждут консул с Коцадахутом. Нужно идти, но мои смятенные мысли долго еще носятся между столом, где спит последним сном Тимур, и комнаткой, где я оставил путелу с сиорой.
Вернуться удается только к вечеру, без сил. Я почти двое суток не мылся и не снимал платья. Спал, наверное, всего пару часов, прикорнув на полу у стола с телом Тимура, и до сих пор морщусь от боли. Не считая кольчуги, одет я по-прежнему так же, как в ходе злополучного предприятия в роще, перепачкан потом, грязью и кровью и к тому же, кажется, обмочился. Даже сапоги у меня на ногах те же, надо бы их снять: не только для того, чтобы вычистить, но и потому, что внутри, похоже, пиявка. Консул, почуяв вонь, скривился, а этот татарин Коцадахут, прослышав о нашем славном предприятии, вдоволь похохотал надо мной и остальными, заявив с типично татарским юморком, который мне совсем не по нраву, мол, то-то будет зрелище, когда Эдельмуг, хорошо ему знакомый, увидит своего сына мертвым и, обезумев от горя, насадит головы Иосафата со всеми его сообщниками на пики, после чего снова расхохотался. На самаркандского купца, который сдержал слово и привез мне с гор между Персией и Индией сундучок чистейшего золота, я, видимо, тоже впечатления не произвел: о цене не торговался, приняв запрошенную, отчего купец едва не лишился дара речи. А у меня в голове мутно, все думаю о Тимуре и путеле и только хочу быстрее домой вернуться.
Войдя с сундучком под мышкой, я обнаруживаю, что Тимур по-прежнему на столе и вокруг по-прежнему вьется рой мух. Запах смерти, гниения, напоминающий мне вонь отбросов возле тони, только усилился. На полу грубо сколоченный деревянный ящик, как раз по размерам Тимура: его заказал мой верный Айрат, угадав еще не высказанную мысль. Я хвалю его, моего верного Айрата, и прошу снова позвать тех женщин, что сперва обмывали Тимура, а после путелу. Теперь им предстоит еще раз вычистить тело Тимура, смазать его бальзамами и эссенциями, завернуть в саван и уложить в сундук, который Айрат затем герметично закупорит. Сегодня уже слишком поздно, ворота закрыты и за стену не попадешь, но завтра его перенесут в мечеть и временно укроют в пустующем каменном саркофаге, чтобы отец мог совершить над ним подобающий погребальный обряд.
Сундучок с золотом я ставлю на лавку и молча, на цыпочках, подкрадываюсь к комнатке, куда поместил Лену и путелу. Из-за двери слышится голос, но только один, и принадлежит он сиоре. Любопытно было бы услышать и другой, но желание мое так и остается неудовлетворенным. Подождав немного, я решаю войти и сразу отсылаю Лену в кухню. Стою у двери, глядя на сидящую девушку, а она смотрит на меня, не отводя глаз, и в них словно бы немой упрек. В конце концов глаза приходится опустить мне, и тогда, совершенно раздосадованный, я выхожу из комнаты, заперев за собой дверь.
Лена, не дожидаясь моего прихода, уже наливает себе кубок вина, хватает руками тушеные куриные ножки и крылышки, оставленные хозяину в сковороде. Время от времени она обмакивает туда же ломоть черного хлеба, запивает вином. Я усаживаюсь напротив и жду отчета. Лена, которой хотелось бы сперва спокойно поесть, ворчит с набитым ртом, что дурно говорить во время еды, но я не свожу с нее настойчивого взгляда, и она, не прекращая обгладывать косточку, начинает рассказ. В большом камине, на докрасна раскаленных углях, медленно гаснут язычки пламени. Со стены, меж двух закопченных медных сковород, на нас с крохотной иконки взирает святая Екатерина, изображенная в виде царицы. Я, хоть и редко бываю в церкви, безгранично в нее верю и никогда не забываю поставить ей свечку.
Рукой в потеках жира Лена хватает греческий крест, висящий у нее на шее, подносит к моему лицу. Едва она вошла в комнатку, девушка бросилась на колени, бормоча слова, которых Лене разобрать не удалось. Иосафат должен понимать, что этим двоим, сиоре и путеле, не так-то просто найти общий язык. Франки зовут их всех черкесами, тем же словом пользуются татары и турки, однако в горах и долинах живет великое множество самых разных народов, возможно, связанных некогда общим происхождением, но не схожих нынче друг с другом ни обычаями, ни языком, ни именами: те, что поселились на южных берегах, – зихи, и она – тоже зиха, а есть еще кипчаки, татакозцы, собайцы, кавертейцы, кабардины, в общем, один дьявол разберет кто. Какие-то слова или части слов у них общие, но произношение может быть совершенно разным, и, только говоря медленно, они, да, обычно друг друга понимают. В общем, все это очень не просто, и мессер Иосафат должен вспомнить об этом, когда будет высчитывать вознаграждение сиоре.
А непросто было еще и потому, что поначалу девушка совершенно замкнулась. Преклонив колени перед крестом, она снова уселась в своем углу и уставилась в стену, отказываясь даже голову повернуть. Но ведь она христианка, крещеная? Да, но не совсем так, как это понимают франки и их священники, отвечает мне Лена. Девушка поклоняется кресту, как делала с детства, не зная ничего о Господе нашем и об обрядах Церкви, будь то греческой, латинской, русской или армянской. Не понимает даже, откуда у ее народа странный обычай развешивать на священных деревьях деревянные кресты и приносить в их честь жертвы. Да, детей у них обычно крестят, но походя, речной водой. Не имея ни священников, ни епископов, они не знают, что есть грех и что есть Ад, не знают ни таинств, ни десяти заповедей, однако молятся Всевышнему, почитают родителей и старших, хранят верность своему слову даже ценою жизни, уважают священные законы гостеприимства, а женщин считают равными мужчинам – иначе говоря, больше походят на христиан, нежели сами христиане. Удивительнее же всего то, что они не знают письменности, не умеют ни читать, ни писать, и нет у них ни единой священной книги, Евангелия или Библии. Хотя, по правде сказать, читать и писать Лена тоже не умеет, обращаясь с расчетами и письмами к старому армянину.
Я понемногу теряю терпение, поскольку сиора то и дело забалтывается, упуская нить разговора. Лекция о привычках и обычаях черкесов меня нисколько не занимает: может, в какой другой раз я бы и записал эти рассказы в свою книжку, но пока хотелось бы вернуться к девушке. Как ее зовут? Кто она? Лена кладет на тарелку обглоданное крылышко и снова протягивает мне перепачканную жиром руку, демонстрируя одно из своих колец: вот как! На пухлом пальце я вижу потертое колечко попроще других, может, оловянное, с монограммой, состоящей из греческих букв: A I K. Даже не сняв его и не прочтя надпись, я догадался, что оно значит, и вопросительно произнес по-гречески имя: Екатерини?
Да, именно Катерина. Лена сразу узнала кольцо на пальце, такое же, как у нее самой, – никчемный оловянный ободок, грошовая безделушка, которую ей вместо причитающихся денег всучил несколько лет назад случайный клиент, мошенник-египтянин, некий Гульбедин, пообещав, что вернется с целой горой золота и драгоценностей, а сам вскорости сгинул, ввязавшись в затею настолько нелепую, что Лена даже не помнит точно, в чем она заключалась: кажется, раскапывал в поисках сокровищ какую-то могилу. Гульбедин сказал ей, что кольцо это волшебное, поскольку получено оно от монаха в одном пустынном монастыре, где хранятся мощи святой Екатерины и где безделушку эту опускали в каменный ковчег, касаясь нетленного тела, чтобы вобрать в себя его сверхъестественную силу.
Честно говоря, Лена не больно-то поверила египтянину, на которого до сих пор сердилась из-за упущенной прибыли, а подарок сохранила лишь из суеверия. Однако именно это колечко, не считая, конечно, креста, помогло ей разговорить девушку. Поначалу Лена пробовала расспрашивать путелу на почти забытом древнем языке своего детства, который сама освежала лишь изредка, когда в лупанарий привозили очередную девочку-черкешенку, да и то лишь пока обучала новоприбывшую азам ремесла. Но безрезультатно: девушка все так же пялилась в стену, либо не понимая, либо делая вид, что не понимает. Наконец Лена, углядев своими лисьими глазками знакомые буквы, взяла ее руку и поднесла к своей, чтобы оба кольца, оловянное и серебряное, оказались рядом, а потом, словно вдруг прозрев, выдохнула единственное слово: «Катерина?» Только тогда девушка обернулась.
Катерина. Вот, значит, как ее зовут. Имя, которым она, скорее всего, была крещена еще в своем родном краю, кольцо, подаренное бог знает кем, каким-нибудь отчаявшимся пилигримом, заплутавшим в этих диких горах… Злая шутка судьбы, ведь Катерина, наряду с Марией и Маддаленой, одно из самых распространенных имен, которые дают рабыням странствующие монахи при крещении. Но кто она? Откуда? Какого дьявола вообще делала в той роще? Зачем переоделась мальчишкой? Мне сразу вспоминается прочитанная в детстве кантари: а вдруг она воительница, вроде амазонок? Или ее история больше напоминает сюжеты о прелестной Камилле или дочери «Восточной царицы», что путешествовали, переодевшись в мужское платье, и только в самом конце архангел Гавриил превращал их в настоящих мужчин, чтобы женить на королевской дочке?
Лена с трудом сдерживает мое нетерпение: от долгой болтовни в горле у нее совсем пересохло, и она не может закончить отчет, пока чего-нибудь не выпьет. Приходится налить ей еще кубок драгоценного кандийского вина. Вино же следует сдобрить подливой: Лена макает в одну сковороду ломоть черного хлеба, а из другой берет пахучую пикантную колбаску и продолжает рассказ, то и дело впиваясь в нее зубами.
Так вот, эта самая Катерина, говорит она, в некотором роде принцесса. И протягивает мне сверток, что принесла с собой из комнаты. Я разворачиваю его, растягиваю ткань во всю ширину и вижу изумительный плат златотканого шелка с гербом-лилией, весь в грязных пятнах. Лена заметила его в куче одежды, так и оставшейся лежать в углу вместе с корсетом и сапожками. Должно быть, девушка носила его, накинув на плечи, как персидскую шаль. Бесценная вещь, сотни аспров – и то мало. Такие только принцессам впору. Будь Катерина рабыней, могла бы за один этот плат себя с потрохами выкупить: но она, скорее всего, этого не знает, как не знает и участи, которая ее ожидает.
В конце концов Лене, предварительно умаслив, успокоив и со всем своим профессиональным мастерством подержав нашу дикарку за руку, все-таки удалось ее немного разговорить. Речь сиоры Катерина разбирает, хотя и принадлежит к иному племени, очень гордому и воинственному, что живет в неприступных горах Кавказа и зовется кабардинами. К тому же племени принадлежит и князь Инал, который велел изгнать татар из долины реки Копа и преследовал их до самого побережья и стен Таны. Когда словами, когда жестами, поскольку Лена с трудом понимает этот язык, еще более гортанный, нежели ее собственный, Катерина рассказала, что родом она с высокой заснеженной горы и что приходится дочерью благородному Якову, военачальнику Инала, сильнейшему человеку их народа и всего мира. Чтобы доказать свою храбрость, она отправилась сражаться вместе с ним, отчего и была переодета мужчиной, но, схваченная франками, отца более не видела. Теперь же, во имя Всевышнего и священной силы чудотворного перстня, она умоляет благородную даму креста освободить ее и позволить беспрепятственно вернуться в горы, к отцу.
Вот и все. Лена осушает очередной кубок. Благородная дама креста, то есть она сама, обещала передать смиренную просьбу Катерины благородному хозяину дома, который, будучи одним из самых знатных и могущественных франков в городе, несомненно ее выслушает. В этот момент мне почему-то кажется, что меня водят за нос. Следующие часы Лена посвятила тому, чтобы выучить Катерину хотя бы нескольким словам по-венециански, и та, похоже, преуспела, поскольку девушка она явно смышленая и любознательная. Начали с приветствий: добрый день и добрый вечер, и даже просто чао, привет, опустив, впрочем, истинный смысл этого слова, который священник-нотариус однажды, смеясь, раскрыл своей любовнице, ведь чао происходит от скьяво, раб, а раб, в свою очередь, от склавус, латинского названия славян, поскольку в былые времена все рабы и слуги в Венеции были славянами, а Лене кажется не слишком изящным начинать изучение языка со слова, которое станет участью бедной девушки до конца ее жизни.
Урок продолжился самыми необходимыми для выживания словами и фразами, объясненными также и на языке жестов: маньяр и бевер, есть и пить, пан и аква, хлеб и вода, хотя Лена призналась, что предпочла бы вино, ти и ми, ты и я, омо, мужчина, дона, женщина, иначе тетка, баба, сиора, как именовалась она сама, девочка или девушка-путела, как называли Катерину. Затем Лена перечислила части тела, вскользь касаясь девушки, совершенно обнаженной под своей рубахой, в тех точках, которые называла: голова, очи, глаза, бока, рот, тета, грудь, и бикиньол, сосок, чтобы вскармливать молоком путело, ребенка; панса, живот, где путело растет, и мона, которая нужна, когда ложишься в постель с омо, чтобы завести путело; но если приходится работать, путело лучше не заводить. Наконец, еще несколько слов для описания действий, которые сиора считала самыми важными в жизни: базар, карессар, чучар, монтар, кьявар – целовать, ласкать, сосать, забраться сверху, трахать. Катерина повторяла все подряд, не понимая смысла, но так старалась произносить слова правильно и с нужным ударением, что Лена расхохоталась, обнажив гнилые зубы и вызвав наконец у девушки гримасу, которая могла сойти за улыбку.
Должно быть, Лена хотела рассмешить и меня, да только это было невозможно. Ее рассказ открыл мне глаза: я понял, что видел его, отца Катерины, величайшего воина Якова, – того убитого, что повис на двух березах. Я заглянул в глубину его глаз, уже покинутых жизнью. Катерина, конечно, не знает, но отец ее теперь свободен, той самой бесконечной свободой, которой человек может достичь, лишь преодолев заслон времени. Я могу отпустить ее на все четыре стороны, но отца она больше никогда не увидит. Да, таково мое решение: отныне Катерина свободна, уже завтра я провожу ее до стены, посажу на лошадь и отпущу. Короткой простой молитвой, которая наконец приносит мне покой, я вверяю души девушки, ее отца и бедного Тимура, пускай он и не крещен, хотя что это меняет, святой Екатерине, которой безгранично предан.
Запустив руку в блюдо с засахаренным миндалем, Лена явно порывается продолжить, но не знает, как прервать мое мрачное молчание, чем привлечь мой отсутствующий взгляд. Она вовсе не пьяна и сохранила голову ясной, но, даже просто посмотрев ей в глаза, легко угадать, о чем она собирается просить. Словно открытая книга. А ведь сейчас начинается самое сложное: уболтать этого инсеменио, тупицу Иосафата, чтобы позволил ей забрать Катерину с собой. Касаясь девушки, Лена внимательно все рассмотрела, и теперь Иосафат во что бы то ни стало обязан отдать этот лакомый кусочек ей. Ничего подобного для своего заведения Лена до сих пор отыскать не смогла. Катерина будет ее принцессой, королевой Таны, пилигримы станут стекаться к ней отовсюду, и с Востока, и с Запада. Лена воспитает ее, полюбит как дочь, всему научит, осыплет золотом, а со временем, глядишь, и освободит. Что до Иосафата, цену она дает как на духу, по справедливости. Договор завтра же скрепит ее сердечный друг, священник-нотариус. В конце концов, Лена ведь была более чем честна, и плат златотканого шелка, что дороже самой Катерины, вернула без спора, хотя легко могла сунуть под юбку, и аминь. Лучше бы, конечно, девчонку за так отдать. В крайнем случае Лена готова предоставить ему возможность время от времени ею попользоваться. За небольшой процент, разумеется, наличными или натурой. А Иосафат взамен может прийти и возлечь с ней, когда пожелает. Без всякой платы.
Я читаю это в ее глазах, хотя ни единого слова из своей тщательно продуманной речи на смеси венецианского с черкесским Лена произнести не успевает. И вовсе не потому, что я ее перебиваю, просто тяжелая деревянная створка окна в кухне вдруг хлопает от мощного порыва ветра. Слышны испуганные крики: «Эль фого, эль фого, ут, ут! Пожар, пожар, скорее сюда!» Я вскакиваю, опрокинув стол, и Лена со всем своим засахаренным миндалем оказывается на полу. Позабыв про сиору, златотканый плат и прочее, я бегу к двери. Снаружи столпотворение, люди, обезумев, носятся кто куда. В воздухе стоит едкий запах гари, горящий пепел и раскаленные обломки, падая на соломенные крыши бедняцких хижин и конюшен, немедленно вспыхивают новыми, еще более высокими очагами пламени. Ночь озарена ослепительным сиянием внезапного пожара, который охватил уже всю нашу часть города.
Из обрывочных фраз собравшейся толпы я понимаю, что пожар начался от старого базара и караван-сарая, ставшего обиталищем мытаря Коцадахута и всей его свиты. Консул вопит, что татарина нужно во что бы то ни стало спасти, не то хан обвинит в его смерти нас и сровняет город с землей, а всех людей казнит. Площадь, склады и лавки, кажется, в безопасности, как и причалы со стоящими на якоре кораблями: обширные пустыри и древние руины не дают пожару распространиться. Но огонь, подгоняемый порывами сухого ветра с севера, по-прежнему угрожает старому кварталу у самых городских стен. Говорят, двери караван-сарая уже завалило, и оставшиеся внутри люди обречены сгореть заживо, поскольку инструментов, чтобы пробить стену, в царящем вокруг мраке и хаосе попросту не найти, а других выходов из здания никто не знает.
Из караван-сарая слышны отчаянные крики. Женщин и детей пытаются спускать со стены на веревках, но веревки рвутся, и несчастные падают на землю. В этот миг на меня нисходит озарение. Молясь святой Екатерине, я предложил ей освободить путелу, и в благодарность сама святая придет на помощь мне и моему городу. Однажды я сделал ее восьмым партнером того злополучного предприятия в Контеббе, но где теперь ржавеют кирки и лопаты, которые мы брали взаймы, да так и не вернули? На складе позади моего дома, я ведь был на раскопках кургана главным. Орудия, предназначенные для того, чтобы украсть сокровища из гробниц, потревожив сон мертвых, для святотатства, которое святая Екатерина в справедливости своей предотвратила, могут теперь обратиться в орудия спасения.
Я бросаюсь за ними, раздаю людям, потом хватаю лопату и сам остервенело принимаюсь за работу, непрерывно выкрикивая: «Святая Екатерина, святая Екатерина», – пока в стене не открывается пролом, через которой мы вытаскиваем более сорока человек, успевших надышаться дымом и уже почти задохнувшихся, в том числе насмерть перепуганного Коцадахута, такого жирного, что он застревает в дыре и его приходится вытягивать наружу силой, обдирая кожу.
К рассвету пожар потушен. Мой дом тоже удалось спасти. Назад я возвращаюсь измотанный, все в той же рубахе, штанах и сапогах, перепачканных двухдневной грязью. К палитре красок на моем лице добавились чернота сажи и алые, налитые кровью глаза, жуткие, как у великана Рончильоне из «Восточной царицы», если не хуже.
Дверь не заперта. Странно. Я кричу, но никто, даже верный Айрат, не отвечает. Ковыляю в сторону зала, где на столе до сих пор лежит недвижное тело Тимура, только мух стало еще больше. Но предназначенного для него деревянного ящика на полу я не вижу. Драгоценный шелковый плат и сундучок с золотом тоже исчезли. Сил у меня хватает только на то, чтобы дойти до комнатки, где была заперта пленница. Засов выломан, дверь нараспашку. Внутри никого, в углу – ни одежды, ни сапожек. Я открываю рот, чтобы закричать, но силы оставляют меня, я падаю, и в голове проносится последняя мысль: Катерина сбежала.
3. Термо
Берег реки близ Таны, июль 1439 года, четвертая стража ночи
Ястою на корме, руки на фальшборте. Глаза полузакрыты: звуки, знаки и запахи, поднимающиеся от реки вместе с теплом и сыростью, я улавливаю другими органами чувств. В тумане, сквозь который едва пробиваются отблески затянувшихся сумерек, мерцает вдали багровый огонек – фонарь, с которым обходит городскую стену стража. Два-три других фонаря покачиваются на мачтах кораблей, застывших у причала или на якоре, в укрытой от ветра и волн речной заводи. Под аркой ворот со львом святого Марка тоже горит фонарь: тяжелые деревянные створки должны быть заперты, но, похоже, только прикрыты, а разводной мост и вовсе пока опущен. Два солдата, сидящие на каменной приступочке, ждут отплытия корабля, единственного события, способного развеять скуку этого слишком уж тихого вечера.
Река плещет почти бесшумно, огибая борта корабля. Его корпус чуть подается в сторону причала, словно желая насладиться объятиями, но тут же пятится, удерживаемый негромко поскрипывающими канатами. В редкий миг тишины слышен звон колокола церкви Санта-Мария. Четвертая стража ночи. Ветер из степи может подняться в любую секунду и тут же усилиться до шквалистого. Нужно готовить паруса и весла, чтобы, отдав концы и подняв якоря, как можно скорее выбраться на середину великой черной реки и, поймав течение, мчаться прямо к морю.
Я оборачиваюсь, оглядывая корабль. Мой корабль. Эти белин, кретины-венецианцы, зовут его гриппарией, но для меня он нечто гораздо большее: словно живой человек, словно любовница, моя женщина. Я не задумываясь вверяю себя ей, ее деревянным рукам, гриве канатов и пропахших солью парусов, прихотям всевозможных существ, обитающих вокруг нее: чаек и цапель в небе, рыб, резвящихся под килем, людей, что горбятся у нее на спине или в утробе. Я зову ее по имени, занесенному в бумаги коммеркиариев, сборщиков податей, в учетные книги купцов, – «Святая Катерина», та, что с колесом: грубо вырезанная из дерева носовая фигура, грошовая греческая иконка, прибитая над дверью моей каюты… Но для меня она просто Катерина, потому что так легче возносить ей молитву, а еще потому, что моей команде, собранной из язычников и вероотступников, нелегко уяснить концепцию женской святости и нерушимого целомудрия.
Гребцы, сидящие на скамьях, разделенных длинным центральным мостиком-куршеей, сушат весла. На палубе, на снастях, в вороньем гнезде застыли, словно черные кошки в ночи, почти неразличимые тени – это матросы ожидают кивка или возгласа капитана, готовые к любому маневру, от якорей до канатов.
И вот наконец я чувствую легкое дуновение: оно холодит узкую полоску кожи между вечно встрепанными волосами и рыжеватой бородой, заставляет вздрагивать ванты и шкоты. Стоит поднять руку, как двое матросов на пристани хватаются за носовой и кормовой концы, по-прежнему привязанные к проржавевшим тумбам. На носу начинают потихоньку выбирать с илистого дна якорь. Корабль едва заметно вздрагивает под ударом течения, врезающегося в него со стороны кормы. Еще пара минут – и ветер усиливается. Он катит с севера вдоль русла великой черной реки, унося прочь последние клочья тумана. Над верхушкой мачты видно усыпанное звездами ночное небо, освещенное на востоке выглянувшей полной луной. Гладь воды покрывается мелкой рябью, в которой отражаются сотни крохотных серебряных лун.
Я уже готов опустить руку, когда чувствую странный, неожиданный запах и закрываю глаза, принюхиваясь. Пахнет огнем и чем-то сухим, вроде соломы, прошлогодней стерни или хвороста, что горит легко и сгорает в одно мгновение. Вновь открыв глаза, я вижу над стеной языки пламени, подхваченные внезапным порывом ветра. Похоже, это не возле реки: треск полыхающего дерева приглушен, словно доносится издалека. Огонь лижет высокую башню в южной, застроенной бедными лачугами и хижинами-развалюхами части города, где находится старый караван-сарай, отданный сейчас татарам. Багровый фонарь, что двигался вдоль стены, скрывается в темноте. Солдаты у ворот, привлеченные криками, тоже исчезают, позабыв захлопнуть створки. Пламя поднимается все выше, вздымая к небу фантасмагорию искр; подхваченные ветром, они несутся сквозь колышущееся марево и звездным дождем осыпаются вниз.
Тут я замечаю, что по-прежнему стою, как белин, с поднятой рукой, и машу своим людям, приказывая остановиться. Нужно понять, что происходит, хотя я осознаю смертельную опасность, грозящую кораблям и лодкам, что пришвартованы у причалов или стоят на якоре в тихой заводи. С наветренной стороны от города мы в безопасности, но огненному вихрю ничего не стоит швырнуть клубок раскаленных искр и в нашу сторону, а уж те в мгновение ока вцепятся в паруса и деревянную обшивку… И все же я не могу оторвать глаз от чудовищного зрелища – пожара, пожирающего целый город.
Из оставленных без присмотра ворот крадучись выходят три темных силуэта. Похожи на татар. Один из них оглядывается, словно проверяя, нет ли у входа или на стенах солдат. Двое других спускаются следом за ним к кораблю, волоча нечто похожее на сундук. Все трое вооружены. Один из моих матросов на причале, не выпуская каната, инстинктивно хватается за рукоять ножа, заткнутого за пояс. Троица останавливается, их предводитель тихо, будто не хочет, чтобы его услышали за стеной, зовет капитана, машет рукой, просит спуститься, словно у него есть для меня что-то важное.
Я со скучающим видом схожу на причал. Со мной двое арбалетчиков – подозрительной троице доверия нет. В сумраке узнаю фигуру Айрата, недостойного слуги того странного, ряженного татарином венецианца, Иосафата Барбаро по прозвищу Юсуф, поставщика значительной партии икры и рыбьего клея, загруженной в мой трюм по поручению Джованни да Сиены, тосканского купца, много лет назад обосновавшегося в Тане. Вчера мы втроем позволили Франческо да Валле втянуть нас в злополучную охоту на черкесов, чтобы без посредников и пошлин добыть себе рабов. Как мог я отказать Франческо? Он ведь младший брат Дзуана, моего товарища в годы каспийских походов, такого же сукина сына, как и я, который в последнее время занялся разведением осетров и засолкой икры.
Вчерашняя охота вышла нелегкой, часть пленников отчаянно сопротивлялась, а остальные разбежались. В итоге мне достались только двое, и это еще неплохо, поскольку ни одного из четырех арбалетчиков, отправившихся со мной на баркасе, я не потерял ни убитым, ни раненым. Вместе с двумя другими лодками мы поднялись до устья речки, возле которой располагались роща и лагерь черкесов. Когда охота закончилась, именно я привез на своем баркасе два десятка пленных и запер их в принадлежащем Франческо складе на берегу, у самой стены. А вот Иосафату не повезло: он потерял двух слуг и того юношу, сына знатного татарина, поговаривали даже, ханского родственника.
Когда к вечеру Франческо притащил на склад новую добычу, пойманного в зарослях камыша на болоте полуобморочного мальчишку, с ног до головы перепачканного грязью, я сразу предложил оставить его Иосафату, а также дать ему право первым выбрать рабов, что ему причитались. От себя же попросил лишь сделать милость поторопиться. Мой корабль уже был загружен, и я должен отплыть как можно скорее, иначе со всеми остановками, намеченными по берегам Великого моря, мне никогда не добраться до Константинополя. Нет смысла тратить время, оплакивая мертвых: тот, кто ушел, уже ушел, а живым должно заботиться о живых. Но сегодня я напрасно прождал все утро на складе. Иосафат так и не появился, и прочие партнеры поделили рабов без него. Своих я отвел на корабль и привязал в кормовом трюме, возле бочонков с икрой. Икра – товар ценный. Как, впрочем, и рабы.
Чего хочет от меня этот негодяй Айрат? Не иначе Иосафат прислал. Вот только одно странно: татарин словно чем-то встревожен, торопится, оглядывается то на стены, то на ворота. Да и потом, сама ситуация – верх абсурда: мы на корабле, готовом к отплытию, попутный ветер скрипит в снастях, кругом вспышки огня, пожирающего город… Но тут Айрат ставит ящик на причал и, вынув из-за пояса нож, снимает крышку. Внутри я с удивлением узнаю скорчившуюся фигурку мальчишки-черкеса. Он в той же грязной одежде, что и накануне, связан и с кляпом во рту. Глаза закрыты – кажется, без сознания. Зачем его так таскать? В ящике ни единой щели для дыхания нет: годится скорее для покойника, чем для живого. Может, Иосафат хочет продать мне мальчишку, но тайно, не привлекая внимания стражи? Или… У меня закрадываются подозрения, и подозрения эти переходят в уверенность, когда Айрат с кривой ухмылкой протягивает ладонь, словно прося награду. Верный раб предал и ограбил своего господина, как поступил Иуда с Господом нашим. И что мне теперь делать? Связать, передать страже? Но где та стража? А если откажусь, что тогда будет с мальчишкой? Зарежут и бросят на болотах, чтобы не задерживал бегство похитителей? Или продадут в рабство в каком-нибудь татарском стане, что может быть куда хуже смерти?
Весь город полыхает, а на берегу никого, только на других кораблях поднялась суматоха: отвязывают канаты, пытаются отойти в безопасное место. Молча бросив на Айрата холодный, острый, как лезвие, взгляд, я отвязываю от пояса кошель и бросаю к его ногам. Несколько серебряных монет высыпаются на причал, сплошь разносортица: аспры из Таны, Каффы и Трабезонда. Я не считал, сколько там, может, цехинов пять наберется, но какой бы ни была сумма, это все равно тридцать сребреников Иуды. Слуга с жадностью бросается подбирать монеты, потом разворачивается и исчезает вместе со спутниками во тьме под стеной, куда не достает свет луны.
Я склоняюсь над ящиком, беру своими ручищами этот невесомый сверток и снова поднимаюсь на борт. Новый груз «Катерины» осторожно кладу на пол каюты, обвязав запястья цепью, что свисает с железного кольца на стене, потом навесив замок. И уже собираюсь уходить, когда замечаю, что мальчишка пришел в себя. Он тяжело дышит, щурится. Нагнувшись, я шепчу ему всего два слова на том, что считаю его языком: апщий, нэгуа, не дергайся, отходим. Мальчишка смотрит на меня, кажется, понимает и успокаивается.
Выхожу, запираю дверь. Полная луна очерчивает контуры моего тела. Я вскидываю руку, потом с резким криком ее опускаю. Через несколько мгновений якоря, канаты и сходни втягивают на борт, и корабль, подхваченный течением, отходит от пристани. Начинает бить барабан, гребцы опускают весла, рулевой налегает на румпель, чтобы сразу выйти на середину реки, матросы присели у основания мачт, готовясь лезть на ванты.
Четверть мили спустя рулевой, обернувшись ко мне, кивает: идем по фарватеру, течение подгоняет корабль, северный ветер дует в корму. Если не стихнет, скоро не то что до устья – до самого мыса Тар-Маньо[27] доберемся. Правым галсом, разумеется, как я и предполагал. Мне достаточно выкрикнуть пару команд, и матросы, забравшись на ванты, уже тянут фалы: реи взмывают в небо, невидимая рука ветра расправляет огромные треугольные паруса, словно поднимая корабль над невысокой речной волной. На главной мачте разворачивается славное белое знамя с красным крестом святого Георгия. Подобно крылатому грифону, «Катерина» летит на жемчужно-лунных парусах, и за ее кормой исчезает то, что навеки запомнится мне крохотным адским городком, пылающим в кругу своих стен и закопченных башен.
Из «вороньего гнезда» слышен крик: значит, уже заметили край косы, песчаным языком вытянувшейся далеко в море. Солнце в зените, должно быть, прошел уже час шестой[28]. Я не спал всю ночь, но, сменив на рассвете усталого рулевого, лишь недавно вернул ему румпель и стою теперь на корме, подставляя лицо ветру и щурясь на ярком солнце. Поглаживаю фальшборт, довольный своей Катериной и тем, как прошла ночь. Я уже не помню, чтобы ветер и волны в Забахском море были ко мне столь благосклонны: может, святая с колесом и в самом деле помогает нам из того невидимого рая, где она живет вместе со своим мужем, нашим Господом; этой святой даже не нужно молиться вслух, она умеет читать в людских сердцах и прекрасно понимает, что значит для меня это плавание.
Миновав устье реки, мы до самого Казале-деи-Русси, Деревни русов[29], чувствовали зловонный запах гари, который, казалось, преследовал нас. В открытом море ветер усилился, слегка изменив направление, и нам пришлось взять к нему круче, вдоль плоского и мрачного берега Лисьего острова, Кабарды[30], до самого устья Красной реки, и только потом повернуть на юг, чтобы пересечь залив. Ветер, который еще в первые утренние часы дул что есть силы, к вечеру понемногу ослабел, но не сменился. Полная луна сопровождала бег корабля, сперва поднявшись над ним, потом обогнав и, наконец, умчавшись вперед, как безмолвный проводник, указывающий путь на запад. В безоблачной ночи мерцали звезды.
Не считая плеска рассекаемой килем воды, слышно было только размеренное шлепанье весел да ритм барабана, неспешный, вполне достаточный, чтобы поддерживать движение «Катерины», напоминая ветру, какое значение имеют мускулистые руки мужчин и их голоса, выдыхающие старый боевой клич: «Арираха, арираха!» Барабан не смолкал всю ночь, то заставляя поднажать, то давая желанный отдых. В пересменках гребцы ненадолго растягиваются на палубе, одни опорожняют кишечник и мочевой пузырь с выдвинутой за борт доски, другие умываются, протирая мокрой тряпкой лицо и тело до пояса, третьи жуют размоченные поваром в морской воде сухари и вяленую селедку. Кое-кто прикован цепями, хотя в назначенное время я по очереди отпираю и эти замки. Из восьми скамей лишь на двух последних по одному гребцу: вот и местечко для пары новичков, прикованных сейчас в трюме возле бочонков с икрой. Этим, как и всем остальным, тоже придется отработать проезд. С ними команда будет в сборе: шестнадцать человек с каждой стороны, по двое на каждом длинном весле.
Да, все мои гребцы – рабы. Моя собственность, как и Катерина. Но, как и Катерина, они вовсе не вещи, а живые люди, равные мне, с той лишь разницей, что я приказываю, а они подчиняются. Они даже не хозяином меня считают, а вожаком. Мы в одной лодке, переживаем и избегаем одних и тех же опасностей. С вольнонаемной командой у них нет разницы ни в сменах, ни в пайках – все едят одно и то же: рабы, я, матросы, арбалетчики, рулевой, писец, цирюльник. Для тех, кто помоложе, я практически отец, ведь собственные отцы продали их мне за пшеницу и просо, чтобы снова засеять сожженные и вытоптанные татарами поля и пережить голодную зиму, а я, приняв из их рук детей, поклялся воспитать их в аталычестве как своих собственных. И с тех пор обращался с ними как с сыновьями, вознаграждая у всех на глазах или лично задавая кнута, чтобы не доставлять им дополнительного унижения быть выпоротыми кем-то другим.
Я никогда не расплачивался ими, никогда не выбрасывал на улицу, не перепродавал без их на то согласия. И ни единого документа о покупке у меня нет: ненавижу бумаги и писанину, это все обман. Через год я обычно снимаю с них цепи, и никто еще не сбежал. Через три-четыре предлагаю выбор: вернуться к своему народу, быть проданным в Египет, чтобы сделать там карьеру воина-мамлюка, или получить свободу и остаться со мной. Некоторые остаются, предпочитая иметь меня своим вожаком. Но теперь я знаю, что дальше так продолжаться не может, что моя морская жизнь подходит к концу. Это путешествие – особое. Тайна тяжким грузом давит на сердце. И до прихода в Константинополь я никому ее не раскрою.
Все мои гребцы – рабы, и все – черкесы. Редко кто захвачен в бою или приобретен у одного из тех мерзких торгашей, что наводняют прибрежные города. Вот уже почти двадцать лет я выкупаю их у их собственных семей в аулах Таманского полуострова, обменивая на продукты, ткани, серебряные чаши; или на базарах Орды, от Таны до Сарая, где то и дело нахожу до смерти перепуганных, прикованных к повозкам мальчишек, которые тоскливо глядят вслед рыжебородому великану, проезжающему верхом по раскисшей дороге, и умоляют забрать их с собой. Я много таких накупил для синьора Матреги, что в проливе, а тот, наплевав на папский запрет, почти всех отправил в Египет, предоставив мне право выбрать кого захочу себе в команду. Они принадлежат к самым разным племенам: натухаям, шапсугам, бесленеевцам, кабардинам, хотя каждый гордо зовет себя адыгом; зачастую они даже не понимают друг друга – еще бы, этого проклятого языка и черти в аду не поймут. А я вот, да, приноровился его разбирать, даже говорю, насколько могу, и все благодаря женщине. Моей женщине.
Когда меня впервые послали в глубь страны, то в жалком, изглоданном болотной лихорадкой ауле Натухай к северу от Мапы[31] местный староста, тощий и бледный одновременно от голода и болезни, предложил мне свою дочь и мула в обмен на пшеницу и арабского жеребца, на котором я приехал. Честный обмен, сказал он: мул на пшеницу, дочь на лошадь. Мул, ходячий мешок с костями, и гроша ломаного не стоил, зато сидевшая на ковре в полумраке хижины девушка, белокожая, с волосами цвета воронова крыла, зелеными глазами и гордым взглядом, какой обычно бывает у черкесских женщин, мигом меня зачаровала. В Мапу я вернулся пешком, и за мной тянулась цепочка связанных юношей в сопровождении нескольких стражей, а следом ковылял изможденный мул, на котором восседала скрытая покрывалом девушка.
Девушка эта давно стала женщиной и живет теперь со мной и тремя нашими дочерьми в маленьком домике в Галате, что отделена от Константинополя бухтой Золотой Рог. Ее зовут Даканэудзыфэ, что значит «зеленоглазая красавица», но я зову ее просто Дака, Красавица. Именно туда, в Галату, я привез ее с дочерьми вот уж больше десяти лет назад, с тех пор как бросил непостоянную кочевую жизнь, именно туда я следую с Катериной, как следуют за своей путеводной звездой мореходы на недолгом земном пути. До встречи с ней моя жизнь была лишь гонкой, беспорядочной и бесконечной; теперь же она – возвращение. Я так и не освободил свою Даку, не женился на ней, но в этом нет нужды: на что нам попы да крючкотворы-нотариусы? Сказал же: ненавижу бумаги и писанину! Мы живем вместе, я – ее мужчина, она – моя женщина, что нам еще нужно? Как и дочери, она изъясняется на какой-то жуткой смеси генуэзского с левантийским диалектом греческого, но чудной язык ее родины – по-прежнему наша тайна. Даже сейчас, сколько бы раз я к ней ни возвращался. Именно в нем я найду слова, чтобы сказать то, о чем она пока не догадывается.
Огибая мыс, я даю сигнал вытравить шкоты и спустить реи. Корабль не сбавляет хода, поскольку гребцы дружно налегают на весла, а рулевой – на румпель, чтобы, описав широкую дугу, миновать песчаную банку. Оказавшись по ту сторону, мы направляемся в спокойную бухточку у самого устья реки. По моей команде гребцы сушат весла, и корабль идет сам по себе, понемногу замедляя ход и покачиваясь на волнах. Лот показывает меньше трех локтей: вроде мелко, а дна не видно. В этом море, смахивающем скорее на мутное болото, всегда так. Мы немедленно бросаем носовой якорь, и корабль разворачивается, замерев менее чем в двух сотнях шагов от песчаного берега. Следом, гремя цепью, падает и его кормовой близнец.
Матросы, расслабленно напевая, драят палубу. Сперва побережье кажется совершенно безлюдным, лишенным всякого человеческого присутствия, но через некоторое время на гребнях дюн возникают темные фигуры. Они не выглядят угрожающими: женщины и дети, пара овец, мешки да амфоры – должно быть, явились в надежде, что у моряков, которые завели привычку латать в этой тихой заводи свои корабли, товары можно на что-нибудь выгодно сменять. Спустив баркас, я отправляю на берег повара с несколькими матросами, вооруженными ножами и копьями: не мешало бы нам сегодня развести костер и зажарить барашка-другого, к тому же матросы знают, что часть местных женщин тоже останется возле костра пить с ними из одних кубков aqua vitae, после чего они вместе скроются в дюнах. Кто-то, понимая, что женщины следят, раздевается донага и ныряет с борта в воду; гребцы, закрыв глаза, растягиваются на скамьях; тщедушный писец в черном возмущается, что свернули навес от солнца, ведь яркий свет так ему мешает, но гребцы с загрубелыми, потрескавшимися ладонями только посмеиваются, и в итоге команда остается валяться на спине, брюхом кверху, наслаждаясь послеполуденным жаром раскаленного добела диска.
Мы со старшиной гребцов спускаемся в трюм, чтобы осмотреть новоприобретенную парочку рабов, и застаем обоих скорее мертвыми, чем живыми, повисшими на цепях, перепачканными в рвоте и экскрементах. Как всегда. Не считая нескольких приморских племен, черкесы – горцы и до смерти боятся то загадочное, поблескивающее нечто, которое видят с вершин своих заснеженных горных хребтов, называя хи, морем. Они даже представить себе не могут, что это крохотное внутреннее море – ничто по сравнению с необъятной бездной воды, которая окружает все прочие земли мира. Оба парня по-прежнему в тех же рубахах и штанах, что и два дня назад, продранных, перепачканных грязью, без поясов и сапог: их татары крадут в первую очередь. Я поручаю новичков старшине гребцов: пускай выведет их на солнышко, разденет донага, хорошенько отмоет, накормит и напоит. Впрочем, тот и сам прекрасно знает, что делать. Потом я взбираюсь по трапу к своей каюте.
Мальчишка лежит там, где я оставил его ночью, свернувшись калачиком прямо на досках. Спит. Мне не к спеху, и я решаю ненадолго прилечь. Каюта тесная, потолок низкий, с моим ростом приходится пригибаться, чтобы не биться головой: по сути, просто грязное, вонючее логово, где можно немного вздремнуть, накрывшись плащом. Сквозь полуприкрытую дверь проникает солнечный луч. Я, закинув руки за голову, разглядываю мальчишку. Лица не видно, прячет под отставленным локтем. На затылке накручено нечто вроде тюрбана, из-под которого торчит прядь светлых волос. Темно-зеленый бешмет, по-видимому, неплохой выделки, таким сукном не побрезгует даже самая благородная черкешенка. Разумеется, ни ремня, ни сапог.
Он вполне может быть юношей знатного рода из какого-нибудь горского племени, даже диких и свирепых кабардинов, что объяснило бы его вчерашнее отчаянное сопротивление. Что же с ним делать? Наверное, стоит обсудить это с синьором Матреги, когда туда доберемся. Но сперва нужно посмотреть, каков он собой, взглянуть в лицо, поговорить немного. Я не тороплюсь, ограничившись пока тем, что развязываю узел кляпа: пусть вздохнет свободнее. Оставляю его спать, а сам, как есть, не снимая порыжелой кожаной куртки и сапог, снова заваливаюсь в койку, мне ведь тоже нужно отдохнуть, но глаз не закрываю. Снаружи доносится жизнерадостный хохот матросов.
Наконец слышу движение и тихий звук, похожий на стон. Мальчишка пошевельнулся, чуть приподнял голову и смотрит на меня огромными голубыми глазами. Сильно напуганным не выглядит: похоже, ночь он провел совсем не так, как двое других. Скорее любопытным, словно пытается понять, где находится и как оказался здесь, в этой движущейся хижине, и кто этот рыжий великан, наблюдающий за ним с койки напротив.
Я сажусь, произношу несколько слов на его языке. Успокаиваю, мол, он среди друзей, никто не хочет его обидеть. Сейчас он должен раздеться, выйти за дверь и помыться, потом я дам ему погрызть сухарей, а вечером будет еще лучше: нас ожидает жареный барашек. Не уверен, что мальчишка, который внимательно слушает, хмуря брови, все понял правильно, но, думаю, и этого достаточно. Он открывает рот, будто хочет что-то сказать, но тут же осекается и умолкает. Я поднимаюсь, отпираю ключом замок на цепи, потом снова сажусь, на всякий случай не сводя с него глаз.
Он с трудом, пошатываясь, встает, прислоняется к переборке. Делает глубокий вдох, будто хочет наполнить легкие запахами и ароматами, каких еще никогда не чувствовал: соли, наросших лишайников и полипов, дерьма на обшивке, вяленой рыбы, едкого мужского пота, мочи, мокрого дерева. Потом начинает медленно раздеваться. Развязывает тюрбан, высвобождая гриву светлых волос. Роняет на пол бешмет, за ним рубашку. И только тогда я вижу нечто необычное, что сразу узнаю, поскольку уже видел это много лет назад на теле моей женщины, Даки, в первую ночь, когда раздел ее: наспех завязанный кожаный корсет на жестких ребрах. Но прежде чем я успеваю собраться с духом и заговорить, упредив следующее движение, узел развязывается. Корсет падает на пол, и небольшие грудки, до сих пор прижатые к телу, трепеща, вздымают вверх торчащие соски.
После секундного молчания, которое кажется вечным, я жестом велю девушке снова надеть корсет с рубашкой и сесть на табурет в самом дальнем углу каюты, дверь которой тщательно закрываю. Повисает тишина. Тогда я снова принимаюсь за расспросы: кто она? Как ее зовут? Почему переодета мальчишкой? Откуда взялась и какими судьбами очутилась там, где быть не должна? Тут я осекаюсь, потому что девушка явно за мной не поспевает, не понимает смысла фраз: может, я где-то не так выразился, а может, она просто напугана, я ведь, как в раж войду, совсем не похож на доброго великана. Сделав глубокий вдох, замечаю у нее на пальце маленькое серебряное колечко, одно из тех, какие видел на пальцах русских паломников, возвращавшихся из Святой земли, достаточно смелых, чтобы совершить долгий переход через пустыню до отдаленного монастыря под священной горой, посвященного моей святой, святой Екатерине. Чуть понизив голос, я спрашиваю: «Катерина?» Она кивает.
Я указываю ей на иконку, приколоченную над дверью. Катерина склоняет голову, полузакрыв глаза, словно в безмолвной молитве. Значит, должна быть христианкой и крещеной, пускай и как все эти черкешенки, точнее, как моя женщина Дака, которая всякий раз встает на колени перед крестом, хотя и не понимает зачем; которая ни разу не была в церкви и не знает ни единого таинства; которой даже «Отче наш» выучить не удалось, не считая слов про panem nostrum[32]: впрочем, в таких вещах и я не особенно разбираюсь, к тому же на «Святой Катерине» с ее командой вероотступников толку от них немного.
Значит, Катериной звать. Как мой корабль. А меня – Термо, и я, похлопывая себя по груди, говорю: Термо, ми – Термо, ти – Катерина. Она понимает сразу, повторяет: ми – Ектрини, ти – Трмо. Нет, поправлю я: Термо, Термо из Сарцаны. Хотя сойдет и Трмо, пусть произносит как хочет, не важно. Но вот она – никакая не Ектрини, а Катерина. Так зовут корабль, который сейчас дает нам приют и защиту. И так же, Катаиной или Катаинеттой, зовут мою старшую дочь где-то там, в маленьком домике в Галате.
Потом мое широкое, открытое лицо мрачнеет. Путь, который мы сегодня начали, долог. Дней тридцать, если повезет, а то и больше. Как мы потащим с собой эту Катерину? Где поселим? Нет, ей с нами нельзя, на корабле нет для нее места. Доставлю ее синьору Матреги, а уж тот, если захочет, освободит и вернет родичам. Или перепродаст. Или оставит при себе. Пускай сам решает. Я гляжу на нее, снова затянутую в корсет, и понимаю, что кое-какие моменты не терпят отлагательств. Объясняю, что она должна по-прежнему одеваться мальчишкой, тогда ее секрета никто не узнает. Ты мальчишка, гарсон, и тебе пора подстричься. К моему изумлению, она схватывает на лету, будто ничего другого и не ждет: подходит ближе, склоняет голову. Несколько взмахов бритвы – и я обрезаю ей волосы, превращая в белобрысого сорванца. Отныне буду звать ее Тайнин, и никто не поймет, что под этим именем скрывается Катерина.
На рассвете, едва я почуял, что ветер сменился на западный, «Святая Катерина» снова вышла в море. Днем пришлось запереть Тайнин в каюте, подальше от любопытных глаз. Для пущей уверенности я нацепил ей на руку железный браслет, только цепь стравил подлиннее, чтобы дать ей свободу передвижения. Заодно предпринял попытку вычистить и заправить койку, чего не делал уже много лет: даже вынес на палубу старый, кишащий блохами тюфяк, под которым обнаружился выводок мышат. Мышата с громким писком улизнули сквозь щель в полу, которую я, обратив в бегство еще и пару-тройку блестящих бурыми спинками тараканов, тут же заколотил. На новой дощатой койке я устроил для Тайнин постель, пухлый холщовый мешок, набитый соломой, а в углу поставил отхожее ведро. Вечером принес ей тарелку баранины, зажаренной на вертеле, и кубок с вином, почему бы и нет, только разбавил посильнее. На берегу еще горланили песни у костра матросы, а пара цыганок танцевала, разжигая блеск в их глазах.
Пока изголодавшаяся Тайнин расправлялась с мясом, я снова запер дверь. Никто не осмелился мне возразить, я ведь как-никак владелец корабля и всего, что на нем есть. Каждому было ясно, что юный узник – ценная добыча: грести ему не по чину. Один лишь назойливый писец, деливший крохотную каюту с цирюльником, открыл было рот, но заметил свирепый взгляд капитана, и вопрос застрял у него в глотке. Дождавшись возвращения команды, я остался с рулевым смотреть на звезды, пока из тумана над болотами не вынырнула алая луна, а после растянулся на тюфяке возле руля, кутаясь в плащ и собственные мысли.
На третий день плавания, при том же попутном ветре, «Святая Катерина» наконец обогнула Капо-делла-Кроче, Крестовый мыс[33], оставив генуэзскую колонию Воспоро[34] по правому борту, по ту сторону пролива. Под парусом здесь идти нелегко, ветер дует поперек пролива, от мыса к мысу, и приходится довольствоваться одними веслами, что взлетают и опускаются под мерный рокот барабана и резкие звуки волынки. Берега Тамани тревожно изломаны, изрезаны трещинами и наплывами, реликтами извержений древнего вулкана. Моряки их побаиваются, говорят, там водятся призраки. И в самом деле, на закате среди болот можно увидеть загадочные огоньки. Только это не призраки, а лужи черного масла, которое хлещет из земли: византийцы использовали его для своего самого страшного оружия, греческого огня.
Миновав серые клубы дурно пахнущего пара, корабль входит в порт Матреги. На рейде, кроме нескольких небольших торговых суденышек, несколько военных и вестовых кораблей, фуста, две шебеки; изящная галея со штандартами с гербом синьора Копы[35] швартуется прямо перед нами. Я от всего сердца салютую генуэзскому флагу, реющему над самой высокой башней. Здесь ключ ко всему проливу, через который мудам венецианцев любезно разрешают проходить в сторону Таны. За стеной, крепкой, надежной, хотя и не такой мощной, как в Каффе или Солдайе, я вижу колокольню собора, а на соседнем, чуть более высоком холме – несколько строгих башен, окружающих донжон и крытую галерею с видом на море: замок синьора, жилище моего покровителя и друга, мессера Симоне де Гизольфи. «Святая Катерина» подходит к пристани, где я намереваюсь провести следующие две ночи. Из ворот Святого Георгия уже выбегает гонец, он приветствует меня от имени своего господина и приглашает завтра на пир в замок.
Я этого ожидал, поскольку месяц назад обещал Симоне навестить его на обратном пути. Только Симоне и знает, что значит для меня это плавание. Теперь же мне придется доверить ему не одну, а сразу две тайны и рассказать о новом пассажире «Святой Катерины». Как только он согласится, я сведу Тайнин на берег и оставлю ее Симоне. А пока я отпираю каюту и протягиваю ей ароматный просяной пирог, который один из матросов только что купил у женщин на пристани. Наверное, у меня на лице написано, как не хочется держать ее взаперти, но так лучше для всех. Да и потом, кажется, Тайнин не слишком расстроена сменой обстановки. Тщательно вымывшись в лохани, куда я наносил воды, оттерев кожу мылом, которое я ей оставил, теперь она, должно быть, отдыхает, восстанавливает силы. Похоже, крен, качка и смены галсов не доставляют ей неудобств, потому что никаких признаков рвоты нет, а ни окнами, ни иллюминаторами каюта не оборудована. Впрочем, Тайнин обнаружила, что в обшивке есть щель, и во время плавания приникает к ней, зачарованно вглядываясь в бесконечную синеву до самого горизонта, а потом садится на пол, и каюта превращается в камеру-обскуру, на темную дощатую стену которой проецируется, расширяясь, пучок света и кружатся в танце разноцветные звездочки.
Под койкой, где раньше было мышиное гнездо, Тайнин обнаружила старую пергаментную книгу, весь обглоданный незаконными обитателями этой дыры каталонский портулан, который я потерял много лет назад, и умоляюще вскинула глаза, прося разрешения взглянуть на него и поиграть с ним. Разрешение было ей, конечно, немедленно дано, причем с улыбкой, поскольку Тайнин понятия не имеет, зачем нужен этот кусок овечьей кожи, раскрашенный синим, зеленым и охрой, да еще с таким количеством прямых и кривых линий, постоянно пересекающихся друг с другом, поверх которых в ряд нанесены какие-то темные значки. Однако она сознает и принимает, что фигуры, нарисованные на концах этих линий, – это башни и стены городов, короли, императоры, султаны и халифы, восседающие в высоких креслах или на узорчатых коврах, лошади и рыцари, верблюды, груженные огромными вьюками, а на бескрайних синих лугах, наряду с драконами и ужасными чудовищами, встречаются странные продолговатые твари с множеством тонких ног, как у сороконожек, или другие, с круглыми брюшками, воздевшие к небу руки с белыми треугольниками или квадратами, а то и знамена со львами, крестами и полумесяцами.
Да, бумаги и писанину я ненавижу, что правда, то правда, но этот портулан люблю. В нем нет ни капли обмана, привычного для нотариусов и торговцев, он начерчен самой жизнью, кровью и опытом тех, кто плавал задолго до меня, пусть даже со временем мне и стало понятно, что мир, не нанесенный на карту, куда больше и страшнее, неизведаннее и чудеснее. Вот что я, наверное, хотел бы сказать сейчас Тайнин, я, который никогда ничему не учился и ни на одном языке гладко говорить не умеет. Но уже ночь, а завтра мне, скорее всего, предстоит оставить Тайнин кому-то другому. И лучше бы больше об этом не думать. Я запираю дверь каюты и снова засыпаю под звездным куполом, глядя на тусклые огоньки Матреги.
Колокола собора отбивают час шестой.
Проследив за погрузкой партии драгоценного воска, предназначенной для Трабезонда, я вверяю корабль и ключ от своей каюты рулевому, прошу принести юному пленнику поесть и не спускать с него глаз, после чего выхожу прогуляться в одиночестве по главной улице Матреги. Ряды открытых лавок и мастерских тянутся по обеим сторонам этой полоски грязи, истоптанной сапогами, мягкими туфлями, ичигами, сандалиями, чувяками, деревянными башмаками и босыми ногами купцов, посредников, продавцов и покупателей, женщин, крестьян и воинов. В Матреге царит смешение самых разных народов, языков и нарядов: генуэзцы, черкесы, зихи, греки, евреи, армяне, русские… Татар в приметных остроконечных шапках немного: здесь, в отличие от Таны, им не рады, поскольку территорию вокруг города, Таманский полуостров, издавна держит под своей рукой черкесское племя жане. Сам город тоже в основном населен черкесами, переселившимися из глубины континента или из близлежащего селения Таматарха, бывшего некогда русским городом и звавшегося Тмутаракань: древнегреческая Гермонасса, которую сровняли с землей гунны и которая возродилась потом в эпоху владычества хазар, сгинувших в реке времен, как и прочие народы.
Генуэзцы обосновались по соседству, на руинах Фанагории, города тоже греческого, потом булгарского, хазарского и снова греческого. У черкесов они позаимствовали только название, сменив варварское Таматарха на более родное и знакомое, Матрега. Появились первые каменные купеческие дома, жмущиеся друг к другу вдоль центральной улицы, с лавками и складами на первых этажах и жилыми комнатами наверху. В узких проходах между домами, куда почти не заглядывает солнце, раскинулся целый лабиринт грязных переулков-каруджей, кишащих босоногими ребятишками и женщинами, что сгибаются под грузом тюков и корзин или развешивают простыни, штаны, рубахи и исподнее для просушки на веревках, прокинутых от одной стены до другой или натянутых на длинные, покачивающиеся на ветру шесты. Некоторые из самых мрачных и зловещих каруджей названы так же, как в Генуе: переулки Портовый, он же Беспорточный, Златых Уст, Магдалины особенно славятся ремеслом проживающих там дам. Верно говорят: унд’ели ван о стан, ун’атра Дзеноа дже фан – генуэзцы повсюду себе новую Геную строят. Такую же беспорточную.
Кое-кто, узнав меня, здоровается: такие же старые пираты, успевшие сменить ремесло, лишиться волос, наесть животы и стать почтенными лавочниками. Я, не замедляя шага, вскидываю в ответ руку, подразумевая, что вернусь позже: вот тогда мы снова обнимемся и выпьем вместе в таверне. На виа ди Пре, Крестьянской улице, среди рыночных прилавков, едва не сталкиваюсь с поваром и его ребятами, сошедшими на берег, чтобы запастись фруктами и овощами. Снова вижу площадь Сан-Джорджо с лоджией, колокольней и голым фасадом собора, построенного на скорую руку, лишь бы угодить папе-французу, вечно озабоченному обращением язычников аж до самого края света. Католиков-латинян здесь немного: генуэзцы – купцы, писцы и нотариусы, цирюльники и хирурги, моряки, ремесленники и воины – да несколько черкесов, потомки тех, что были крещены фра Джованни. Эти, впрочем, без зазрения совести ставят свечки перед иконами в любых церквях, у греков, русских или армян, которые, с присущей им кротостью и веротерпимостью, отвечают тем же. Всевышний един для всех, включая и многочисленную еврейскую общину, и мусульман, простирающихся ниц в направлении Мекки в отдельном помещении склада купца-египтянина.
Вот она какая, нынешняя Матрега. Не генуэзская колония, а небольшое свободное государство, синьором которого является мой покровитель и друг Симоне. А еще Симоне – еврей, настоящий генуэзский еврей. Не слишком религиозный, по правде сказать: его род, издавна служивший лангобардским королям и германским императорам, а после пару веков подвизавшийся в управлении Генуей, привык сосуществовать с христианами. Со стороны никакого еврейства в нем и не заметишь. Его связь с религией отцов, весьма глубокая, кстати, – вопрос частный и никакими видимыми постороннему взгляду практиками не сопровождается.
Если для Церкви евреи были и остаются отверженным народом, распявшим Мессию, то для более прагматичных генуэзских купцов важность союза с невероятно широкой сетью связей между еврейскими общинами Средиземноморья никогда сомнению не подвергалась. Однако на континенте все меняется, и к худшему: в век черной смерти и суеверного страха перед Апокалипсисом повсюду распространилась зараза нетерпимости и религиозных преследований. Так что Гизольфи, всегда обладавшие даром предвидеть будущее, предпочли удалиться морскими путями к самым дальним пределам владений Генуи Супербы, Великолепной, и в конце концов высадились здесь, сразу завязав тесные отношения с черкесами. Женившись в 1419 году на правящей черкесской княгине Жануэс из Таматархи, Симоне стал синьором Матреги и всей Тамани, признанным всеми черкесскими родами. Его крохотное государство формально находится под защитой генуэзской Газарии, хотя на самом деле абсолютно самостоятельно в том, что касается контроля над проливами, мореплавания, торговли и пиратства. Мечта древних о свободном и независимом государстве, кажется, сбылась.
История этого города – это ведь и история моей жизни, думаю я, топая по камням, уложенным в качестве ступеней на подъеме к замку. Жизни, которой я обязан прежде всего именно ему, Симоне. Это Симоне поднял меня из грязи. Я как сейчас помню тот день, когда впервые увидел его, блестящего двадцатилетнего рыцаря с генуэзским знаменем в руках в составе армии Баттисты да Кампофрегозо, ползущей в облаке пыли по дороге из Специи в Валь-ди-Магру на войну с маркизом Маласпиной. Я был тогда босоногим здоровяком, рыжеволосым и длинноруким, безымянным сиротой-ублюдком, который ошивался при остерии, что стояла у самой дороги, неподалеку от Арколы, ничего не зная ни о Кампофрегозо, ни о Маласпине. За чистку лошадей и выгребание навоза из свиного загона трактирщик давал мне поесть и поспать в конюшне. Я даже имени своего не знал, поскольку звали меня только свистом или выкрикнув от щедрот душевных что-нибудь вроде: оэ, белин, мердетта, санабабиккьо – эй, кретин, поганец, сукин ты сын!
Я рос дичком, то и дело пропадая в лесах, потому что обнаружил, что если забраться на гору Карпионе, то за строем деревьев перед твоим взором открываются невероятные и всегда разные, но одинаково бескрайние просторы: на западе, от Специи до Портовенере – широкий залив, прибежище контрабандистов и пиратов; на востоке – устье реки и равнина, а за ее туманами – колдовские снежные пики Апуанских Альп. Но сильнее всего меня влекло море, которое я наблюдал с высоты Карпионе, из Монтемарчелло или со скал Пунта-Бьянка: дух безграничной свободы, которая, как я смутно чувствовал, станет моей судьбой.
Тем солнечным февральским утром 1416 года, когда армия Баттисты да Кампофрегозо проходила мимо остерии в Арколе, здоровяк сидел на камне, держа в руке лопату, которой выгребал навоз. Раззявив рот и широко распахнув глаза, он наблюдал за невероятной кавалькадой всадников с трепещущими на ветру флагами. Особенно за одним из них, на котором меж двух грифонов был изображен рыцарь, пронзающий дракона. Парень заметил, что знаменосец остановился и смотрит на него с высоты седла, щурясь от солнечного света. Может, тот даже сказал ему какие-то слова, которых здоровяк не услышал, словно все это было во сне: как тебя зовут, мальчик мой? Не получив ответа, рыцарь поинтересовался у свиты, как называется деревушка. Термо, ответили ему, она называется Термо. Рыцарь снова обернулся к парню: если хочешь хлеба и свободы, пойдем с нами, силой тебя Господь на удивление не обидел, в таких на корабле всегда нужда есть. Рыцарем был Симоне де Гизольфи, а рыжего здоровяка с тех пор звали Термо, Термо из Сарцаны, по названию места, где меня в тот вечер вымыли, дали куртку, пару штанов и первое задание: убирать навоз за синьорскими лошадьми.
Тем же летом Симоне отплыл в Газарию, взяв меня на свою галею простым гребцом. Но уже совсем скоро я оставил скамью и перебрался на ванты, на мачты, на ахтеркастель и к румпелю: побывал матросом, лоцманом, рулевым, капитаном. Я узнал о море все, хотя ни разу не воспользовался ни астролябией, ни компасом, поскольку плыли мы почти всегда вдоль берега, а там достаточно звезд, ветра и запахов. Если же случится выйти в открытое море или затеряться в тумане, у меня есть магнит, который я помещаю в большую глиняную чашу с водой.
И да, мне ничуть не стыдно признаться, что я занимался пиратством, не только по поручению Симоне и другого генуэзского синьора, Дорино Гаттилузио с Лесбоса, но и ради собственной наживы, вместе с компаньоном-венецианцем, с которым сговорился в Тане: Дзуаном да Валле, моим напарником еще по походам в Дербент, что на берегу Каспийского моря. Я крал. Я убивал. Я торговал рабами, добывая их для моего синьора во время поездок в Орду или в черкесских аулах Тамани и Черноморского побережья.
После долгих лет верной службы я попросил у Симоне разрешения оставить опасный пиратский промысел, чтобы позаботиться о своей черкешенке и трех дочерях, а он в ответ предложил мне щедрый беспроцентный заем на приобретение собственного корабля. Вернувшись из последнего рейда на Лесбос, я по случаю купил в Митилене потрепанную гриппарию, недавно захваченную у венецианцев, перекрестил ее в «Святую Катерину», отремонтировал под свои нужды и занялся мирным промыслом, перевозя товары по поручению купцов со всего южного и восточного побережья Великого моря, от Таны и Матреги до Трабезонда и Константинополя. Симоне легко согласился на мой переезд с женой и дочерьми в Галату: он прекрасно знал, что мы будем видеться по меньшей мере раз в год, ведь истинный мой дом не на суше, а в море.
Когда я вхожу в замковый двор, Симоне уже ждет меня на лестнице: разумеется, его предупредила стража, увидев, как я взбираюсь на холм. Разница в возрасте между нами, наверное, лет пять или шесть, но в синем шелковом плаще-симаре, подобающем князю, он кажется много старше и толще. Как же не похож он теперь на рыцаря с аркольской дороги или на худощавого искателя приключений в сафьяновом корсете, высадившегося в Матреге двадцать лет назад! Узнать его можно лишь по тонкому орлиному носу, смуглой коже да подвижным, проницательным глазам, что, ничуть не изменившись, прекрасно умеют читать в самых глубинах человеческого сердца. Чуть придержав свой шелковый плащ, чтобы не споткнуться на ступеньках, Симоне спускается и обнимает меня, привычно называя по имени, словно я так и остался тем юным здоровяком из Арколы: Термо, мальчик мой. Мне сразу хочется рассказать ему о самом насущном, обсудить последние новости, в особенности неожиданного пассажира «Святой Катерины», но Симоне, улыбнувшись и прижав палец к моим губам, перебивает: позже, мальчик мой, позже. Поднявшись по лестнице, мы направляемся в его личные покои. Несмотря на давнее знакомство, я по-прежнему немного смущаюсь, когда вхожу в этот благородный дом. Даже вымылся и приоделся, прежде чем сойти с корабля, – прямо на палубе, под удивленными взглядами команды, поскольку в каюту попасть не смог.
Тяжелая бархатная штора чуть отходит в сторону, и в зале бесшумно появляется синьора Жануэс, Снежная Княжна. Она по-прежнему красива, кожа ее бела как снег, а глаза – прозрачные льдинки. Длинные прямые волосы, бывшие двадцать лет назад золотыми, до времени поблекли, словно княгиню нежданно постигла какая-то трагедия. Жануэс холодно протягивает мне тонкую руку, едва видную из-под шелкового рукава, и я, опустившись на колени, склоняю голову. Коснувшись губами ее пальцев, я чувствую сильный запах перца и диких трав, которыми черкешенки так любят умащать тело. За ее спиной сын Винченцо, двадцатилетний юноша, в котором резкие черты отца сочетаются с холодными глазами матери. Слуга возвещает о прибытии светлейшего князя Берозока, владыки Копы, двоюродного брата Жануэс, и его дочери, светлейшей княжны Бихаханым, девочки всего восьми лет от роду, еще не знающей, что ей суждено выйти за Винченцо замуж. По приглашению Жануэс они на несколько дней остановятся во дворце.
Симоне представляет гостей и приглашает всех садиться за длинный стол. По обычаям Матреги, каждый может говорить как ему вздумается, мешая генуэзские, черкесские, греческие, еврейские и русские слова и жесты, главное понимать друг друга. «А для капитана у меня сюрприз», – объявляет хозяин дома. Он хлопает в ладоши, и слуги вносят большую миску из глазурованной терракоты. Приподняв крышку, я безошибочно узнаю запах моей отчаянной юности на задворках остерии в Арколе, когда мне случалось голодать, питаясь только запахом равиоли с роскошным мясным соусом, плошку с которыми трактирщик время от времени выставлял мне за дверь, как собаке.
Симоне еще не успел мне рассказать, что выписал из Генуи кухарку, родом из знакомых мне мест между Специей и Сарцаной, потому что не может больше есть пшенную кашу и жареную баранину. Традиционные черкесские блюда, мясо и просяной хлеб, сменяются за столом скарпаццей[36], сгабеями[37], паниццами[38], блинчиками из трески и, наконец, вкуснейшей спонгатой[39] с начинкой из сухофруктов, яблок и груш. Черкесам подобные экзотические блюда не по душе, поэтому на них в основном налегаем мы с Симоне. Вино тоже привезено из Генуи: сухое белое верментино из Луни, своим цветочно-травяным ароматом напоминающее андалусийскую мальвазию.
Чтобы княжна Бихаханым не заскучала, Симоне позвал старого черкесского аэда, который, подыгрывая себе на пшине, затягивает длинную русскую сказку, действие которой разворачивается тут же, на Тамани, во времена, когда Таматарха была русской Тмутараканью. Жил-был славный царь Салтан, и не было у него ни жены, ни детей, потому что он вечно был занят войной. Как-то раз, когда снег заметает ворота, не дав ему покинуть селение, Салтан, спрятавшись за избой, подслушивает песню трех девушек. Каждая из них мечтает выйти за царя замуж, предложив взамен услужить ему тем, в чем считает себя лучшей: первая желает приготовить пир на весь мир, вторая – соткать великолепный плащ, а третья – родить сына-богатыря. Тут дверь распахивается, и появляется царь, который выбирает себе в жены третью девушку; ее сводные сестры тоже отправляются во дворец, чтобы стать придворными ткачихой и поварихой. Вскоре рождается чудесный ребенок, Гвидон, но царя во дворце нет, он снова где-то далеко, на войне.
Сводные сестры со старой Бабарихой обманом заставляют бояр посадить мать и сына в бочку и бросить в море. Там, под ночными звездами, происходит чудо: Гвидон за несколько часов вырастает и становится юным героем, а ласковая волна относит бочку на берег сказочного острова. Мать и сын спасены. Гвидон мастерит лук и, чтобы избавить птицу-лебедь от напавшего на нее коршуна, убивает хищника. Коршун на самом деле оказывается злым колдуном, а лебедь – прекрасной царевной, что ступает будто пава. В волосах у нее блестит месяц, во лбу горит звезда, а голос похож на журчание речки. Однажды, обратившись девушкой, она выйдет за Гвидона замуж и поможет ему встретиться с престарелым отцом, царем Салтаном, которого тот никогда не знал.
Слуги убирают со стола еду и приносят небольшие оловянные кубки с терпким ликером, настоянным на горьких травах. Бихаханим уползает под стол поиграть с персидской кошкой Жануэс, пушистым облачком белой шерсти. Симоне, коротко взглянув на меня, обращается к семье и Берозоку. Так получилось, что его Термо, его рыжий здоровяк, решил их оставить. Навсегда. Не будет больше никаких отъездов, за которыми следуют возвращения. Термо не вернется. О своем решении он объявил заранее, уже год назад, но просил сохранить все в тайне. И это его последнее плавание.
Друг решил вернуться домой, хотя в детстве, пока он не стал Термо, дома у него не было. Он родился с морем в сердце и, как любой моряк, едва ступив на землю, сразу рвется обратно. Но теперь, более двадцати лет спустя, ему хочется вернуться в родные края. На Итаку, как Улиссу. Это последнее плавание вдоль побережья он предпринял с целью выручить как можно больше за товары, которые продаст в Константинополе. Часть рабов он продаст тоже, других отпустит на волю, продаст и «Святую Катерину», после чего сядет на генуэзский кок и вместе с женой и дочерьми отплывет в Лигурию. Он хочет вернуться туда, где родился, купить участок земли, с которого можно увидеть море, реку и белые вершины Апуанских Альп. Вот и все, заключает Симоне. Он поднимает кубок за мое здоровье, за благополучие моего последнего плавания и клянется, что никогда в жизни не знал человека более могучего, верного и искреннего, чем я, и до глубины сожалеет, что никогда больше меня не увидит. Но свобода есть величайшее благо, и если Термо желает быть свободным, того же желает и Симоне. Остальные в трогательном молчании тоже поднимают за меня кубки. Только Бихаханым ничего не замечает: она попросту уснула, а рядом с ней, свернувшись калачиком, уснула и кошка.
Я тоже тронут. Меня, безымянного сироту, называет другом синьор Матреги, потомок одного из самых знатных и древних генуэзских родов, еврейский рыцарь, у дверей аркольской остерии не проявивший отвращения к замызганному ублюдку, от которого несло свинячим навозом. У меня тоже тяжело на сердце, но решение принято, и теперь принято бесповоротно. В последние годы оно медленно зрело во мне, подпитываемое известиями, которые я слышал во всех портах Великого моря: вот-вот случится нечто ужасное, что навсегда перевернет наш мир, сметя с лица земли все вокруг: купцов с их лавками и складами, арсеналы, порты, города, княжества и империи.
Симоне тоже это понимает. Он знает, что мир меняется, но судьба его теперь накрепко связана с этим местом, Боспором Киммерийским. Кто знает, может, его крохотное государство и устоит под натиском варваров, может, спасется, заключив союз с русским царем, и останется последним оплотом свободы; а может, и нет, но просто уйти он уже не сумеет. Почему нам вечно надо бежать, вечно искать убежища? Почему судьба народа, считающего себя избранным, должна быть именно такой? Опасность и смерть нынче стучатся даже в ворота города, ранее считавшегося неприступным, – императорской столицы, Константинополя. Это вопрос нескольких лет, может, даже месяцев. Турки в любой момент могут пойти на решающий штурм, а после падения стен Константинополя все прочие стены мира рухнут сами, одна за другой, Трабезонд, Себастополь, Каффа, Тана, а потом турки, скорее всего, обрушатся на Балканы, нацелившись в самое сердце Европы. Если мы останемся в Галате, судьба Даки и моих дочерей предрешена: изнасилование, смерть или рабство в турецком гареме.
Я чувствую, что пришло время рассказать о необычайном событии, которое недавно со мной произошло, и просить Симоне позаботиться о Тайнин. Вечером, вернувшись на корабль, я передам пленницу слуге, и тот отведет ее в замок. Я уже собираюсь взять слово, когда вмешивается молчавший до тех пор Берозок. Повернувшись ко мне, он вдруг спрашивает: «Капитан, а вы, случайно, нынче не из Таны? Если да, то сколько дней назад отплыли? И брали ли на борт новых рабов или пассажиров?» Прежде чем я, донельзя удивленный, успеваю придумать ответ, черкесский князь поясняет причину таких расспросов. Его информатор в Тане только что сообщил невероятное известие. Шесть дней назад большой отряд кабардинов спустился с гор и затаился в окрестностях города, чтобы затем напасть из засады на крупный караван, а вместо этого сам подвергся нападению венецианцев, которые убили или захватили кое-кого из них. Отряд возглавлял один из самых свирепых воинов князя Инала, Яков. Поговаривают, что сам он погиб в стычке, а его сына, который был с ним, в цепях привели в Тану. Кроме того, на следующий день там вспыхнул ужасный пожар, уничтоживший половину города. В суматохе затерялись и следы кабардинских пленных, и сына Якова. Если капитану что-либо об этом известно или если у него на борту есть пленники, он обязан об этом сообщить. Кабардины должны быть переданы ему, у него с ними старые счеты.
Когда Берозок замолкает, поднимается Жануэс. Устремив на меня пронзительный взгляд ледяных глаз, она, шипя, словно змея, требует отдать ей мальчишку, сына Якова. И я сразу понимаю, в чем причина. Я ведь знаю, почему волосы Жануэс, Снежной Княжны, поседели до срока. Десять лет назад ее брат был безжалостно убит Яковом за то, что выступил против князя Инала; он был закован в цепи и зарезан беспомощным, на глазах собственных воинов, чтобы его судьба послужила всем уроком. Однако прибрежные кланы по-прежнему враждебны Иналу и кабардинам, которые то и дело совершают набеги на их поля и деревни, сжигая посевы и уводя женщин и детей в рабство в свои горы. Берозок надеется, что кабардинские пленные станут его заложниками в переговорах с Иналом. Но Жануэс против. Сын Якова нужен ей, чтобы исполнить долг, возложенный на нее хабзэ: месть за вражду, кровь за кровь, жизнь за жизнь, смерть за смерть. Она хочет собственными руками перерезать мальчишке горло – так же, как поступил с ее братом Яков.
Краем глаза я замечаю настороженность Симоне, который не знал о произошедшем в Тане. Потом, стараясь не прятать взгляд, торжественно заявляю Берозоку и Жануэс, что ничего не слышал о стычке с кабардинами и о пожаре, поскольку, должно быть, отплыл незадолго до этих событий. Симоне немедленно перебивает: конечно, это абсолютная правда, ведь каждому известно, что Термо – самый искренний человек на свете, он никогда не умел лгать; к тому же от Таны до Матреги почти сто восемьдесят миль, и никакому моряку, даже опытному, а Термо, безусловно, самый опытный из всех, не пересечь Забахское море из конца в конец быстрее чем за неделю. Добавить тут нечего: их друг Термо не может ничего знать об этих проклятых кабардинах.
Когда пирующие покидают зал, а слуга, отпихнув недовольную кошку, уносит спящую Бихаханым, мы с Симоне остаемся одни и молча, перегнувшись через балюстраду галереи, смотрим, как садится в море солнце. Долгое, молчаливое прощание.
Потом, привстав на цыпочки, поскольку он на голову ниже, Симоне шепчет мне кое-что на ухо. Для него Термо – открытая книга, ему Термо солгать не может. Он наверняка поучаствовал в стычке, он ведь не из тех, кто отступает, особенно когда рядом тот, другой черт, Дзуан да Валле; не исключено, что сын Якова вместе с прочими заключенными сейчас на его корабле. Но Симоне ни о чем меня не спрашивает. Предупреждает только, что уходить мне нужно немедленно, этой же ночью, тихо, на веслах, но без барабанов, пока Берозок, вооружив людей на своей галее, не бросился вдогонку и не взял «Святую Катерину» на абордаж, чтобы лично проверить команду. Никогда не доверяй черкесам, говорит Симоне, который прекрасно знает и их самих, и то, насколько они непредсказуемы и опасны, когда ими овладевает страсть или слепое повиновение своим чудным нравственным законам. Его собственная жена тоже из таких и даже много лет спустя остается для него непостижимой загадкой. Мы крепко обнимаемся, оба, и генуэзский рыцарь, и рыжий здоровяк, со слезами на глазах, зная, что уже никогда не увидимся.
Спустившись в город, я широким шагом миную лабиринт каруджей, не желая более общаться со старыми приятелями, которые ждут меня в таверне с кувшином вина. Заскочить бы сейчас на некую уединенную креуза де ма, тропинку вдоль моря, взглянуть на старый дом, где мы жили много лет назад с Дакой, но у меня нет времени на сентиментальность. Короткий рывок – и я у корабля. Держу военный совет с рулевым, старшиной гребцов и командиром арбалетчиков. Мы должны быть готовы отплыть посреди ночи. Молча, без шума, не показывая приготовлений. Без единого огня. Особое внимание – вон на ту изящную галею под штандартом Копы: нужно убедиться, что она не вооружается и не отходит от мола, чтобы, заняв удобную позицию, перекрыть нам выход на рейд.
Войдя в каюту, я обнаруживаю, что Тайнин по-прежнему сидит на полу, безмятежно склонившись над портуланом. Я сую ей под нос увесистый сверток, который всучила мне во дворе замка кухарка: сгабеи, паниццы, блинчики из трески, толстые ломти скарпаццы и спонгаты. Тайнин пока не понимает, что происходит и какое будущее ее ждет, но чувствует, что этот чудной рыжий великан, вечно бьющийся головой о потолочную балку, в душе тот еще добряк, а значит, ей нечего бояться. Я снова объясняю ей, что нужно немного подождать, может, уже завтра я выпущу ее, и мы поговорим, но сейчас придется потерпеть и быть паинькой. Потом выхожу на палубу, запираю дверь и снова ложусь у руля, наблюдая за портовой суетой и медленно погружающимся в сумрак городом, пока не слышу крик стражи, возвещающий о том, что мост поднят, а ворота закрыты.
Однако еще до начала следующий вахты ко мне тихо подходит рулевой, трясет за плечо, указывая в сторону берега, на другой край бухты: похоже, там целый отряд вооруженных луками черкесов садится в баркас и направляется к галее. Времени терять нельзя – я уже чувствую, как поднимается ветер: судя по запаху, южный, дующий с Великого моря, или, может, старый добрый либеччо, ветер юго-западный, что срывается с холмов, окружающих город. Если успеем обогнуть мыс, прежде чем нас заметят с галеи, будем в безопасности. На одних только веслах мы для них легкая добыча, но под парусом им нас не догнать. Надо только вознести молитву святой Екатерине. Молча, не зажигая огней.
В полной темноте мы отдаем концы и поднимаем якоря. Весла движутся медленно, бесшумно, будто оглаживая волны. Корабль черной тенью отходит от пристани и в мгновение ока выходит на рейд. Только тогда мы слышим крик с галеи, теперь совсем далекой, и видим в усыпанном звездами небе два огненных следа, две стрелы, пущенные с той стороны и пропавшие в море. Доносятся крики, суматоха, кто-то пытается бить в барабан, сталкиваются друг с другом весла, но якоря не поднимаются: возможно, зацепились за крупные камни. Галея по-прежнему не трогается с места. Эти маневры вызывают у меня улыбку: черкесы – никуда не годные матросы, а вот гребцы неплохие. Прятаться нам больше незачем, и я даю команду грести что есть силы. В ночи ритмично грохочет барабан, взвизгивает волынка. Весла опускаются и поднимаются все быстрее. Матросы взбираются на ванты, готовят реи, которые поднимают пока лишь на уровень головы, дожидаясь момента, когда можно будет начать ловить либеччо. И вот, едва мы разворачиваемся носом к востоку, латинские паруса наполняются ветром. «Святая Катерина» снова летит над темной водой, летит к свободе.
К вечеру мы бросаем якорь в бухте Мауразихия[40], на разумном расстоянии от берега. В этих местах, населенных зихами, в безопасности себя чувствуешь только под защитой отвесных утесов. Ночью я видел проплывающий вдалеке порт Мапа, на рассвете – глубоко вдающийся в сушу залив Бата[41]. Луна, что поднялась из-за гор, осветив белые скалы по левому борту, провела от носа корабля серебристую дорожку, по которой мы и держали курс. Сейчас море спокойно. Рулевой с несколькими матросами спускают баркас и сходят на берег, взяв с собой мешки с солью, для обмена на лисьи и соболиные шкурки, и бочки, чтобы наполнить их пресной водой.
Я возвращаюсь в каюту, прежде принадлежавшую мне, а теперь – Тайнин. Думаю съесть немного скарпаццы, глядь – в свертке пусто: она все сметала сама. Похоже, знатно проголодалась. Я выливаю отхожее ведро, приношу ей воды помыться. Когда Тайнин заканчивает, я снова вхожу в каюту и впервые размыкаю ее цепь: несколько удивленная, она разминает запястье, потом вытягивает руку, наконец-то обретя свободу движений. Я жестом приглашаю ее подняться с пола и сесть на койку. Пытаясь подобрать нужные слова, оглядываюсь вокруг и вижу, во что превратилась моя бывшая каюта. На деревянных досках пола и на стенах возникли странные фигуры, которых раньше не было. Похоже, Тайнин нарисовала их головешкой и куском красной глины, что валялись в углу. Некоторые рисунки я узнаю, поскольку видел такие же в портулане: крохотные города с башнями и флагами, верблюды, правители на тронах, галеи, похожие на сороконожек, морские чудовища с закрученными змеиными хвостами… Другие она придумала: сложное переплетение растений и цветов, похожее на морские узлы, и повторяющееся несколько раз изображение лилии. В углу – забавная фигура бородатого великана с косматой гривой, обведенной красным: видимо, я. Черт, Тайнин еще и рисовать умеет! Но кто же она на самом деле?
Я говорю с ней негромко, медленно, стараясь, чтобы девушка поняла. Мы оба знаем, каков закон ее народа: попав в плен в бою, ты принадлежишь тому, кто тебя победил. Даже самые гордые черкесы, что больше всего на свете любят свободу, повинуются новому хозяину, не пытаясь восстать или бежать, ведь это было бы изменой их нравственному закону. Вот почему, даже обратив в рабство, их не заковывают в кандалы, а позволяют ходить где вздумается. Ты же знаешь об этом, правда? Тайнин кивает. Она тоже была схвачена в бою, или почти в бою, и отдана Термо. Теперь Термо – ее хозяин, она принадлежит ему. И если она не хочет вечно сидеть на цепи, то должна поклясться соблюдать этот закон. Тайнин кладет руку на сердце: я могу быть уверен, что она не сбежит.
Теперь я знаю, кто она такая и откуда, но все равно спрашиваю, и Тайнин отвечает, что она с гор и хотела бы туда вернуться, лишь для того, чтобы увидеть своего отца-вождя, побыть немного с ним. Это ее единственное желание, но она никогда не нарушит данной клятвы, заявляет она с гордостью. Только если хозяин решит ее отпустить: тогда она будет свободна.
Вдруг словно туча затмевает ее лицо: похоже, Тайнин о чем-то вспомнила. Оглядевшись по сторонам, она замечает на полу поблескивающий осколок, наклоняется его поднять. И не успеваю я ей помешать, как она вонзает стекло себе в ладонь. Из раны хлещет кровь, лицо Тайнин каменеет, из глаз потоком льются слезы. Ничего не понимаю: эти черкесы что, с ума все посходили? Дождавшись, пока она успокоится, я пытаюсь выяснить, что происходит. Это не молоко, снова отчаянно рыдает Тайнин, это не молоко, это кровь! Черт возьми, конечно, кровь, сердито восклицаю я, что еще может течь из руки, если ее порезать? Господь наш и тот истекал кровью, когда ему в руки вбили гвозди! Это кровь, кровь, потрясенно повторяет Тайнин, а значит, мой отец мертв.
Теперь я тоже в смятении. Мне, конечно, известно, что этот демон Яков мертв, я сам видел его тело в роще, да и Берозок это подтвердил. Я понял и то, что Тайнин – его дочь. Но как же ей удалось узнать, что ее отец мертв? Должно быть, это чары, из тех, что известны только черкесским женщинам и так тревожат меня, когда Дака лечит своих дочерей какими-то загадочными снадобьями и заклинаниями, от которых меня бросает в дрожь. А может, все черкешенки – ведьмы, и лучше попусту их не сердить. Я молча жду. Вдруг Тайнин перестает рыдать. Подняв на меня глаза, она говорит, что, раз ее отец мертв, ей больше нет дела до гор. Ее судьба – идти вперед, а не возвращаться. И теперь ее черед задавать вопросы. Где она? Что это за хижина, в которой она вынуждена сидеть и днем, и ночью? Может, все это – колдовство, а Термо – великий волшебник?
Я улыбаюсь. Если я и волшебник, то магия моя состоит в том, чтобы слышать голос моря и ветра, понимать его, читать небесные знаки, пути, прочерченные звездами и луной, и следовать им. Моя магия в том, чтобы путешествовать по этим водным просторам и всегда находить дорогу домой. Могу и тебя научить, если хочешь. Я беру портулан, раскрываю его, кладу на пол и объясняю, что на этом большом рисунке изображен весь мир. Части, закрашенные охрой и зеленым, не важно, светлым или темным, – это земля, горы, леса и равнины. Видишь эти синие вены, что бегут по ним? Это реки. Реки впадают в лазоревые поля, те самые, которые ты видишь сквозь щели в стене каюты: бескрайние водные пространства, называемые морями, что гораздо шире рек или озер в ее родных горах.
Странные продолговатые твари, похожие на сороконожек, и те другие, с круглыми брюшками и большими белыми платками – это корабли, на веслах или под парусами. Ты не знаешь, что такое корабли? Думаешь, это чудовища, которые похищают и пожирают людей? Нет, корабли – не чудовища, их не нужно бояться: они сделаны из дерева руками человека и несут на себе или внутри себя людей и вещи. Корабли – что-то вроде колесниц, только у них нет колес. Или вроде саней, только скользят по воде, а не по снегу. Вот и прямо сейчас, говорю я, мы во чреве корабля. Тайнин вздрагивает.
А те маленькие черные или красные значки, нарисованные рядом с изображениями городов и замков, они зачем? Это буквы, но Тайнин не поймет, что это такое, потому что черкесы не знают письменности. Каждая из этих строчек черных или красных значков обозначает имя: название места, порта, города. Путешествуя по миру, ты всего лишь перемещаешься из одного места, указанного на этой волшебной овечьей шкуре, в другое, от одного имени к другому, как это делает твой палец, скользя по линиям из стороны в сторону. Хочешь пересечь Великое море? Просто проведи пальцем отсюда вон туда.
Тайнин сидит, раскрыв рот. Должно быть, этот великан и впрямь волшебник. Потом волшебник встает, ударившись головой о балку, потому что вечно забывает, насколько низкий потолок в этой хижине, поднимает ее, запахивает на ней бешмет и говорит: пойдем, мальчик мой, – намеренно выделяя слово «мальчик». И Тайнин сразу понимает, что до конца этого путешествия, так похожего на сон, должна оставаться мальчиком.
Следующие несколько дней мы идем, только пока светло, не теряя из виду берега. Ветер дует еле-еле, течение встречное, так что пройти удается не больше двадцати-тридцати миль за день. Тайнин теперь вечно торчит на корме, рядом с капитаном и рулевым. Во время плавания она цепляется за борт, потому что боится оступиться и выпасть из этой движущейся вселенной, но и во время остановок редко трогается с места, опасаясь ходить по кораблю, который до сих пор считает злобным чудовищем; кроме того, здесь за ней постоянно следят десятки любопытных глаз. Команда, трепеща перед капитаном, старается держаться от мальчишки подальше, но все как один зачарованы его необычной красотой и загадочностью. Должно быть, это важная птица, раз уж хозяин тащит пленника аж в Константинополь. Встретив хоть на мгновение взгляд его огромных глаз, лазурных и безоблачных, словно небо, каждый тотчас же опускает голову.
Тайнин редко уходит с палубы, не в силах надышаться запахом свободы, ветра и моря. В первые два-три дня ее бледное лицо обгорело до красноты, и цирюльнику пришлось смазать его помадой, чтобы унять жжение, а потом еще мазью, чтобы защитить кожу, так что теперь светлые глаза Тайнин сияют на темном лице, словно звезды. Цирюльник еще и постриг ее покороче, чистоты ради практически выскоблив череп, а заодно выкурил из моей бывшей койки вшей: проделать то же самое со сварливым капитаном, настаивающим на косматой рыжей гриве и еще менее ухоженной бороде, он не рискует.
В каюте Тайнин прячется редко, зачарованная видом медленно плывущих мимо берегов: высокими белыми скалами, подмытыми морской волной, поросшими дубами и соснами; внезапно открывающимися долинами и устьями рек; водопадами, этими потоками прозрачной крови, сочащейся из ран земли, что яростно обрушиваются в бездну с горных хребтов; пологими песчаными и галечными пляжами; торчащими из воды утесами самых причудливых форм, похожими на окаменевшие стволы деревьев или спутанные тела безжизненных морских чудовищ. Каждый вечер я называю места стоянок и показываю их на карте: Альбазихия, Капо-ди-Куба, Касто, Лияш[42]; но для Тайнин они ничего не значат. Портулан ей более неинтересен: мир там, за бортом – вот величайшее волшебство, и имена ему не нужны.
Вечерами, сидя с командой на палубе, мы пускаем по кругу флягу мальвазии и смотрим на звезды. Лед молчания обычно ломает рулевой, наш мастер загадывать загадки. Сказать по правде, знает он их немного, снова и снова повторяя по кругу пять-шесть самых простых, но остальные успевают забыть отгадку и всякий раз остаются с разинутыми ртами. Что это за дом, который гремит как гром, а тот, кто в нем живет, ни звука не издает? Море, а живет в нем рыба. Стоит на берегу подружка, и песнь ее едва слышна, но ткни ее ножом, и тут же, как птица, запоет она: о чем это? Тростник, проделай в нем дырочки – получишь флейту. Или вот еще: что такое – прекрасная дочь лесов бежит, не оставив следов? Да ведь это галея! Раздвоенный меч стал землю кусать, ни волнам, ни ветру с ним не совладать – что это? Якорь! А это – как пух или перо легка она, ей-ей, но полежит в воде – и камня тяжелей? Губка. Как насчет четырех сестер, что рядышком бегут, а догнать друг дружку не могут? Колеса телеги.
Затем приходит мой черед, и я вынужден без конца пересказывать одну и ту же сказку про царя Салтана, каждый вечер переиначивая по меньшей мере половину сюжета и расширяя сцены, действие которых происходит на море: добавляю нападения пиратов, сражения с морскими чудовищами. Но кое-что неизменно: отплытие бочки в звездную ночь, сказочный остров, торговые корабли, воины, выходящие из пены, младенец, вырастающий в юного героя, и волшебная птица-лебедь, обратившаяся в царевну. Матросы улыбаются как дети, слушая старого капитана, который так неразговорчив днем, зато вечерами любит рассказывать, или баять, разные разности: они знают, что я не против, может, еще и потому, что, имея трех дочерей, успел пристраститься к сказкам. Тайнин всегда засыпает, не дослушав истории, которой у нее самой пока нет, и во сне видит себя не царевной-лебедью, а героем Гвидоном, что хочет найти и вернуть отца. Если к вечеру не слишком холодает, я накидываю на нее одеяло и оставляю спать на палубе, вместе с нами, чувствуя странное умиление при виде этой маленькой, практически бритой головки, время от времени вздрагивающей, когда снится кошмар. Если же выпадает роса, я осторожно поднимаю ее и уношу в каюту, стараясь не шуметь, хотя то и дело бьюсь головой о притолоку.
По мере продвижения на юг пейзаж становится все более диким, заросшие непроходимыми лесами горы спускаются почти до самого моря: этот загадочный край называется Авогассия. На безлюдном побережье время от времени возникают небольшие генуэзские фактории, огни которых светятся в ночном мраке: Гагра, Санта-София, Пецонда. В заливах и бухтах чаще попадаются турецкие суда малого каботажа, фусты, шебеки и парандерии, что, подняв красный штандарт с полумесяцем, дружелюбно встречают и крест святого Георгия. Отсюда начинается Менгрелия; там, в горах, расположено древнее царство Зорзания. Вдали видна большая крепость, замок Анакопия, господствующая над всем побережьем до самого порта Себастополь[43].
Погожим днем, обогнув мыс Цикаба, корабль подходит к длинному пологому берегу Тамасы[44]. Череда холмов и невысоких гор сменяется широкой равниной, где гуляет свежий ветер, который наполняет наши паруса. Это самая красивая точка плавания, и я прошу Тайнин взглянуть в сторону берега. В бескрайней дали, за равниной, которая словно бы тонет в неясной дымке, великолепным амфитеатром высятся лазурные горы. Вершины одних скрыты недвижными облаками, другие прорастают сквозь них сказочными плавучими островами. А посреди этого царства пара и синевы стоит одинокий великан о двух ледяных рогах почти одинаковой высоты, что, сияя в полуденном свете, кажется, достают до самого неба. Я вижу, как Тайнин вздрагивает. Это ведь Ошхамахо, их священная гора, шепчет сейчас, замирая, ее сердце. Обитель богов, источник вод жизни, куда однажды причалил на своем корабле пророк Ной.
Этой ночью на спящем корабле, который покачивается на безмятежных водах рейда, не спит одна Катерина. Она не в силах оторвать взгляд от огромной горы с того мгновения, как тьма начала окутывать море и равнину, а после понемногу поднялась до самых дальних и высоких гор. Но великан ей не по зубам, его вершины по-прежнему сияют над морем тьмы. В конце концов остается одна лишь точка слева, осколок света в ночи, вроде тех блуждающих звезд с длинными хвостами, что предвещают беду или указывают путь. Катерина вспоминает, как в последний раз видела этот исчезающий в ночи свет; вспоминает ветреные плато, долины, раскинувшиеся по ту сторону горы-великана, леса, ледяные источники, реки, где прыгают осетры, свой аул, струйку дыма, поднимающуюся от соломенной крыши, лишь немногим больше других. Воспоминания накатывают, как волна, внезапно захлестывая ее целиком, заставляя затаить дыхание. И тайком всплакнуть.
4. Якомо
Венецианский квартал Константинополя, рассвет 26 февраля 1440 года
Сквозь затянутое бумагой оконце сочится розовый свет. Заря.
Я поднимаю глаза от конторки. Еще одна тяжелая ночь, проведенная за работой. Последняя, наконец-то. Снимаю круглые стекла для глаз, пользуемые для чтения: две толстые, тяжелые линзы, закрепленные в металлических обручах и соединенные дугой, больно сжимающей нос. Для меня они всегда были орудием пытки, которое за несколько лет прорезало мою плоть почти до самых костей, оставив неизгладимые шрамы. Правду сказать, погрузившись в чтение, письмо, расчеты, я этой бесконечной муки почти не чувствую. Душа моя уносится в мир абстрактный, нематериальный, где нет ни боли, ни страданий, а главное – нет других людей.
Смочив переносицу влажной тряпицей, дабы облегчить мучения, я разглядываю свои очки, запотевшие, захватанные пальцами, в почерневшей оправе с пятнами ржавчины. Их мне четыре года назад сделал один болтливый мастер из Мурано, все качеством линз хвастался. Его послушать, так ничего лучше не придумаешь, чтобы дефект зрения исправить, да только вскоре и этого средства оказалось недостаточно, – возможно, из-за общего ухудшения моего здоровья. Слишком поздно. Я осознал это только во время плавания в Константинополь, когда, усевшись однажды вечером за стол в своей тесной каюте, попытался при тусклом свете качающейся лампы прочесть и затвердить опись груза и сопроводительные бумаги, чтобы подготовить все к нашему прибытию.
Так что пришлось мне четыре года носить эти стекла, в Константинополе-то ведь не найти стеклодува, чтобы сравнился с венецианскими. Я как мог боролся с постепенно расплывающимися строчками, все дальше отодвигая от себя главную книгу, чтобы лучше видеть цифры. И чувствовал, что сама реальность, моя собственная жизнь с каждым днем становятся все более размытыми и все менее разборчивыми. Когда вернусь в Венецию, надо бы эти очки переделать. Только на сей раз я выберу другого мастера.
Первые очки мне, тогда еще мальчишке, одолжил маэстро Дзордзи, счетовод-абацист. Он сразу заметил, что юный ученик, без труда следивший за колонками цифр, написанных мелом на грифельной доске в противоположном углу комнаты, с трудом читает те же цифры в тетради, стараясь держать ее как можно дальше от глаз. Редкий случай, сказал он, поскольку очки милостью Божией были изобретены именно в нашей Светлейшей Республике Венеции, славной тем, что всякое искусство и ремесло достигает здесь высшего своего расцвета; изобретены для таких стариканов, как он сам, коим в противном случае пришлось бы отказаться от занятий писарских, торговых и преподавательских; для купцов постарше, чьи глаза ослабели от постоянных расчетов, что делаются ночами при свете масляной лампы; да еще для монахов в их монастырях, что даже в преклонном возрасте могут теперь по-прежнему находить утешение в чтении житий святых и Писания. Редкий случай, повторил он, когда очки нужны столь молодому человеку. И потому он одолжил мне пару своих, наилучшим образом подошедших, чтобы скомпенсировать зарождающийся дефект. Разумеется, я не избежал насмешек других школяров и прочих окрестных мальчишек. «Эль векьо Якомин, старичок Джакомино! – кричали они через всю площадь. – Крот-оборотень идет!» – так меня прозвали за привычку хоронить себя заживо в одиноком, темном доме, избегая людей и света дня.
По правде сказать, именно этих двух вещей, одиночества и темноты, я всегда и боялся: и надо же было случиться, чтобы именно они стали моей судьбой – и единственным прибежищем. Помню свой детский ужас, когда после смерти отца, Себастьяно, моя мать, Аньезина, начала оставлять меня, двухлетнего сироту, одного в темной комнате. Утешала меня только Мария, русская рабыня, а может, временами и наложница отца, ставшая затем кормилицей его законным детям и матерью нескольких ублюдков, которых забирали у нее, как только приходило время отнять их от груди.
Говорят, в первые месяцы моей жизни семейный лекарь предложил родителям укладывать меня с Марией даже между кормлениями, поскольку, оставаясь один, я обращался настоящим чертенком: не спал, кричал, плакал. По моей тщедушности и слабости родители уже и не чаяли, что я выживу. Спас меня, должно быть, тот жизненный сок, что обильно проистекал из огромных грудей Марии. Оставаясь один в темной комнате, я, не умея еще ходить, переваливался через край деревянной колыбельки и полз, дрожа от холода, по темным коридорам и переходам палаццо до самой ее каморки, только и вмещавшей широкий топчан. Юркнув под простыни и одеяла, я ненадолго приникал губами к ее мокрому соску, а после засыпал, уткнувшись в теплый бок, пока она глубоким тихим голосом напевала что-то на незнакомом языке, гортанном, но бесконечно нежном.
Больше я ничего о Марии не помню, потому что через год после смерти мужа, моего отца, мать с позором выгнала ее из дома, наказав никогда больше не появляться, не то ее сперва изобьют палками до крови, а после заклеймят. Все, что у меня осталось, – путаные обрывки воспоминаний, внезапно всплывающие ощущения: ее низкий голос, аромат ее тела и волос, груди, вздымающиеся и опускающиеся при дыхании, кислый запах изо рта, взмокшие подмышки, податливая мягкость кожи.
Но каким бы питательным ни было молоко Марии, я так навсегда и остался маленьким и слабым. Мне выпало родиться последним отпрыском высокородного Себастьяно Бадоера, главы одной из старейших венецианских семей, тех, что сотни лет назад построили наш город на воде, а затем и империю на море. Наш дом стоит в сестьере Кастелло, неподалеку от монастыря Сан-Франческо-делла-Винья и доков Арсенала, где рождались величайшие галеры Республики. Район этот, лежащий вдалеке от шума пьяццы Сан-Марко или рынка Риальто, спокоен и тих, он напоен ароматами душистых трав из окрестных садов и огородов и совершенно не защищен от натиска небес и вод лагуны, а зимой – и от беспощадных порывов северного ветра, когда море замерзает и белые вершины Альп вздымаются к багровому небу.
Я, несчастный одинокий сирота, почти никогда не покидал пределов старого дома и сада, обнесенного стеной, что отделяла нас от лагуны. Каморка Марии, где мне не раз случалось прятаться и после ее изгнания, по приказу матери была вскоре замурована. Целыми днями я просиживал один в своей комнате, играя со старыми мягкими туфлями, которые наполнял камешками и возил по неровной плитке, воображая, что это груженные драгоценностями галеи, плывущие по опасному морю, или же шел в мрачный и пыльный зал, где старый дедушка Иеронимо, окончательно впавший в маразм, надев большие очки с разбитыми стеклами, мог часами читать и перечитывать старые книги счетов, произнося вслух бесконечные цифры и даже не замечая присутствия внука; если же дедушка засыпал, я подходил взглянуть на эти таинственные книги, которые в ту пору еще не в силах был понять.
Матери я почти не видел: она избегала меня, как и старшие братья, Иеронимо и Маффео, по-видимому, считая существом неполноценным, нежеланным и уродливым. Только сестра Мария, волею случая носившая то же имя, что и кормилица, время от времени брала меня с собой к мессе. Я старался теснее прижаться к ней сзади, чтобы не потерять в толпе молящихся, главным образом женщин, до отказа заполнявших монастырскую церковь. Они стекались сюда со всех концов города и даже с материка, богатые и бедные, высокородные и плебеи, даже рабы и вольноотпущенники, привлеченные чудесным, раскрашенным яркими красками деревянным распятием, которое монахи несколько лет назад начали выставлять на всеобщее обозрение. Меня поражала эта высокая фигура с раскинутыми руками, пригвожденная к кресту, исхудавшая, костистая, и еще сильнее пугало чудо, случавшееся каждую Великую пятницу: распахнутый рот, откуда доносился нечеловеческий вопль и тянуло ладаном.
После службы монахи в строжайшей тайне уносили распятие и запирали его в одном из дальних помещений клуатра. Став постарше, я однажды пробрался в монастырь, надеясь отыскать его и раскрыть тайну чуда, так взволновавшего меня в детстве. Прячась за колоннами, мне удалось добраться до запертой двери и сквозь решетчатое оконце различить внутри знакомую склоненную голову с открытым ртом. Размышляя, как бы пробраться в sancta sanctorum, святая святых, я вдруг услышал распевный голос. Но это была не литания, а цифры, вроде тех, что бормотал некогда мой престарелый дедушка, к тому времени покойный. Снедаемый любопытством, я заглянул в открытую дверь чуть дальше по ходу и очутился в комнате, где на длинных скамьях сидело десятка три мальчиков, слушая человека, похожего на очень старого монаха, только более потрепанного, который выписывал что-то мелом на висевшей в углу грифельной доске.
Так я впервые увидел маэстро Дзордзи, францисканца-терциария[45], который в юности был прекрасным абацистом, а заодно и купцом, и которому теперь позволили руководить небольшой школой абака. В ней обучались дети торговцев, испытывающих финансовые затруднения и потому не имеющих средств на оплату более дорогих и именитых учителей с Риальто, где преподавали множество других совершенно бесполезных вещей: логику, теологию, натурфилософию, астрономию и литературу. Маэстро Дзордзи же, обладая огромным жизненным опытом, учил только практичным вещам, которые нужны всем. С тех пор я не раз ходил в ту комнату, пока маэстро не заметил, как я, прячась в задних рядах, пытаюсь выписать цифры прямо на земле, в пыли, поскольку ни бумаги, ни карандаша у меня не было.
С согласия моей матери Аньезины и старшего брата Иеронимо маэстро взял меня в ученики. У нашей семьи хватило бы денег и на то, чтобы отправить меня в Риальто, но куда больше их порадовали весьма скромная плата, затребованная маэстро Дзордзи, и тот факт, что школа абака наверняка послужит Якомину на благо, а сам он не будет мозолить им глаза. Кроме того, в доме стал появляться и наставник по латинской грамматике, тучный и простоватый, вовсе не похожий на тех гуманистов, что взрастили Иеронимо и Маффео, которым мать уже прочила должности высших магистратов Республики: нет, Якомину, этому ничтожному пачкуну, дабы понять, что говорит судья или нотариус, зачитывая документ, или что написано в законах и статутах, вполне хватит и grammatica secundum mercatores[46]. Чтобы не запутаться в этих лабиринтах положений, писанных на латыни, приходилось глядеть в оба, поскольку vigilantibus et non dormientibus iura subveniunt[47]. В остальном достаточно было овладеть нашим прекрасным венецианским языком, так что Якомин быстро научился читать и писать, выработав характерный купеческий почерк, четкий, мелкий, аккуратный, чтобы коллеги или писцы на складах могли разбирать его без ошибок и недопониманий.
По правде сказать, даже раньше, чем буквы, я научился записывать цифры, накрепко связав с графическими символами представления о мере и количестве таких понятий, как товары, продукты или монеты, куда более конкретных, чем звучание и смысл слов. Значки, которые я впервые увидел в старых счетных книгах деда и на доске маэстро Дзордзи, были, разумеется, девятью арабскими, или, как их еще называли, индийскими цифрами и похожим на яйцо символом, называемым дзеверо, или ноль. Этот символ был самым трудным для понимания, поскольку все прочие соответствовали точному выражению количества, в то время как чертов дзеверо не соответствовал ничему, точнее, и был ничем, пустым местом, тем-чего-не-существует.
Однако маэстро объяснил нам, что слово цифра происходит от арабского сифр и что дзеверо – того же корня. Их вовсе не стоило бояться и тем более уверять, на манер некоторых священников, что цифры эти, арабские они или индийские, изобретены самим дьяволом и должны быть уничтожены, а вернуться нужно к старым, римским. Нет, ноль вовсе не был еретическим числом, и служил он не для обозначения несуществующего количества. Это невероятное изобретение позволяло графически изобразить сложнейшие арифметические действия с двумя и более числами, составив в цифры столбцы и сразу отделив десятки. Так, искусный абацист или торговец мог производить любые расчеты, даже самые хитрые, записывая наиболее сложные действия, которые раньше можно было выполнить только в уме.
Впрочем, к устным вычислениям, не требующим записи и счетных инструментов, я и без того демонстрировал необычайные способности: просто прикрывал глаза и уходил в свой собственный внутренний мир, едва заметно шевеля губами и проговаривая цифры и действия, как это делал мой покойный дедушка. Но от маэстро Дзордзи мне удалось узнать гораздо больше: приемы выполнения основных операций, критерии делимости, правила извлечения квадратных и кубических корней, дроби. Чтобы ускорить некоторые вычисления, не записывая их, я научился пользоваться пальцами, запомнил многие фундаментальные методы, вроде правила ложного положения[48] или «правила трех» для нахождения четвертого члена пропорции, что особенно полезно при пересчете различных курсов обмена и для перехода от одной системы мер и весов к другой.
За теорией следовал анализ случаев, которые могли иметь место в практике рыночной деятельности: управление совместным предприятием и распределение прибыли или убытков между партнерами согласно доле вложенного капитала и выполненной работы; простой и сложный натуральный обмен; формы займов и кредитов, начисление процентов на которые было формально запрещено, поскольку считалось, что так могут поступать лишь нечестивые дзудеи, а не мы, христиане, однако втихую, при помощи самых различных ухищрений, это делалось сплошь и рядом; расчет долей чистого металла в монетных сплавах, чтобы избежать фальшивок; метод двойной записи отчетности в главной книге; использование векселей и так далее.
Но прежде всего, говорил маэстро Дзордзи, мир чисел приближает нас к Богу, который создал Вселенную pondere et mensura[49]. В самом деле, все сущее подобно книге, написанной при помощи математики, а наша задача – прочитать и понять ее, расшифровав этот язык. Числа – язык Господа, а также доброй и честной прибыли. Но стоит проявить неосторожность, как они станут наречием дьявола, языком денег, нажитых обманом, бесчестия, ростовщичества, мошенничества, алчности, который вмиг доведет нас до геенны огненной.
Между тем на дом Бадоеров обрушились новые несчастья. Скончалась моя мать Аньезина. На ее похоронах я не плакал. Следом умер мой брат Маффео. Я и тогда не проронил ни слезинки. Старший брат Иеронимо, ныне глава семьи, член Сената и управляющий Арсеналом, заметив мои успехи в счетном деле, рекомендовал меня в качестве писца-стажера на один из складов в Риальто. Он устроил мне брак с Марией Гримани, дочерью одного из знатнейших людей Республики, с которой я вскорости завел двух сыновей, окрещенных именами моих отца и брата, Себастьяно и Иеронимо.
Однако потом умерла и Мария. Я впал в глубокую меланхолию, из которой Иеронимо всячески пытался меня вывести. Брат ввел меня в Совет сорока, учреждение некогда славное, но утратившее былое величие, где мне были поручены наискучнейшие задачи, за которые никто не хотел браться и с которыми я справлялся еще хуже ожидаемого: банкротства, надзор за мошенниками-евреями с их ломбардами, управление Монетным двором, доставка рабов в Венецию и из Венеции. Затем он помог мне заполучить фрахт одной из галей в Александрию: катастрофическое плавание, как по причине резкого ухудшения дипломатических отношений с египетским султаном Барсбеем, так и из-за того, что я, не имея никакого желания мотаться по миру, даже не сошел на берег, чтобы проконтролировать торговлю, а все время отсиживался в каюте в обществе своих учетных книг и чудовищной головной боли.
Тогда взбешенный Иеронимо решил от меня избавиться, отправив в Константинополь. Сказал, что поручит мне труд, имеющий исключительную важность для семьи и Республики: надзирать за всеми нашими делами и торговлей в Леванте. Как выяснилось, я должен был просто вести учет, хотя мне он этого не сказал. Дела и торговля продолжались бы и сами по себе благодаря прочной сети связей, к тому уже существовавших между купцами, банкирами, ростовщиками и спекулянтами, подрядчиками и судовладельцами. Те лишь время от времени предлагали мне небольшую долю в своих предприятиях, так, мелочовку, чтобы потешить себя иллюзией, будто на меня и в самом деле возложено нечто важное: для семьи и Республики, естественно.
Я, как всегда, подчинился воле главы семейства. Распрощавшись с детьми, которым было уже по десять с лишним, я вверил заботу о них брату, и тот поклялся, что будет им вместо отца. Потом я простился с моей рабыней-черкешенкой Леной, их бывшей кормилицей, а также моей наложницей с тех пор, как Мария, беременная вторым ребенком, перестала со мной спать, а я так боялся ночной темноты, что отчаянно нуждался в женском теле, в его тепле, просто чтобы почувствовать себя в безопасности и уснуть. Ее я тоже вверил брату, который тут же сдал Лену в аренду старому Николо Долфину за семь дукатов в год. Сад, сказал он, не должен оставаться бесплодным. Волноваться не о чем: семь дукатов будут должным образом зачислены на мой банковский счет.
В Константинополь я прибыл 2 сентября 1436 года, ровно в полдень, после изнурительного сорокадневного плавания на галее, принадлежавшей Дарди Моро, в сопровождении ромейского конвоя под командованием мессера Пьеро Контарини. Остальная часть команды по большей части находилась на палубе, наблюдая величественное зрелище приближающегося города, его могучие стены, что отражались в воде, его башни и купола, я же все это время был прикован к своей каюте внезапным приступом лихорадки и окончательным подсчетом расходов, понесенных за это отвратительное путешествие: в общей сложности семь золотых дукатов за меня и моего юного секретаря Антонио Брагадина, бойкого шестнадцатилетнего парнишку, доверенного мне отцом, нашим соседом с улицы Барбария-де-ле-Толе. Ни стен, ни башен, ни куполов я не видел, мне было все равно. Из каюты я выбрался, только когда огромная торговая галея, укрывшись от течений пролива в бухте Золотой Рог, встала на рейде старого порта Перама. Я распрощался с капитаном, спустился с помощью Антонио в баркас, доставивший нас на берег, и, пока прочие слуги выгружали ящики и товары, которые должны были остаться на складе, велел местному управляющему увести меня подальше от порта и рыбного рынка.
Впрочем, отдохнуть я смог только несколько часов спустя, да и то в лавке, расположенной неподалеку от ворот, в самом сердце венецианского квартала. У меня даже не было сил сходить поставить свечку в церкви Сан-Марко-де-Эмболо, как это здесь принято и как мне настоятельно посоветовали сделать. К величайшему моему разочарованию, управляющий сообщил, что найти приличное жилье для мессера нынче невозможно: из-за турецкой угрозы город переполнен мигрантами и беженцами, а домовладельцы-греки, невзирая на царящий вокруг Апокалипсис, пекутся только о собственной наживе и в связи с нехваткой площадей непомерно задирают цены. Единственный дом, который ему удалось найти, находился за бухтой, отделявшей порт от генуэзского города Пера, и сдавал его генуэзец, Бранка Дориа, в щедрости своей запросивший с меня всего четыре иперпира в месяц. Это ненадолго, всего на пару месяцев. Несмотря на жар, я легко пересчитал византийскую монету в венецианскую: вышло немногим больше дуката. Неплохо по сравнению со Светлейшей!
Мы тащимся обратно в порт, где уже ждет лодочник, переправляющий на ту сторону все, включая сундучок с моими скромными пожитками: бумаги я в основном оставил на складе, который и будет местом моей работы. Наконец-то есть время осмотреться, и я, вдохнув полной грудью ветер с Босфора, воображаю, будто сижу в трагетто или гондоле, пересекая Гранд-канал или канал Вигано[50], только вместо куполов Сан-Марко и Сан-Джорджо вокруг гроздья домишек и колоколен, что карабкаются на холм Пера, к высоченной круглой башне. На другом берегу в багровых отсветах заката высится величественный купол Святой Софии.
Те первые два месяца в Пере стали одними из худших в моей жизни: из-за еды, скудной и, несмотря на дороговизну, зачастую подпорченной; из-за трудностей с получением припасов из окрестных селений, кишевших турками; из-за гнилой и зловонной воды в колодцах; а прежде всего – из-за невозможности с должным спокойствием погрузиться в цифры, записанные на бесчисленных обрывках векселей и листках, выдранных из записных книжек. Дом представлял собой покосившуюся башню в одном из самых отвратительных каруджей Галаты. 12 октября я был вынужден нанять в качестве разнорабочего, а также драгомана, поскольку он знал как греческий, так и турецкий, некоего Дзордзи Морезини, одного из многочисленных незаконнорожденных отпрысков гречанок и венецианских купцов, что урезало мое жалованье на добрых два дуката в месяц; плюс ко всему он еще и обносил мой собственный склад, да так хитро, что я, сколько ни бился, не мог этого доказать.
Почти каждый день я вынужден был переправляться на лодке в Пераму, всякий раз при большом волнении из-за сильного ветра, поднимавшегося ближе к концу лета и продувавшего Золотой Рог из конца в конец. Часто вместо меня вызывался поехать Антонио, который делал все, чтобы удостоиться моей похвалы. Однако вскоре юноша слег, страдая от жара и болей в животе, и в начале ноября, несмотря на все усилия неумехи-лекаря, скончался. Пришлось написать его семье тягостное письмо с соболезнованиями и оплатить все сопутствующие расходы, скрупулезно занесенные мной в ежедневник: два иперпира и двенадцать каратов вороватому прохиндею Андреа де Стелле за сахар, сироп, совершенно бесполезное снадобье под названием manus Christi[51] и прочие мелочи; один иперпир женщине по имени Маргерита, что ухаживала за юношей в его последние дни; два иперпира и двенадцать каратов цирюльнику и, наконец, десять иперпиров и девятнадцать каратов за погребение. Requiescat in pace, да покоится он в мире.
15 ноября я оставил дом, где еще витал запах болезни и смерти. Один греческий спекулянт, хир Андзоло Клида предложил мне жилье в венецианском квартале, по соседству со складом. Выгодная сделка, всего пятьдесят иперпиров в год, так что я сразу согласился.
Из дома, комнаты в котором расположены на разных уровнях, можно попасть прямо на широкий двор склада. Крохотное, затянутое промасленной бумагой оконце глядит на оживленную улицу, проходящую через рыбный рынок и соединяющую Рыбные ворота с Друнгарскими. Во двор выходит и конюшня главного склада, где стоят телеги для перевозки груза, хранятся образцы мер и весов, мешки, корзины, амфоры, бочки, канаты; в соседней комнатушке спят грузчики-камалли и разнорабочие. На втором этаже кладовая и кухня с большим очагом, на третьем – комнатки для работников склада и прислуги; в центре здания, тоже на втором этаже, помещается управляющий: ему отведена большая зала, с камином и обеденным столом, и комната поменьше, целиком занятая высокой кроватью и конторкой. А в одном из углов, за деревянной дверцей, – величайшая роскошь: нужный чулан, который, прилепившись к внешней стене склада, нависает над узким темным проулком между двумя домами и где можно сквозь дыру в деревянном полу, даже не спускаясь во двор, избавиться от тяжести в животе.
Конторка моя скорее смахивает на Ноев ковчег, только размером поменьше: высокая неудобная скамья с полуотломанной спинкой и подножкой, соединенная с чуть наклонной столешницей, в которой проделаны отверстия и углубления для перьев, чернильниц, карандашниц, ножей, чтобы вскрывать письма и очинять перья, а сбоку шкафчик с полками, предназначенными для отдельных документов, тетрадей и книг, шкатулок, папок и сумок, где можно хранить, увязанными или нанизанными на гвоздь, целые горы мелких бумаг, личных и деловых писем, векселей, актов, доверенностей, полисов, квитанций, расписок, решений по всевозможным судебным разбирательствам и тяжбам или сувениров.
Этот предмет мебели хир Андзоло предоставил мне совершенно бесплатно, не постеснявшись добавить подробностей о жизни и смерти предыдущего жильца, чудаковатого, но добродушного флорентийского священника, чью жизнь унесла прошлым летом неведомая хворь – кто знает, может, и чума. Вступив во владение конторкой, я первым делом велел тщательно отмыть ее водой и щелочью. Это мое жизненное пространство, командный мостик суденышка, на котором я плыву, прокладывая курс не по портуланам или картам, а по книгам: главным книгам моих счетов.
Да, я как сейчас помню тот благодатный миг, то мгновение, когда начал свою книгу.
Я разложил перед собой разрозненные листы бумаги и тетради, которыми пользовался до сих пор: опись имущества и товаров, привезенных из Венеции; мемориал, книжицу в четверть листа в переплете из воловьей кожи, чьи страницы, сложенные вдоль, заполнял вне всякого порядка бытовыми заметками; ежедневник, куда в самом упорядоченном виде переписывал произведенные за день отгрузки. Я взял прошитую пачку редзуты[52] с филигранью в виде трех гор, увенчанных крестом, из тех, что привез с собой из Венеции, и записал посреди первой страницы год, 1436-й, а чуть ниже вывел: «Во имя Господа нашего и доброй прибыли (поскольку меня учили, что все нужно начинать с имени Божьего), книга моего, Иакомо Бадоера, путешествия в Константинополь, в каковое место я был доставлен 2 сентебря в час полуденный попечением галеи капитана месира Пьеро Контарини».
Перевернув страницу, я первым делом вписываю цифру 1 в нижний левый угол разворота и то же проделываю для всех следующих страниц, чтобы, если в будущем возникнет надобность сослаться на вышеупомянутую операцию, достаточно было просто указать номер страницы: так все партии товара будут сведены воедино. Наверху, прямо по центру, отдельно от прочих записей, год, нынче он 1436-й. Примерно в трех пальцах от внешнего края – вертикальная черта, чтобы выравнивать цифры. Потом наконец я своим четким купеческим почерком начинаю выписывать из мемориала и ежедневника отдельные партии товара. Запись веду по-венециански, в хронологическом порядке, с группировкой по счетам, чтобы каждый счет на левой, дебетовой странице соответствовал тому же счету на правой, кредитовой странице.
Первую строку каждого счета я скрупулезно начинаю с маленькой точки и заглавной буквы, а в дальнейшем всегда использую один и тот же порядок: название счета, которое может быть именем купца, банкира или поставщика товаров или услуг, названием компании или самого товара; указание на то, является ли операция дебетовой или кредитовой, дие дар или дие авер; дата по венецианскому календарю; имя дебитора или кредитора и комментарии; затем добавляю ссылку на номер страницы, а на полях – общий баланс, выраженный в счетной византийской монете: иперпирах, каратах или, крайне редко, четвертях. Эти абстрактные величины, не привязанные к конкретным денежным единицам, служат мне для унификации реального учета, общий баланс которого в противном случае затерялся бы в лабиринте всевозможных валют, выбор которых зависит от происхождения товаров, личности купца и колебания обменных курсов: золотые дукаты или венецианские цехины, безанты, дукателли, турские гроши, серебряные асперы Каффы, Таны, Трабезонда, турецкие дирхамы, дукаты и асперы и так далее.
В конце страницы, или счета, я должен получить одинаковую сумму дебета и кредита, уравняв тем самым баланс. Однако свести его удается далеко не всегда. Отчасти в этом повинны жизнь и смерть в своих непредсказуемых проявлениях, вроде того, что уготовил мне Антонио Брагадин, добрейшей души юноша-дзовене, который скончался всего через два месяца после нашего приезда в Константинополь. Я едва успел открыть в главной книге счет на его имя с записью о задолженности от 8 сентября: один дукат, выданный наличными Матио Фазулю, писцу капитана Моро, на покрытие оставшейся части дорожных расходов на путешествие из Венеции. Дальнейшие записи на дебетовой странице касаются уже непредвиденных трат, понесенных мной в связи с болезнью и смертью Антонио, и заканчиваются итоговой суммой двадцать три иперпира и пятнадцать каратов, естественно, записанных покойному в долг. Как же уравнять этот счет со следующей страницей? К счастью, Андреа де Стелла, порывшись в сумке Антонио, нашел два золотых дуката, два иперпира и десять венецианских монет, которые передал мне, а уж я записал эту сумму в кредит несчастного юноши. Счет, однако, остался открытым, поскольку тех денег было явно недостаточно. Затем, уже через год, старшина стригальщиков Пьеро отдал мне пятнадцать иперпиров в уплату за черный плащ Антонио, и я наконец смог покрыть кредит: двадцать три иперпира и пятнадцать каратов. Теперь баланс подведен, счет закрыт, а недолгое земное существование Антонио можно снести в архив.
Записывать все, записывать всегда, поскольку того, что не запишешь, и не существует: оно не реально. Краткая жизнь Антонио принадлежит к реальности лишь потому, что после него осталось несколько записей на его счете, иначе этот дзовене тоже исчез бы, ускользнул, как песок в часах. Все остается в записях, которые безостановочно продвигаются вперед, как движется и само время, никогда не поворачиваясь вспять. В книге должно учитывать всякую операцию, всякий расход, всякую прибыль, всякую мельчайшую деталь. Иной купец записал бы мелкие траты на куплю-продажу в единую статью расходы торговые, поскольку знает по опыту, что речь всегда идет об одной и той же незначительной сумме, которую в целом можно округлить до четырех, пяти или шести дукатов. Но не я, я с маниакальной точностью перечисляю все: полотно для пошива мешков и мешочков, ящики, бочки и веревки, а кроме того, услуги смотрителя, весовщика, наемного возчика-агойато, грузчиков-камалли и носильщиков-бастази, лодочника, священника, посредника, матросов и совладельцев галеи, оплату стоянки в порту, декларации на корабль, и еще одной, для греков, коммеркий, или императорскую таможенную пошлину, включая и чаевые, все эти мандзарии или маньярии, кортезии, бевераццо, сингарданаль и подарки для подкупа чиновников: кому-то хватает кулька засахаренного миндаля или куска сыра, упаковки мыла или воска, других же умастишь только редкими пряностями и драгоценными тканями.
Я перечисляю также и все расходы мелкие личные, на одежду, дом, пищу: замки, сундуки, мебель, дрова, сахар, вино апулийское или греческое, хлеб, молоко и сыр, починку лодки и сарай для нее возле таверны на берегу. С того момента, как здоровье мое пошатнулось и я то и дело страдаю какой-нибудь хворью, от чесотки до зубной боли, чем пользуются алчные доктора и шарлатаны, вроде того, что продал мне для бедного Антонио совершенно бесполезное снадобье manus Christi, или грека Панаридоса, который пытался вылечить мою чесотку какой-то вонючей мазью, но требовал наличной оплаты за некие лекарственные пастилки, купленные у другого лекаря-грека, Сиропулоса. Но больше всего меня тяготят траты на такую роскошь, как содержание гнедого мерина, на котором я почти не езжу, купленного 10 декабря 1436 года за какие-то тридцать иперпиров, но со временем обошедшегося куда дороже, с учетом расходов на весь тот овес, что сжирает эта ненасытная бестия, сено, траву и солому, подковы, чепрак, седло и уздечку, да еще мальчишку, что за ним ходит. Наконец, я заношу в список трат также три иперпира на милостыню, розданную бедным, и десять иперпиров, пожертвованных несчастному, спасенному из рук турок. Немного сердечности никогда не повредит, но и это тоже необходимо записать.
Вернувшись в Венецию, я суну эту книгу под нос брату Иеронимо и его глазастым писцам, чтобы продемонстрировать свою честность и добросовестность. Все, чем я занят, – здесь ограничено крохотным оконцем кабинета-спальни, стенами склада и пределами венецианского квартала, если не считать тех немногих дел, которыми мне приходится заниматься лично: встречи с консулом-байло и другими венецианскими чиновниками, переговоры и купля-продажа, надзор за погрузкой и разгрузкой, когда уходит или приходит корабль, натуральный обмен, нотариальные документы, поручительства, доверенности, а также разнообразные налоги и таможенные подати бесконечно меняющихся византийских властей.
В книгу заносится все, включая обширную сеть связей, кораблей и корреспондентов, что простирается от предместий Константинополя до самых отдаленных портов Великого и Средиземного морей, от Таны до Трабезонда, от Негропонте[53] до Кипра и Александрии, от Мессины до Майорки. Эта сеть не замечает границ между народами, языками и религиями, которые на первый взгляд кажутся непреодолимыми, но для купцов таковыми не являются: словно бы всего в нескольких милях от стен Константинополя, по ту сторону пролива, не собиралась чудовищная орда, готовая напасть и захватить город, а следом и весь мир. Со страниц книги сходит карта торговых путей, заполненных людьми, товарами и кораблями, что безо всяких портуланов непрестанно движутся по огромному соленому морю, создавая и укрепляя чье-то богатство и благополучие. Торговля, говорил маэстро Дзодзи, есть искусство, придуманное людьми, дабы восполнить то, что не смогла создать природа или чего не пожелал создать Господь, и обеспечить каждую страну всеми надобностями и удобствами для полноценного человеческого существования. Благодаря этому искусству, соединяющему людей и далекие страны, целый мир становится одним большим городом.
Из Венеции мне пишут брат Иеронимо и патриции-банкиры, Пьеро Михиль и Марино Барбо, занося в реестры все дебетовые и кредитные операции, направляя векселя. За три с половиной года, что я занимаюсь ввозом из Республики невероятного числа товаров самых разных видов, от дорогих шерстяных и шелковых тканей до изделий из серебра и муранского стекла, отсылая взамен болгарский и валашский воск, пряности, перец, шелк, шкуры и меха, металлы, злаки, провиант и вина, наши обороты достигли астрономической цифры по меньшей мере 500 000 иперпиров, то есть 170 000 золотых дукатов. И все это, не считая редких и крайне небольших сумм, – без привлечения всей той чудовищной денежной массы, что должна воплощаться лишь в наших руках и руках наших партнеров, в виде настоящих монет из золота, серебра и драгоценных сплавов, которые в противном случае только отягощали бы кошельки и сундуки торговцев, а то оказались бы на дне морском или в алчных руках пиратов.
Чтобы обеспечить этот денежный поток, достаточно, опять же, обычной бумаги и записей на ней: простых или переводных векселей и банковских учетных книг, куда вносится информация по аккредитивам и платежным поручениям, депозитам, взаимозачетам, дебету и кредиту. Куда чаще, чем церковь Сан-Марко, я за эти три года посещаю банки, одновременно открывая множество разных счетов. Обычный лист бумаги, простой росчерк пера – и готово: прибыль, полученная в Константинополе, зачисляется на счет в Венеции. И все благодаря записям. Того, что не запишешь, не существует.
В главной книге, которую я открываю каждый божий день, после обеда или вечером, при свете масляной лампы, содержится весь мой мир. Долгие часы, что я проводил в сумраке, разбирая записи на листах, листочках и просто клочках бумаги, а также собственные, в мемориале и ежедневнике; производя расчеты, всегда – в одиночестве и обычно – в уме; переписывая все это по порядку в книгу, не забыв отметить, на какой странице зарегистрировал счет. После замены сломанной скамьи на куда более удобное подобающее седалище, заказанное при посредничестве Дзордзи у одного плотника в Пере, я с еще большей охотой погружаюсь в недра священного ковчега – конторки.
Мои выходы на улицу ради собственного удовольствия становятся все реже и короче, а по общественным и торговым делам – только тогда, когда я и впрямь не могу этого избежать: вроде того раза, во время карнавала 1437 года, когда я даже устроил у себя прием с музыкантами, потратив на это кровных девять иперпиров; или в июле 1438-го, когда мы праздновали возвращение байло в Венецию по окончании полномочий. Душа моя, и без того полная страха и уныния, становится еще более мрачной, одинокой, упрямой, нелюдимой – и в то же время дотошной, методичной, расчетливой, щепетильной в отношении мелких привычек и ежедневного распорядка, отмеряемого механическими часами на башне по соседству с дворцом байло и торговой галереей, младшим братом часов Сант-Алипио, что на углу базилики Сан-Марко, торжественно установленным несколько лет назад, чтобы создать мало-мальскую иллюзию родного дома.
