Монстры, химеры и пришельцы в искусстве Средневековья бесплатное чтение
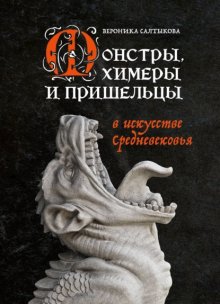
Вероника Салтыкова
Монстры, химеры и пришельцы в искусстве Средневековья
Во внутреннем оформлении использованы фотографии:
Pratiksha _h, 3DF mediaStudio, cynoclub, Alex_Mastro, Ilia Torlin, godongphoto /
Shutterstock / FOTODOM
Используется по лицензии от Shutterstock / FOTODOM;

© Martin Zwick / eastnews
Фото на обложке: © Sueddeutsche Zeitung Photo / Alamy Stock Photo / DIOMEDIA
Научные рецензенты:
Анна Владимировна Пожидаева, кандидат искусствоведения, доцент факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Александра Борисовна Мамлина, кандидат исторических наук, старший преподаватель факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

© Салтыкова В.А., текст, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Предисловие
На пике воображения или на грани безумия?
В зале Иеронима Босха в мадридском музее Прадо всегда многолюдно. Здесь посетители не просто останавливаются напротив известных шедевров, чтобы сделать с ними селфи и прослушать запись аудиогида, а подолгу и с интересом рассматривают детали каждой картины. Произведения одного из самых загадочных художников эпохи позднего Средневековья уже не одно столетие будоражат умы ученых и обывателей, не оставляя равнодушными ни тех, ни других. Самый известный триптих Босха «Сад земных наслаждений» являет зрителю фантастический мир с сюрреалистическими архитектурными конструкциями и невиданными тварями. С первого взгляда он буквально гипнотизирует, затягивая разнообразием и яркостью своих причудливых образов. Зритель волей-неволей оказывается втянутым в этот, на первый взгляд, хаотичный мир, стараясь познать скрытый в нем потаенный смысл.
Воображение Иеронима Босха уникально и простирается далеко за границы обыденного и привычного. Но мог ли такой яркий и самобытный талант расцвести на пустом месте? Если предположить, что да, то тогда самого художника легче было бы объявить сумасшедшим, при этом даже не попытаться найти ключ к его произведениям. Но такой подход к его искусству вряд ли оправдан.
Картины Босха с его монстрами, бесами и химерами – это плоть от плоти средневековой художественной традиции, это кульминация и торжество тех образов и мотивов,
которые на протяжении многих веков оставались на периферии художественного пространства и не смели претендовать на главенство. В этой книге мы постараемся заглянуть вглубь Cредневековья и пройти по, возможно, не самым известным его маршрутам, чтобы увидеть то, что находилось на задворках: в укромных уголках средневековых соборов, на капителях монастырских клуатров и полях многочисленных рукописей. Этот путь, пусть и не самый простой, поможет нам не только узнать больше о происхождении таинственных миров Иеронима Босха, но и лучше понять самих себя и тех «монстров», которые продолжают жить в нашей культуре.
Босховский «Сад земных наслаждений» представляет собой триптих – это трехчастная картина, на которой можно увидеть большое центральное поле и два боковых, поменьше.
В Средние века такую форму традиционно использовали для создания монументальных алтарных композиций.
Их помещали в апсиде – самом сакральном месте христианского храма. Действительно ли Босх задумал свою картину как алтарный образ? Неужели произведение, кишащее монстрами и химерами, могло занять место в святая святых церкви? И если предположить такое, то почему в XV веке это не считалось святотатством?


Капители церкви святого Павла в Шовиньи (департамент Вьенна, Франция).
Вторая половина XII века
Похожие вопросы задают себе путешественники, рассматривающие фасады средневековых храмов, со стен которых на них смотрят фантастические животные, черти всех мастей и человекообразные существа пугающей наружности. Обычно подобные твари «живут» снаружи и населяют периферийные зоны, вроде водостоков, консолей и крыш. Но иногда их можно встретить и в интерьерах, и на весьма «почетных» местах, а в редких случаях – даже в алтаре. Яркий пример – нижний ярус апсиды церкви святого Иакова в Кастелазе (Южный Тироль, Италия), где изображены чудовища довольно фривольного вида: двухвостая сирена, кентавры, существо с песьей головой и перепончатыми лапами, а также другие химерические твари. Даже тот читатель, который никогда не интересовался средневековой архитектурой, наверняка вспомнит Собор Парижской Богоматери – символ французской готики с его знаменитыми гаргульями на фасадах.
И вероятно, многие из читателей рассматривали «веселые картинки» с монстрами и чудаковатыми созданиями, наводнившие интернет.


Апсида церкви святого Иакова в Кастелазе (Южный Тироль, Италия), XIII век.
Невольно возникает вопрос: что делают эти безобразия в церкви и на страницах священных манускриптов? Действительно ли средневековый человек, как ребенок, верил в чудовищ, злых духов и тому подобных тварей? Чего он на самом деле боялся? Что скрывается за этими странными изображениями? И почему средневековое сознание находилось в такой зависимости от монстров? Попытаемся разобраться во всем по порядку.
Чудовищное прошлое
Если обратиться к древним мифам о происхождении мира, то практически все они описывают эпические битвы богов и чудовищ. Последние воплощали собой представления человека о первобытном хаосе и выражали его страх перед неизведанным. Все, что входило в сферы непознанного: силы природы, потусторонний и горний миры, – так или иначе связывалось в сознании древних с монстрами и демонами, наделенными нечеловеческими силами и сверхъестественными способностями.

Мардук сражается с Тиамат. Рисунок рельефа из дворца Ашшурнацирапала в Кальху (Нимруд, современный Ирак). IX в. до н. э

Терракотовая доска с изображением Хумбабы из Лувра (Париж). Древняя Месопотамия, территория современного Ирака. II тыс. до н. э.
На рельефе из дворца ассирийского правителя Ашшурнацирапала в Нимруде (Ирак) верховный бог Древней Месопотамии и покровитель Вавилона Мардук сражается с монстром хаоса Тиамат. Это гигантский крылатый зверь с устрашающим оскалом, львиными передними лапами и орлиными задними. Сам Мардук, несмотря на свой антропоморфный вид, изображен с крыльями. Легендарный герой шумеро-аккадского эпоса Гильгамеш сражался с хранителем кедровой рощи чудовищем Хумбабой, которое внушало смертельный ужас людям. На терракотовом рельефе из Лувра, возраст которого насчитывает около четырех тысяч лет, Хумбаба представлен в виде демона с человеческими чертами, однако его круглое лицо искажено гримасой и страшным оскалом.
Бог неба Хор, воплощением которого на земле считали самого фараона, изображался как человек с головой сокола.
Если обратиться к материалам Древнего Египта, то почти все изображения представителей древнеегипетского пантеона представляют собой смесь человека с чертами животных. Взять, к примеру, Анубиса – древнеегипетского проводника душ усопших в мир мертвых: его изображали в мужском обличье с головой собаки (или шакала).
Можно вспомнить и хорошо знакомого всем сфинкса, который также является гибридным существом с львиным туловищем и головой человека. Но несмотря на это, его внешний вид не вызывает отторжения, а наоборот, кажется благородным. Однако того же нельзя сказать об Амат – древнеегипетском чудовище с телом гиппопотама, львиными лапами, гривой и пастью крокодила. Оно выглядит уже менее привлекательным. Амат обязательно присутствовала на загробном суде Осириса, и, если человеку выносился обвинительный приговор, она съедала его сердце.

«Персей освобождает Андромеду». Миниатюра из книги Кристины Пизанской «Послание Офеи Гектору». Париж, начало XV в., Британская библиотека (Лондон, Harley 4431, fol. 98v).
Античная культура была не менее богата на монстров. Знаменитый древнегреческий герой Геракл совершил свои двенадцать подвигов, вступив в бой с многоголовой лернейской гидрой, хищными стимфалийскими птицами, перья которых ранили, как ножи. Одолел он и трехголового пса Цербера, охранявшего вход в Аид. Отважный Персей убил медузу Горгону и спас прекрасную Андромеду от съедения морским чудовищем Кетом. Древнегреческая мифология знала немало историй триумфов героев над чудовищами. Легендарный поэт Гомер подробно описал приключения отважного Одиссея и его многочисленные встречи с кровожадными существами: Сциллой и Харибдой, циклопом-людоедом Полифемом, коварными сиренами и другими монстрами.
Средневековье унаследовало весь этот монструозный багаж, черпая информацию из литературных сочинений и научных трактатов Античности, где содержались сведения о диковинных существах и чудовищах.
Перед глазами средневековых мастеров также были греческие и римские памятники изобразительного искусства.
Несмотря на ряд потрясений, которые испытала Европа после пришествия варварских племен, античное наследие не было забыто напрочь. Даже в наше время, приезжая в Италию, можно увидеть огромное количество античных построек и произведений, которые пережили все исторические катаклизмы и до сих пор поражают своим масштабом и величием. На заре Средневековья таких памятников было в разы больше. Для средневекового человека они продолжали оставаться частью его повседневной жизни и образцом «высокого» искусства, даже несмотря на то что зачастую приходилось разбирать античные храмы и использовать их части в качестве строительного материала при возведении христианских базилик.
Точка отсчета
Средние века начались с приходом на территорию современной Европы варварских племен, которые, как цунами, накрыли развитые культурные центры Античности во главе с Римом. Это масштабное вторжение было связано с великим переселением народов, продлившимся в общей сложности четыре столетия – с IV по VII века. Глобальные миграционные процессы запустили гунны, вторгшиеся в Европу из степей Центральной Азии. Их империя во главе с Аттилой к середине V века простиралась от Волги и Кавказа до Рейна. Экспансия гуннов вытеснила другие народы с их традиционных мест обитания. Германские племена устремились к границам Римской империи, переживавшей в то время глубокий кризис. Набеги варваров на территории Римской империи стали происходить все чаще, а противостоять им было все труднее. И хотя эпохи никогда не сменяют друг друга в одночасье, принято считать, что официальной точкой отсчета для нового исторического этапа является 4 сентября 476 года, когда предводитель германцев Одоакр свергнул последнего императора Западной Римской империи Ромула, что фактически означало окончательное падение Рима.
В Европе стали активно формироваться варварские государства. Вандалы осели в Северной Африке, вестготы – в Испании, франки – в Галлии, а остготы и лангобарды – в Италии.
Основные центры европейской цивилизации переместились на север, к окраинам уже бывшего античного мира, и стали развиваться своим путем.
Этот новый мир, конечно, отличался от Античности. Западную Европу в ее развитии как бы отбросило назад. Городская культура, библиотеки и памятники, которые создавались веками, разрушались. Архитектура переживала глубочайший упадок. Произошло тотальное снижение общего культурного уровня и грамотности населения. Даже некоторые бытовые привычки людей поменялись не в лучшую сторону. К примеру, в античном мире было принято разбавлять вино водой, варвары же предпочитали пить его неразбавленным.
Вместе со всем этим произошли резкий экономический упадок и, как следствие, отток самых образованных людей и лучших мастеров в Византию – последний оплот стабильности. Византийская империя с центром в Константинополе оставалась единственной хранительницей классической традиции. Однако в те неспокойные времена ей было не до своих западных территорий, Византия была вынуждена бросить все свои силы на восточные рубежи, где приходилось сдерживать новую, быстро нарастающую угрозу – арабов.
Что принесли с собой варвары, кроме разрушений, жестокости и хаоса? Прежде всего, они принесли особую, неизвестную античному миру, самобытную и очень древнюю художественную традицию в виде замысловатых и изощренных орнаментов, которыми были покрыты оружие, доспехи и бытовые вещи, используемые в варварском обиходе. Это так называемые «плетенки», кишащие самыми разнообразными существами и гадами, которые в непрерывном движении кусают, царапают и пожирают друг друга.
В этой вечной борьбе отражается тот первозданный хтонический ужас, который испытывал язычник перед силами природы, ее стихиями, представляющими для него смертельную опасность.
Орнаменты такого типа иногда еще называют «звериным стилем». Для него характерно сочетание мотивов растительного и животного мира, а также использование абстракций, трансформирующихся форм, где одно свободно перетекает в другое и превращается в нечто новое. Мастера, которые создавали подобные орнаментальные украшения, не были скованы жесткими шаблонами и образцами, а, наоборот, стремились проявить свою индивидуальность, фантазию и свободу художественного выражения. Особенно впечатляют произведения кельтских племен с их удивительными тератологическими орнаментами, существенно повлиявшими на раннее англо-ирландское искусство.


Инициалы из Геллонского сакраментария, VIII в.
Национальная библиотека Франции, Париж.
Желание ассимилироваться и впитать лучшее из завоеванной ими культуры не было чуждо варварам. Судьбоносным для них стало решение отказаться от языческих верований и принять христианство, которое к моменту их прихода в Европу уже являлось официальной религией Римской империи. В конце V века король франков Хлодвиг прошел обряд крещения. Таким образом он не только укрепил свое политическое положение, но и сделал важный шаг в процессе слияния римской (античной) и германской (варварской) культур. Наиболее ярко этот синтез воплотился в искусстве книжной миниатюры. Заглавные буквы созданного в VIII веке Геллонского сакраментария (сборник молитв, используемых во время евхаристической службы) напоминают обложку советского детского журнала «Веселые картинки»: большие инициалы в нем составлены из фигурок животных, птиц, рыб, а иногда и человека. Встречаются там и фантастические создания вроде полурыбы-полуженщины.
На страницах христианской рукописи многие существа приобрели новое символическое содержание, отличное как от античного, так и от варварского.
Например, рыба превратилась в символ Иисуса Христа, так как анаграмма записанной на греческом языке фразы «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель» составляет слово «рыба» (по-гречески «ихтис»). К тому же стихия рыбы – вода, а вода имеет непосредственное отношение к христианскому таинству Крещения.

Символ евангелиста Иоанна из евангелия Дарроу, Англия, VII в.
Дублин, библиотека Тринити-колледжа.
Художественная традиция, которую принесли с собой варварские племена, не была привязана к античному понятию красоты, в ней отсутствовало стремление передавать вещи такими, какими их видит наш глаз: трехмерными и натуроподобными. В равной степени чуждым ей было и желание идеализировать образ. С началом Средних веков рождается другая эстетика, где на первый план выходит экспрессия, то есть заостренная выразительность художественного произведения. Глядя на изображение символа евангелиста Иоанна в Евангелии из Дарроу, созданном в VII веке, вероятно, в Англии, лишь с большим трудом можно узнать в нем льва. Современному зрителю он напомнит скорее сказочного хищника или, в крайнем случае, собаку. На миниатюре этот зубастый зверь с вытянутой мордой аккуратно обведен по контуру, а его туловище заполнено красно-зелеными ромбовидными сегментами. При абсолютно плоскостной трактовке и отсутствии пространственной глубины, изображение не лишено пленяющей декоративности и особого шарма. Змеевидный изгиб хвоста добавляет изящности этому необычному и, бесспорно, эффектному существу.
Очевидно, что к оценке таких произведений не стоит подходить с нашими стандартными мерками красоты и критерием соответствия прототипу.
Раннесредневековые художники ушли далеко от античной эстетики с ее идеей подражания натуре, но они создали что-то принципиально новое и по-настоящему цепляющее наше внимание.
Жизнь в ожидании Второго пришествия
«Эпоха веры» – так часто называют Средневековье. Христианская вера стала для средневекового человека главным навигатором в жизни. Через веру он воспринимал и познавал мир вокруг себя, с ее помощью преодолевал непонимание различных явлений, через веру выстаивал свои нравственные, общественные и культурные ориентиры. Как уже отмечалось выше, завоевание Римской империи варварами привело к разрушению школ и принципа систематического образования людей, полностью уничтожило светские очаги образованности в городах. Даже высшие представители власти в Средние века могли быть безграмотными.
Лишь вера оставалась той незыблемой основой, на которую можно было опереться в самые тяжелые времена.
Император франков Карл Великий (правил во второй половине VIII – начале IX века), великий полководец и политик, первым из средневековых правителей смог создать огромную империю, объединив бо́льшую часть Западной и Центральной Европы в единое государство. Но и этого ему было мало, он стремился поднять культурный уровень империи, возродить науку и искусство. Собирая вокруг себя интеллектуальную элиту своего времени, он создал при дворе подобие античной академии. Однако, как бы парадоксально это ни звучало, Карл Великий за всю свою жизнь так и не научился писать. Об этом пишет франкский ученый Эйнхард в своем сочинении «Жизнь Карла Великого»: «Он усердно занимался свободными искусствами и весьма почитал тех, кто их преподавал, оказывая им большие почести. <…> Пытался он писать и для этого имел обыкновение держать на ложе, у изголовья дощечки или таблички для письма, чтобы, как только выпадало свободное время, приучить руку выводить буквы, но труд его, начатый слишком поздно и несвоевременно, имел малый успех»[1]. При этом Карл оставался истинным и образцовым христианином, исправно посещал церковь (даже ночью!) и был щедрым на милостыню.
Жизнь по христианским заповедям была высшей из добродетелей. Только она могла обеспечить человеку спасение.
Если для античного мира было характерно цикличное восприятие истории с возможностью повторения сходных событий, то христианское мировоззрение существовало с уверенным пониманием того, что рано или поздно привычному порядку придет конец. Мировая история получала, таким образом, вполне четкие границы: на одном конце было сотворение Адама и Евы, а на другом – второе пришествие Христа. Первое пришествие – вочеловечивание Бога в Иисусе Христе – располагалось примерно в середине этой хронологии. Согласно христианским представлениям, в конце времен произойдет Страшный суд – событие, когда на землю вернется Иисус и решит участь каждого. При этом сам факт физической смерти не сильно пугал христианина.
В Средние века смерть была привычным явлением, многие умирали еще в младенчестве или ранние детские годы.
Больше всего людей интересовала не сама смерть, а их судьба после нее. Каждый христианин задавал себе вполне очевидный вопрос: «Что случится с миром и со мной, когда придет конец времен?»
Главным источником сведений о конце времен стало «Откровение Иоанна Богослова» – книга ученика Иисуса Христа, вошедшая в состав Нового Завета. Другое ее название – «Апокалипсис» (от др. – греч. «раскрытие, откровение»). Тест Откровения полон загадочных и мистических предсказаний о конце времен. В нем описывается решающая битва Господа и Сатаны, во время которой ангелы сражаются с демонами и демоническими созданиями: драконами, змеями, гигантской саранчой. Там же присутствует и образ демонической женщины – Вавилонской блудницы, восседающей верхом на монстре. Эти жуткие описания умножали страх перед грядущим Апокалипсисом и рисовали в сознании средневековых людей ужасные картины мучений и страданий, которые обрушатся на человечество. Ажиотаж вокруг Второго пришествия и Страшного суда усиливался еще и оттого, что никто не знал, когда именно они свершатся. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий» – так написано в Евангелии от Матфея (Мф 25:13). И если одни богословы не верили в возможность высчитать точную дату этого события, другие, напротив, скрупулезно высчитывали возможные даты. Средневековые художники и скульпторы, в свою очередь, выражали эсхатологические ожидания в ярких апокалиптических картинах, вкладывая в них все свое усердие и воображение. На фреске Джованни да Модены в базилике Сан-Петронио в Болонье (1410 г.) мы видим покрытого шерстью дьявола с огромной и омерзительной пастью, которая пожирает грешников. Второе, не менее безобразное дьявольское «лицо» находится на месте гениталий и исторгает тела ранее проглоченных нечестивцев. При этом выражение лица у того, кто побывал внутри дьявольской утробы, вызывает искреннее сочувствие и отчетливое нежелание оказаться на его месте.

Джованни да Модена. Дьявол, пожирающий души грешников. Ок. 1410 г. Базилика Сан-Петронио в Болонье.
Следующий вопрос, который терзал любого христианина: спасется ли его душа в момент решающего судного дня? Сможет ли она избежать страшных мучений? Здесь многое зависело от самого человека. У средневековой церкви было припасено множество назидательных проповедей и ярких образов на тему «что такое хорошо и что такое плохо». Пастве внушалась вполне тривиальная идея о том, что только поведение человека при жизни, избранный им путь добродетели или порока, определит, обретет ли он вечное блаженство или же будет обречен на вечные муки. Эта установка задавала строгое биполярное восприятие жизни. Притом в обоих случаях Средневековье нередко доходило до крайности, располагая на противоположных полюсах либо абсолютное добро, либо абсолютное зло. Мир воспринимался словно в черно-белом цвете. Отражением этого особого мировосприятия стали и произведения изобразительного искусства. В них рай и ад часто находятся в прямой визуальной оппозиции. При этом
райские картины часто похожи друг на друга, чего не скажешь о композициях, посвященных миру Преисподней.
Последние гораздо более разнообразны: одни художники придавали изображениям сил зла оттенок сарказма, а другие буквально впадали в одержимость, в мельчайших подробностях выписывая жуткие подробности пребывания грешников в аду.
Средневековье унаследовало от античной культуры богатый арсенал чудовищ, но оно добавило к нему еще и многочисленных инфернальных монстров, порожденных экзальтированным религиозным сознанием и страхом перед адскими муками. Все это многообразие демонов и химерических тварей, отразившееся в тысячах произведений средневекового искусства, стало своего рода кодом всей визуальной культуры эпохи. В этой книге речь пойдет о страшных и странных существах звериной, человеческой и демонической природы. Именно они составляли неотъемлемую часть картины мира средневекового человека.
Глава 1
Фантастические твари: инструкция по применению
«…Для чего же в монастырях, перед взорами читающих братьев, эта смехотворная диковинность, эти странно-безобразные образы, эти образы безобразного? К чему тут грязные обезьяны? К чему дикие львы? К чему чудовищные кентавры? К чему полулюди? К чему пятнистые тигры? К чему воины в поединке разящие? К чему охотники трубящие? Здесь под одной головой видишь много тел, там, наоборот, на одном теле – много голов. Здесь, глядишь, у четвероногого хвост змеи, там у рыбы – голова четвероногого. Здесь зверь – спереди конь, а сзади – половина козы, там – рогатое животное являет с тыла вид коня»[2]. Эти полные возмущения слова принадлежат не современному ревнителю благочестия, а видному цистерцианскому монаху и теологу XII века Бернарду Клервоскому. Он яростно выступал за скромность церковной архитектуры, считая, что изображения гибридных тварей и монстров в сакральном пространстве храма отрицательно влияют на духовное воспитание монахов и прихожан. Но средневековые мастера в большинстве своем не спешили к нему прислушиваться.

Арка, украшенная рельефами с изображениями мантикоры, пеликана, василиска, гарпии, грифона, амфисбены, кентавра и льва.
XII век. Франция. Местонахождение: Метрополитен-музей, Нью-Йорк.
В средневековом искусстве изображения животных присутствуют буквально везде: в скульптурах церквей, на фресках, мозаиках, миниатюрах, их можно встретить на печатях и гербах, они выступают неизменными действующими лицами многочисленных басен и пословиц. И речь идет не только о домашних животных вроде свиней и коров, но и о диких и даже экзотических: например, львах, тиграх, слонах и носорогах. И как уже было отмечено Бернардом Клервоским, в этой пестрой компании можно встретить необычных существ: кентавров, единорогов, фениксов, грифонов, мантикор, василисков, бонаконов и других диковинных тварей. Некоторые из них имели откровенно отталкивающую наружность, как, например, мантикора – чудовище огромного размера, соединяющее в себе тело льва, голову человека и длинный хвост с жалом, заимствованный у скорпиона. В общем, мир средневековых бестий был разнообразен и нуждался в определенной классификации.
Стремление все разложить по полочкам, приклеить к каждой вещи или явлению определенный ярлык – характерная черта средневекового мышления.
По этой причине в Средние века особой любовью пользовались всевозможные энциклопедии, сборники, компиляции, справочники и тому подобная литература. Примером такого жанра служит и бестиарий (от лат. bestia – «зверь») – популярный средневековый трактат, посвященный животным.
Занимательная зоология
Олень живет тысячу лет. Кабан носит рога у себя в пасти. Ласка зачинает ртом, а рожает ухом. Слоны боятся мышей. Кровь козла растворяет алмаз. Моча рыси, затвердев, превращается в драгоценный камень. Страус способен съесть и переварить все что угодно, включая металлические предметы. Гиена может сменить пол по собственному желанию. Что касается ласточки, то она ест, пьет и спит в полете. Подобные утверждения в изобилии встречаются на страницах бестиариев – главных средневековых «путеводителей» по животному миру. Эти книги активно иллюстрировались, многие из сохранившихся до наших дней экземпляров содержат красочные и увлекательные миниатюры.
Информация о повадках и внешнем виде животных, которую можно найти в бестиариях, способна позабавить и даже рассмешить современного читателя, в особенности если речь идет о хорошо знакомых нам существах.
Но только ли нехватка достоверных сведений об окружающем мире и его обитателях заставляла распространять небылицы или, как бы мы сегодня сказали, «фейки» о животных? Или же на это была иная причина?
Средневековый бестиарий по своей структуре далек от привычных нам научных классификаций животного и растительного мира, в основу которых легла система, разработанная в XVIII веке Карлом Линнеем. При описании животных в Средние века руководствовались подходом античных натуралистов. Все представители фауны делились на следующие категории: четвероногие, птицы, рыбы, змеи и черви. Все виданные и невиданные твари распределялись по этим пяти группам. Такая классификация была далека от идеальной: так, пчелы оказывались в разделе про птиц, а к рыбам относились не только собственно рыбы, но и все твари, обитающие в воде, в том числе киты и морские млекопитающие, а также различные фантастические существа вроде сирен.
К категории червей приписывали практически всех животных маленького размера, в том числе грызунов, личинок, насекомых, лягушек и даже моллюсков.
Интересно, что на страницах бестиария даже реально существующие в природе животные часто изображались таким образом, что современному человеку узнать на картинке даже хорошо знакомый вид практически невозможно. Самый благообразный представитель фауны мог быть представлен как отвратительный монстр. Возьмем, к примеру, обычную ящерицу. На территории средневековой Европы ее можно было встретить повсеместно, тогда почему же художник в иллюстрациях к английскому бестиарию XII века изобразил ее как синеголовое чудовище с львинооподобной мордой, когтистыми лапами и длинным хвостом? Что уж и говорить о более редких представителях животного мира, таких, например, как крокодил, хамелеон или рыба-меч, которых средневековые люди в большинстве своем никогда не видели собственными глазами. Для того чтобы изобразить их, средневековому художнику приходилось приложить всю свою фантазию. В результате получались весьма разнообразные, безусловно интересные, но очень отличающиеся друг от варианты изображения одного и того же животного. Все тот же крокодил мог походить в одном случае на дракона, а в другом – на невиданную рептилию с мордой, напоминающей скорее кого-то из представителей кошачьих.

Ящерица из Абердинского бестиария, Англия, XII век, (библиотека Абердинского университета, Шотландия, Univ Lib. MS 24, folio 69v).

Крокодил из «Рочестерского бестиария». Англия, XIII век.
(Британская библиотека, Лондон, Royal MS 12 F, folio 24r).

Крокодил, пожирающий человека.
Музей Меерманно, Дом книги, Гаага
(Ms. 10 B 25, The Hague, MMW, 10 B 25 fol. 12v) Western France; c. 1450.
Главным источником, на который опирался средневековый художник при изображении крокодила или какого-либо другого животного, была не натура, а текст. При этом перед ним стояла совершенно специфическая задача – необходимо было запечатлеть животное так, чтобы максимально заострить особенности его характера и поведения, о которых шла речь в описании. Например, крокодил в бестиарии описывался как кровожадное существо, смертельно опасное для человека. Отсюда мы видим и определенные качества, которые авторы миниатюр стремились подчеркнуть в его облике: например, огромная хищная пасть и острые когтистые лапы недвусмысленно намекают на то, что это существо не особенно дружелюбно. Еще более ясными и доходчивыми были сцены расправы крокодила над человеком, как, например, во французском манускрипте середины XV века из Гааги.

Гидрус проникает в крокодила
(бестиарий, Британская библиотека, MS Harley 4751, fol. 62v).
Конец XII – начало XIII века.

Гидрус покидает чрево крокодила.
Абердинский бестиарий (библиотека Абердинского университета, Шотландия, Univ Lib. MS 24, f. 68v).
Но даже у самых свирепых чудовищ были свои враги. Заядлым противником крокодила был гидр (или гидрус). В бестиариях рассказывалось, что гидрус обитает в реке Нил и когда он видит спящего на берегу крокодила, то входит внутрь него через открытый рот. Чтобы ему легче было проскользнуть через крокодилью глотку в чрево, он сперва выкатывался в грязи. Согласно тексту бестиария, крокодил невзначай заглатывает живого гидруса, который, однако, не стремится задерживаться внутри и, разодрав крокодилу все внутренности, выходит из него наружу целым и невредимым. Момент проникновения гидруса в крокодила запечатлен на миниатюре бестиария из Британской библиотеки. А на миниатюре из Абердинского бестиария можно увидеть момент его «выхода» из крокодильего чрева. Само изображение гидруса в обоих примерах малопримечательно: вид у этого зверька довольно невзрачный, чем-то напоминает обычную змею. На его фоне крокодил выглядит гораздо более зловещим. Абердинский бестиарий – один из самых роскошно украшенных английских манускриптов XII века – приводит довольно подробное описание гидруса. Там он относится к разряду водяных змей, чем объясняется и его название (от древн. – греч. hydor – «вода»). Как сообщает нам бестиарий, те, кого укусит гидрус, распухают, и спасти их можно только с помощью бычьего навоза. Таким образом, можно предположить, что зверек представлял опасность и для человека.
Чтобы читатель не перепутал убийцу крокодилов гидруса с легендарным чудовищем гидрой, которую одолел Геракл, в тексте Абердинского бестиария приводятся сведения и о ней. При этом автор текста проявляет откровенный скептицизм по отношению к древнегреческому мифу. Как утверждается в бестиарии, гидра – этот мифический многоголовый дракон, способный в мгновение ока отрастить три головы вместо одной отрубленной, – на самом деле является названием места, откуда в древние времена вырвался поток воды и разрушил близлежащий город. Когда жители города перекрывали один выход воде, открывалось множество других (отсюда и аллегория о трех вырастающих голов на месте одной). Видя это, Геракл осушил близлежащее болото и закрыл выходы воды, тем самым совершив один из своих знаменитых подвигов.
Но вернемся к многострадальному крокодилу: почему он, жертва гидруса, выглядит более угрожающе, чем его коварный убийца?
Облик животного в средневековых памятниках изобразительного искусства во многом зависел и от того, какую «моральную» оценку получал тот или иной зверь.
Символическая интерпретация всех окружающих человека существ и явлений – еще одна характерная черта средневекового мышления. Животные не стали исключением. Каждая живая тварь аллегорически воплощала собой определенные качества, соотносящиеся со строгой системой христианской морали. Взаимоотношения животных друг с другом, в свою очередь, могли символически иллюстрировать догматы христианства. В случае с крокодилом его чрево являлось аллегорией ада, куда сошел Христос, чтобы вывести пленников. В тексте бестиария сказано, что, приняв человеческую плоть, Он (Христос) сошел в ад и, разорвав его внутренности, вывел оттуда тех, кто несправедливо содержался там. Он уничтожил саму смерть, воскреснув из мертвых. И получается, что в символическом контексте гидрус – это не хитрый убийца крокодила, а положительный герой, ассоциирующийся с самим Христом!
Чтобы лучше понять замысел средневековых авторов и художников, нужно принять во внимание еще один факт: бестиарий не претендовал на роль учебника по естествознанию, описывающего вещи и явления строго такими, какие они есть на самом деле. Задача бестиария была гораздо шире: во-первых, показать уникальность, красоту и разнообразие созданного Господом мира, прославить чудо Его Творения; во-вторых, рассказать человеку о мире через призму моральных и религиозных категорий, выразить через животных и их повадки основополагающие для христианства нравственные законы, тем самым помочь человеку приблизиться к пониманию высших христианских истин. Отсюда вытекает и особая эстетика средневекового образа – условное изображение с отдельными гипертрофированными чертами выглядит исходя из задач бестиария более убедительным, чем изображение, созданное по принципу «как в жизни».
Осел ленив и туп, не будь как осел
Во фразе, которая является подзаголовком к этому разделу, концентрируется суть подхода к характеристике животных в бестиариях. Каждая тварь выступала в роли своеобразного педагогического инструмента, демонстрируя либо хороший, либо плохой пример. При этом вторая категория примеров была гораздо представительнее первой. Как писал в своих трудах один из Отцов Церкви Амвросий Медиоланский, «мы не можем полностью понять себя самих без того, чтобы в начале познать природу всех живых существ», добавляя, что «природа – лучший путеводитель и учитель»[3]. При описании повадок животных Амвросий делает основной акцент на их «нравственных» качествах. Свои рассуждения он подкрепляет ссылками на Священное Писание, убеждая читателей в назидательной ясности каждого из приведенных им примеров:
«Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе» (Пс, 31:9).
Или, например, Амвросий пишет: «Осел – ленивое и глупое животное, легкая жертва всех несчастий. Какой урок преподносит нам это животное? Не тот ли, что мы должны стать более бдительными, чтобы не отупеть от физического и умственного бездействия»[4].
Животные лучше всего подходили для нравоучительных целей по двум причинам. Первая – это естественное родство человека и животного, которое люди ощущали с самых древних времен. Вторая причина – это подчиненное положение животного по отношению к человеку, ведь только человек был создан по образу и подобию Господа. В то же время Господь наделил животных сознанием, а значит, они должны обладать и свободой воли, следовательно, вопросы морали для них не чужды. Однако эта, казалось бы, простая логика иногда серьезно смущала средневековых мыслителей.
Апостол Павел в своем Послании к Римлянам писал о том, что животные, как и люди, живут в ожидании конца нынешнего мира и надеются на Спасение (Рим. 8:19–22).
Эти слова не раз вводили в замешательство средневековых теологов, предметом обсуждений которых нередко становились вопросы: действительно ли спасутся все животные? И можно ли считать абсолютно всех животных детьми Господа? Вероятно, самые сильные сомнения возникали насчет мерзких тварей бестиария. Ученые мужи Средневековья всерьез спорили: воскреснут ли животные после смерти, нужно ли им поститься, можно ли им трудиться по воскресеньям и – немаловажно – несут ли они моральную ответственность за свои поступки? Иногда это выливалось в очень неприятные истории, вроде той, что произошла со свиньей из Фалеза.
В 1386 году в нормандском городке Фалезе свинью переодели в человеческие одежды и, привязав к кобыле, проволокли по улицам города до места, где для нее был приготовлен эшафот.
Там на глазах у жителей города, а также на глазах других свиней (!) палач изуродовал бедное животное, порезав ему рыло и наживую срезав мясо с ляжек.
Экзекуция закончилась тем, что свинью подвесили за задние лапы и оставили в таком положении умирать, предварительно надев на нее маску с чертами человеческого лица. После этого уже безжизненную тушу проволокли по улицам, привязав к лошади, а затем сожгли. Причиной такой изощренной казни стало убийство свиньей младенца. И самое интересное, что в память об этой душераздирающей казни даже было создано настенное панно в местной церкви Святой Троицы[5].
Существовавшая двойственность отношения к животным превратила их в удобный инструмент для назидания. Еще один яркий пример – гиена. Согласно бестиарию, гиена обитает в могилах и питается телами мертвецов. Она способна по собственному желанию сменить пол, становясь то самцом, то самкой. В Абердинском бестиарии говорится, что позвоночник у гиены жесткий, цельный и она не может повернуться иначе, чем вокруг своей оси. Эти характерные черты зверя как раз и отражены на миниатюре, происходящей из этой рукописи: художник прочертил хребет гиены от макушки до кончика хвоста с помощью длинной линии с острыми отростками по бокам. Он также выделил гениталии животного, желая отразить его способность к половым метаморфозам. Пугающе выглядят и огромные острые клыки, вонзающиеся в человеческую плоть. Так в чем же заключается символический смысл этого животного? Переменчивость природы гиены стала символом обращения человека от праведности к пороку: «Те из нас, кто раб роскоши и жадности, подобны этому животному», – заключает анонимный автор бестиария.

Гиена пожирает труп человека.
Иллюстрация из Абердинского бестиария, начало XIII в. (библиотека Абердинского университета, Шотландия,
Univ Lib. MS 24, f. 11v).

Совокупление и роды гадюки
(Бестиарий, Британская библиотека, MS Harley 4751, fol. 60r).
Кон. XII – начало XIII в.
Еще один интересный пример символической интерпретации животного являет собой гадюка. Чаще всего ее изображают на миниатюрах бестиариев в драматический момент родов, когда детеныши, находящиеся внутри матери, прогрызают ей чрево и выходят наружу. Убежденность в том, что гадюки рожают именно таким образом, уходит корнями в Античность. По сведениям бестиариев, зачатие также происходит своеобразно: самец гадюки помещает голову в рот самки и извергает туда свое семя, отчего она беременеет. Но в процессе совокупления самка гадюки испытывает настолько сильный порыв похоти, что откусывает голову своего «супруга». В итоге погибают оба родителя: самец – во время совокупления, самка – при родах.
В Абердинском бестиарии дается очень развернутая символическая интерпретация гадюки: сказано, что это самое мерзкое из всех существ и самая хитрая из всех змей. При желании совокупиться гадюка отправляется на поиски партнера на берег водоема, привлекая к себе внимание шипением. На ее призывы с легкостью откликается минога (водное позвоночное животное со змеевидным телом): «Когда ее приглашают, она не остается равнодушной и обнимает склизкую змею с искренней привязанностью». Далее идут весьма пространные рассуждения о склонности женщин к прелюбодеянию, частым сменам партнера и измене супругу. Противоестественный союз миноги и гадюки становится символом такой измены: «Жадные объятия миноги и гадюки говорят о том, что это происходит не по закону вида, а от жара похоти». Упор делается и на том, что именно женщина стала причиной первородного греха: «Ева обманула Адама, а не он ее». Далее в бестиарии помещен призыв к женщинам быть более смиренными по отношению к своим мужьям, но также присутствует и наставление мужчинам: «Не ищите, о, мужчины, чужой постели, не замышляйте другой связи. Поймите, о мужи, что тот, кто пытается соблазнить чужую жену, должен быть сравним с той змеей, с которой он ищет отношений. Пусть он поспешит к гадюке, которая заползает в его лоно не честным путем истины, а склизким путем непостоянной любви. Прелюбодеяние – серьезный грех, он наносит вред природе. Вначале Бог создал два существа, Адама и Еву, то есть мужа и жену; и создал женщину из мужчины, то есть из ребра Адама; и повелел им обоим существовать в одном теле и жить одним духом»[6].
Сведения о повадках животных Средневековье практически полностью заимствовало у Античности, черпая их из «Истории животных», написанной Аристотелем, сочинений Геродота, Плиния Старшего, Солина, Элиана, древних трактатов по медицине, астрологии и даже из анекдотов и басен античных писателей. А вот традиция символического истолкования каждой твари зародилась уже в период активного распространения христианства, когда, вероятно, появились первые физиологи – природоведческие сочинения, в которых повадки и внешний вид животных трактовались через призму христианской морали[7]. Физиологи состояли из отдельных небольших глав, описывающих животных, птиц, насекомых, а также нередко содержали сведения о минералах и растениях. Первые физиологи были составлены на греческом языке, вероятно, в Александрии между II и IV веками нашей эры и затем были переведены на латинский, а позднее – на многочисленные национальные языки. Эти трактаты были распространены не только на Западе, но и в Византии, откуда они попадали на Русь. В славянской версии физиолога можно было узнать о горгоне, сиренах, кентаврах, грифонах и прочих фантастических тварях. Неудивительно, что их изображения часто встречаются на изразцах русских храмов, каменных рельефах, произведениях декоративно-прикладного искусства, украшавших православные церкви, а также на многочисленных предметах обихода.
В приведенных примерах раскрывается особое средневековое мировосприятие, в котором любое живое существо – привычное, экзотическое или фантастическое – выступает чудесным образцом божественного творения, преподносящим нам важные моральные уроки и предостерегающим нас от опасностей не только физического, но и духовного порядка.
Почему я ужасный такой?
Выдающийся ученый-энциклопедист и церковный деятель раннего Средневековья Исидор Севильский (род. между 560 и 570 – ум. 636) утверждал, что название того или иного существа или явления – это ключ к получению знания о нем. Главный труд Исидора получил название «Этимологии» и представлял собой фундаментальную энциклопедию из двадцати томов, в которой глубинная суть всех вещей и явлений объяснялась через происхождение их собственных названий, то есть через их этимологию. И хотя зачастую выводы Исидора откровенно «притянуты за уши» и вульгарны, сочинение его получило самое широкое распространение и было востребовано на протяжении всего Средневековья. Им зачитывались, его переписывали, цитировали, на него опирались и постоянно ссылались ученые последующего поколения: Алкуин и Рабан Мавр – великие интеллектуалы эпохи Каролингского возрождения, а также более поздние авторы[8]. Труд Исидора Севильского стал образцом универсальной энциклопедии, вбирающей в себя мудрость предшествующих эпох.
Одиннадцатая книга «Этимологий» называется «О человеке и чудесах». Она посвящена врожденным человеческим аномалиям и отдельным мифологическим тварям: химере, гидре, Сцилле, Церберу, кентавру и сирене. А двенадцатая книга под названием «О животных» рассказывает читателю о зверях и птицах, существующих в природе, хотя и туда включены сведения о загадочном леонтофоне, сатирах и сфинксах, которых Исидор Севильский описывает как животных с косматой гривой и выступающими грудями, но отмечает при этом, что они вполне поддаются приручению[9]. В отличие от авторов физиологов, Исидор старается не оценивать поведение разных существ с точки зрения христианской морали, а сосредотачивается исключительно на происхождении их имен. Например, бобры, пишет он, на латинском языке обозначаются как castores, и названы они так от слова «холостить» (по-латински castrate). Тестикулы (яички) бобров применялись при изготовлении лекарств и были предметом охоты. Это сформировало у бобров необычную привычку: заметив охотников, они, как утверждает Исидор Севильский, сами себя оскопляют укусом зубов, тем самым лишаясь мужественности. Именно этот трагический момент и предпочитали изображать средневековые художники в бестиариях, когда иллюстрировали раздел о бобрах.

«Бобер лишает себя мужественности». Бестиарий из библиотеки Бодлея, Оксфорд. Вторая четверть XIII века,
Англия. (Bodleian Library MS. Bodl. 764, University of Oxford, f. 14r).
В отношении некоторых мифических чудовищ Исидор проявляет определенную сдержанность и стремится дать им реалистическую трактовку: «Болтают и о Сцилле, женщине с собачьими головами, изрыгающими громкий лай, по той причине, что, проплывая Сицилийский пролив, напуганные водоворотами волн, сталкивающихся меж собой, моряки говорят, что вздыбленные волнением лают волны, сталкиваемые друг с другом морской пучиной». А по поводу трехголового мифического чудовища Цербера (собака преисподней) Исидор пишет, что три ее головы означают три возраста, когда смерть пожирает человека: младенчество (infantia), молодость (iuventus) и старость (senectus). И, собственно, само название «Цербер» происходит от греческого слова κρεοβóρος, то есть «пожирающий плоть». Очевидно, что средневековый интеллектуал Исидор Севильский не был столь доверчив, чтобы принимать за чистую монету все древние мифы о монстрах и чудовищах. К изложению отдельных легендарных сведений он подходил с большой долей скептицизма.
Монстры бывают разные: химеры и прочие твари безобразные
Всех монстров Средневековья, так или иначе относящихся к бестиарию, можно поделить на две большие группы: первая – это существа гибридной или химерической природы, то есть «собранные» из частей разных животных либо частей животных и человека; вторая обширная группа – это сказочные твари самобытной наружности, у которых химерические черты отсутствуют. Существует и третья группа, которую в строгом смысле нельзя отнести к монстрам – речь идет о разнообразных представителях фауны экзотических регионов: африканские крокодилы или, например, индийские слоны. В воображении западноевропейских средневековых художников эти редкие животные нередко приобретали гипертрофированные и пугающие черты.
Первая группа монстров многочисленнее всех остальных. Гибридность служила маркером монструозной или сверхчеловеческой природы еще на Древнем Востоке. Во времена Античности эта традиция продолжилась, о чем свидетельствует, в частности, знаменитая химера из Ареццо, бронзовая скульптура высотой 78,5 см и длиной 129 см, созданная этрусскими мастерами в V веке до н. э. В древнегреческой мифологии химера была огнедышащим чудовищем, обитавшим в Малой Азии. Извергая из пасти огонь, она опустошала все вокруг. Одолеть ее смог молодой воин по имени Беллерофонт.

Химера из Ареццо. V в. до н. э.
Бронза. Археологический музей, Флоренция.
Вероятно, та бронзовая фигура химеры, которая сегодня хранится в Археологическом музее во Флоренции, являлась изначально частью скульптурной группы, изображающей момент схватки героя и чудовища. Это косвенно подтверждает сильный напряженный изгиб туловища химеры и ее устрашающий оскал – она застыла в напряженном моменте и, несмотря на ранение, старается из последних сил противостоять воину (фигура которого не сохранилась). У Исидора Севильского про химеру говорится следующее: «И Химеру изображают в виде животного, имеющего морду льва, заднюю часть туловища – от дракона, а среднюю – от козы. Некоторые физиологи говорят, что это не животное, а гора в Киликии, на которой местами кормятся львы и козы, местами изрыгается огонь, а местами она полна змей. Сообщают, что ее облюбовал Беллерофонт, почему и убил химеру». Как видно из текста, в данном случае Исидор Севильский не разделяет мнения о том, что химера действительно существовала, а считает ее всего лишь красивой метафорой.
Среди средневековых гибридов большой популярностью пользовался грифон, в чьем облике соединились черты льва (туловище) и орла (крылья, передние лапы и голова). Изображения грифонов известны еще в древневосточных культурах, они часто встречаются в древнегреческой вазописи и в древнеримских памятниках, где нередко сопровождают языческих божеств, заменяя им лошадей. Античные авторы описывали грифонов как обитателей далеких земель: севера Европы, легендарной северной страны Гипербореи, а также территорий Индии и Эфиопии. Главным делом грифонов было охранять и защищать месторождения золота от посягательств одноглазых людей аримаспов. Представление о том, что дальние земли населены этими странными существами, было унаследовано и Средневековьем. В знаменитой книге путешествий XIV века «Приключения сэра Джона Мандевиля» (фр. «Livre des merveilles du monde») говорится о том, что грифонов особенно много в Азии. В тексте подчеркиваются колоссальный размер и сила этих существ: говорится, что один грифон сильнее, чем восемь львов или сто обычных орлов. Он даже способен похитить и унести в свое гнездо большого коня. Исидор Севильский поместил грифонов в раздел о диких животных, описав их следующим образом: «четвероногие животные, покрытые перьями. Этот род зверей обитает в Гиперборейских горах. Всеми частями тела они – львы; крыльями и лицом похожи на орлов; чрезвычайно враждебны по отношению к лошадям. Увидев человека, разрывают его на части». На миниатюрах средневековых бестиариев зачастую можно встретить сцены нападений грифона на человека или лошадь, которые свидетельствовали об их враждебности и опасности.

Грифон, похищающий лошадь.
Бестиарий XIII века. Бодлианская библиотека, Оксфорд, Англия (MS. Bodl. 764, f. 11v).

Грифон, уносящий в клюве человека. The Liber Floridus (Цветоносная книга) Ламберта из Сент-Омера, Северная Франция, Фландрия. Середина XII в. (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Cod. Guelf. 1 Gud. lat. (Liber Floridus), f. 39v).
https://bestiary.ca/manuscripts/manugallery5319.htm
Образ грифона был особенно востребован в средневековой геральдике. Европейские аристократы включали его изображение в свои гербы, что символизировало силу, военную храбрость и лидерство представителей рода. Несколько причин способствовали особой популярности грифона. Во-первых, в самом его облике сочетались черты царственных животных: льва – царя зверей и орла – царя пернатых. Во-вторых, генетически, то есть с самых древнейших времен, образ этого мифического существа был связан с божественными и царственными особами (например, изображение грифона украшает тронный зал Кносского дворца на Крите, XVI–XV вв. до н. э.). Немаловажную роль в популяризации грифона в Средние века сыграли романы об Александре Македонском (так называемые «Александрии»). Эти произведения нередко подробно иллюстрировались, и в сцене вознесения Александра Македонского именно грифоны доставили его корзину на небо, выступая в роли посредников между миром божественным и миром земным.

«Вознесение Александра Македонского на небо». Рельеф Дмитриевского собора во Владимире, южный фасад. XII в.

«Вознесение Александра Македонского на небо».
Миниатюра из книги «История об Александре», Франция, сер. XV в. (British Library: Royal 15 E VI, fol. 20v).
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=38952

Грифон. Гравюра Мартина Шонгауэра, 1470–1491 гг. Метрополитен-музей, Нью-Йорк.
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/336196
Изображения грифонов можно встретить и на христианских надгробиях, где они символизируют стражников мира мертвых, оберегающих покой погребенных. Природа грифона, соединяющая в себе земного и небесного зверя, ассоциировалась также с идеей двойственной природы Христа, одновременно обладающего и земной, и божественной сущностью. Образ грифона, как можно убедиться, чрезвычайно многозначен, его можно трактовать по-разному, в зависимости от контекста, в котором он находится. Однако позднесредневекового немецкого гравера Мартина Шонгауера символический смысл этого существа интересовал в меньшей степени, гораздо больше его привлекала необычная гибридная внешность грифона, позволяющая поэкспериментировать с сочетаниями фактур шерсти и перьев. Гравер трактовал фигуру грифона нестандартно, строго не привязываясь к средневековой традиции: он, например, с легкостью заменил львиные лапы на бычьи. Шонгауер натуралистично передал текстуру перьев грифона и его выразительный мускульный рельеф, подчеркивающий легендарную силу этого фантастического животного. Несмотря на гибридную природу, облик грифона не был лишен определенной доли благородства.
Другое дело – убивающий взглядом василиск, ядовитое существо омерзительной наружности со смертоносным запахом, отравляющим землю, воду и воздух. Укушенную василиском жертву не доедают звери, к ней не притрагиваются птицы. Даже мертвый василиск не теряет своей губительной силы. Везде, где только будет развеян его прах, пауки не могут сплести свою паутину, а смертоносные твари теряют способность жалить. Как уточняет Исидор Севильский, «василиск» (basiliscus) – это название, происходящее от греческого слова, а по-латыни василиска именовали иначе – regulus, то есть «царь змей». При этом другие змеи не очень жалуют своего «царя», они в ужасе бегут от него. Один лишь взгляд этого монстра способен убить человека. Как сообщают средневековые бестиарии, при встрече с василиском важно увидеть его первым, только тогда есть шанс на спасение. Если же василиск первым увидит свою жертву, шанса выжить у нее уже не будет.
Античные авторы пишут о василиске как о разновидности змеи. Плиний Старший отмечает, что передвигается он, не извивая многократно свое тело, а шествует, поднимая кверху среднюю часть. Своим свистом он обращает в бегство всех змей, а запахом истребляет кустарники, выжигает травы, уничтожает камни. Однажды василиска удалось проткнуть копьем с лошади, но прошедшая через это копье смертоносная сила уничтожила не только всадника, но и саму лошадь[10]. В поэме «Фарсалии» римского поэта Лукана описывается битва армии Катона со змеями, во время которой василиск обращает змей в бегство и в одиночку противостоит воинам. Один солдат поразил василиска, но остался жив только лишь потому, что отрубил себе руку, которая держала копье[11].
Кровь василиска наделялась магической силой: по преданиям, она могла исполнять просьбы, обращенные к правителям, и мольбы к богам, а также избавлять от недугов, наделять амулеты магической и вредоносной силой. Именно поэтому в рецептах средневековых алхимиков василиск служил важным ингредиентом. Монах Теофил, живший в начале XII века, в своем труде «Список различных искусств» (лат. «Schedula diversarum artium», III, 48) рассказывает, как из вылупившихся василисков можно приготовить золото, добавив к ним еще целый ряд замысловатых элементов.

Василиск. Нортумберлендский бестиарий. Англия, сер. XIII в. (Музей Гетти, Лос-Анджелес, MS. 100, f. 54v).
На миниатюрах средневековых бестиариев василиск нередко изображался не как змея, а как существо, напоминающее петуха со змеиным хвостом. Откуда возник такой гибридный образ? Ответить на этот вопрос помогает энциклопедия «О природе вещей» (лат. «De natura rerum»), составленная в XIII веке Фомой из Кантимпрэ. В ней приведены подробные сведения о василиске: «Петух, одряхлевший к старости, сносит яйцо, из которого вылупляется василиск. Однако для этого необходимо совпадение многих вещей. В обильный и горячий навоз он помещает яйцо, и там оно согревается, словно родителями. Спустя много времени появляется птенец и взрастает сам по себе, подобно утенку. У этого животного хвост змеи, а тело петуха. Те, кто утверждает, что видел появление подобного существа на свет, рассказывают, будто у этого яйца вовсе не скорлупа, а шкура крепкая и настолько прочная, что ее невозможно проколоть. Бытует такое мнение, что яйцо, которое сносит петух, вынашивает змея или жаба»[12]. Единственное животное, способное убить василиска, – ласка (лат. mustellae).
Увидев ее, василиск бежит, а она преследует его и убивает. Этот момент запечатлен на страницах Абердинского бестиария. На миниатюре видно, как ласка настигла своего врага и вцепилась ему в шею. Исидор Севильский истолковывал сведения о василиске и ласке в христианском духе: «Творец не создал яда, не предусмотрев для него противоядия».

Ласка убивает василиска. Абердинский бестиарий, Нач. XIII в. (библиотека Абердинского университета, Univ Lib. MS 24, f. 66r).
https://www.abdn.ac.uk/bestiary/ms24/f66r
Единственным человеком, которому удалось одолеть василиска и остаться при этом целым и невредимым, был Александр Македонский. В популярном средневековом сборнике историй из греко-римского прошлого, так называемых «Римский деяниях» (лат. «Gesta Romanorum»), рассказывается о том, как однажды Александр собрал большое войско и окружил некий город. Неожиданно по непонятным причинам воины стали погибать, не имея на теле ни единой раны. Весьма удивившись этому, Александр созвал философов и спросил их: «О наставники, как же может случиться так, что без единой раны воины мои умирают на месте?» Они сказали: «Это неудивительно, на стене города сидит василиск, чей взгляд поражает воинов и убивает». И сказал Александр: «А какое есть средство против василиска?» Они ответили: «Пусть между войском и стеной, на которой сидит василиск, поставят повыше зеркало, и когда он в зеркало посмотрится и отражение его взгляда вернется к нему, то он погибнет»[13]. В этой истории читатель без труда может уловить аллюзию на миф о Медузе Горгоне, которую Персей победил, используя схожую тактику.

Василиск. Гравюра Мельхиора Лорка, 1548 г.
Государственный музей искусств в Копенгагене (Дания).
В христианской традиции василиск стал воплощением вселенского зла и самого дьявола. В библейских текстах этот монстр упоминается исключительно в негативном контексте: «Я пошлю на вас змеев, василисков, против которых нет заговариванья, и они будут уязвлять вас, говорит Господь» (Иер. 8:17). Удивительно, но несмотря на негативную символику, василиск был весьма популярен в средневековой геральдике. Этому поспособствовал и его царственный статус и слава непобедимого соперника. Изображение василиска присутствовало в средневековых гербовых щитах библейских героев Иисуса Навина и Иуды Маккавея, известных своими выдающимися военными подвигами. Василиск также является символической фигурой для города Базеля (Швейцария), в названии которого отражается связь с именем этого монстра: Basilisk («Василиск») – Basel («Базель»). На многих скульптурных изображениях, украшающих сегодня архитектурные постройки и фонтаны Базеля, можно встретить василиска, держащего щит с гербом города. Согласно одному из преданий, на месте города в древности находилась пещера, где жил василиск. По другой версии, когда-то в Базеле петух снес яйцо (из которого потенциально мог вылупиться василиск), за что он был казнен, а яйцо сожжено. На гравюре Мельхиора Лорка, созданной уже в середине XVI века, мы наблюдаем перерождение василиска: он теряет свои крылья, зато получает лапы с перепонками, а его туловище покрывается отвратительными буграми. Мастер Северного Возрождения не стремился досконально следовать средневековой изобразительной традиции, а позволил себе пофантазировать, чтобы максимально внятно выразить мерзкую сущность этого монстра.
В некоторых средневековых бестиариях встречаются существа, происхождение которых вызывает искреннее недоумение. Например, как в случае с чудо-зверем мирмеколеоном, которого также именуют мраволев, муралев или муравьиный лев. Его название происходит от греческих слов «муравей» (μύρμηξ [myrmeks]) и «лев» (λέων [leon]). Соединить этих животных в одном облике – задача не из легких. Однако на страницах трактата «Сад здоровья» (лат. «Hortus Sanitatis»), изданного уже в конце XV века, такая попытка была предпринята. В результате получился чрезвычайно странный гибрид с когтистыми лапами и телом, напоминающим контурами муравья. Помимо этого, из спины чудовища произрастает длинный вертикальный отросток неясного назначения.

Мирмеколеон из Hortus Sanitatis Якоба Мейденбаха, 1491 г.
Так откуда появился этот гибридный монстр? По одной из версий, дело в банальных трудностях перевода. При переводе Библии с иврита на древнегреческий язык слово, обозначающее животное, похожее на льва, было переведено как «муравей-лев». Сведения о необычных муравьях величиной с лисицу, которые отличаются необычайной быстротой и живут ловлей зверей, встречаются у античного географа и путешественника I века Страбона, который также упоминал и о львах, которых именуют муравьями[14]. Не только античные, но и средневековые авторы так и не ответили однозначно на вопрос, что представляет из себя этот нелепый гибридный зверь. Исидор Севильский предполагал, что это насекомое[15], которое охотится на муравьев и пожирает их, отчего, образно говоря, является для своих жертв «львом». Такая неясность, возможно, и стала причиной того, что изображения этого монстра встречаются довольно редко.
Средневековый гадюшник
В средневековых бестиариях можно встретить огромное разнообразие пресмыкающихся и в особенности ползучих гадов: например, змей с огромными рогами (так называемые «керасты»), двуголовых змей (амфисбены) или змей с четырьмя лапами (наличие лап у змей встречается особенно часто). И хотя эти представители фауны не являются в строгом смысле слова монстрами, на миниатюрах, украшающих средневековые манускрипты, они нередко принимают по-настоящему чудовищный вид. Приведем в качестве примера кераста (или кёрату).

Кераст. Раскрашенная гравюра из «Hortus Sanitatis». 1491 г.
https://www.bestiary.us/files/images/kierast_Hortus_sanitatis.jpg
В Античности так именовали рогатых гадюк. В наши дни этот вид змей широко распространен в Северной Африке и на Аравийском полуострове. На самом деле рожки у существ совсем небольшие, но с их помощью они могут зарываться в песок. В средневековых бестиариях кераст порой превращался в настоящее чудовище: на голове змеи вырастало не два, а восемь рогов. Более того, Исидор Севильский и другие энциклопедисты были уверены, что кераст носит на голове не простые рога, а бараньи, что отразилось в ряде иллюстраций. Согласно средневековым представлениям, эта змея прячет свою голову в песок, а рога оставляет на поверхности, чтобы поохотиться. Если какая-либо добыча решит присесть на них, как на жердочку, ядовитый змей тут же умерщвляет ее и затем разрывает на части. В энциклопедии Фомы из Кантимпрэ утверждается, что рога кераста обладают магической силой: если принести на пир нож, рукоятка которого сделана из этих рогов, то он может служить своего рода детектором для обнаружения яда – рукоятка будет выделять пот, если рядом находится отравленная пища. Средневековый богослов Рабан Мавр называл кераста символическим воплощением самого Антихриста[16].

Кераст из энциклопедии Рабана Мавра «О Вселенной» (Pal. lat. 291, fol. 094v). Ватиканская апостольская библиотека.
https://heidicon.ub.uni-heidelberg.de/search

Аспид и змеелов. Миниатюра из Абердинского бестиария, начало XIII века, Англия (MS 24, библиотека Абердинского университета, Шотландия, f. 67v).
Еще один представитель змеиного рода – аспид. Это ядовитая змея, которая передвигается очень быстро. При этом она держит свой рот открытым, выпуская оттуда пар. Змееловы, охотясь на аспида, пытаются зачаровать его музыкой и выманить из пещеры, где он прячется. Однако аспид использует хитрую уловку – он прижимает одно свое ухо к земле, а другое затыкает собственным хвостом. Именно этот момент чаще всего изображается в бестиариях. Повадки аспида получили развитую символическую интерпретацию: подобным образом устроены люди, они закрывают одно ухо земными желаниями, а другое – собственными делами, чтобы не услышать голос Господа, говорящего: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником» (Лк, 14:33). Но если аспид закрывает только уши, то люди закрывают еще и глаза, чтобы не видеть небес и не вспоминать о делах Господа. В средневековых бестиариях можно встретить множество разновидностей аспида, смерть от укусов которых наступает разными способами: сон, кровавый пот, жажда и прочее.

Амфисбена. Миниатюра из Абердинского бестиария, начало XIII век, Англия (MS 24, библиотека Абердинского университета, Шотландия, f. 68v).
https://www.abdn.ac.uk/bestiary/ms24/f68v
Среди наиболее причудливых разновидностей ползучих гадов, о которых рассказывают средневековые бестиарии, – амфисбена. Эта странная тварь имеет две головы, одна из которых находится на привычном месте, а вторая – на хвосте. В качестве особенности этой змеи авторы бестиариев отмечали ее горящие огненные глаза. При этом амфисбена может двигаться в направлении любой из своих голов, делая это чрезвычайно умело и быстро. Согласно описаниям, она перемещает тело круговыми движениями, но как именно это происходит, представить довольно сложно. Эта неопределенность давала средневековым мастерам дополнительный повод пофантазировать. Так, иллюстратор Абердинского бестиария придал амфисбене форму окружности, в то время как другой мастер, очевидно, не понимая, что означают слова «передвигаться круговыми движениями», не стал изобретать что-то новое, а изобразил ее как бескрылого дракона с дополнительной головой на хвосте.

Амфисбена из «Книги сокровищ». Первая четверть XIV в., Франция (Yates Thompson MS 19, f. 51v, Британская библиотека).

Сциталис с магическим рисунком на шкуре. Миниатюра из Абердинского бестиария, XII век, Англия.
(MS 24, библиотека Абердинского университета, Шотландия, f. 68v).
Еще один представитель змеиного рода из средневекового бестиария – сциталис (скитал). На миниатюре Абердинского бестиария в его облике соединились черты собаки (голова), птицы (крылья) и еще какого-то существа, у которого он позаимствовал крупные лапы. Согласно сведениям Исидора Севильского, у сциталиса сверкающая разноцветная кожа, которая гипнотизирует того, кто ее увидит. Так как от природы эта необычная змея медленно ползает и не способна догнать добычу, ей остается только ловить тех, кто застыл, ошеломленный ее видом.

Саламандра, не сгорающая в огне. Бестиарий. Ок. 1270 г.
Франция, (Музей Гетти в Лос-Анджелесе, США, MS. Ludwig XV 3, f. 95v).

Саламандра, демонстрирующая все свои умения: отравить плоды на дереве и воду в колодце, а также не сгореть в пламени. Бестиарий. Англия, первая четверть XIII в. Британская библиотека, Лондон (Royal 12 C XIX, f. 68v).
Саламандру в Средние века считали чрезвычайно ядовитым существом, способным убить несколько человек или животных одновременно. Одним только своим присутствием она могла отравить плоды на деревьях и воду в колодцах. Но вместе с тем саламандра была наделена одной по-настоящему удивительной способностью – гореть и не сгорать в огне, и даже гасить пламя собственным телом. Античные, а вслед за ними и средневековые авторы считали, что это существо не размножается традиционным половым путем, а рождается непосредственно в огне. Чаще всего в текстах бестиария не говорилось о том, как именно выглядит саламандра, отчего на миниатюрах она нередко приобретала весьма своеобразный вид. Например, в бестиарии из музея Гетти в Лос-Анджелесе саламандра похожа на крылатого зверя с четырьмя когтистыми лапами, напоминающего то ли льва, то ли собаку. В другом случае она изображена в облике невзрачной синей змейки с двумя небольшими лапками, ловко уцепившимися за крону дерева, чтобы достать плоды.
Чудесную способность саламандры не сгорать в огне Блаженный Августин приводит в качестве доказательства того, что не все то гибнет, что горит. В этом чуде он усматривает проявление Божественной воли. Человеческая душа может страдать, но не умирать. Так и души грешников, осужденных на вечные мучения в адском пламени, не сгорают (Августин. О граде Божьем, книга XXI, глава 4)[17]. В Библии также можно найти примеры чудесного противостояния огню: в частности, в истории о трех отроках из Книги пророка Даниила (Дан. 1:7, 3:24–95). В ней рассказывается о трех иудейских юношах, брошенных в огненную печь по приказу царя Навуходоносора за отказ поклониться идолу, но не сгоревших, а продолжавших даже в огне славить Господа. Так образ саламандры мог символически истолковываться как образец стойкости, храбрости и мужества. Эти качества особенно импонировали французскому королю Франциску I, избравшему саламандру своей эмблемой. Ее изображение можно встретить в украшениях многочисленных замков монарха. Вместе с девизом Франциска «Питаю и гашу» (лат. nutrisco et extinguo) образ саламандры получал дополнительные смысловые оттенки: в нем заложена определенная двойственность трактовки, ведь пламя любви и благоразумия имеет созидательную силу, а пламя бурных и неумеренных страстей может привести к разрушительным последствиям, поэтому нужно уметь гасить его в себе. Связь образа этого зверька с любовной символикой косвенно подтверждает занимательный рецепт афродизиака из саламандры, которым, ссылаясь на Секстия, делится Плиний: необходимо предварительно вынуть у нее внутренности, отрезав голову и лапы, и законсервировать в меду.
Приручить дракона
Дракон – один из самых древних образов в мировой культуре, встречающийся в мифах и фольклоре многих народов. В средневековом искусстве он чаще всего появляется в апокалиптическом контексте, выступая символическим воплощением самого дьявола. Однако дракона можно встретить и в бестиариях наряду с другими животными. Сведения о нем приводятся в разделе про змей и ящериц. Связано это с тем, что в древнегреческом языке слово «дракон» нередко относилось не только к фантастическому существу, но также могло обозначать и обычную змею. Исидор Севильский считал, что драконы обитают в пещерах Эфиопии и Индии. Он подчеркивал, что они больше всех животных на земле и умеют летать. Дракон не ядовит, но имеет очень сильный хвост, которым может наносить сокрушительные удары или сдавливать свою жертву. При этом Исидор ничего не упоминает о способности драконов выдыхать огонь, ограничиваясь лишь фразой о том, что своим дыханием они «возмущают» воздух.

Слон, повстречавший дракона. Бестиарий середины XIII века, (Британская библиотека, Лондон, Harley MS 3244, f. 39v).

Дракон, удушающий слона. Миниатюра из Абердинского бестиария. Начало XIII века, Англия (MS 24, библиотека Абердинского университета, Шотландия, f. 65v).
Согласно многочисленным средневековым бестиариям, драконы – злейшие враги слонов. Они прячутся у тропинок, по которым ходят слоны, а затем обвиваются узлами вокруг их голеней и убивают удушьем. Сцена безжалостной расправы дракона над слоном нередко изображалась на миниатюрах. Однако слоны – не единственные враги драконов: они также не могут поладить с пантерами и голубями, которые прилетают к растущему в Индии дереву перидексиона. Тень от этого дерева губительна для дракона, поэтому он всячески ее избегает, всегда держась на солнечной стороне. В таком поведении прочитывалась христианская аллегория. Голуби – это верные христиане, которые находятся в безопасности от дьявола до тех пор, пока они остаются в церкви. Христос – правая сторона дерева, святой дух – левая. Дьявол боится церкви и не приближается к ней, но христианин, покидающий церковь, должен его остерегаться.
Одним из источников сведений о драконах и других мифических тварях служили сочинения, составленные средневековыми путешественниками, побывавшими в далеких землях. Среди них особенной популярностью пользовалась «Книга чудес света» Марко Поло. В XIII веке этот венецианский купец совершил свое знаменитое путешествие по Азии, посетив, вероятно, и Китай. После своего возвращения в Венецию Марко Поло принимал участие в войне с Генуей и оказался в плену. Сидя в тюрьме, он рассказал сокамернику о своем путешествии и увиденных чудесах, а тот подробно все записал. Так появилось сочинение, ставшее настоящим бестселлером. Оно многократно переписываюсь и богато иллюстрировалось.

Изображение юньнаньских драконов из «Книги чудес света» Марко Поло, Франция, начало XV века.
(Национальная библиотека Франции, Париж, Français 2810, fol. 55v).
На одной из таких иллюстраций, выполненных в начале XV века, изображены юньнаньские драконы. Следуя традиции бестиариев, Марко Поло называет их разновидностью змей, но при этом подчеркивает, что они настолько страшные и огромные, что приводят в ужас любого, кто к ним приближается или слышит о них: «Водятся тут большие ужи и превеликие змеи. Всякий, глядя на них, дивится, и препротивно на них смотреть. Вот они какие, толстые да жирные: иной, поистине, в длину десять шагов, а в обхват десять пядей; то самые большие. Спереди, у головы, у них две ноги, лапы нет, а есть только когти, как у сокола или как у льва. Голова превеликая, а глаза побольше булки. Пасть такая большая, сразу человека может проглотить. Зубы у них большие, и так они велики да крепки, нет ни человека, ни зверя, чтобы их не боялся. Бывают и поменьше, в восемь, в пять шагов и в один»[18]. Однако на самой миниатюре драконы не столько пугают, сколько привлекают внимание читателя своей необычной внешностью, в частности яркой окраской, сочетающей красные, зеленые, желтые и голубые цвета. В данном случае средневековому художнику было важно подчеркнуть не символический смысл дракона как воплощения дьявольских сил, а экзотичность облика китайской разновидности этих легендарных животных.

Святой Михаил, истребляющий дракона.
Франция, конец XV в.
Национальная библиотека Франции, Париж (Français 14363, fol. 6).

Святая Маргарита, спасающаяся из чрева дракона. Livre d’images de Madame Marie
Бельгия, конец XIII в. Национальная библиотека Франции, Париж (Nouvelle acquisition française 16251, fol. 100). http://expositions.bnf.fr/bestiaire/grand/drag_09.htm
Дракон часто появляется в сюжетах, связанных с историями из жизни христианских святых: победа Святого Георгия над Змием, победа Святого Михаила над драконом, история Маргариты Антиохийской, которая смогла выбраться из чрева проглотившего ее дракона благодаря кресту, и другие похожие предания. Во всех этих примерах дракон выступает в своей самой очевидной роли – воплощает дьявола, поверженного святыми с помощью веры во Христа. Эпизоды, связанные с укрощением и даже приручением драконов, стали своего рода общим местом в житиях христианских святых: так, на миниатюре из Большого часослова Анны Бретонской священнослужитель из Орлеана Святой Лифард изображен с драконом, которого он держит на цепи, словно собственного питомца. Практически ту же самую картину можно наблюдать и на миниатюрах с изображением Святой Марфы: праведница выгуливает на поводке драконоподобное чудище по имени Тараск, которого она смогла покорить своим чудесным пением.

Святой Лифард, приручивший дракона. Большой часослов Анны Бретонской
Франция, Тур, ок.1503–1508 г.
Национальная библиотека Франции, Париж (Latin 9474, fol. 185v).

Святая Марфа укрощает дракона.
Миниатюра из «Золотой легенды», XV в. Франция. Национальная библиотека Франции, Париж (Français 242, fol. 154r).
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8426005j/f323.item
Победы над драконами прославили не только христианских святых. Знаменитые средневековые рыцари Персеваль и Ланселот тоже вступали в схватку с ними. Приключения короля Артура и его славных рыцарей нередко иллюстрировались миниатюрами с этими эпическими сражениями. Но, пожалуй, самым известным укротителем драконов был великий завоеватель Александр Македонский, ставший легендарной фигурой для всего западноевропейского рыцарства. На миниатюрах из сборника о приключениях Александра, созданных в первой четверти XV века, можно увидеть, как он одерживает победу над драконами с бараньими рогами, двуглавыми драконами, изумрудоголовыми драконами и другими удивительными представителями этого семейства.

Святая Марфа укрощает дракона.
Миниатюра из часоcлова Генриха VIII.
Франция, Тур. Ок. 1500 г.
Библиотека и музей Моргана, Нью-Йорк, США (MS H.8, fol. 191v).
https://www.themorgan.org/collection/hours-of-henry-viii/198

Ланселот сражается с драконами.
Франция, Ок. 1470 г.
Национальная библиотека Франции, Париж (Français 112 (1), fol. 224v).
Как и в случае с грифонами, дракон стал одним из популярнейших символов в геральдике. Существует великое множество геральдических драконов, среди которых виверны – драконоподобные существа с одной парой лап, крылатые змии с полиморфными чертами (например, головой льва или человека), бескрылые драконы, огнедышащие и не извергающие пламя драконы, а также другие их разновидности. Как правило, присутствие на гербе дракона было связано с какой-либо местной легендой о победе над этим чудовищем, совершенной отважным героем. В средневековой изобразительной традиции, не связанной с геральдикой, образ дракона также многократно варьировался, в чем уже можно было убедиться, глядя на иллюстрации из различных манускриптов. Но несмотря на удивительное разнообразие облика, в котором предстают перед нами драконы в средневековых памятниках, символическое истолкование этого монстра чаще всего оставалось неизменным: он олицетворял собой дьявольские силы, абсолютное зло и даже самого cатану.


Александр Македонский сражается с драконами. Миниатюры из сборника «Правдивая история доброго короля Александра» (Le Livre et le vraye hystoire du bon roy Alixandre).
Франция, ок. 1420 г.
Британская библиотека, Лондон (Royal 20 B XX f. 78v, f. 83v).
Монстры под водой
Подводные глубины оставались для средневекового человека миром самых сокровенных тайн. Загадочные водные существа, такие недосягаемые и пугающие, будоражили фантазию энциклопедистов и художников. Как и в случае с наземными животными и птицами, главным источником информации об обитателях далеких морей и рек служили сочинения античных авторов и бестиарии, вобравшие в себя сведения из античных трактатов о природе. Средневековым знатоком чудовищ можно по праву считать доминиканского монаха Фому из Кантимпрэ, автора двадцатитомной энциклопедии «О природе вещей» (лат. «De natura rerum», ок. 1230–1245 г.). В ней, как и было принято в Средние века, он собрал сведения обо всем на свете: от космогонических теорий и рассуждений о душе человека до описаний червей, насекомых, растений и камней. Однако, в отличие от других средневековых сборников, в этой энциклопедии ощутим особый интерес автора к монстрам. В частности, к чудовищам, обитающим в морях и реках.

Моряки разводят костер на спине кита, приняв его за остров.
Миниатюра из «Книги сокровищ». Первая четверть XIV в., Франция
(Yates Thompson MS 19, f. 49v, Британская библиотека, Лондон).
Средневековые представления о существах, обитающих в воде, были, пожалуй, самыми туманными. Информация из бестиариев и энциклопедий кажется чрезмерно преувеличенной и даже фантастической. Так, например, кит неизменно описывался как чудовище размером с гору, равнину или остров. При этом отмечалось, что рот у него расположен на лбу. Согласно средневековым убеждениям, эти гигантские монстры поднимают на море такое волнение, что могут отправить на дно целый флот. Нередко они топят корабли, случайно задевая их на плаву. Как указывал еще Исидор Севильский, спины китов покрыты песком, поэтому мореплаватели иногда принимают их за сушу и высаживаются там, бросая якорь, а некоторые даже разводят на этой «суше» костер. Почувствовав жар пламени, зверь внезапно погружается в глубину, унося с собой в пучину и корабль, и людей (как не вспомнить здесь русскую сказку «Конек-Горбунок»?). На миниатюре XIV века из так называемой «Книги сокровищ» можно увидеть огромного кита, на спине которого моряки уже разожгли огонь для приготовления еды.

Морская черепаха. Миниатюра из книги «Цветы природы». Утрехт, середина XIV века. (Гаага, Королевская библиотека, KA 16, f. 110v).
Фома из Кантимпрэ старательно штудировал тексты Аристотеля, Плиния Старшего, Солина, Исидора Севильского и других «классиков», выискивая в них самые интересные сведения о чудовищах. Помимо этого, он располагал и редкими источниками, неизвестными современным исследователям: это некая «Книга вещей» и «Книга Экспериментатора», на которые он неоднократно ссылается. Вероятно, именно в этих утраченных ныне источниках Фома отыскал сведения о редких и малоизвестных монстрах. Сочинение Фомы из Кантимпрэ стало настолько популярным, что его неоднократно переводили на разные национальные языки и цитировали. Один из таких переводов называется «Цветы природы» (нидерл. «Der naturen bloeme»). Он был составлен около 1270 года Якобом ван Марлантом на нидерландском языке. В Королевской национальной библиотеке Нидерландов хранятся два манускрипта с этим сочинением: один – середины XIV века, другой – середины XV века. Оба содержат сотни иллюстраций с изображениями разнообразных тварей, запечатленных с большой степенью оригинальности.
Одна из миниатюр, к примеру, представляет морскую черепаху, но узнать в ней знакомое современному человеку животное совершенно невозможно: со страницы манускрипта на нас смотрит свирепый и пугающий своим видом зубастый монстр с двумя лапами, рыбьим хвостом и необычным панцирем, состоящим из разноцветных треугольных пластин. Сопутствующий изображению текст отчасти объясняет, почему на миниатюре черепаха приобрела такой зловещий вид: «Морская черепаха – огромное и невероятно сильное чудище. Она напоминает сухопутную черепаху, но намного превосходит ее размерами, а именно восемь локтей в длину и четыре в ширину. Панцирь у нее треугольный, словно щит, но намного больше, ибо в длину достигает почти пяти локтей.

Устрица (perna). Миниатюра из книги «Цветы природы». Утрехт, середина XIV века. (Гаага, Королевская библиотека, KA 16, f. 108v).
Бедра у нее длинные, когти большие, а пальцы на лапах больше львиных. Она удивительно сильна и бесстрашна, не боится нападения и трех человек. Если чудище удается перевернуть на спину, оно теряет силу, ибо поднимается с большим трудом, а все из-за длины панциря, который защищает этого зверя со спины и за которым он прячется от ударов»[19].
Еще один показательный пример – устрица (в тексте «Цветов природы» она названа perna). Ее злобный вид сразу внушает читателю мысль о том, что это существо следует опасаться. Согласно приведенному в трактате описанию, устрица (perna) – это огромное морское животное, обитающее среди раковин. Чудище покрыто красной шерстью с золотым отливом, которая подходит для изготовления одежды для мужчин и женщин.


Гибридные монстры, обитающие в воде. «Цветы природы». Утрехт, середина XIV века. (Гаага, Королевская библиотека, KA 16, ff. 105v-106r).
По мнению Фомы из Кантимпрэ, среди обитателей подводного мира существуют аналоги всех сухопутных животных: «Некоторые из них ползают, некоторые бегают, некоторые скачут, некоторые даже летают, но все без исключения плавают. У одних – чешуя, у других – прочная кожа, почти у всех плавники и хвосты, как у рыб, у некоторых, правда, и лапы, которыми они гребут. Некоторые дышат воздухом, подобно сухопутным созданиям, а многие, подобно рыбам, получают жизненный дух из воды». В сочинении Фомы есть описания морского пса, морского оленя, морского зайца, морского коня, морского тельца, быка, осла, коровы и т. д. Внешний вид этих «аналоговых» земным существ чаще всего представляет собой смешение черт сухопутных животных и рыб. Морской олень поднимает свои рога над поверхностью воды и ловит таким образом птиц.

Монстр «Лазоревый». Миниатюра из книги «Цветы природы». Утрехт, середина XIV века. (Гаага, Королевская библиотека, KA 16, f. 104 r).
https://galerij.kb.nl/kb.html#/nl/dernaturenbloeme/page/105/zoom/4/lat/-21.69826549685252/lng/112.67578124999999
Морские собаки отличаются кровожадностью, они преследуют косяки рыб и рыскают по морю в поисках пищи. Не забывает Фома упомянуть и о речных обитателях. По его словам, особенно опасен для человека свирепый речной конь, обитающий в Ниле. У него голени, лапы и когти как у крокодила, но он намного крупнее, а кожа его толщиной в локоть. Завидев в гавани корабль, он, опираясь одной лапой о землю, другой наступает прямо на корабельную палубу и таким образом проламывает или переворачивает все судно. Фома успокаивает читателя лишь упоминанием о том, что встречается речной конь довольно редко. В энциклопедии Фомы описываются и такие свирепые твари, как морской дракон с плавниками вместо крыльев, а также чудовище из реки Ганг по прозвищу «лазоревый», которое он получил, вероятно, от своего лазурного окраса. У него имеются две длинные лапы, которыми он хватает огромных зверей, подстерегая их в гавани, и уносит в пучину вод. На миниатюре художник изобразил лапы лазоревого как две человеческие руки, что выглядит довольно своеобразно. Не менее опасен для человека зифиус, или морская сова. Этот монстр обитает в северных морях и занимается тем, что атакует проплывающие мимо него корабли.
Судя по сведениям из бестиариев и энциклопедий, опасности поджидали мореходов буквально на каждом шагу. Рыба-меч (или морской меч), к примеру, имеет такую острую голову, что с ее помощью протыкает насквозь корабли. Не менее опасна и морская пила. Еще Исидор Севильский утверждал, что рыба-пила, или, как он ее называет, «серра» (serra), обладает зазубренным гребешком, которым с легкостью распиливает корабли, проплывая под ними. Подобными проказами занимается и родственник земного единорога морской однорог. В средневековых текстах внешность этих монстров описывалась без деталей и подробностей, и, чтобы изобразить их, художники были вынуждены подключать всю свою фантазию: например, рыбу-пилу они могли представить в виде крылатой рыбы с головой льва либо в образе химерической птицы или дракона, нападающего на корабли.

Серра (рыба-пила) из «Книги сокровищ». Первая четверть XIV в., Франция (Yates Thompson MS 19, f. 51v, Британская библиотека, f. 48r).

Серра нападает на корабль. Бестиарий. Англия, XIII век. Британская библиотека, Лондон (MS Sloane 3544, fol. 42v).

Наутилус. Миниатюра из книги «Цветы природы». Утрехт, середина XIV века. (Гаага, Королевская библиотека, KA 16, f. 108r).
В иллюстрациях к энциклопедии Якоба ван Марланта морские обитатели, в том числе и такие как моллюски, зачастую имеют человеческие конечности. Для чего художники добавили им руки и ноги, доподлинно неизвестно. Возможно, привнеся черты гибридности в их облик, они хотели подчеркнуть свирепость и опасность этих морских тварей. С другой стороны, очевидно, что иллюстраторам не хватало точных сведений о том, как именно выглядят эти существа, поэтому они пользовались самым знакомым набором понятных мотивов. Например, изображение наутила, или наутилуса (лат. nautilos), представляет собой рыбу с двумя человеческими руками на спине, между которыми в придачу натянут парус. В тексте энциклопедии Фомы из Кантимпрэ о наутиле говорится следующее: «Одним из самых удивительных моллюсков является наутил (кораблик), как его зовут одни, или, как его называют другие, помпил (лоцман). Перевернувшись на затылок, он выбирается на поверхность воды, поднимаясь наверх постепенно, выпуская через специальное отверстие всю свою внутреннюю жидкость, благодаря чему он плывет легко, как корабль с разгруженным трюмом. Потом, разведя в стороны две свои передние ножки, он растягивает между ними пленку удивительно тонкую, которая при попутном ветре становится парусом, остальными ножками подгребает как веслами, а хвостом, который находится у него посередине, управляет как рулем. Так он уходит далеко в море, напоминая игрушечный либурнийский корабль, но если что-то его пугает, он глотает воду и ныряет вглубь».
Еще более своеобразно изображен на страницах энциклопедии полип. Античные и средневековые авторы воспринимали его как чрезвычайно опасного для человека монстра, нападающего на пловцов и ныряльщиков. Считалось, что полип охватывает жертв своими щупальцами, впивается в них присосками и как бы втягивает в себя. На одной из миниатюр XIV века изображен момент расправы этого монстра над человеком: полип имеет вид собакоголовой гигантской рыбы с мощными руками, которыми он крепко сжимает жертву, уже лишившуюся сознания.

Морской полип нападает на человека.
Миниатюра из книги «Цветы природы». Утрехт, середина XIV века. (Гаага, Королевская библиотека, KA 16, f. 108 v).

Морские монстры на Carta Marina Олафа Магнуса. 1539 г.
Университет Миннесоты, Миннеаполис.

Морские монстры на карте Исландии Абрахама Ортелиуса. Дата первого издания: 1590 г. Под буквой F – «английский кит».
Вера в то, что удаленные уголки суши и окружающие их моря населены опасными тварями, оставалась крепка и в XVI веке, даже несмотря на то что ученые к этому времени уже существенно продвинулись в изучении мира животных. На знаменитой «Морской карте» («Carta Marina») Олафа Магнуса, отпечатанной в Венеции в 1539 году, можно найти не только ценную информацию о топографии Северной Европы, но и увидеть множество самых разнообразных чудовищ, населяющих северные моря. Каждое из них по-своему уникально и чрезвычайно эффектно: будь то зифиус, представляющий собой буквальную помесь совы и огромной рыбы, или же устрашающий китообразный боров, на теле которого расположены три гигантских глаза. На карте можно найти великое множество рыбообразных и змееподобных существ, которые ведут себя чрезвычайно агрессивно по отношению к проплывающим мимо кораблям. Эти фантастические монстры обладают настолько убедительной и впечатляющей наружностью, что даже такой видный ученый-натуралист, как Конрад Геснер, включил их в свой фундаментальный труд о животных «Historiae animalium», изданный в Цюрихе в середине XVI века. Верил ли он в их существование? Этот вопрос почти риторический. С одной стороны, целью ученого было собрать максимально полные данные обо всех когда-либо упомянутых в трудах предшествующих авторов тварях, а с другой стороны, это мог быть и грамотный маркетинговый ход: дополнив свой труд интригующими и экзотическими иллюстрациями, он таким образом, вероятно, рассчитывал увеличить продажи собственной книги.
Полулюди-полузвери
Изображения существ, в облике которых слились черты человека и животного, встречаются в памятниках средневекового искусства довольно часто. Значительная доля таких гибридов мигрировала в Средние века из Античности. Древнегреческая мифология богата химерами: к примеру, Тритон – сын морского божества Посейдона, обладавший туловищем и головой человека, нижняя часть тела которого представляла из себя гигантский змееподобный хвост. Еще один пример – богиня Ехидна, сочетавшая в себе черты женщины и змеи, не говоря уже о многочисленных мифических существах более низкого ранга: сатиры, кентавры, сирены, гарпии и прочие. Такое противоестественное, на наш современный взгляд, соединение человека и животного в древности, наоборот, воспринималось как свидетельство особого статуса, указывало на наличие скрытых сверхъестественных сил, на связь обладателя таких черт с миром божественного.
Для Средневековья гибридность приобрела иной смысл. Христианская культура наделила образ человека сакральным смыслом, ведь он напрямую был связан со своим прообразом, то есть Создателем, сотворившим человека по своему образу и подобию. Любое отклонение от нормы воспринималось как нечто противоестественное и неправильное, лишенное истинной духовности и греховное. Изображения чтимых в христианстве святых, не говоря уже об изображении самого Спасителя, не нуждались в каких-либо дополнительных внешних атрибутах, которые бы искажали естественную человеческую физиологию и тем самым намекали бы на их физическое или духовное превосходство. Немногочисленные исключения из этого правила все же были. Например, святой Христофор, который в православной традиции изображался в образе человека с песьей головой. Однако такие примеры не носили массового характера.
В свою очередь, в средневековых бестиариях существа химерической природы встречаются в большом изобилии. Прежде всего это связано с тем, что многие из них перекочевали в средневековые сборники из античных источников. Однако далеко не все существа пережили миграцию успешно: некоторые античные монстры были позабыты, а другие, напротив, испытали новый пик популярности. Среди них – сирена. Согласно древнегреческим мифам, сирены – это сладкоголосые демонические существа, полуптицы-полуженщины, зачаровывающие своим пением мореплавателей и погружающие их в забытье. Под их коварные чары чуть было не попал и отважный мореплаватель Одиссей со своей командой. Уже неоднократно упоминаемый нами Исидор Севильский проявляет определенную сдержанность в описании сирен: «Выдумывают также, что были три Сирены, отчасти девы, отчасти – крылатые существа, имеющие крылья и когти; одна из них заманивала голосом, другая – игрой на флейте, третья – на лире. Завлекая своим пением моряков, они доводили дело до кораблекрушения. По правде же были они блудницами, которые обирали встречных до нитки, за что им и приписывали кораблекрушения. А описывают их с крыльями и когтями, поскольку любовь и окрыляет, и ранит».
Христианская традиция превратила сирен в символическое воплощение дьявольских искушений, соблазнов и порока. Нередко под этими искушениями понимались именно плотские устремления человека, связанные с половым влечением и грехом прелюбодеяния. Амвросий Медиоланский еще в IV веке развивал эту идею, сравнивая мифических сирен с ловушками, в которые попадают сластолюбцы, желающие наслаждаться лишь чувственными удовольствиями. Он пояснял, что плотские соблазны усыпляют бдительность и разум человека, губят не только его тело, но и душу. В этом полном опасностей житейском море душа человека может обрести спасение, лишь связав себя духовными узами с древом Креста Христова, как с мачтой, к которой был привязан Одиссей[20].

Сирена с гребнем и рыбой в руках из бестиария Эшмола. Англия, XIII век. (Bodleian Library MS. Ashmole 1511, f. 65v).
Изображение средневековых сирен часто отличается от античных. Нередко вместо птичьей половины туловища средневековые сирены имеют рыбий хвост, как на миниатюре из бестиария Эшмола. В одном из раннесредневековых анонимных сборников, посвященных чудовищам (так называемый «Liber monstrorum»), сирена уже описывается как обладательница рыбьего хвоста[21]. Откуда сирены приобрели эту необычную черту, о которой ничего не пишут античные авторы, до конца не ясно. Возможно, в эпоху Средневековья образ сирены смешался с образом античных тритонов, у которых как раз нижняя часть тела представляла собой несколько рыбьих хвостов или хвостов дельфина. А может быть, сработала ассоциативная связь, ведь сирены обитали на морском острове и интересовались исключительно мореплавателями. Отсюда возник их «морской атрибут» – рыбий хвост.

Сирена с двумя хвостами на капители Пармского собора. Италия, XII в.
http://www.terrestorie.com/posti/parma/parma.htm
Средневековые мастера часто изображали сирен с гребнем и зеркалом в руках. Эти предметы намекали на склонность этих существ к самолюбованию, подчеркивали идею их пленительной и фатальной красоты. Аллегорическим воплощением погубленной человеческой души являлось изображение рыбы, которую сирена нередко держит в руке, как трофей. В средневековом искусстве можно также встретить изображения двухвостых сирен (вероятно, здесь также сказалось их родство с античными тритонами). Такой тип изображений особенно подходил для того, чтобы подчеркнуть порочность этих существ. Средневековые мастера изображали хвосты разведенными по разные стороны от туловища сирены и запрокинутыми вверх, отчего получалась практически акробатическая поза. Для ясности смысла между запрокинутыми хвостами могло изображаться влагалище. Еще одним непристойным атрибутом служили змеи, впивающиеся в груди сирен, – еще один средневековый «маркер» распутства.

Сирена и онокентавр. Рукопись музея Гетти в Лос-Анджелесе (MS. Ludwig XV 3, fol.78r).

Онокентавр с дубиной из книги «Цветы природы». Середина XV века.
Утрехт (?). Ок. 1450 г.
(Гаага, Королевская библиотека, KB, 76 E 4).
https://galerij.kb.nl/kb.html#/nl/dernaturenbloeme2/page/65/zoom/4/lat/-68.08970896434309/lng/-15.1171875
В некоторых случаях сирена изображалась со своим напарником онокентавром (получеловеком-полуослом). Его образ служил аллегорией двойственной души, в которой есть как возвышенные помыслы, так и низменные бесовские качества. Эти две стороны находятся в постоянном конфликте, как у человека, который помышляет о добре, но не в силах отречься от грехов. И хотя онокентавр имел двойственную природу, демонстрируя противоречие между рациональным началом и необузданностью плоти, его символическая трактовка оставалась в большей степени негативной: традиционно он служил аллегорией лицемерного человека, говорящего о добре, но творящего зло.

Сирена, воплощающая женское коварство, губит молодых и неопытных молодых людей. Иллюстрация из поэмы Пьера Гренгуара «Злодеяния мира» («Les abus du monde»). Франция, около 1510 года. Библиотека и музей Моргана, Нью-Йорк, MS M. 42, f. 15).
https://www.themorgan.org/blog/our-medieval-monsters-are-home
Автор миниатюры к поэме Пьера Гренгуара «Злодеяния мира», написанной в начале XVI века, старался изобразить сирену так, чтобы не упустить ни одной из ее характерных черт: он одновременно наделил ее и птичьими (лапы и крылья), и рыбьими (чешуя и хвост) чертами. На иллюстрации сирена с прекрасным лицом и соблазнительной грудью безжалостно топит юных аристократов в пучине вод. Миниатюру сопровождает стихотворение Гренгуара, призывающее мужчин не поддаваться чарам женщин, которые манят своей внешностью, скрывая острые когти. В средневековых манускриптах можно встретить и гораздо более жестокие примеры расправы сирен над мужчинами, где они буквально разрывают их на части. Ради справедливости стоит отметить, что в средневековой изобразительной традиции существовали и сирены мужского пола, образ которых, вероятно, намекал на то, что и мужчины не лишены доли коварства. Однако таких примеров значительно меньше.

Сирена мужского пола в окружении сирен-женщин. Нортумберлендский бестиарий. Англия. Сер. XIII в.
(Музей Гетти, Лос-Анджелес, США. Ms. 100, fol. 14).

Мелюзина принимает ванну, а ее супруг Раймондин узнает о ее превращении в полузмею. Начало XV в. «Роман о Мелюзине». Париж (Национальная библиотека Франции, Париж, ms. Français 24383, fo 19).
Расхожее для всего средневековья отношение к женщине как к двуличному, ненадежному и опасному существу отразилось в еще одном известном средневековом сюжете – легенде о полуженщине-полузмее Мелюзине. По преданию, Мелюзина, выйдя замуж за обычного человека, поставила своему мужу условие никогда не входить в ее спальню по субботам. Именно в этот день она приобретала свое змеиное обличье. Но, как и водится в подобных историях, однажды этот запрет был нарушен. На миниатюре XV века, иллюстрирующей эту легенду, запечатлен момент, когда супруг Мелюзины решает подсмотреть, как она принимает ванну. Так он узнает о наличии у нее хвоста, а судя по изображению, еще и драконьих крылышек за спиной.

Сцена Грехопадения с драконопедом.
Из манускрипта «Поиски Святого Грааля». Франция, ок. 1470 г. (Национальная библиотека Франции, Париж, ms. français 116, f. 657v).
http://expositions.bnf.fr/bestiaire/grand/z_15.htm

Микеланджело. «Грехопадение». Фрагмент фрески на своде Сикстинской капеллы в Ватикане. 1508–1512 г.
Тема женщины-змеи воплотилась и в образе так называемого драконопеда. Средневековые энциклопедии чаще всего описывают его как большого и могущественного змея с девичьим лицом[22]. Начиная примерно с XIII века драконопед занял прочное место в одной из магистральных для всей христианской иконографии сцен – Грехопадении. Там он выступал в роли змея-искусителя, подталкивающего Еву отведать запретный плод. Появление у змея человеческой головы могло быть связано с влиянием мистерий. Эти благочестивые театрализованные представления на темы из Священного Писания получили широкое распространение в эпоху зрелого Cредневековья. Актеры исполняли в них роли различных персонажей священной истории, и чтобы облегчить диалог между змеем-искусителем и Евой, вероятно, лицо актера не скрывалось. А вот превращение змея в существо женского пола (что противоречит самому тексту Библии, где змей упоминается исключительно в мужском роде) могло быть связано со схоластической историей Петра Комистора, в которой говорится, что Сатана решил соблазнить подобное подобным, придав змею-искусителю женский облик для того, чтобы Ева легче доверилась ему[23]. Этот женский тип змея-искусителя будет использован и великим мастером эпохи Возрождения Микеланджело, который поместит его в центре свода Сикстинской капеллы в Ватикане.

Сатир с конским хвостом балансирует, удерживая на своем пенисе чашу с вином.
Аттический краснофигурный псиктер. Ок. 500–490 гг. до н. э.
Британский музей. Лондон.
https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1868-0606-7

Сатир с дубинкой из Абердинского бестиария, Англия, начало XIII века (библиотека Абердинского университета, Шотландия, Univ Lib. MS 24, f. 13r).
https://www.abdn.ac.uk/bestiary/ms24/f13r
В средневековых бестиариях прочно обосновался еще один известный гибрид человека и животного – сатир, верхняя часть которого являла собой мужской торс, а нижняя – козлиные ноги. В древнегреческой мифологии сатиры считались лесными божествами и связывались с культом плодородия. Они были частыми участниками веселых оргий и любителями обильных возлияний. Именно поэтому их изображения нередко встречаются в росписях античных сосудов, предназначавшихся для вина. В Средние века сатиры ассоциировались с неумеренностью, похотью, пьянством и развязным поведением. В текстах бестиариев их нередко описывали как разновидность обезьян, приписывая им странности в поведении. На миниатюре из Абердинского бестиария сатир представлен как человекообразное существо, тело которого густо покрыто шерстью, а за спиной развевается пышный хвост. На голове у него длинные, наподобие козлиных, рога, а в лапах зажато что-то вроде жезла или дубинки. В комментарии к изображению говорится о том, что лицо у сатира привлекательное, но беспокойное, к тому же эти существа часто жестикулируют, будто бы изображая пантомиму. Лицо сатира на миниатюре из Абердинского бестиария не отличается миловидностью, а вот особое внимание художника к мимике монстра очевидно: его губы нарочито искривлены, уголки рта опущены вниз и физиономия в целом напоминает трагическую театральную маску. В некоторых средневековых источниках можно встретить мнение о том, что сатиры – это все-таки не обезьяны и не какие-либо другие животные, а разновидность дикой расы людей, обитающей в удаленных уголках мира.

Мантикора из бестиария Эшмола. Англия, XIII век. (Bodleian Library MS. Ashmole 1511, f. 22v).

Мантикора с оторванной человеческой ногой в зубах. XIII век, Англия. (Bodleian Library, MS. Bodl. 764, f. 025r).
На фоне особо опасных существ средневекового бестиария выделяется мантикора – коварный и безжалостный монстр, питающийся человеческой плотью. Подробные сведения о мантикоре приводит Аристотель: ссылаясь на греческого врача Ктесия, он описывает ее как животное, обитающее в Индии[24]. Челюсти у мантикоры необычные, с тремя рядами зубов каждая, что само по себе уже внушает страх. По своему размеру она сопоставима с крупным львом. От царя зверей мантикора унаследовала туловище и лапы, а ее хвост усыпан острыми шипами и напоминает жало скорпиона. На кровожадность зверя указывает его ярко-красный цвет. Мантикора обладает и человеческими чертами: лицо и уши у нее как у людей. Она умеет издавать необычный звук, напоминающий звучание трубы или свирели. Ко всему прочему мантикора чрезвычайно быстро передвигается, поэтому с легкостью настигает и пожирает человека. В христианской интерпретации мантикора олицетворяла собой демонические силы, а из-за коварной привычки пользоваться своим миловидным лицом для заманивания жертв она также служила символом обмана. Облик мантикоры на миниатюрах средневековых рукописей отличается разнообразием. Средневековые мастера могли представить ее в виде огненно-красного монстра со свирепым оскалом или как львиноподобное существо с головой человека и длинным хвостом, усеянным острыми шипами (хотя шипы на иллюстрациях нередко отсутствуют). На миниатюре из английского часослова XIII века мантикора носит на голове характерную еврейскую шапочку и держит в зубах оторванную человеческую ногу – красноречивое напоминание зрителю о ее привычках.

Иллюстрация из книги Эдварда Топселла «История четвероногих животных и змей». 1607 г.
Несмотря на разнообразие обликов и фантастические черты, мантикору и в Новое время продолжали включать в авторитетные энциклопедии по зоологии. В трактате Эдварда Топселла, изданном в 1607 году, содержится одно из самых оригинальных ее изображений. На нем мантикора имеет гигантскую, простирающуюся от уха до уха пасть, а кончик ее хвоста представляет собой клубок из длинных и острых игл. Такой детализированный и оригинальный облик появляется в эпоху усиливающегося рационализма, когда, казалось бы, подобное существо уже давно должно было быть отнесено к разряду выдумок и небылиц. Тем более что даже во времена Античности некоторые авторы проявляли определенный скептицизм по отношению к мантикоре, считая ее вымышленным созданием. Греческий писатель и географ Павсаний писал: «Что же касается зверя, о котором Ктесий говорит в своем повествовании об Индии, – индийцы называют его мартихора, а эллины – людоедом, то я думаю, что это тигр. То, что они передают, будто бы у него на каждой челюсти по три ряда зубов и что у него на конце хвоста какие-то острия и что этими остриями он защищается вблизи, но может бросать их и далеко, подобно стрелкам из лука, так вот, мне кажется, что индийцы сообщают друг другу такие неправдоподобные рассказы вследствие крайнего страха перед этим зверем. <…> …когда тигр являлся перед ними в лучах заходящего солнца, он представлялся им красным и одноцветным…»[25] Тем не менее образ мантикоры – коварной и смертельно опасной – продолжал будоражить умы художников не одно столетие и продолжает жить в современной культуре.


Морской рыцарь и морской монах.
Миниатюры из книги «Цветы природы». Утрехт, середина XIV века. (Гаага, Королевская библиотека, KA 16, f. 110v и 107v).
Гибридов с антропоморфными чертами можно было встретить не только на суше, но и среди обитателей подводных миров. О самых необычных из них мы узнаем в уже упомянутой энциклопедии фламандского поэта XIII века Якоба ван Марланта под названием «Цветы природы»: это морской рыцарь и морской монах. Первый представляет собой что-то вроде русалки в тяжелом рыцарском шлеме, с мечом и щитом в руках. Второй же имеет более выдающуюся внешность: он похож на рыбу с головой монаха, недавно принявшего постриг. В тексте энциклопедии Фомы из Кантимпрэ сообщаются ценные сведения об этом чудовище: «Морской монах – это чудовище, обитающее в море, а именно в море Британии. Нижняя часть у него как у рыбы, а верхняя словно у человека. Его голова похожа на голову только что побритого монаха. Белая, безволосая макушка, затем черный выпуклый обруч, покоящийся прямо над ушами и очень похожий на волосы, которые оставляют на голове монаха или клирика. Это чудовище охотно приближается к людям, гуляющим по берегу, играет и подплывает к ним, выпрыгивая из воды. Если оно видит, что людям нравятся его игры, то радуется и принимается еще больше забавляться на поверхности моря. Если оно видит, что от удивления человек решается приблизиться к нему, то приближается сам, а при случае хватает жертву и тащит его в морские глубины, где насыщается человеческой плотью. Лицом он не похож на человека, нос у него как у рыбы, а пасть опоясывает нос».


Морской монах и морской епископ
Иллюстрации из «Истории животных» (Historiae animalium) Конрада Геснера, 1516–1565 г. Книга 4.
В XVI веке в источниках появляется упоминание и о морском епископе, по-видимому, родственнике монаха. По легенде, это морское чудовище было выловлено из моря и доставлено ко двору короля Польши. Его осмотрела группа католических епископов, которым рыба подала жест с просьбой отпустить ее обратно в море. Это желание было исполнено, а после того как рыбу-епископа отпустили, она, совершив крестное знамение, исчезла в море. Другая похожая рыба была поймана в океане недалеко от Германии в 1531 году. Однако ее история была печальнее: рыба отказывалась от предлагаемой ей еды, поэтому умерла через три дня. Сообщения о морских монахах и морских епископах вошли в книги по естественной истории, опубликованные видными натуралистами XVI века: Пьером Белоном, Гийомом Ронделе и Конрадом Геснером. В изданиях их трудов можно найти причудливые изображения этих морских чудовищ: морской епископ отличается наличием мантии, доходящей ему примерно до колен, а также имеет головной убор, напоминающий митру – важную часть облачения епископов. За свой необычный «наряд» морской епископ даже попал на страницы первой европейской книги о костюмах, проиллюстрированной Франсуа Деспре в 1562 году.

Рыба-епископ (морской епископ) из книги Франсуа Деспре «Коллекция разных стилей одежды» (фр. «Recueil de la diversité des habits»), дата издания: 1562 г.
Наиболее скептически настроенные умы были склонны видеть в морском монахе гигантскую каракатицу или кальмара, а в случае с морским епископом – разновидность гигантского ската, обитающего в далеких морях. Чтобы изобразить этих таинственных обитателей подводных глубин, средневековые мастера дорисовывали их образы знакомыми и понятными чертами, до неузнаваемости искажая реальный прототип. Несмотря на это, созданные ими иллюстрации снискали популярность и продолжали тиражироваться, приобретая порой новые особенности и детали.

Мандрагора, привязанная к собаке. «Медицинский и травяной сборник», XII в.
Британская библиотека, Лондон (Sloane MS 1975, f. 49r).
http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=sloane_ms_1975_fs001r
Стремление «очеловечить» животных путем прибавления к их облику антропоморфных черт было весьма распространенным способом превратить привычных существ в монстров. Эта практика распространилась даже на растения. Яркий пример – мандрагора. Сведения об этом необыкновенном растении часто встречаются в средневековых медицинских трактатах и бестиариях. Согласно популярному в Средние века описанию, корни мандрагоры имеют форму человеческой фигуры. Известное и в наши дни растение с таким же названием действительно имеет очень своеобразную корневую систему, которая отдаленно может напомнить контурами человеческое тело. Однако средневековые трактаты уверяли, что это растение еще и кричит, когда его выдергивают из земли. Мандрагору широко использовали в медицине и охотились за ее корнями. По этой причине она научилась хитроумно защищаться от людей: когда ее пытаются достать из земли, она издает истошный крик, от которого любой человек умирает или сходит с ума. Чтобы как-то противостоять мандрагоре и избежать смерти, средневековые трактаты предлагали читателям полезный «лайфхак»: необходимо осторожно привязать к растению голодную собаку и положить на расстоянии кусок мяса. Желая добраться до мяса, собака перетянет веревку и вытащит растение из земли, а ее хозяин остается таким образом в безопасности, вне пределов слышимости крика мандрагоры. Считалось, что мандрагора растет на Востоке, недалеко от Рая. Также существовало убеждение, что самка слона, чтобы зачать ребенка, должна съесть немного корня этого растения. Изображения мандрагоры часто представляют собой стоящего или вертикально зарытого в землю человека, на голове которого растет пышная шевелюра из листьев.
* * *
Животные – непременные спутники человека на протяжении всей истории. Они служат ему, помогают в повседневных трудах и кормят. Это единственные, кроме самого человека, одушевленные создания на земле, которые имеют разум и умеют общаться. Но в то же время человека и животное разделяет большая дистанция, которую мы хорошо ощущаем, но которую порой сложно описать словами. Средневековый бестиарий включал в себя самых разных представителей животного мира, и его неотъемлемой частью были фантастические существа и монстры. Все они служили объектом пристального внимания, их повадки и привычки – порой странные, а порой и попросту отвратительные – воспринимались как символические примеры христианских добродетелей или пороков. Бестиарий для Средних веков стал своего рода зеркалом, в которое заглядывал человек, видя в нем отражение хорошей или плохой ролевой модели. Эпоху Средневековья нередко называют «детством» европейской цивилизации, и человек этой эпохи, во многом как и ребенок, легче прочитывал и усваивал понятия о том, что такое хорошо, а что такое плохо, через простые и запоминающиеся примеры, через «истории», в которых главную роль играли животные.
Мы уже убеждались не раз, что даже вполне обыденные для жителя средневековой Европы животные могли приобретать на страницах бестиария по-настоящему чудовищный вид, бесконечно далекий от истинного прототипа. Сегодня это кажется нам удивительным, странным и даже забавным. Однако это не означает, что средневековые мастера не умели изображать вещи такими, какими они были на самом деле. Для средневековых мастеров подражание натуре не являлось самоцелью. Важнее было выразить символическую «сущность» того или иного создания, раскрыть тайные смыслы вещей и явлений, установив таким образом незримую связь между материальным и нематериальным миром. Для Средневековья истина всегда находилась за пределами реальности и чувственного опыта, она принадлежала миру высшего порядка, недоступному обычному человеку. И для того, чтобы приблизиться к ней, требовалось воображение художника, не скованного стремлением подражать природе, а желающего посредством визуального языка, яркого и порой провоцирующего, непременно воздействовать на зрителя и предложить ему убедительный и цепляющий внимание образ. Кажется, что средневековым мастерам это удалось.
Глава 2
Пришельцы с края света
Мир средневековых монстров населяли не только фантастические животные, но и люди-монстры – существа еще более странные и загадочные. Речь идет о безголовых блеммиях, одноглазых аримаспийцах, одноногих моноподах, кинокефалах, дикарях и многих других. Памятников с их изображениями сохранилось так много, что можно подумать, будто бы в Средние века эти диковинные создания были абсолютно привычным явлением и жили с обычными людьми бок о бок. В то время как в наши дни даже ребенок с трудом поверит в существование таких необычных чудовищ с выраженными человеческими чертами. Неужели средневековые люди, в том числе интеллектуалы и энциклопедисты, действительно думали, что чудовищные расы существуют в природе? С чем было связано это убеждение? И кто первым описал этих человекообразных монстров?[26]
Где живут пришельцы?
Для средневекового человека представители разнообразных чудовищных рас были своего рода пришельцами. Но пришельцами не с других планет, с чем сегодня плотно ассоциируется это слово, а пришельцами с самых отдаленных уголков земли. Как и в случае с бестиариями, сведения о необычных людях-монстрах Средневековье черпало у античных писателей. Последние были уверены, что чудовищные расы живут на самом краю света, далеко на Востоке, прежде всего в Индии и Эфиопии (последняя, как считалось тогда, находится неподалеку от Индии). Эти неизведанные земли стали для Античности, а затем и для всего Средневековья краем чудес и пристанищем самых фантастических обитателей. По мнению древних авторов, на этих удаленных территориях обитали мантикоры, единороги, гигантские драконы и удивительные народы, обладающие не только непривычной внешностью, но и странными привычками: к примеру, представители расы панотиев использовали свои гигантские уши в качестве одеяла.

Пигмей, сражающийся с журавлем. Краснофигурная роспись. Афины, ок. V в. до н. э. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург (?).
https://www.theoi.com/Gallery/T92.1.html
Первым древнегреческим автором, который описал Индию с ее удивительными обитателями, был древнегреческий историк Геродот (V в. до н. э.). Однако его знания об этих территориях были еще весьма скудными и туманными. Более многословным был последователь Геродота Ктесий Книдский (V в. – нач. IV в. до н. э.), который посвятил описанию Индии отдельное сочинение. Оно получило название «Индика», и туда вошло множество сказочных историй о Востоке. Ктесий, в частности, утверждал, что в Индии проживают пигмеи – раса миниатюрных и низкорослых людей, которым приходится сражаться с журавлями. Эти нехитрые батальные сцены сегодня можно увидеть на античных вазах. Кроме пигмеев Индию населяют скиаподы (сциаподы или, как их еще называют, моноподы) – люди с одной ногой, огромная ступня которой позволяет им укрываться от палящего солнца наподобие зонтика. По сведениям Ктесия, несмотря на свою одноногость, сциаподы бегают очень быстро. Хотя как именно им это удается, представить довольно сложно.
Ктесий также упоминает расу людей, на руках и ногах которых расположено по восемь пальцев. Они рождаются с белыми волосами, но после тридцати лет их шевелюра начинает темнеть, становясь в конечном итоге черной. Греческий историк также поселил в Индии людей с длинными хвостами, большими ушами, гигантов, а также расу песьеголовцев, представители которой не владеют человеческой речью, а лают, когда общаются друг с другом. Интересно, что сам Ктесий путешественником не был, а значительную часть своей жизни провел в Персии, где был личным врачом царя Артаксеркса II. Бывал ли он в Индии? Сегодня исследователи предполагают, что, скорее всего, нет. А если он там не бывал, то можно ли доверять его словам? Этот вопрос задавали себе и последователи Ктесия. Однако в условиях практически полного отсутствия альтернативных источников им волей-неволей приходилось опираться на сведения своего предшественника.
Первопроходцем в освоении и изучении Индии был, конечно, Александр Македонский. И хотя его поход на Восток, продолжавшийся примерно с 334 по 325 годы до н. э., носил отнюдь не этнографических характер, он позаботился о том, чтобы взять с собой ученых для описания земель, через которые проходили его военные отряды. К сожалению, первоисточники созданных в то время записей утеряны, лишь некоторые отрывки вошли в сочинения более поздних авторов. Выдающиеся военные успехи македонца будоражили сердца и умы не только его современников. Практически сразу после смерти великого полководца о нем стали слагать легенды, в которых прославлялись его военные подвиги и удивительные приключения. Иногда они описывались от первого лица, как например, в «Послании Александра Аристотелю о чудесах Индии», которое было составлено не более века спустя после смерти македонца. В нем будто бы сам Александр Македонский рассказывает своему учителю о чудовищах, встречающихся ему на пути: «Здесь мы отдыхали несколько дней; более того, мы отложили поход; мы повстречали людей, которые имеют шесть рук и шесть ног. После того, как мы обратили их в бегство, мы продолжили свой путь до места на берегу моря. <…> Покинув это место, мы шли несколько дней и встретили людей, которые шестиноги и трехглазы, потом людей собакоголовых; мы положили много трудов, чтобы обратить их в бегство»[27]. В этом письме содержатся и многочисленные упоминания
об удивительных животных, с которыми пришлось сражаться воинам Александра: например, о свирепом дендентиране, размерами крупнее слона и с черной головой, на которой возвышались три мощных рога. Изображение этого монстра встречается в ряде средневековых рукописей, посвященных приключениям Александра.

Александр Македонский сражается с трехрогим зверем дендентираном во время своего индийского похода. История Александра Великого. XIII в. Королевская библиотека Бельгии, Брюссель (Ms. 11.040).
На основе многочисленных и разношерстных источников, в которых преимущественное место отводилось описанию чудесных событий и явлений, с которыми сталкивался Александр во время своих походов, возник так называемый «Роман об Александре» – псевдоисторическое сочинение, приписываемое неизвестному греческому автору IV века до н. э., часто именуемому Псевдо-Каллисфеном. Этот текст был щедро приправлен откровенной выдумкой и фантастикой, отчего, вероятно, и снискал невероятный успех в Средневековье. Он переводился на различные языки, породив огромное множество средневековых версий «Александрий». Подобные сочинения существовали и в Древней Руси. В этих многочисленных романах Александр Македонский во главе своей непобедимой армии совершает удивительные поступки: опускается на морское дно, возносится к небесам в клетке, поддерживаемой грифонами, встречает на своем пути свирепых монстров и вступает с ними в жестокие схватки.

Сражение Александра с вепрями и многорукими дикарями.
«Правдивая история короля Александра», Royal MS 20 B XX, Британская библиотека, первая четверть 15 века. f. 51r

Сражение Александра с расой меченосцев.
«Правдивая история короля Александра», Royal MS 20 B XX, Британская библиотека, первая четверть XV века. f. 78r
Тексты «Александрий» подробно иллюстрировались средневековыми художниками. Один из прекрасно иллюминированных манускриптов хранится сегодня в Британской библиотеке. Он содержит миниатюры со сценами победоносных сражений Александра: битвы с вепрями и зубастыми дикарями, гигантами и циклопами, а также встречу с меченосцами – причудливым народом, у представителей которого мечи растут прямо изо лбов. Кроме того, рукопись содержит иллюстрации, на которых запечатлены встречи армии Александра Македонского с племенем рослых женщин, живущих в лесу, а также с племенем гимнософистов, которые не имеют собственных домов и ходят обнаженными.

Сражение Александра с лошадиноголовыми дикарями.
«Правдивая история короля Александра», Royal MS 20 B XX, Британская библиотека, первая четверть XV века.
f. 79r http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=royal_ms_20_b_xx_f079r

Александр сжигает дикого человека. «Правдивая история короля Александра», Royal MS 20 B XX, Британская библиотека, первая четверть XV века.
f. 64r http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=royal_ms_20_b_xx_f064r
Среди прочего на миниатюрах можно увидеть уже знакомых нам блеммиев и многих других интересных существ человеческой и животной природы. При этом чаще всего армия Александра и дикие народы запечатлены в ситуации противостояния. Завоеватели нередко проявляют и откровенную жестокость по отношению к монструозным расам: это хорошо видно, например, в сцене сожжения дикаря.
Можно ли верить историкам?
«Роман об Александре» по своему содержанию и структуре принадлежал к развлекательному жанру и воспринимался в Средние века скорее как сборник выдумок и легенд. Гораздо более авторитетными источниками информации для средневековых ученых служили труды античных историков, таких, как Мегасфен, Страбон и Плиний Старший. Древнегреческий путешественник Мегасфен, живший в III веке до н. э., служил послом при индийском дворе первого объединителя Индии Чандрагупты в городе Паталипутра. Он составил весьма правдивое описание Индии, где сообщил довольно точные сведения о ее географии, политических и социальных институтах, индийской истории и мифологии. Оригинал этого сочинения был утерян, но его неоднократно пересказывали историки более позднего времени: Диодор Сицилийский, Страбон, Плиний Старший и другие. Интересно, что при всей строгости подхода к описанию Индии Мегасфен не забыл упомянуть в своем труде и фантастические человеческие расы, а также гибридных и опасных животных, которыми, по его сведениям, населены индийские территории: например, змей с крыльями летучей мыши или крылатых скорпионов колоссальных размеров. В своей книге он также рассказывает об антиподах (они же абаримоны) – племени людей с необычными ступнями, повернутыми назад, а не вперед, как у обычных людей. Упоминает он и о диких людях, не имеющих рта и питающихся исключительно запахами жареной плоти, ароматами фруктов и цветов. Описывает Мегасфен и гипербореев, живущих тысячу лет, а также людей, у которых нет ноздрей и верхняя часть рта выступает далеко вперед над нижней губой. Но это еще далеко не полный список монстров, которых он упоминает в своем сочинении: к ним добавляются одноглазые люди-циклопы, люди с собачьими ушами и другие.
Возникает закономерный вопрос: видел ли Мегасфен этих необычных «пришельцев» собственными глазами? Или же он без стыда и совести их выдумал? Почему ученые мужи Античности принимали его свидетельства за чистую монету? На это может быть несколько причин. Во-первых, мы хорошо помним о том, что у самих греков и римлян мифологическая традиция включала немало гибридных и монструозных созданий, а например, кинокефалы (собакоголовые люди) и циклопы (одноглазые великаны) – это своего рода «общее место» в античной и индийской мифологиях. Происхождение таких существ уходит корнями в доисторические времена и верования. Или другой пример – кентавры. Греки так и не смогли найти этих существ у себя на родине, но поставить под сомнение свою мифологическую традицию было бы для них слишком болезненно. Гораздо проще и надежнее было успокоить себя мыслью о том, что кентавры существуют, но где-то очень далеко, на краю света.
Но все же нельзя исключить, что некоторые описания появлялись и на основе реальных наблюдений: так, описываемый Мегасфеном единорог мог быть индийским носорогом. Это косвенно подтверждается тем, что в индийской и китайской культурах было распространено поверье, согласно которому рог носорога обладает защитными свойствами от отравлений. Точно такое же качество приписывалось античными и затем средневековыми авторами рогу единорога. Основным источником сведений для Мегасфена были истории из индийского эпоса, которые, как он сам утверждает, ему поведали индийские брахманы. У него же, в свою очередь, не было оснований не доверять рассказам уважаемых философов высшей касты. Например, раса людей с большими длинными ушами была неизвестна европейской мифологии, но часто упоминается в древнеиндийском эпосе, в частности, в Махабхарате. Там это была не одна, а несколько рас, у каждой из которых уши имели свои особенности формы или расположения.
Взгляд Мегасфена на Индию и предоставленные им сведения определили дальнейшее восприятие этой территории не только многими античными авторами, но и средневековыми энциклопедистами. Можно сказать, что они господствовали еще на протяжении полутора тысяч лет. Этому способствовал и тот факт, что после Мегасфена активные сухопутные контакты с Индией практически прервались. Оставался лишь морской путь в южную Индию, по которому велась активная торговля с Римской империей, но сам путь фактически находился в руках арабов. Последующим историкам ничего не оставалось, как пересказывать труды Ктесия и Мегасфена.
Даже в условиях недостатка проверенных сведений о народах и племенах, населяющих окраины ойкумены[28], среди античных ученых все-таки находились скептики, которые были не склонны принимать за чистую монету рассказы об ушастых, хвостатых, шерстистых и тому подобных людях. И самый первый представитель этого прагматичного лагеря – историк и географ Страбон (род. около 63 г. до н. э. – ум. около 24 г. н. э.). Он является автором семнадцати томов «Географии». В своем сочинении Страбон без стеснения называет авторов, писавших о чудесных людях-монстрах, лгунами и выдумщиками. И первый лгун в его списке – это Мегасфен, являвшийся для многих других писателей главным источником сведений о монстрах, населяющих восточный край земли. Ведь все-таки он действительно побывал в Индии, а большинство такой возможности не имели. Несмотря на свой рациональный подход к информации, Страбон не снискал большой популярности в Средние века. Его сочинение было переведено на латинский язык очень поздно – уже ближе к концу XV века.
Более востребованным источником оказалась «Естественная история» древнеримского писателя Плиния Старшего, написанная им примерно в 77 году. Она стала одним из самых главных средневековых путеводителей по монстрам. Это масштабное сочинение в 37 книгах рассказывало обо всем на свете – от Вселенной и космоса до растений и камней. Заимствованные оттуда сведения переписывались и цитировались всеми великими средневековыми энциклопедистами. Четыре книги своего грандиозного сочинения Плиний посвятил географии различных регионов: Европе – от Испании до Черного моря, включая Северное Причерноморье, регион Каспийского моря, острова Балтики и Северных морей, Африке и Ближнему Востоку, Кавказу и Азии. Описывая территории и их особенности, Плиний перечисляет великое множество названий различных племен, населяющих тот или иной регион, временами останавливаясь на характеристике отдельных народов подробнее.
В четвертой книге своей «Естественной истории», посвященной географии Балкан, части Черноморского побережья, Сарматии, Скифии, а также островам Балтийского и Северного морей, Плиний пишет об островах, где живут гиппоподы – люди, появляющиеся на свет с лошадиными копытами. Он упоминает и панотиев, которые, по его утверждению, ходят голыми, укрывая себя огромнейшими ушами. В пятой книге, посвященной географическому описанию Африки и Ближнего Востока, Плиний пишет о племени троглодитов, которые роют для себя пещеры и живут в них. Эти необычные монстры питаются мясом змей, отчего вместо речи воспроизводят шипение. В этой же книге Плиний рассказывает и о блеммийцах с лицом на груди, а также сатирах, относя их к разновидности человеческих племен. Упоминает он и о загадочных гимантоподах, которые настолько косолапы, что не могут ходить, а лишь ползают. В шестой книге о Кавказе и Азии, куда входит и рассказ об Индии, Плиний пишет о племени макрокефалов, или длинноголовых (большеголовых) людей, обитающих в районе Трапезунда (ныне – город Трабзон в Турции), не давая, однако, описания их внешнего вида. В этом же регионе, по его сведениям, живут и антропофаги – скифы, питающиеся человечиной, а еще карлики-пигмеи и многие другие необычные представители человеческого рода. По словам Плиния, в глубине восточной части Эфиопии живут племена безносых (лицо у них совершенно плоское), а также люди без верхней губы и еще другая разновидность – без языков. Особенно много небылиц содержится в седьмой книге «Естественной истории», где Плиний описывает случаи, когда женщины рожали зверей и необычных существ.


Блеммии из рукописей Британской библиотеки.
(Nowell Codex, Cotton MS Vitellius A XV, к. X – н. XI вв., f. 102v; Cotton Tiberius B. v, втор. четверть. XI – третья четверть XII вв. f. 82r).
Сочинение Плиния было очень популярно и пользовалось авторитетом у средневековых читателей. Сведения, приведенные в нем, подкреплялись реальным жизненным опытом автора. Плиний не только был феноменально начитанным и образованным ученым, но и по долгу службы посещал отдаленные уголки Римской империи, ее северные рубежи и, как полагают, бывал на Ближнем Востоке и даже в Африке. Однако в своем труде он редко называет себя первоисточником информации, предпочитая ссылаться на сведения других авторов. В его сочинении фантастика смешивается с ценными сведениями по географии и этнологии, а сказочные элементы и рационалистический подход мирно уживаются друг с другом.

Панотий из манускрипта «Чудеса Востока». Втор. четверть. XI – третья четверть XII вв. (Британская библиотека, Лондон. Cotton Tiberius B. v, folio 83v).
http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=cotton_ms_tiberius_b_v!1_f083v
Двумя столетиями позже римский писатель Гай Юлий Солин представил публике свое «Собрание достойных упоминания вещей» (лат. «Collectanea rerum memorabilium»). В этом сочинении он отбросил скучный фактический материал, а сосредоточился исключительно на интересных сведениях, курьезах и редкостях. В трудах своих предшественников он выискивал описания необычных явлений, которые могли бы увлечь широкий круг читателей. Солином двигало желание прославиться, поэтому он ориентировался на присущую человеку склонность проявлять интерес к тому, что отклоняется от привычных норм и стандартов. Историк нарочито подчеркивал и утрировал факты, чтобы как можно сильнее распалить интерес читателя. Следует признать, что ему это удалось. Наряду с Плинием Старшим труд Солина был очень популярен в Средние века. Иными словами, любовь к странностям и вера в чудеса победили тягу к критическому мышлению и проверенному научному знанию. Последующие авторы старательно переписывали информацию о монстрах и фантастических расах из источников своих предшественников. Но можно сказать, что именно Солин стал законодателем моды на создание подобных сборников.



Чудовищные расы в трактате «Цветы природы» Якоба ван Марланта. Утрехт, ок. 1340–1350 г.
(Гаага, Королевская библиотека, KA 16, f. 42v-43r).
Среди ранних средневековых энциклопедий, целиком посвященных монстрам, стоит упомянуть «Книгу чудовищ» (лат. «Liber Monstrorum») – своего рода каталог диковинных существ, где описываются драконы длиной в 150 футов, гигантские овцы размером с вола, муравьи размером с собаку, а также чудовищные племена бородатых, клыкастых и хвостатых женщин, людоедов и прочих монстров. Второе сочинение, ставшее в Средние века настоящим бестселлером, носит название «Чудеса Востока» (англ. «The Marvels of the East»). В этой книге описываются разнообразные варварские существа, населяющие восточные регионы (Вавилония, Персия, Египет) и Индию. Сочинение дошло до нас в трех рукописях XI–XII веков, хотя восходит к гораздо более древнему первоисточнику. Две рукописи, хранящиеся сегодня в Британской библиотеке, содержат иллюстрации. Они сильно пострадали при пожаре, который произошел еще в середине XVIII века, но, несмотря на повреждения, уцелели. Особенно занимательны в этих рукописях изображения представителей монструозных рас: блеммиев и, в особенности, панотиев. На одной из миниатюр представитель этого племени подбирает свои свисающие, словно два огромных удава, уши, окрутив их вокруг собственных рук.


Чудовищные расы в энциклопедии Фомы из Кантимпрэ «О природе вещей». Фландрия, 1450–1500 (библиотека Брюгге, MS. 411, f. 3r, 4r).
Христианские авторы с недоверием относились к сведениям о монструозных расах. Святой Августин, в частности, отрицал существование антиподов – людей с вывернутыми назад ступнями, а в VIII веке эта идея была запрещена и даже отнесена к разряду еретических. Скептическое восприятие сведений о загадочных племенах усиливалось из-за многочисленных противоречий в источниках: даже вопрос о том, где именно обитает та или иная монструозная раса, не находил однозначного ответа. Несмотря на это, художественная традиция продолжала активно развиваться. Средневековые художники и скульпторы с большой охотой изображали многоруких, безголовых, рогатых, хвостатых и гибридных монстров, людоедов, великанов и циклопов.
Средневековые (лже)свидетели
Широкое распространение в Средние века получают источники, в которых очевидцы рассказывают о заморских диковинках с позиции очевидца, то есть от первого лица. Мы уже упоминали легендарное письмо Александра Македонского Аристотелю, в котором он описывал чудеса Индии, но это не единственный пример. Истории из первых уст, какими бы неправдоподобными они ни казались, всегда вызывали живой интерес и отклик у современников. Самым ярким примером является грандиозная средневековая мистификация, связанная с именем пресвитера Иоанна. По преданию, византийский император Мануил Комнин в 1164 году получил таинственное письмо, в котором к нему обращался некий пресвитер Иоанн – царь неизвестного христианского государства, расположенного далеко на Востоке. В письме красочно рассказывалось о беспрецедентной силе и богатстве государства пресвитера Иоанна, а также перечислялись многочисленные восточные чудеса. Появление этого загадочного письма произвело сильное впечатление, его многократно копировали и переводили на разные языки. В то же время оно пробудило острое желание открыть Азию с ее удивительными обитателями и явлениями, о которых так убедительно рассказывалось в послании. Кроме того, европейцы стремились обрести в пресвитере союзника в борьбе с сарацинами. Рыцари-крестоносцы верили, что пресвитер Иоанн поможет им отвоевать Палестину у мусульман. В 1177 году Папа Римский Александр III даже отправил посла с письмом для пресвитера, однако тот так и не вернулся с ответом.

Фрагмент Херефордской карты с изображение блеммиев.
XIII век. Херефордский собор, Англия.
С XIII века, когда началась активная экспансия монголов, острая необходимость наладить взаимодействие с азиатскими территориями послужила мощным толчком к открытию этих неизведанных земель. Дипломатические делегации, миссионеры и путешественники устремились на Восток. Это новый мир манил и интриговал, и каждый хотел получить убедительные подтверждения существования восточных чудес, о которых так красочно свидетельствовали источники. С другой стороны, это желание сыграло со средневековыми первооткрывателями злую шутку: отправлявшиеся на восток путешественники находились под сильным прессом традиции и практически чувствовали себя обязанными во что бы то ни стало привести доказательства существования единорогов, драконов, человекоподобных монстров и других фантастических тварей.
Географические карты, которыми пользовались в то время, нередко снабжались изображениями чудовищ и монстров. К примеру, на огромной Херефордской карте мира, созданной в последней четверти XIII века (размеры 1650×1350 мм), Индия и Эфиопия занимают значительную часть, а рядом с обозначением их границ можно увидеть изображения монстров с поясняющими надписями. Они указывают на то, что в Индии живут скиаподы, пигмеи и гиганты, а также люди, не имеющие рта, мантикоры и единороги. На севере Индии, в Скифии, в соседних странах и на островах живут люди с лошадиными копытами, длинными ушами, антропофаги и гиперборейцы, а также аримаспийцы, которые сражаются с грифонами. В надписях также говорится, что Эфиопия изобилует сатирами и фавнами, людьми с длинными губами, блеммиями, василисками, добывающими золото муравьями и прочими диковинными существами.
Одним из самых известных средневековых путешественников был уроженец Венеции купец Марко Поло (годы жизни: 1254–1324). Его биография напоминает приключенческий роман. Двадцать четыре года он прожил при дворе монгольских правителей и, выполняя различные поручения, объехал весь Китай, побывал в Индии, повидал разные государства и народы. После своей службы Марко Поло вернулся в родную Венецию, однако на этом его приключения не закончились. По некоторым данным, он принял участие в войне с Генуей и оказался в плену. Находясь в генуэзской тюрьме, Марко Поло надиктовал своему сокамернику воспоминания о путешествиях в Азию, которые прославились под названием «Книга о разнообразии мира». Эта книга произвела эффект разорвавшейся бомбы, ее влияние на европейские представления об азиатских территориях было грандиозным. Когда Христофор Колумб отправился на поиски морского пути в Индию, он взял эту книгу с собой и сделал на ее полях десятки заметок. До того как сочинение Марко Поло увидело свет, сведения о восточных краях мира средневековые люди черпали в основном у античных авторов, теперь же они получили новые и самые надежные, как им казалось, свидетельства современника.
В книге Марко Поло содержится ценнейшая информация об Армении, Иране, Китае, Казахстане, Монголии, Индии, Индонезии и других территориях[29]. Однако в ней нашлось место и вымыслу: в своих воспоминаниях знаменитый путешественник описывает единорогов, людей с собачьими головами, зубами и глазами, которые, как уверяет Марко, живут на Андаманских островах в Индийском океане. Те места, о которых автор книги имел смутное представление, выглядят особенно сказочно: например, расположенный к югу от Мадагаскара остров гигантской «птицы Рук», которая, судя по описанию, может унести в своих когтях слона. Но в целом Марко Поло был довольно сдержан в своих фантазиях и старался сильно не увлекаться ими.
Нельзя сказать того же об иллюстраторах его произведений. В роскошной французской рукописи начала XV века содержатся миниатюры, на которых, как следует из текста, изображены жители Сибири. Однако в самом тексте описание внешнего облика сибиряков немногословно, говорится лишь о том, что населяющие эти территории люди являются «очень диким народом». Иллюстратор воспринял эти лаконичные слова по-своему и изобразил на страницах одноногого скиапода, безголового блеммия и циклопа. Такой изобразительный ряд следовал уже привычным шаблонам и стереотипам. Несмотря на то что он не соответствовал содержанию текста, для иллюстратора рукописи и заказчика это не имело принципиального значения.


Жители Сибири (блеммий, скиапод и циклоп) и кинокефалы в книге «Чудеса мира»
Книга чудес света, 1410–1412 г. (Национальная библиотека Франции, Париж, Fr 2810, f. 29v, 76v).
Но если Марко Поло старался быть объективным и не придумывать лишнего, другие, напротив, не стеснялись богато приукрашивать свои рассказы небылицами. В их числе анонимный автор книги «Приключения сэра Джона Мандевиля» (фр. «Livre des merveilles du monde»), написанной в середине XIV века. Повествование в ней ведется от лица некого Джона Мандевиля, который является вымышленным персонажем. Подлинное же имя автора этого сочинения неизвестно. В книге приключений описывается путешествие Джона Мандевиля длиной примерно в тридцать три года, во время которого он посетил Турцию, Сирию, Аравию, Египет, Палестину, Ливию, Эфиопию, Армению, Русь, Персию, Месопотамию, Татарию, Индию, Зондские острова и Китай.
Как утверждает сам Мандевиль, ему даже удалось побывать в государстве легендарного пресвитера Иоанна. Он описывает удивительные обычаи людей, живущих на подвластных пресвитеру островах. Так, на одном из них принято в первую брачную ночь приглашать специального человека для того, чтобы тот лишил девственности новоиспеченную супругу. Более того, работа эта щедро вознаграждается. Мужчины, которые берут на себя это бремя, составляют в государстве целую когорту чиновников, которые ничем другим больше не занимаются. Когда главный герой сочинения Джон Мандевиль спросил у них, почему они соблюдают такой обычай, те ответили, что в древности мужчины, лишавшие девственности девушек, немедленно умирали, ибо в телах девиц находились змеи со смертоносными жалами. Чтобы не подвергать себя смертельной опасности, это дело стали поручать специально назначенным мужчинам. Пишет Джон Мандевиль и о климатических особенностях той или иной местности, которые могут быть неожиданными и даже неприятными для путешественников. В частности, о сильной жаре на острове Оринес (Ормуз), где из-за солнечного зноя мужские тестикулы так распухают, что отвисают до самых колен.
Помимо удивительных обычаев различных народов и природных явлений, Мандевиль рассказывает о разнообразных фантастических животных, вроде гигантских улиток, в раковине которых, словно в доме, могут жить несколько человек. Описывает он и внешний облик людей, обитающих в этих далеких краях: гигантов, которые питаются человечиной, жестоких и очень агрессивных женщин с драгоценными камнями в глазах: их взгляд убивает так же, как это делает василиск. В разных главах своего сочинения он описывает амазонок, одноногих эфиопов, жителей берегов Инда с зеленым и желтым цветом кожи, каннибалов-кинокефалов, циклопов, гермафродитов и многих-многих других. И это далеко не полный перечень монструозных рас, о которых говорится в тексте приключений. Французский художник-миниатюрист, иллюстрировавший сочинение Мандевиля в XV веке, попытался уместить на один лист всех существ, перечисленных в тексте описания Эфиопии – в результате получилось весьма забавное изображение, напоминающее заповедник с монстрами.

Диковинные люди и звери Эфиопии «Приключения сэра Джона Мандевиля», ок. 1460 г., Франция
(Библиотека Моргана M. 461, f. 26v).
Несмотря на то что никакого Джона Мандевиля не существовало, а описываемого в книге путешествия и вовсе не было, «Приключения» пользовались ошеломительным успехом у средневековых читателей. Сохранилось множество рукописей на разных национальных языках: французском, немецком, английском, итальянском, испанском, нидерландском и других. Именно это сочинение одним из первых отпечатали на типографском станке (это произошло уже в 1478 году). Даже Леонардо да Винчи имел экземпляр в собственной библиотеке. Книга стала своего рода энциклопедией всего легендарного, баснословного и фантастического. Парадоксально, но более поздние источники, основанные уже на реальных путешествиях в Азию, не сильно отличались по характеру от этого вымышленного произведения. Их авторы продолжали наперебой твердить о том, что нашли страну пресвитера Иоанна и даже сообщали о точном местоположении Рая (помещая его при этом в разных местах). Даже сам Христофор Колумб был уверен, что прошел где-то рядом.
Средневековые путешественники дружно описывали фантастические расы, пигмеев и гигантов, циклопов, скиаподов, безголовых блеммиев и кинокефалов, которых они якобы встречали на своем пути, но каждый давал этим племенам разную географическую локацию. В «Записках о Московии» (лат. «Rerum Moscoviticarum Commentarii»), написанных на латинском языке в 1549 году бароном Сигизмундом фон Герберштейном (он был дипломатом Священной Римской империи и прожил много времени в Москве), сообщается о людях чудовищного вида: у одних из них все тело обросло шерстью, другие же имеют собачьи головы, а третьи совершенно лишены шеи и вместо головы имеют грудь. В реке Тахнине также водится некая рыба с головой, глазами, носом, ртом, руками, ногами и другими частями совершенно человеческого вида, но без всякого голоса: она, как и другие рыбы, представляет собой приятную пищу[30].
Практически все средневековые путешественники до Марко Поло и после него уезжали на Восток с определенными ожиданиями и утвердившимися стереотипами о том, кого именно они могут там повстречать. Им казалось, что если они не расскажут в своих путевых отчетах о монстрах и чудовищах, то не оправдают ожиданий читателей, а также не подтвердят авторитет античных источников. Путешественники продолжали выдавать желаемое за действительное, находя в далеких землях то, что они хотели найти, а не то, что находили на самом деле. И даже когда у образованных и просвещенных людей Средневековья возникали сомнения по поводу существования тех или иных существ, как, например, дискуссия об антиподах (людях с повернутыми назад ступнями), художественная и популярная литературная традиция оказывались сильнее. В отчетах и заметках путешественников фантастические сведения продолжали смешиваться с реальными наблюдениями и фактами, что в какой-то степени примиряло устоявшиеся концепции с новыми открытиями.
Для чего рождаются монстры?
Вера в существование людей-монстров была крепка и в эпоху Античности, и в эпоху Средневековья. Территории, выходящие за границы знакомого и привычного мира, волей воображения наполнялись образами неблагоприятными, странными и пугающими. Однако перед христианскими авторами стояла особая задача – соединить языческое знание о чудовищных расах с христианской системой ценностей и авторитетом Библии. Один из самых выдающихся представителей христианской патристики Святой Августин в своем знаменитом труде «О граде Божьем» задавался вопросом о происхождении «чудовищных пород людей» и пришел к выводу, что «нет, впрочем, необходимости верить, чтобы существовали действительно все роды людей, о которых говорят, будто они существуют. Но какой бы и где бы ни родился человек, т. е. животное разумное и смертное, то, какой бы ни имел он непривычный для наших чувств телесный вид, цвет, движение, голос, или как бы ни отличался силой, или какой-либо частью тела, или каким бы то ни было свойством природы, никто из верующих не усомнится, что он ведет начало свое от того одного первосозданного человека» (имеется в виду Адам)[31].
Для Святого Августина не существует принципиальной разницы между единичными случаями врожденных человеческих аномалий и целыми чудовищными расами. По его убеждению, если известны случаи отдельных уродств, то можно предположить и существование целых народов с необычной наружностью. Такой же логики придерживался и Исидор Севильский. Он описывал известные ему человеческие аномалии (например, расположение печени с левой стороны, отсутствие рук, наличие лишнего пальца и т. п.), но прибавлял к ним и откровенно сказочные случаи, свидетелем которых он, вероятно, не был, а лишь пересказывал услышанные им байки: например, некоторые случаи рождения младенцев с частями тела животного. В качестве наиболее знаменитого примера подобного рода аномалий Исидор Севильский приводит легендарного Минотавра – получеловека-полубыка, обитавшего на Крите[32].

Чудовищные народы в рукописи «О Вселенной» Рабана Мавра 1425 г.
(Ватиканская библиотека, Pal.lat. 291, f. 75v).

Гигант с тройным лицом, пигмей и скиапод.
Вестминстерский бестиарий, XIII век
(London, Westminster Abbey, MS 22 fol.3r).
Святой Августин, а вслед за ним и Исидор Севильский выражают в своих трудах очень важную и подлинно гуманистическую по своей сути мысль: всевозможные расы «пришельцев» из Индии, Эфиопии и других удаленных уголков земли с их очевидными физическими уродствами не должны восприниматься как представители неких низших категорий одушевленного мира. Они так же, как и любой другой человек, созданы Богом, и это не ошибка Его провидения, а именно замысел, который для нас, простых людей, остается недоступным. Все эти странные и порой страшные существа – часть общей картины мира, созданной по божественным законам гармонии и полноты. Исидор Севильский добавляет к этому: «Существа, которые, как кажется нам, рождаются вопреки природе; но на самом деле не противоречат природе, поскольку появляются в соответствии с божественной волей, а воля Создателя и является природой всякого творения» («Этимологии», книга XI, глава 3). Он также поясняет, что
Во внутреннем оформлении использованы фотографии:
Pratiksha _h, 3DF mediaStudio, cynoclub, Alex_Mastro, Ilia Torlin, godongphoto /
Shutterstock / FOTODOM
Используется по лицензии от Shutterstock / FOTODOM;
© Martin Zwick / eastnews
Фото на обложке: © Sueddeutsche Zeitung Photo / Alamy Stock Photo / DIOMEDIA
Научные рецензенты:
Анна Владимировна Пожидаева, кандидат искусствоведения, доцент факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Александра Борисовна Мамлина, кандидат исторических наук, старший преподаватель факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
© Салтыкова В.А., текст, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Предисловие
На пике воображения или на грани безумия?
В зале Иеронима Босха в мадридском музее Прадо всегда многолюдно. Здесь посетители не просто останавливаются напротив известных шедевров, чтобы сделать с ними селфи и прослушать запись аудиогида, а подолгу и с интересом рассматривают детали каждой картины. Произведения одного из самых загадочных художников эпохи позднего Средневековья уже не одно столетие будоражат умы ученых и обывателей, не оставляя равнодушными ни тех, ни других. Самый известный триптих Босха «Сад земных наслаждений» являет зрителю фантастический мир с сюрреалистическими архитектурными конструкциями и невиданными тварями. С первого взгляда он буквально гипнотизирует, затягивая разнообразием и яркостью своих причудливых образов. Зритель волей-неволей оказывается втянутым в этот, на первый взгляд, хаотичный мир, стараясь познать скрытый в нем потаенный смысл.
Воображение Иеронима Босха уникально и простирается далеко за границы обыденного и привычного. Но мог ли такой яркий и самобытный талант расцвести на пустом месте? Если предположить, что да, то тогда самого художника легче было бы объявить сумасшедшим, при этом даже не попытаться найти ключ к его произведениям. Но такой подход к его искусству вряд ли оправдан.
Картины Босха с его монстрами, бесами и химерами – это плоть от плоти средневековой художественной традиции, это кульминация и торжество тех образов и мотивов,
которые на протяжении многих веков оставались на периферии художественного пространства и не смели претендовать на главенство. В этой книге мы постараемся заглянуть вглубь Cредневековья и пройти по, возможно, не самым известным его маршрутам, чтобы увидеть то, что находилось на задворках: в укромных уголках средневековых соборов, на капителях монастырских клуатров и полях многочисленных рукописей. Этот путь, пусть и не самый простой, поможет нам не только узнать больше о происхождении таинственных миров Иеронима Босха, но и лучше понять самих себя и тех «монстров», которые продолжают жить в нашей культуре.
Босховский «Сад земных наслаждений» представляет собой триптих – это трехчастная картина, на которой можно увидеть большое центральное поле и два боковых, поменьше.
В Средние века такую форму традиционно использовали для создания монументальных алтарных композиций.
Их помещали в апсиде – самом сакральном месте христианского храма. Действительно ли Босх задумал свою картину как алтарный образ? Неужели произведение, кишащее монстрами и химерами, могло занять место в святая святых церкви? И если предположить такое, то почему в XV веке это не считалось святотатством?
Капители церкви святого Павла в Шовиньи (департамент Вьенна, Франция).
Вторая половина XII века
Похожие вопросы задают себе путешественники, рассматривающие фасады средневековых храмов, со стен которых на них смотрят фантастические животные, черти всех мастей и человекообразные существа пугающей наружности. Обычно подобные твари «живут» снаружи и населяют периферийные зоны, вроде водостоков, консолей и крыш. Но иногда их можно встретить и в интерьерах, и на весьма «почетных» местах, а в редких случаях – даже в алтаре. Яркий пример – нижний ярус апсиды церкви святого Иакова в Кастелазе (Южный Тироль, Италия), где изображены чудовища довольно фривольного вида: двухвостая сирена, кентавры, существо с песьей головой и перепончатыми лапами, а также другие химерические твари. Даже тот читатель, который никогда не интересовался средневековой архитектурой, наверняка вспомнит Собор Парижской Богоматери – символ французской готики с его знаменитыми гаргульями на фасадах.
И вероятно, многие из читателей рассматривали «веселые картинки» с монстрами и чудаковатыми созданиями, наводнившие интернет.
Апсида церкви святого Иакова в Кастелазе (Южный Тироль, Италия), XIII век.
Невольно возникает вопрос: что делают эти безобразия в церкви и на страницах священных манускриптов? Действительно ли средневековый человек, как ребенок, верил в чудовищ, злых духов и тому подобных тварей? Чего он на самом деле боялся? Что скрывается за этими странными изображениями? И почему средневековое сознание находилось в такой зависимости от монстров? Попытаемся разобраться во всем по порядку.
Чудовищное прошлое
Если обратиться к древним мифам о происхождении мира, то практически все они описывают эпические битвы богов и чудовищ. Последние воплощали собой представления человека о первобытном хаосе и выражали его страх перед неизведанным. Все, что входило в сферы непознанного: силы природы, потусторонний и горний миры, – так или иначе связывалось в сознании древних с монстрами и демонами, наделенными нечеловеческими силами и сверхъестественными способностями.
Мардук сражается с Тиамат. Рисунок рельефа из дворца Ашшурнацирапала в Кальху (Нимруд, современный Ирак). IX в. до н. э
Терракотовая доска с изображением Хумбабы из Лувра (Париж). Древняя Месопотамия, территория современного Ирака. II тыс. до н. э.
На рельефе из дворца ассирийского правителя Ашшурнацирапала в Нимруде (Ирак) верховный бог Древней Месопотамии и покровитель Вавилона Мардук сражается с монстром хаоса Тиамат. Это гигантский крылатый зверь с устрашающим оскалом, львиными передними лапами и орлиными задними. Сам Мардук, несмотря на свой антропоморфный вид, изображен с крыльями. Легендарный герой шумеро-аккадского эпоса Гильгамеш сражался с хранителем кедровой рощи чудовищем Хумбабой, которое внушало смертельный ужас людям. На терракотовом рельефе из Лувра, возраст которого насчитывает около четырех тысяч лет, Хумбаба представлен в виде демона с человеческими чертами, однако его круглое лицо искажено гримасой и страшным оскалом.
Бог неба Хор, воплощением которого на земле считали самого фараона, изображался как человек с головой сокола.
Если обратиться к материалам Древнего Египта, то почти все изображения представителей древнеегипетского пантеона представляют собой смесь человека с чертами животных. Взять, к примеру, Анубиса – древнеегипетского проводника душ усопших в мир мертвых: его изображали в мужском обличье с головой собаки (или шакала).
Можно вспомнить и хорошо знакомого всем сфинкса, который также является гибридным существом с львиным туловищем и головой человека. Но несмотря на это, его внешний вид не вызывает отторжения, а наоборот, кажется благородным. Однако того же нельзя сказать об Амат – древнеегипетском чудовище с телом гиппопотама, львиными лапами, гривой и пастью крокодила. Оно выглядит уже менее привлекательным. Амат обязательно присутствовала на загробном суде Осириса, и, если человеку выносился обвинительный приговор, она съедала его сердце.
«Персей освобождает Андромеду». Миниатюра из книги Кристины Пизанской «Послание Офеи Гектору». Париж, начало XV в., Британская библиотека (Лондон, Harley 4431, fol. 98v).
Античная культура была не менее богата на монстров. Знаменитый древнегреческий герой Геракл совершил свои двенадцать подвигов, вступив в бой с многоголовой лернейской гидрой, хищными стимфалийскими птицами, перья которых ранили, как ножи. Одолел он и трехголового пса Цербера, охранявшего вход в Аид. Отважный Персей убил медузу Горгону и спас прекрасную Андромеду от съедения морским чудовищем Кетом. Древнегреческая мифология знала немало историй триумфов героев над чудовищами. Легендарный поэт Гомер подробно описал приключения отважного Одиссея и его многочисленные встречи с кровожадными существами: Сциллой и Харибдой, циклопом-людоедом Полифемом, коварными сиренами и другими монстрами.
Средневековье унаследовало весь этот монструозный багаж, черпая информацию из литературных сочинений и научных трактатов Античности, где содержались сведения о диковинных существах и чудовищах.
Перед глазами средневековых мастеров также были греческие и римские памятники изобразительного искусства.
Несмотря на ряд потрясений, которые испытала Европа после пришествия варварских племен, античное наследие не было забыто напрочь. Даже в наше время, приезжая в Италию, можно увидеть огромное количество античных построек и произведений, которые пережили все исторические катаклизмы и до сих пор поражают своим масштабом и величием. На заре Средневековья таких памятников было в разы больше. Для средневекового человека они продолжали оставаться частью его повседневной жизни и образцом «высокого» искусства, даже несмотря на то что зачастую приходилось разбирать античные храмы и использовать их части в качестве строительного материала при возведении христианских базилик.
Точка отсчета
Средние века начались с приходом на территорию современной Европы варварских племен, которые, как цунами, накрыли развитые культурные центры Античности во главе с Римом. Это масштабное вторжение было связано с великим переселением народов, продлившимся в общей сложности четыре столетия – с IV по VII века. Глобальные миграционные процессы запустили гунны, вторгшиеся в Европу из степей Центральной Азии. Их империя во главе с Аттилой к середине V века простиралась от Волги и Кавказа до Рейна. Экспансия гуннов вытеснила другие народы с их традиционных мест обитания. Германские племена устремились к границам Римской империи, переживавшей в то время глубокий кризис. Набеги варваров на территории Римской империи стали происходить все чаще, а противостоять им было все труднее. И хотя эпохи никогда не сменяют друг друга в одночасье, принято считать, что официальной точкой отсчета для нового исторического этапа является 4 сентября 476 года, когда предводитель германцев Одоакр свергнул последнего императора Западной Римской империи Ромула, что фактически означало окончательное падение Рима.
В Европе стали активно формироваться варварские государства. Вандалы осели в Северной Африке, вестготы – в Испании, франки – в Галлии, а остготы и лангобарды – в Италии.
Основные центры европейской цивилизации переместились на север, к окраинам уже бывшего античного мира, и стали развиваться своим путем.
Этот новый мир, конечно, отличался от Античности. Западную Европу в ее развитии как бы отбросило назад. Городская культура, библиотеки и памятники, которые создавались веками, разрушались. Архитектура переживала глубочайший упадок. Произошло тотальное снижение общего культурного уровня и грамотности населения. Даже некоторые бытовые привычки людей поменялись не в лучшую сторону. К примеру, в античном мире было принято разбавлять вино водой, варвары же предпочитали пить его неразбавленным.
Вместе со всем этим произошли резкий экономический упадок и, как следствие, отток самых образованных людей и лучших мастеров в Византию – последний оплот стабильности. Византийская империя с центром в Константинополе оставалась единственной хранительницей классической традиции. Однако в те неспокойные времена ей было не до своих западных территорий, Византия была вынуждена бросить все свои силы на восточные рубежи, где приходилось сдерживать новую, быстро нарастающую угрозу – арабов.
Что принесли с собой варвары, кроме разрушений, жестокости и хаоса? Прежде всего, они принесли особую, неизвестную античному миру, самобытную и очень древнюю художественную традицию в виде замысловатых и изощренных орнаментов, которыми были покрыты оружие, доспехи и бытовые вещи, используемые в варварском обиходе. Это так называемые «плетенки», кишащие самыми разнообразными существами и гадами, которые в непрерывном движении кусают, царапают и пожирают друг друга.
В этой вечной борьбе отражается тот первозданный хтонический ужас, который испытывал язычник перед силами природы, ее стихиями, представляющими для него смертельную опасность.
Орнаменты такого типа иногда еще называют «звериным стилем». Для него характерно сочетание мотивов растительного и животного мира, а также использование абстракций, трансформирующихся форм, где одно свободно перетекает в другое и превращается в нечто новое. Мастера, которые создавали подобные орнаментальные украшения, не были скованы жесткими шаблонами и образцами, а, наоборот, стремились проявить свою индивидуальность, фантазию и свободу художественного выражения. Особенно впечатляют произведения кельтских племен с их удивительными тератологическими орнаментами, существенно повлиявшими на раннее англо-ирландское искусство.
Инициалы из Геллонского сакраментария, VIII в.
Национальная библиотека Франции, Париж.
Желание ассимилироваться и впитать лучшее из завоеванной ими культуры не было чуждо варварам. Судьбоносным для них стало решение отказаться от языческих верований и принять христианство, которое к моменту их прихода в Европу уже являлось официальной религией Римской империи. В конце V века король франков Хлодвиг прошел обряд крещения. Таким образом он не только укрепил свое политическое положение, но и сделал важный шаг в процессе слияния римской (античной) и германской (варварской) культур. Наиболее ярко этот синтез воплотился в искусстве книжной миниатюры. Заглавные буквы созданного в VIII веке Геллонского сакраментария (сборник молитв, используемых во время евхаристической службы) напоминают обложку советского детского журнала «Веселые картинки»: большие инициалы в нем составлены из фигурок животных, птиц, рыб, а иногда и человека. Встречаются там и фантастические создания вроде полурыбы-полуженщины.
На страницах христианской рукописи многие существа приобрели новое символическое содержание, отличное как от античного, так и от варварского.
Например, рыба превратилась в символ Иисуса Христа, так как анаграмма записанной на греческом языке фразы «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель» составляет слово «рыба» (по-гречески «ихтис»). К тому же стихия рыбы – вода, а вода имеет непосредственное отношение к христианскому таинству Крещения.
Символ евангелиста Иоанна из евангелия Дарроу, Англия, VII в.
Дублин, библиотека Тринити-колледжа.
Художественная традиция, которую принесли с собой варварские племена, не была привязана к античному понятию красоты, в ней отсутствовало стремление передавать вещи такими, какими их видит наш глаз: трехмерными и натуроподобными. В равной степени чуждым ей было и желание идеализировать образ. С началом Средних веков рождается другая эстетика, где на первый план выходит экспрессия, то есть заостренная выразительность художественного произведения. Глядя на изображение символа евангелиста Иоанна в Евангелии из Дарроу, созданном в VII веке, вероятно, в Англии, лишь с большим трудом можно узнать в нем льва. Современному зрителю он напомнит скорее сказочного хищника или, в крайнем случае, собаку. На миниатюре этот зубастый зверь с вытянутой мордой аккуратно обведен по контуру, а его туловище заполнено красно-зелеными ромбовидными сегментами. При абсолютно плоскостной трактовке и отсутствии пространственной глубины, изображение не лишено пленяющей декоративности и особого шарма. Змеевидный изгиб хвоста добавляет изящности этому необычному и, бесспорно, эффектному существу.
Очевидно, что к оценке таких произведений не стоит подходить с нашими стандартными мерками красоты и критерием соответствия прототипу.
Раннесредневековые художники ушли далеко от античной эстетики с ее идеей подражания натуре, но они создали что-то принципиально новое и по-настоящему цепляющее наше внимание.
Жизнь в ожидании Второго пришествия
«Эпоха веры» – так часто называют Средневековье. Христианская вера стала для средневекового человека главным навигатором в жизни. Через веру он воспринимал и познавал мир вокруг себя, с ее помощью преодолевал непонимание различных явлений, через веру выстаивал свои нравственные, общественные и культурные ориентиры. Как уже отмечалось выше, завоевание Римской империи варварами привело к разрушению школ и принципа систематического образования людей, полностью уничтожило светские очаги образованности в городах. Даже высшие представители власти в Средние века могли быть безграмотными.
Лишь вера оставалась той незыблемой основой, на которую можно было опереться в самые тяжелые времена.
Император франков Карл Великий (правил во второй половине VIII – начале IX века), великий полководец и политик, первым из средневековых правителей смог создать огромную империю, объединив бо́льшую часть Западной и Центральной Европы в единое государство. Но и этого ему было мало, он стремился поднять культурный уровень империи, возродить науку и искусство. Собирая вокруг себя интеллектуальную элиту своего времени, он создал при дворе подобие античной академии. Однако, как бы парадоксально это ни звучало, Карл Великий за всю свою жизнь так и не научился писать. Об этом пишет франкский ученый Эйнхард в своем сочинении «Жизнь Карла Великого»: «Он усердно занимался свободными искусствами и весьма почитал тех, кто их преподавал, оказывая им большие почести. <…> Пытался он писать и для этого имел обыкновение держать на ложе, у изголовья дощечки или таблички для письма, чтобы, как только выпадало свободное время, приучить руку выводить буквы, но труд его, начатый слишком поздно и несвоевременно, имел малый успех»[1]. При этом Карл оставался истинным и образцовым христианином, исправно посещал церковь (даже ночью!) и был щедрым на милостыню.
Жизнь по христианским заповедям была высшей из добродетелей. Только она могла обеспечить человеку спасение.
Если для античного мира было характерно цикличное восприятие истории с возможностью повторения сходных событий, то христианское мировоззрение существовало с уверенным пониманием того, что рано или поздно привычному порядку придет конец. Мировая история получала, таким образом, вполне четкие границы: на одном конце было сотворение Адама и Евы, а на другом – второе пришествие Христа. Первое пришествие – вочеловечивание Бога в Иисусе Христе – располагалось примерно в середине этой хронологии. Согласно христианским представлениям, в конце времен произойдет Страшный суд – событие, когда на землю вернется Иисус и решит участь каждого. При этом сам факт физической смерти не сильно пугал христианина.
В Средние века смерть была привычным явлением, многие умирали еще в младенчестве или ранние детские годы.
Больше всего людей интересовала не сама смерть, а их судьба после нее. Каждый христианин задавал себе вполне очевидный вопрос: «Что случится с миром и со мной, когда придет конец времен?»
Главным источником сведений о конце времен стало «Откровение Иоанна Богослова» – книга ученика Иисуса Христа, вошедшая в состав Нового Завета. Другое ее название – «Апокалипсис» (от др. – греч. «раскрытие, откровение»). Тест Откровения полон загадочных и мистических предсказаний о конце времен. В нем описывается решающая битва Господа и Сатаны, во время которой ангелы сражаются с демонами и демоническими созданиями: драконами, змеями, гигантской саранчой. Там же присутствует и образ демонической женщины – Вавилонской блудницы, восседающей верхом на монстре. Эти жуткие описания умножали страх перед грядущим Апокалипсисом и рисовали в сознании средневековых людей ужасные картины мучений и страданий, которые обрушатся на человечество. Ажиотаж вокруг Второго пришествия и Страшного суда усиливался еще и оттого, что никто не знал, когда именно они свершатся. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий» – так написано в Евангелии от Матфея (Мф 25:13). И если одни богословы не верили в возможность высчитать точную дату этого события, другие, напротив, скрупулезно высчитывали возможные даты. Средневековые художники и скульпторы, в свою очередь, выражали эсхатологические ожидания в ярких апокалиптических картинах, вкладывая в них все свое усердие и воображение. На фреске Джованни да Модены в базилике Сан-Петронио в Болонье (1410 г.) мы видим покрытого шерстью дьявола с огромной и омерзительной пастью, которая пожирает грешников. Второе, не менее безобразное дьявольское «лицо» находится на месте гениталий и исторгает тела ранее проглоченных нечестивцев. При этом выражение лица у того, кто побывал внутри дьявольской утробы, вызывает искреннее сочувствие и отчетливое нежелание оказаться на его месте.
Джованни да Модена. Дьявол, пожирающий души грешников. Ок. 1410 г. Базилика Сан-Петронио в Болонье.
Следующий вопрос, который терзал любого христианина: спасется ли его душа в момент решающего судного дня? Сможет ли она избежать страшных мучений? Здесь многое зависело от самого человека. У средневековой церкви было припасено множество назидательных проповедей и ярких образов на тему «что такое хорошо и что такое плохо». Пастве внушалась вполне тривиальная идея о том, что только поведение человека при жизни, избранный им путь добродетели или порока, определит, обретет ли он вечное блаженство или же будет обречен на вечные муки. Эта установка задавала строгое биполярное восприятие жизни. Притом в обоих случаях Средневековье нередко доходило до крайности, располагая на противоположных полюсах либо абсолютное добро, либо абсолютное зло. Мир воспринимался словно в черно-белом цвете. Отражением этого особого мировосприятия стали и произведения изобразительного искусства. В них рай и ад часто находятся в прямой визуальной оппозиции. При этом
райские картины часто похожи друг на друга, чего не скажешь о композициях, посвященных миру Преисподней.
Последние гораздо более разнообразны: одни художники придавали изображениям сил зла оттенок сарказма, а другие буквально впадали в одержимость, в мельчайших подробностях выписывая жуткие подробности пребывания грешников в аду.
Средневековье унаследовало от античной культуры богатый арсенал чудовищ, но оно добавило к нему еще и многочисленных инфернальных монстров, порожденных экзальтированным религиозным сознанием и страхом перед адскими муками. Все это многообразие демонов и химерических тварей, отразившееся в тысячах произведений средневекового искусства, стало своего рода кодом всей визуальной культуры эпохи. В этой книге речь пойдет о страшных и странных существах звериной, человеческой и демонической природы. Именно они составляли неотъемлемую часть картины мира средневекового человека.
Глава 1
Фантастические твари: инструкция по применению
«…Для чего же в монастырях, перед взорами читающих братьев, эта смехотворная диковинность, эти странно-безобразные образы, эти образы безобразного? К чему тут грязные обезьяны? К чему дикие львы? К чему чудовищные кентавры? К чему полулюди? К чему пятнистые тигры? К чему воины в поединке разящие? К чему охотники трубящие? Здесь под одной головой видишь много тел, там, наоборот, на одном теле – много голов. Здесь, глядишь, у четвероногого хвост змеи, там у рыбы – голова четвероногого. Здесь зверь – спереди конь, а сзади – половина козы, там – рогатое животное являет с тыла вид коня»[2]. Эти полные возмущения слова принадлежат не современному ревнителю благочестия, а видному цистерцианскому монаху и теологу XII века Бернарду Клервоскому. Он яростно выступал за скромность церковной архитектуры, считая, что изображения гибридных тварей и монстров в сакральном пространстве храма отрицательно влияют на духовное воспитание монахов и прихожан. Но средневековые мастера в большинстве своем не спешили к нему прислушиваться.
Арка, украшенная рельефами с изображениями мантикоры, пеликана, василиска, гарпии, грифона, амфисбены, кентавра и льва.
XII век. Франция. Местонахождение: Метрополитен-музей, Нью-Йорк.
В средневековом искусстве изображения животных присутствуют буквально везде: в скульптурах церквей, на фресках, мозаиках, миниатюрах, их можно встретить на печатях и гербах, они выступают неизменными действующими лицами многочисленных басен и пословиц. И речь идет не только о домашних животных вроде свиней и коров, но и о диких и даже экзотических: например, львах, тиграх, слонах и носорогах. И как уже было отмечено Бернардом Клервоским, в этой пестрой компании можно встретить необычных существ: кентавров, единорогов, фениксов, грифонов, мантикор, василисков, бонаконов и других диковинных тварей. Некоторые из них имели откровенно отталкивающую наружность, как, например, мантикора – чудовище огромного размера, соединяющее в себе тело льва, голову человека и длинный хвост с жалом, заимствованный у скорпиона. В общем, мир средневековых бестий был разнообразен и нуждался в определенной классификации.
Стремление все разложить по полочкам, приклеить к каждой вещи или явлению определенный ярлык – характерная черта средневекового мышления.
По этой причине в Средние века особой любовью пользовались всевозможные энциклопедии, сборники, компиляции, справочники и тому подобная литература. Примером такого жанра служит и бестиарий (от лат. bestia – «зверь») – популярный средневековый трактат, посвященный животным.
Занимательная зоология
Олень живет тысячу лет. Кабан носит рога у себя в пасти. Ласка зачинает ртом, а рожает ухом. Слоны боятся мышей. Кровь козла растворяет алмаз. Моча рыси, затвердев, превращается в драгоценный камень. Страус способен съесть и переварить все что угодно, включая металлические предметы. Гиена может сменить пол по собственному желанию. Что касается ласточки, то она ест, пьет и спит в полете. Подобные утверждения в изобилии встречаются на страницах бестиариев – главных средневековых «путеводителей» по животному миру. Эти книги активно иллюстрировались, многие из сохранившихся до наших дней экземпляров содержат красочные и увлекательные миниатюры.
Информация о повадках и внешнем виде животных, которую можно найти в бестиариях, способна позабавить и даже рассмешить современного читателя, в особенности если речь идет о хорошо знакомых нам существах.
Но только ли нехватка достоверных сведений об окружающем мире и его обитателях заставляла распространять небылицы или, как бы мы сегодня сказали, «фейки» о животных? Или же на это была иная причина?
Средневековый бестиарий по своей структуре далек от привычных нам научных классификаций животного и растительного мира, в основу которых легла система, разработанная в XVIII веке Карлом Линнеем. При описании животных в Средние века руководствовались подходом античных натуралистов. Все представители фауны делились на следующие категории: четвероногие, птицы, рыбы, змеи и черви. Все виданные и невиданные твари распределялись по этим пяти группам. Такая классификация была далека от идеальной: так, пчелы оказывались в разделе про птиц, а к рыбам относились не только собственно рыбы, но и все твари, обитающие в воде, в том числе киты и морские млекопитающие, а также различные фантастические существа вроде сирен.
К категории червей приписывали практически всех животных маленького размера, в том числе грызунов, личинок, насекомых, лягушек и даже моллюсков.
Интересно, что на страницах бестиария даже реально существующие в природе животные часто изображались таким образом, что современному человеку узнать на картинке даже хорошо знакомый вид практически невозможно. Самый благообразный представитель фауны мог быть представлен как отвратительный монстр. Возьмем, к примеру, обычную ящерицу. На территории средневековой Европы ее можно было встретить повсеместно, тогда почему же художник в иллюстрациях к английскому бестиарию XII века изобразил ее как синеголовое чудовище с львинооподобной мордой, когтистыми лапами и длинным хвостом? Что уж и говорить о более редких представителях животного мира, таких, например, как крокодил, хамелеон или рыба-меч, которых средневековые люди в большинстве своем никогда не видели собственными глазами. Для того чтобы изобразить их, средневековому художнику приходилось приложить всю свою фантазию. В результате получались весьма разнообразные, безусловно интересные, но очень отличающиеся друг от варианты изображения одного и того же животного. Все тот же крокодил мог походить в одном случае на дракона, а в другом – на невиданную рептилию с мордой, напоминающей скорее кого-то из представителей кошачьих.
Ящерица из Абердинского бестиария, Англия, XII век, (библиотека Абердинского университета, Шотландия, Univ Lib. MS 24, folio 69v).
Крокодил из «Рочестерского бестиария». Англия, XIII век.
(Британская библиотека, Лондон, Royal MS 12 F, folio 24r).
Крокодил, пожирающий человека.
Музей Меерманно, Дом книги, Гаага
(Ms. 10 B 25, The Hague, MMW, 10 B 25 fol. 12v) Western France; c. 1450.
Главным источником, на который опирался средневековый художник при изображении крокодила или какого-либо другого животного, была не натура, а текст. При этом перед ним стояла совершенно специфическая задача – необходимо было запечатлеть животное так, чтобы максимально заострить особенности его характера и поведения, о которых шла речь в описании. Например, крокодил в бестиарии описывался как кровожадное существо, смертельно опасное для человека. Отсюда мы видим и определенные качества, которые авторы миниатюр стремились подчеркнуть в его облике: например, огромная хищная пасть и острые когтистые лапы недвусмысленно намекают на то, что это существо не особенно дружелюбно. Еще более ясными и доходчивыми были сцены расправы крокодила над человеком, как, например, во французском манускрипте середины XV века из Гааги.
Гидрус проникает в крокодила
(бестиарий, Британская библиотека, MS Harley 4751, fol. 62v).
Конец XII – начало XIII века.
Гидрус покидает чрево крокодила.
Абердинский бестиарий (библиотека Абердинского университета, Шотландия, Univ Lib. MS 24, f. 68v).
Но даже у самых свирепых чудовищ были свои враги. Заядлым противником крокодила был гидр (или гидрус). В бестиариях рассказывалось, что гидрус обитает в реке Нил и когда он видит спящего на берегу крокодила, то входит внутрь него через открытый рот. Чтобы ему легче было проскользнуть через крокодилью глотку в чрево, он сперва выкатывался в грязи. Согласно тексту бестиария, крокодил невзначай заглатывает живого гидруса, который, однако, не стремится задерживаться внутри и, разодрав крокодилу все внутренности, выходит из него наружу целым и невредимым. Момент проникновения гидруса в крокодила запечатлен на миниатюре бестиария из Британской библиотеки. А на миниатюре из Абердинского бестиария можно увидеть момент его «выхода» из крокодильего чрева. Само изображение гидруса в обоих примерах малопримечательно: вид у этого зверька довольно невзрачный, чем-то напоминает обычную змею. На его фоне крокодил выглядит гораздо более зловещим. Абердинский бестиарий – один из самых роскошно украшенных английских манускриптов XII века – приводит довольно подробное описание гидруса. Там он относится к разряду водяных змей, чем объясняется и его название (от древн. – греч. hydor – «вода»). Как сообщает нам бестиарий, те, кого укусит гидрус, распухают, и спасти их можно только с помощью бычьего навоза. Таким образом, можно предположить, что зверек представлял опасность и для человека.
Чтобы читатель не перепутал убийцу крокодилов гидруса с легендарным чудовищем гидрой, которую одолел Геракл, в тексте Абердинского бестиария приводятся сведения и о ней. При этом автор текста проявляет откровенный скептицизм по отношению к древнегреческому мифу. Как утверждается в бестиарии, гидра – этот мифический многоголовый дракон, способный в мгновение ока отрастить три головы вместо одной отрубленной, – на самом деле является названием места, откуда в древние времена вырвался поток воды и разрушил близлежащий город. Когда жители города перекрывали один выход воде, открывалось множество других (отсюда и аллегория о трех вырастающих голов на месте одной). Видя это, Геракл осушил близлежащее болото и закрыл выходы воды, тем самым совершив один из своих знаменитых подвигов.
Но вернемся к многострадальному крокодилу: почему он, жертва гидруса, выглядит более угрожающе, чем его коварный убийца?
Облик животного в средневековых памятниках изобразительного искусства во многом зависел и от того, какую «моральную» оценку получал тот или иной зверь.
Символическая интерпретация всех окружающих человека существ и явлений – еще одна характерная черта средневекового мышления. Животные не стали исключением. Каждая живая тварь аллегорически воплощала собой определенные качества, соотносящиеся со строгой системой христианской морали. Взаимоотношения животных друг с другом, в свою очередь, могли символически иллюстрировать догматы христианства. В случае с крокодилом его чрево являлось аллегорией ада, куда сошел Христос, чтобы вывести пленников. В тексте бестиария сказано, что, приняв человеческую плоть, Он (Христос) сошел в ад и, разорвав его внутренности, вывел оттуда тех, кто несправедливо содержался там. Он уничтожил саму смерть, воскреснув из мертвых. И получается, что в символическом контексте гидрус – это не хитрый убийца крокодила, а положительный герой, ассоциирующийся с самим Христом!
