Убитая монета бесплатное чтение
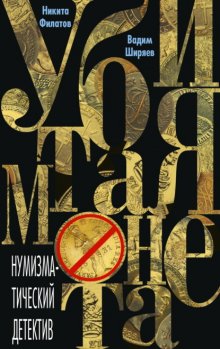
© Филатов Н.А., Ширяев В.В., текст, 2024
© «Центрполиграф», 2024
Пролог
«Славный год…»
Александр Бирштейн
- «Чтоб удачно продать,
- Надо цену узнать,
- А чтоб цену узнать,
- Надо много читать…».
Время от времени адвокаты собираются в стаи.
В основном, для того, чтобы справиться с крупной и жирной добычей. Но, по общему правилу, деньги на пропитание они все-таки зарабатывают в одиночку.
– Я не занимаюсь наследственными делами.
Еще в начале месяца на улицах хозяйничал густой мороз, а потом неожиданно потеплело, и повалил мокрый снег. Населению теперь целыми днями рассказывали по телевизору о бесчисленных миллионах кубических метров, вывезенных коммунальными службами за город, однако сугробов от этого меньше не становилось. Зато начался гололед, и машины перегораживали дороги бесчисленными авариями. Пешеходы падали на тротуарах, как под огнем затаившихся снайперов – и не всегда могли потом сами подняться, так что медики в травматологических пунктах валились с ног от суеты и усталости.
В общем-то, все было, как обычно. И, как обычно, в начале второй половины зимы соотечественникам хотелось куда-нибудь к теплому морю, где солнце, и пальмы, и симпатичные загорелые люди на пляже…
– Ну, там дело такое… оно не совсем… ну, точнее, не только наследственное.
Владимиру Александровичу Виноградову не так давно пошел седьмой десяток. Посетитель, который сидел сейчас перед ним в кабинете, был намного моложе, хотя и выглядел почти ровесником адвоката. Дорогой и добротный, но плохо сидящий костюм, благородная седина на висках и тяжелая антикварная трость – при случайном знакомстве этого человека вполне можно было принять за какого-нибудь театрального критика, или профессора математики. Но, по мере общения, становилась заметна в нем некоторая избыточная суетливость и убегающий от собеседника взгляд.
– Я же говорил. Можно быть очень хорошим врачом, но невозможно работать и гинекологом, и стоматологом одновременно. У меня есть прекрасные специалисты по семейному праву, есть приличный нотариус…
Владимир Александрович потянулся за телефоном.
– Вот, могу порекомендовать…
– Она только с вами желает работать, – перебил посетитель.
– С чего бы это? – Удивился адвокат.
– Она вас знает с самой лучшей стороны.
– Откуда, интересно?
– Ну, так я же ей рассказывал…
Разумеется, у сидящего напротив человека были имя, фамилия и все прочее. Владимир Александрович прекрасно это помнил, однако почти никогда за все время знакомства мысленно не называл его иначе, как Живчик. Тем более что именно под этим прозвищем сегодняшний посетитель был известен и в закрытом обществе настоящих коллекционеров, и среди спекулянтов монетами.
Живчик имел репутацию довольно крупного дельца, а нумизматы старой школы считали его классическим коллекционером «разницы» – одним из тех, кого интересует не сама монета, а только спекулятивная прибыль, которую можно заработать на ее перепродаже. Прозвище свое Живчик получил еще в ранней молодости от того, что выпрашивал у кого-нибудь из продавцов на короткое время монету или медаль под залог, узнавал цену, – и вился ужом по всему Клубу коллекционеров. Предлагал ее всем и каждому, продавал, а если получалось дороже, то возвращал деньги продавцу, оставляя разницу себе.
Живчика настоящие нумизматы не любили и не уважали, а как-то раз, говорят, даже выставили на посмешище. В разговоре с постоянными посетителями, среди которых, по обыкновению, терся и Живчик, один из них обмолвился, что срочно ищет некую монету, и что готов заплатить за нее чуть ли три обыкновенных цены. Отправившись в очередной обход, Живчик, казалось бы, совершенно случайно наткнулся на другого коллекционера, который как раз продавал именно ту монету, которая интересовала первого. Цена им запрошена несусветная, раза в полтора выше рынка, однако жадность тогда взяла верх над осторожностью Живчика. И он, поторговавшись для порядка, едва ли не впервые в жизни, все-таки выложил за монету свои кровные доллары, чтобы ее не перехватили конкуренты. Разумеется, когда он, довольный и гордый собой, принес монету потенциальному покупателю, тот посмотрел на него с удивлением, и сообщил, что буквально вот только что ему продали только такую же, но по разумной цене. Это был такой удар и по самолюбию Живчика, и по его кошельку, что его невозможно было ни забыть, ни простить…
С того времени Живчик, конечно, значительно изменился, приобрел основательный капитал, связи, деньги, стал выглядеть очень солидно и научился вести себя в соответствии с положением – однако, от прозвища, которым его когда-то наградили коллеги, так и не избавился. Несколько лет назад адвокат Виноградов успешно защитил его по одному уголовному делу. Живчика собирались тогда привлечь за мошенничество в составе группы лиц, но потом обвинение удалось переквалифицировать на использование заведомо поддельного экспертного заключения. И почти сразу же прекратить уголовное преследование в связи с истечением сроков давности.
С профессиональной точки зрения, в самом этом деле не было ничего необычного или сложного. Но адвокат Виноградов потом еще долго любил рассказывать коллегам и приятелям, как он очень вовремя предупредил клиента о неминуемом обыске, и как они вдвоем после этого почти половину ночи выносили из его квартиры в какой-то микроавтобус четыреста килограммов золотых, серебряных и медных монет.
– И еще я сказал ей, что вы нумизмат.
– Зачем? – Владимир Александрович уже не очень понимал, как теперь ему следует реагировать на слова собеседника, да и стоит ли вообще продолжать разговор…
– Вот, она передала для вас, – Живчик сунул руку во внутренний карман пиджака. – Это задаток. Это вам, за беспокойство… ну, за время, которое вы готовы потратить на встречу и консультацию.
На рабочий стол перед Виноградовым аккуратно лег небольшой квадрат из половинок белого картона, соединенных по углам обыкновенным степлером. Сквозь большое отверстие в середине можно было разглядеть металлический круг, несколько потемневший от времени, и достаточно крупную надпись: «СЛАВНЫЙ ГОДЪ СЕЙ МИНУЛЪ, НО НЕ ПРОЙДУТЪ СОДЕЯННЫЕ ВЪ НЕМЪ ПОДВИГИ».
– Что это?
– «Славный год», – собеседник ответил так, будто этого было даже более чем достаточно. Но потом все-таки сообразил, что сидящий напротив него человек нуждается в пояснениях:
– Памятный серебряный рубль, его отчеканили в девятьсот двенадцатом году, в память столетия Отечественной войны с Наполеоном.
– Вы же прекрасно знаете, что я не интересуюсь старыми монетами, – пожал плечами Виноградов. – Зачем она мне нужна?
– Ну, я тогда могу у вас ее купить. Скажем, тысяч за пятьдесят рублей? Или даже, наверное, за тысячу долларов… или евро, – судя по всему, реакция адвоката не оказалась для Живчика неожиданностью. – Видите ли, Владимир Александрович, состояние не идеальное, и тираж был довольно большой, но, наверное, я мог бы попробовать предложить ее кому-нибудь на обмен…
Адвокат Виноградов взял монету и перевернул ее на столе. На обороте красовался двуглавый орел с императорскими коронами и со всеми положенными атрибутами власти, а под ними указан был номинал – «РУБЛЬ». По окружности шла еще какая-то надпись, но Виноградов решил прочитать ее позже.
– Симпатичная вещь. Интересная. Знаете, я, наверное, оставлю ее себе.
– Зачем? – В свою очередь, почти искренне удивился теперь уже собеседник. – Я вам даже тысячу двести дам, чисто из уважения!
– Хорошо. Договоримся. Но не сейчас. – Владимир Александрович выдвинул ящик для всяческих мелочей и убрал в него необычный задаток. – Надо ведь подготовиться к разговору с этой вашей знакомой, почитать что-нибудь в Интернете, поблагодарить…
Было заметно, что Живчик расстроился. Очень расстроился. Вероятно, в действительности серебряная монета, доставшаяся Виноградову, стоила у нумизматов намного дороже, чем он за нее собирался платить.
– Ну, воля ваша, Владимир Александрович. Только, пожалуйста, на продажу, или там, на обмен, не предлагайте ее никому, кроме меня. Непременно обманут! Да еще и в глаза посмеются над вами. Такие люди среди коллекционеров есть, сплошь и рядом – мошенники, одно слово! Ни стыда, ни совести… так вы согласны? По поводу встречи?
– Да, согласен, – кивнул адвокат. – Дайте ей телефон, или вот… передайте визитку.
В принципе, посетителю пришло время прощаться, но он отчего-то медлил:
– Эта женщина может очень хорошо заплатить.
– Понимаю, – хозяин кабинета встал из-за стола, так что собеседнику пришлось подняться вслед за ним.
– Не продешевите, Владимир Александрович! И не стесняйтесь озвучивать цену по соглашению. А еще лучше меня заранее предупредите, я ее подготовлю, что любая названная вами сумма – это разумные деньги… ну, вы понимаете? Так, чтобы всем интересно?
Живчик явно рассчитывал получить с адвоката комиссионные за хорошего денежного клиента, и тут не было ничего удивительного. Поэтому Владимир Александрович только уточнил на всякий случай:
– Десять процентов?
– Ну, побойтесь бога, надо бы прибавить! Я же ведь ее накачаю, чтобы она заплатила, сколько скажете…
– Никаких проблем. Двадцать процентов.
– Послушайте, Владимир Александрович, а что, если…
– Все. Закончили. Пойдемте, я вас провожу.
Проводив посетителя, Виноградов вернулся к себе в кабинет. Включил компьютер. Как он сказал, фамилия этой наследницы? Леверман?
Точно. Что-то давнее, смутно и мутно знакомое…
Для начала всеведущий Интернет выкатил на экран по запросу такое количество сведений, что разобраться в них у Владимира Александровича не хватило бы ни сил, ни времени, но достаточно оказалось добавить в поисковую строку слово «нумизмат», как все стало намного понятнее.
Женщина по имени Мария Леверман на страницах сетевых изданий, практически, не упоминалась. Зато ее покойный отец Леонид Борисович, судя по журналистским расследованиям прошлых лет, оставил след не только в отечественной нумизматике, но и в отечественном же криминале. Имя среди серьезных коллекционеров он сделал себе еще относительно молодым человеком, в середине семидесятых. Но тогда же, по молодости, не смог удержаться в тени, из-за чего заработал в определенных кругах небезопасную репутацию подпольного миллионера. Спустя какое-то время его, разумеется, арестовали сотрудники КГБ и отобрали в доход государства все, что нашли на квартире и даче. Срок, зато, Леонид Леверман получил относительно небольшой – в те времена за незаконные операции с валютными ценностями, к которым относились также старинные золотые и серебряные монеты, можно было присесть намного основательнее. Освободился он, вроде, условно-досрочно и почти без проблем выехал в США. Как и все тогда, через Вену. Однако Леонид Борисович, в отличие от подавляющего большинства советских эмигрантов того времени, сделал этот прекрасный город не просто промежуточным пунктом на пути дальше за океан или в государство Израиль. Вена стала на много лет местом его постоянного жительства. Именно здесь Леверман снова сделал себе имя и состояние – составлял нумизматические каталоги, консультировал аукционы монет и наград, формировал коллекции для банков. В девяностые Леонид Борисович на какое-то время вернулся в новую Россию, где, по слухам, помогал начинающим олигархам вывести и легализовать за границей капиталы через нумизматику. Занимался он, также по слухам, и контрабандой «культурных ценностей» – с кем-то что-то не поделил, попал в поле зрения организованной преступности, и через какое-то время стало известно о его скоропостижной смерти при взрыве личной автомашины.
Произошло это печальное событие давным-давно, еще во второй половине девяностых. Леонида Борисовича вместе с водителем похоронили, и никто больше об этой истории не вспоминал – что же тут удивляться, по тем временам покушения и разборки подобного рода считались настолько обыденными, что не все из них даже попадали в общероссийскую криминальную хронику…
Владимир Александрович отодвинул клавиатуру и прошелся на кухню, заваривать чай. Это было чем-то вроде его личной неписаной привилегии – пить чай или кофе у себя в кабинете, прямо на рабочем месте. Остальные коллеги и специалисты в их офисе такого безобразия себе никогда не позволяли.
Вернувшись, адвокат выдвинул ящик стола и положил перед собой монету.
Подержал. Рассмотрел. Ощутил благородную тяжесть металла. Потом опять вернулся в Интернет.
По поводу рубля «В память 100-летия Отечественной войны 1812 года» нужная и довольно подробная информация нашлась сразу же. Отчеканено его было всего 26 000 штук, и посетители нумизматических сайтов сходилось на том, что монета является одной из самых красивых, художественно изящных монет Российской Империи. Из-за незначительного тиража, напоминали опытные коллекционеры, монета очень ценится на нумизматическом рынке и у нее очень высокий потенциал роста цены. Однако повышение стоимости автоматически ведет к росту числа подделок…
Относительно текущей стоимости памятного рубля, отчеканенного в 1912 году, в Интернете писали, что по состоянию на минувший июль по оценке Национального нумизматического реестра в степени сохранности MS63 он стоит от 470 до 490 тысяч рублей.
Ай да Живчик, ай да сукин сын!
Кажется, предстоящее дело обещало стать не самым скучным.
Нельзя сказать, чтобы Владимир Александрович совсем ничего не знал про нумизматику. Как и всякий мальчик из приличной семьи, он собирал, наряду с марками и солдатиками, также монеты, которые попадались по случаю, время от времени. У него даже образовалось подобие некой «детской» коллекции, основу которой составили металлические рубли с Владимиром Ильичем Лениным и серебряный царский рубль к 300-летию дома Романовых, доставшийся по наследству от папиной мамы. Однако это было всего лишь недолгое и несерьезное хобби, ни к чему не обязывающее развлечение для души, источник мимолетных положительных эмоций. Так или иначе, интерес к монетам не перерос тогда у Виноградова ни в желание почитать специальную литературу, ни в болезненную тягу собирателя «хочу еще и еще».
В ранней юности он это дело окончательно забросил. Но даже когда повзрослел, получил первое высшее образование и начал путешествовать по миру – непременно старался оставить на память какую-то иностранную мелочь. А потом обязательно складывал не потраченные монеты в большую коробку, чтобы не вспоминать о них до следующего раза…
В общем, конечно же, адвокат Виноградов понимал, что такое аверс монеты, и чем он отличается от реверса[1] – но, при этом, вполне мог случайно сказать, будто металлические деньги «печатают», а не чеканят. Из легендарных российских рублей он читал только, пожалуй, про Константиновский, выпущенный к несостоявшейся коронации 1825 года, перед восстанием декабристов, так что в свое время непродолжительное общение с Живчиком по уголовному делу его также не обогатило глубокими познаниями в нумизматике.
Зато, когда сам он, его друзья, приятели и многочисленные сверстники, один за другим, вступили в пору пятидесятилетних юбилеев, Виноградову неожиданно кстати припомнилось детское хобби. И он стал дарить именинникам на торжество не банальные сабли, картины, косилки для дачи, или рыбацкие принадлежности – он покупал в магазинчиках для коллекционеров серебряные «полтинники» прошлого века, которые почти всегда можно было вручить виновнику торжества, сопроводив соответствующими словами и пожеланиями. Получалось оригинально, солидно и не очень дорого…
…серебряный царский рубль к 300-летию Дома Романовых…». Стр. 13
По поводу рубля «В память 100-летия Отечественной войны 1812 года»…». Стр. 13
Глава 1
«Антоныч»
«Очень рад познакомиться с вами и надеюсь, что наше знакомство будет длительным, – как говорил джентльмен, обращаясь к пятифунтовому билету».
Чарльз Диккенс. Посмертные записки Пиквикского клуба
Коллекционеры коллекционеров убивают редко.
Во всяком случае, своими руками.
Криминал в сфере торговли монетами – это преступность «белых воротничков», по большей части латентная, то есть скрытая. Это постоянный обман, который у нумизматов считается бизнесом. Постоянное столкновение интересов…
Аукцион обманывает продавца – для этого существует неисчислимое множество способов и уловок, дилер обманывает клиента. Дилер обманывает другого дилера, а тот, в свою очередь, ставит на колени эксперта и заставляет его делать липовые заключения о подлинности…. Контрабанда монет во все стороны через границу. Неуплата налогов. Незаконные банковские операции. Кредит под залог монет с многократно завышенной ценой, и еще многое, многое другое, что подпадает, или почти подпадает, под определение уголовного наказуемого мошенничества. В нумизматике точно так же, как и в других сферах «теневой» экономики, используются фирмы-однодневки, открытые на документы покойников, стариков, пьяниц, малолеток – такие подставные лица выступали и выступают, по мере необходимости, либо как добропорядочные покупатели одиночных монет, либо как владельцы огромных коллекций, выставленных на продажу.
Впрочем, бывало и по-другому.
Так, директор большого нумизматического магазина в центре города предлагал своим близким и старым знакомым пятикилограммовую золотую монету. Через несколько дней его убили. А известного коллекционера по прозвищу Парфюмер, который консультировал олигархов и крупных московских чиновников, сначала ограбили на двести тысяч прямо около клуба, где он пачки долларов совал чуть ли не в авоську, прилюдно – и через полгода опять отобрали почти столько, но уже в собственной парадной. Еще один нумизмат с женой остались инвалидами после разбойного нападения на даче…
Выявлять и расследовать преступления, связанные с нумизматикой и с нумизматами, очень сложно. Да и защиту осуществлять по таким делам без образования, опыта и специальных знаний, которых у адвоката Виноградова не было, также непросто.
По правде говоря, если не считать уголовной истории с Живчиком, вспоминался из его практики всего один подходящий случай, да и то больше двадцати лет назад. Еще совсем молодым адвокатом, по назначению, защищал Владимир Александрович милиционера из полка охраны, который вместе с напарником украл из хранилища Государственного музея две серебряные монеты времен какого-то византийского императора. Монеты выглядели, на первый взгляд, одинаковыми совершенно – хотя одна из них, по заключению эксперта, вполне тянула на хищение в особо крупном размере, а вторая не дотягивала даже до административного правонарушения. И вообще, как оказалось, самым удивительным во всем этом уголовном деле было то, что в музее вообще заметили пропажу – подзащитный потом рассказал Виноградову, что у них в милицейском полку только ленивый не таскал ничего из запасников и кладовых, и что монеты старые в музее хранятся без счету и без присмотра…
Собственно, как раз об отсутствии у себя достаточных познаний в нумизматике и собирался предупредить наследницу покойного коллекционера адвокат Виноградов, если сомнительный господин по прозванию Живчик не смог, не захотел, или не потрудился это сделать сам.
…Центр города Виноградов представлял себе очень неплохо, поэтому по пути от метро сверялся только с номерами домов. Однако вывеску магазинчика с немудреным названием «Коллекционер» вполне можно было пройти, не заметив.
– Покупаете? Продаете?
Владимир Александрович не сразу понял, что обращаются к нему. Худощавый мужчина неопределенного возраста, оказавшийся на пути адвоката, был одет так, как, на памяти Виноградова, одевались советские инженеры, когда их посылали в колхоз, или в подшефное хозяйство – Владимир Александрович, прежде всего, обратил внимание на застиранную вязаную шапку незнакомца, и на его спортивные штаны с вытянутыми коленками. И только потом перехватил очень внимательный, быстрый и цепкий взгляд незнакомца – такой взгляд, которого никогда не встречается у алкоголиков и нищих, но который нередко бывает у профессиональных карточных игроков.
– Простите?
Неожиданный собеседник заметно смутился, и все-таки еще раз уточнил:
– Что-то интересует? Вы туда? – Он показал рукой на вывеску у входа, но, поняв по выражению лица адвоката, что тот не расположен к общению, куда-то отступил и растворился в зимних сумерках.
И, уже взявшись за ручку двери, Владимир Александрович понял, кого напомнил ему этот персонаж. Типичного водителя-нелегала, охотника на пассажиров в аэропорту! Или спекулянта чеками возле валютной «Березки» из давнего прошлого – те тоже изо всех сил пытались раньше остальных перехватить клиента, в надежде заработать на этом свою трудовую копеечку…
Кабинет директора нумизматического магазина, куда Живчик провел Виноградова, ничем не напоминал, разумеется, ни таинственную сказочную пещеру, ни бронированный бункер. Обыкновенная тесная чистая комната с плотными шторами, офисной мебелью и с обязательными для первого этажа решетками на окне. Был, конечно, достаточно современный компьютер, а также и немного оргтехники, сейф для бумаг и цветы на подоконнике.
Единственное, что сразу привлекало внимание любого посетителя – поясной портрет дамы средних лет, в парадном пышном платье старинного кроя, и с таким лицом, которые теперь встречаются только в музеях. Вид у женщины на портрете был настолько серьезный и важный, а рама картины выглядела так дорого, что Владимир Александрович даже не сразу сообразил, что это не более, чем репродукция, отпечатанная с фотографии на холсте.
– Добрый вечер.
– Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь… – в кресле директора, за столом, по-хозяйски расположилась коротко стриженая, подтянутая и загорелая не по сезону брюнетка, которой на вид можно было бы дать и тридцать пять, и пятьдесят с лишним лет. Она, безусловно, заметила взгляд Виноградова, поэтому сразу же пояснила:
– Не узнаете? Императрица Мария-Терезия.
И привычно дополнила, не дожидаясь вопросов:
– Она правила в XVIII веке, и до сих пор считается едва ли не единственной женщиной-нумизматом в истории.
– Неужели? – Вежливо удивился Владимир Александрович.
– Да, пожалуй, она одна… на память приходит еще только балерина Ирина Баранова. Ее коллекция продавалась в Швейцарии в тысяча девятьсот восемьдесят четвертом году, – хозяйка подала руку и представилась:
– Мария Леверман.
– Адвокат Виноградов. Можно просто Владимир.
Каждый раз он чувствовал себя в подобных ситуациях очень неловко, не совсем представляя, положено ли по современным правилам этикета пожимать даме руку, или ее следует поцеловать. Кто их знает, этих современных деловых теток. Вроде, мы и не на Западе, но и не в девятнадцатом веке… Вполне можно, в общем, по физиономии схлопотать вместо конструктивного диалога или светской беседы.
– Отец говорил, что меня назвали в честь нее. Представляете? Мария-Терезия издала едва ли не первый каталог монет, в том числе и российских. В коллекции Музея истории культуры в Вене есть даже уникальный петровский червонец – дукат 1706 года, и еще много чего…
– Вы даже, кажется, похожи, – откровенно соврал Виноградов.
Кое-как он вышел из положения, подержав в руке протянутую женскую ладонь, и опустился на кресло для посетителей. Второе свободное место занял просочившийся вслед за ним Живчик.
– Считается, что основу ее коллекции составили монеты, выкупленные у нашего герцога Бирона, – подключился он к разговору.
– А наша Анна Иоанновна, значит, сама нумизматикой не увлекалась? – Как и все, Виноградов зачитывался в свое время романами Валентина Пикуля, поэтому немного представлял себе, кто, когда и у кого был фаворитом при русском дворе.
– Коллекционирование – это одна из немногих сфер общественной жизни, где равноправие полов еще не стало свершившимся фактом. В московском клубе нумизматов, помнится, не было даже женского туалета. – Улыбнулась госпожа Леверман:
– Я не говорю о складывании стопок золотых монет в банковскую ячейку на черный день, или на пенсию. Здесь женщины – большие умницы и молодцы! Я говорю о настоящих нумизматических ценностях, которые стоят десятки, сотни тысяч и даже миллионы долларов. Вот такие монеты женщинам совсем не интересны.
– И ничего с этим не поделать? – Поддержал адвокат разговор не столько из интереса, сколько из вежливости.
– Да отчего же… Не то, чтобы женщин не допускали в нумизматику, вовсе нет. Думаю, их появление многие коллекционеры даже будут приветствовать стоя… – улыбнулась госпожа Леверман. – Аплодировать, делать комплименты и скидки, обучать, просвещать, давать советы и консультации. Да и сами начнут следить за манерами, за языком, за одеждой…
– Так в чем же дело?
– Просто женщины сами пока в нумизматы не идут. Хотя попытки их как-то привлечь, как-то заинтересовать тем, чем мужчины могут заниматься часами и сутками, круглый год, предпринимались уже не один раз.
– Очень благородно со стороны представителей сильного пола, – кивнул Виноградов.
– Причем тут благородство? – Пожала плечами его собеседница. – Это просто позволило бы значительно увеличить число вовлеченных людей. А значит и капитализацию нумизматических коллекций. Вот, например, один очень умный и опытный нумизмат предложил взять пару монет по сотне тысяч долларов каждая. Такие монеты – большая редкость, это почти уникальная вещь. А потом аккуратно, профессионально, ни в коем случае не испортив, вставить одну – в эксклюзивные часы престижной марки, а другую – в роскошную брошь знаменитой ювелирной фирмы. Часы с монетой надо будет подарить какой-нибудь европейской особе королевских кровей, желательно – молодой и симпатичной, а другое – современной актрисе мирового уровня, наподобие Мэрилин Монро или Анджелины Джоли. И все, дело сделано, дело в шляпе, как говорится…
Мария Леверман убедилась, что ее слушают, и продолжила:
– Мода на коллекционные монеты захлестнет мир женщин. И будет всем, как считает этот человек, счастье. С женщинами-нумизматами станут знакомиться мужчины, появятся дети-нумизматы и нумизматические династии. Дети-нумизматы начнут изучать иностранные языки, географию, историю мира и родных стран, будут читать – и вообще гармонично развиваться. Да и мужчинам, причем, не только коллекционерам, станет намного проще выбирать своим прекрасным дамам подарки не только на Восьмое марта, но и на Новый год, на день рождения, на годовщину свадьбы и так далее. Так что ряды участников рынка оборота монет, таким образом, расширятся еще и за счет не охваченных этим увлечением мужчин.
– Вы полагаете, это реально?
– Настоящий коллекционер – почти всегда мечтатель. Мой отец был таким, – наследница покойного коллекционера, видимо, вспомнила об условностях и предложила:
– Чай, кофе?
– Нет, спасибо, – отказался Виноградов.
– В магазин к нам сюда ходит одна, постоянно. – Не выдержал и решил подключиться к разговору Живчик, – Деловая, состоятельная женщина, хозяйка пары косметических салонов. Так вот, она точно монеты собирает.
– Какие? – Удивилась, или сделала вид, что удивилась, Мария.
– Красивые.
– В каком смысле? «Пруфы»?[2]
– Да нет, я же говорю – просто красивые… – Живчик снисходительно покачал головой. – Зайдет, по стеллажам глазами пробежится, выцепит что-то блестящее – и покупает. Одну, две монеты, редко больше. Под настроение, что понравится. Прямо, как сорока.
– Фу, какое грубое сравнение. А может, только так и стоит собирать коллекции – что нравится?
– Чисто женский подход, – пробормотал себе под нос Живчик.
– Я не вижу, чем он хуже любого другого, – очевидно, Мария Леверман посчитала, что настало время перейти к делу. Она выдвинула ящик письменного стола, достала синюю пластиковую папку, открыла ее и положила перед Виноградовым брошюру:
– Вот, посмотрите. Каталог основных лотов осеннего аукциона.
Брошюра была отпечатана в цвете, на хорошей и плотной бумаге. Ее страницы, насколько мог видеть Владимир Александрович, заполняли бесчисленные изображения монет – золотых, серебряных и даже медных. При этом практически любое изображение сопровождалось текстом того или иного размера. Образования Виноградова вполне хватило, чтобы узнать немецкий язык, однако слова и обозначения оказались для него слишком специфическими. Это не укрылось, конечно же, от внимания хозяйки магазина:
– Там перевод, я заложила.
Виноградов не сразу заметил между страницами сложенный вдвое листок с русским текстом:
«Пробный рубль 1740, СПб МД. 25,78 г. Биткин 49 (R4).
1’000 рублей по Петрову!! 300 рублей по Ильину!!
Узорчатый гурт. Редчайший! Одна из самых интересных монет! Один из величайших российских раритетов. Самая ценная российская серебряная монета наряду со знаменитым Константиновским рублем. Единственная в жизни возможность приобрести этот самый впечатляющий раритет впервые более чем за 40 лет. Маленький значок коллекционера «А. Т.» на гурте! Прекрасная патина. Состояние почти превосходное».
– Вы представляете себе, что это за монета?
– Боюсь, не в полной мере, – признался адвокат.
– Я так почему-то и думала. – Виноградову показалась, что Мария Леверман посмотрела на Живчика без особого уважения. Очевидно, он уже не в первый раз давал ей повод сомневаться в своих рекомендациях и оценках. Тем не менее, она опять перевела взгляд на адвоката и задала несколько странный вопрос:
– Как вы думаете, сколько копеек в рубле?
– Сто? – Без особой уверенности ответил Виноградов.
– Смотря, в каком рубле… – подал голос Живчик, явно пытаясь ему что-то подсказать.
– Пробный рубль 1740 года, так называемый «Бензельный Антоныч», продали десять лет назад на аукционе за четыре миллиона четыреста тысяч долларов. Если пересчитать на современные российские деньги, получается миллиард, или сколько там точно, копеек…
Адвокат теперь несколько по-иному воспринимал изображение в каталоге.
Вроде бы, ничего выдающегося. В центре крупный и замысловатый вензель, над ним императорская корона, а по кругу надпись, обращенная внутрь «IОАННЪ. III. Б. М. IМПЕРАТ: IСАМОДЕР: ВСЕРОС:» На обратной стороне, герб Российской империи, дата «1740» и крупно – «МОНЕТА. РУБЛЬ.».
– Интересно, что российского государя Иоанна Антоновича на западе считают Иваном VI, после Ивана V – брата Петра Первого, а на монетах он значится Иоанном Третьим. – Пояснила госпожа Леверман. – Документов по поводу пробной рублевой монеты, которую называют «Бензельный Антоныч», нет. Поэтому количество отчеканенных экземпляров неизвестно. Биткин дает редкость R4, то есть в мире существует всего два-три экземпляра, некоторые считают, что четыре, или даже пять…
– По-настоящему подтверждена судьба только двух известных экземпляров именно такого «Антоныча». Тот, что из коллекции Гуттен-Чапского, был всего один раз тихо и счастливо продан большевиками на аукционе дублей Эрмитажа в тридцать втором году, а деньги от его продажи, видимо, пошли на дело мировой революции, – усмехнулся Живчик, который советскую власть никогда не любил. – Судьба же другого драматичнее. Вывезли его практически сразу после революции – аукцион прошел в тысяча девятьсот девятнадцатом году в Германии, в такой спешке, что даже картинок в каталоге не делали. Кто купил монету – до сих пор не понятно, если вообще она была тогда продана. И в двадцать четвертом этот «Бензельный Антоныч» снова был предложен к продаже, а потом он же – в шестьдесят восьмом, как вычислил один ушлый американец.
– А почему же их так мало сохранилось?
– Как известно, Петр Первый окончательно ввел у нас античную традицию помещать портрет монарха на монетах, – Мария Леверман достала сигарету, и почти сразу же убрала ее в пачку. Видимо, в магазине у нее никто не курил по соображениям пожарной безопасности. – Но как это было сделать для Иоанна Антоновича, которому было в момент восхождения на престол всего несколько месяцев? Вот и получился рубль с вензелем, который в дело не пошел – на тиражных-то монетах император все-таки изображался ребенком.
Откуда-то, – наверное, опять же из романов Валентина Саввича, – адвокат Виноградов не слишком отчетливо помнил, что Иоанн Антонович царствовал, на свою беду, в эпоху дворцовых переворотов, и был убит не то во младенчестве, не то много позже, при попытке освободить его из заточения. Однако блеснуть своей осведомленностью адвокат не успел. Наследница знаменитого коллекционера достала из ящика стола вторую папку – картонную, со старомодными завязками:
– А теперь посмотрите вот это.
Хозяйка выложила из папки несколько прямоугольных карточек, отдаленно напомнивших адвокату библиотечные формуляры времен его далекой молодости. Карточки были заполнены от руки, быстрым почерком, и с точки зрения человека нормального, то есть непосвященного, надписи на них представляли собой совершенно бессмысленную череду сокращений, чисел и символов. Впрочем, почти ко всем карточкам были прикреплены черно-белые, но достаточно четкие фотографии аверса и реверса монет.
– Узнаете?
– Да, конечно. – Верхний снимок с переплетением сложного вензеля полностью соответствовал тому изображению, которое Владимир Александрович только что рассматривал в глянцевой иностранной брошюре.
– Так вот, это копии карточек из домашнего каталога отца. Каталога, который он начал вести еще в детстве, и не прекращал дополнять до самой смерти. Видите, отметка сделана: знак колл. «А. Т.»? Как вы понимаете, это тот же самый «Антоныч».
– С признаком, – поддержал ее зачем-то Живчик. – На российских монетах известно всего три типа значков. Во-первых, это «А. Т.» на гурте, – в 1968 году его ошибочно обозвали «А. К.». Во-вторых, значок на поле и поле знаменитого графа Эммериха Гуттен-Чапского, который продал потом свою коллекцию великому князю Георгию Михайловичу. И еще значок коллекционера Лысненко, тоже на поле, который хотел по нему после войны 1812 года разыскать свои монеты.
– А что означает наш значок? – Уточнил на всякий случай Виноградов.
– Ну, кто такой «А. Т.» теперь можно только предполагать. Есть пара версий, одна из них – что это известный нумизмат Трапезников, каталогом которого часто пользовался мой отец… Также это может быть знак одного ювелира от Фаберже, который перебрался после революции в Финляндию. Вообще, кроме «Антоныча» такое обозначение известно только на гурте целой серии редких платиновых монет, также выставленных на аукционе 1968 года.
– Вы еще говорили, – припомнил адвокат, – что это какой-то… «пробник»?
– Да, это «пробник». То есть вариант монеты, выпущенный для утверждения оформления аверса и реверса… ну, или для каких-нибудь технологических экспериментов. Например, среди петровских «пробников» самым дорогим считается медный пятак неутвержденного образца, датированный 1723 годом, – он был недавно продан на торгах почти за шесть с половиной миллионов. А пробный рубль 1796 года, единственная оригинальная монета с портретом Павла Первого, ушел в две тысячи седьмом за двести с лишним миллионов.
– Долларов?
– Рублей, конечно, – улыбнулся Живчик. – Ну, на практике, принято считать пробными только те монеты, по которым в архивах есть соответствующие документы. Иначе как отличить, например, мелко тиражные монеты от пробных? Но нет правил без исключений, вроде нашего, которые, собственно, только подтверждают правила. Отсутствие документов по «Бензельному Антонычу» вполне себе объяснимо, учитывая, что память о нем императрица Елизавета хотела стереть, а монеты целенаправленно изымались из обращения. Причем с угрозой нешутейных санкций!
– Вообще-то, – заметила Мария, – отсутствие исторических документов породило совсем уж конспирологические версии о том, что «Бензельные Антонычи» – не более, чем фантазийный новодел.
– Что значит – фантазийный новодел?
– Строго говоря, по определению Узденикова, – это специфическая подделка монеты, никогда не существовавшей в оригинале, на самом деле.
– Такие, кстати, тоже люди собирают. И торгуют ими, и неплохо зарабатывают… – Живчик многозначительно посмотрел на Марию, очевидно, продолжая какой-то давний и неоконченный спор с ней.
– В общем, как бы то ни было, мы уверены, что это монета из коллекции моего отца, – Мария положила в картонную папку глянцевый каталог и завязала тесемки. – Точнее, из той части коллекции, которая пропала после его смерти.
– А подробнее? – Адвокат потянулся за ручкой. Он вообще любил делать пометки в своем ежедневнике, чтобы не запутаться в материале с самого начала.
– К моменту ареста отец уже собрал большую коллекцию монет, одну из лучших в городе. Разумеется, следователи и прочие товарищи из КГБ делали у нас несколько обысков. Я помню… – Мария Леверман опять потянулась за сигаретой и опять не закурила. – Перерыли они тогда все сверху донизу – и квартиру, и дачу, забрали кое-что, но, по большому счету, мало что нашли. После освобождения отец как-то многое вывез. Кое-то из коллекции нам оставил – чтобы хватило не голодать, на то время, пока он за границей обустроится, и нас с мамой к себе заберет. Мы же с ней так думали, он обещал…
Дочь знаменитого нумизмата была, судя по всему, сильной женщиной, но даже ей понадобилось какое-то время, чтобы справиться с давними воспоминаниями:
– Короче, никуда он нас не вывез, ни в какую заграницу. Да и не собирался, наверное. Позже выяснилось, зато, что во время нахождения в Австрии отец из своей коллекции российских монет ничего не растратил, а наоборот – пополнял ее, так что к началу нашей перестройки сделал едва ли не самой крупной в Западной Европе. А когда смог вернуться – кое-что перетащил даже обратно по своим каналам, хотя большая часть так и осталась там, в каком-то банке.
Мария Леверман положила ладонь на картонную папку:
– Но каталог своей коллекции отец сюда привез, он вообще с ним не расставался. Дополнял что-то постоянно, делал пометки, дописывал. И хранил эти чемоданы в квартире у нас с мамой, чтобы мы могли потом, если что… Мы, конечно, пытались. Но после смерти отца та часть его коллекции, самая ценная, которая оставалась в Австрии, бесследно пропала. Нам досталась примерно третья часть, а то и меньше.
Наследница сделала паузу, и Виноградов позволил себе уточнить:
– И вы полагаете, что теперь, спустя столько лет, этот самый «Антоныч» из коллекции вашего отца всплыл на аукционе?
– Не только он всплыл… – как оказалось, в папке с тесемками хранились не только карточки с фотоснимками. Еще там была, по меньшей мере, одна потрепанная тетрадь в клеточку, на девяносто шесть листов – из тех, которые раньше называли «общими». Из-под ее темно-коричневого обреза выглядывали пестрые узкие язычки вполне современных закладок. – Да, конечно, считается, что картотека намного удобнее тетрадного каталога. А сейчас вообще есть компьютерные программы для учета монет, но отец начал делать свою коллекцию еще в те времена, когда и фотоаппарат был не в каждой семье. Поэтому не удивляйтесь…
Мария Леверман повернула тетрадь к Виноградову, открыла ее на одной из закладок, и адвокат снова увидел значки, буквы и символы, очень похожие на те, которые были на карточке. Только здесь, в качестве иллюстраций, вместо фотографических изображений темнели кружки, проштрихованные через бумагу простым грифельным карандашом.
– На западе так никто никогда не делал, только в СССР. Там берется какой-нибудь печатный каталог – и прямо в нем отмечаются монеты, которые у тебя есть. Очень наглядно. Но, сами помните, у нас все было дефицитом, а уж издания для нумизматов и подавно, – прокомментировал Живчик.
– Само собой, почти вся информация отсюда была продублирована отцом на карточках. Я потом проверяла, и не один раз… – наследница аккуратно закрыла старую тетрадь. – Очень важно, что везде почерк один и тот же, вы понимаете?
– Согласен, – кивнул на всякий случай адвокат.
– Одновременно в Австрии будет выставлено еще несколько десятков монет, которые совпадают и здесь… и здесь… – госпожа Леверман показала поочередно на домашний каталог своего отца, и на буклет предстоящего аукциона. – Например, вот, четыре «Константина» – с гуртовой надписью, с гладким гуртом, советский новодел плюс знаменитый рубль Трубецкого, подделка, которую чеканили в Париже. А еще там есть «Золотой конь» из отцовского каталога, пять «семейников», два полуполтинника 1703 года… кстати, я надеюсь, вам не надо объяснять, что такое «Константиновский» рубль, и сколько он может стоить?
– Не надо! – Поспешил адвокат отказаться от очередной лекции «для чайников» по основам российской истории и нумизматики. По правде говоря, у него уже голова пошла кругом от непонятных слов и специфического жаргона, которым пользуются коллекционеры. Поэтому он задал уточняющий вопрос, который еще до начала беседы пометил у себя в блокноте:
– Кто передал в аукционный дом монеты вашего отца?
– В каталоге указано, что продавец анонимный.
– В чем тогда состоит моя задача?
– Ваша задача, уважаемый Владимир Александрович, вполне благородная. Восстановить законные права наследницы, – ответил адвокату Живчик вместо госпожи Леверман. – И вернуть ей коллекцию покойного отца, Леонида Михайловича.
– Все документы, необходимые для поездки в Европу, мы для вас подготовим. – Пообещала дочь коллекционера. – У вас ведь есть действующая Шенгенская виза?
– Да, есть, но, но сами знаете, что в нынешней политической ситуации…
– Мы все организуем. По этому поводу не беспокойтесь по поводу санкций, пришлите мне только фотографии загранпаспорта. – Мария Леверман придвинула поближе к Виноградову папку с копиями каталога своего отца и глянцевую брошюру предстоящего аукциона:
– Предлагаю сразу обсудить финансовые условия. Я думаю, что речь следует вести о разумном авансе, и договориться по поводу «гонорара успеха». Либо это будет фиксированная сумма, либо процент от стоимости возвращенных монет.
– Представительские расходы, билеты, гостиница оплачиваются отдельно, – добавил Живчик.
– У меня есть какое-то время подумать? – Чтобы что-то спросить, уточнил Виноградов.
– Нет. Но я уверена, что вам это и не нужно…
Молодому охраннику Олигарха этот человек активно не понравился.
Таких, в его понимании, совершенно не следовало допускать не то, чтобы лично к хозяину – даже от помойки на дворе хозяйского дома их следовало бы держать подальше. Какая-то куртка не по сезону, поношенные брюки и ботинки со следами грязной соли, которой посыпают улицы от снега…
Второй охранник был значительно старше и опытнее. Видел он сегодняшнего посетителя уже не впервые – и вообще, за долгие годы в окружении Олигарха насмотрелся на таких разных людей, что давно уже не оценивал никого исключительно по одежке.
– Нет, он точно не из наших.
Встреча на этот раз проходила в закрытой ложе Дворца ледовых видов спорта. Огромные панорамные стекла в ней затонировали так, что разглядеть снаружи, что делается за ними, было совершенно невозможно. Зато из самой ложи прекрасно просматривалась залитая искусственным льдом и искусственным светом площадка, на которой сейчас выписывали какие-то незамысловатые фигуры девочки из младшей группы по фигурному катанию.
Лицо и глаза у человека, с которым общался Олигарх сегодня, были явно еврейские, в маму. А вот фамилия ему досталась папина, украинская – Дыбенко. Как у легендарного революционного матроса, которого эта самая революции, по законам исторического развития, впоследствии и поставила к стеночке.
– Посмотри еще раз, – предложил Олигарх.
Но Дыбенко уже отодвинул от себя фотоснимки, распечатанные с камер уличного наблюдения. Камеры были установлены с обеих сторон, напротив магазина для коллекционеров, и получить к ним доступ для профессионалов из службы безопасности Олигарха не составляло особенного труда:
– Зачем мне ваши записи смотреть, если я сам его видел, лицом к лицу?
– А ты что, всех коллекционеров города знаешь?
– Нумизматов, – поправлять Олигарха решался не каждый, но человек с революционной фамилией все-таки уточнил. – Нет, не всех. Только тех, кто заслуживает внимания.
Обращение на «ты» от собеседника он терпел вполне спокойно – так уж сложилось общение между ними, в том числе, из-за разницы в возрасте. В остальном же Дыбенко вел себя с Олигархом так, как позволяют вести себя с хозяевами жизни только те, кто на деле успел доказать в чем-то свою незаменимость. Например, очень опытные егеря на охоте для особо важных персон. Или хирурги, продолжающие наблюдать пациента после сложной, рискованной, но закончившейся хорошо операции.
– Адвокат это. По фамилии Виноградов. Нам прокачали его через полицейскую систему распознавания лиц, совпадение полное. Сейчас пробиваем по другим базам. – Олигарх веером развернул фотографии тех, кто попал в поле зрения уличных камер:
– А про этих что скажешь?
– Так… вот, значит, я, – Дыбенко показал на тот снимок, где он общается с адвокатом. – Это Живчик… простите, запамятовал фамилию. Потом посмотрю, если надо, у меня данные есть, но его просто все так и называют – Живчиком. Начинал, как мелкий спекулянт монетами, потом поднялся. Теперь считается чуть ли не экспертом, хотя по-настоящему знаний у него глубоких нет, нахватался отовсюду понемногу… Репутация у него отвратительная – на руку нечист, да еще говорят, что стучит-перестукивает в компетентные органы.
– Почему же с ним общаются?
– Ну, так среди господ нумизматов таких, как он половина… Если не больше.
– С Леверманом этот Живчик связан был?
– Нет, не думаю. Разные уровни, – пожал плечами Дыбенко. – Зато последние несколько лет Живчик постоянно крутится вокруг госпожи Леверман… Вот она у вас на фотографии садится в машину.
– Наследница?
– И не только. Вот, к примеру, этого самого Живчика она держит при себе – думаю, как прикрытие. Такой, типа, громоотвод… хотя сама неплохо разбирается в монетах.
– Папаша покойный научил?
– Возможно. Но, скорее всего, просто гены…
Олигарх подозвал того охранника, что помоложе, и отдал ему фотоснимки:
– Убери, – а потом предложил собеседнику:
– Еще кофе будешь?
– Нет, спасибо, – отказался Дыбенко.
– Или, может, тебя покормить?
Это прозвучало, как шутка, на которую, видимо, обижаться не следовало. Олигарх лучше многих других знал, что человек, который сидит сейчас с ним, вовсе не бедствует. И что размер капитала, конечно же, вряд ли позволил бы ему войти в список Форбс – но вполне дает возможность носить золотые часы, одеваться в Милане по моде и ездить на «майбахе» с личным водителем. Олигарх понимал также, что одежда для этого человека – что-то вроде маскировочного окраса у мелкого хищного обитателя джунглей, которому надо не только добывать себе охотой пропитание, но и заботиться постоянно о том, чтобы самому не стать добычей для более крупных зверей.
– Нет, спасибо, – повторил человек с революционной фамилией. – Вы ведь, как я понимаю, еще что-то хотели спросить?
Александру Дыбенко, – имевшему, разумеется, в кругах городских коллекционеров и спекулянтов прозвище Матрос, – было лет сорок пять, или около того, то есть родился он в благополучные годы московской олимпиады. Монетами по-настоящему увлекся еще в престижной математической школе, после которой легко поступил в университет, который закончил с отличием. Его даже оставили на кафедре, но научной или педагогической карьеры он так и не сделал, отдав предпочтение серьезной нумизматике.
Матрос чувствовал, любил и понимал монеты. А еще очень много читал и внимательно слушал, анализировал чужой опыт, тратил деньги на специальную литературу и каталоги. При этом он обладал великолепной памятью, умел использовать прикладные методы математического анализа и поэтому был удачлив даже в самых сомнительных сделках. Наверное, даже слишком удачлив, чтобы это прошло незамеченным. В начале двухтысячных, прямо по пути из клуба коллекционеров, ему пробили голову трубой, завернутой в газету, отобрали ключи и вынесли из квартиры все, что сумели найти. Хорошо, что произошло это летом, и его мама оказалась тогда не в городе, а на даче…
Выйдя из комы и немного поправившись, младший научный сотрудник Александр Дыбенко оформил инвалидность и укрылся в тень, где и прибывал до настоящего времени, продолжая заниматься любимым делом.
– Да, хотел. Ты уверен, что это монета из коллекции Левермана?
Олигарху недавно исполнилось семьдесят шесть, однако выглядел он моложе своих лет. Это был смуглый, немного тяжеловесный мужчина, преисполненный чувством собственного достоинства – с лицом восточного вельможи и с голосом человека, не привыкшего повторять свои распоряжения. Начинал он еще до перестройки, на комсомольской работе в одной из национальных республик, но достаточно быстро нашел себя в новых общественных отношениях. Одевался Олигарх всегда с той очаровательной простотой, которую могут позволить себе только очень богатые люди, однако сам себя почувствовал по-настоящему богатым только после того, как приобрел свой первый личный реактивный самолет – небольшой бизнес-джет, ранее принадлежавший кому-то из арабских шейхов.
Следует отметить, что теперь в его распоряжении был целый воздушный флот, включавший не только личные, но также корпоративные самолеты, вертолеты и, кажется, даже экологически чистый экспериментальный аэростат. Поговаривали, что пятилетняя внучка Олигарха, привыкшая путешествовать по миру исключительно на дедушкиных частных самолетах, возвращаясь почему-то из Европы с мамой в первом классе, очень удивилась на посадке, что столько чужих незнакомых людей полетит вместе с ними…
– За сто лет зафиксировано всего несколько аукционных продаж такой монеты, – ответил, не задумываясь, собеседник. – Это, во-первых, Адольф Гесс, или Хесс, если угодно, тысяча девятьсот девятнадцатого и двадцать четвертого годов, аукцион тридцать второго года… лот 952, если я не ошибаюсь… и аукцион шестьдесят восьмого, лот 122. Причем, в последний раз «Бензельного Антоныча» выставляли с экспертным заключением Общества друзей Государственного исторического музея за подписью Ширякова, о котором я вам уже как-то рассказывал…
– Да, помню, – кивнул Олигарх. – Прикормленный эксперт…
Коллекционер по прозвищу Матрос оставил его реплику без комментариев:
– Всего известно пять экземпляров такого «Антоныча», которые можно считать подлинными. И, насколько я помню, уже было две серьезные попытки купить его за миллион швейцарских франков плюс аукционная комиссия.
– Понятно. Скажи лучше, там есть мои монеты? – Олигарх припечатал широкой хозяйской ладонью предварительный каталог весенней выставки.
– Нет. Я думаю, что для платины будут организованы отдельные торги.
Собственно, сегодняшние собеседники и познакомились-то исключительно благодаря покойному Леониду Борисовичу Леверману. Точнее, благодаря его легендарной коллекции. А еще точнее, благодаря той части коллекции, которую Олигарх много лет назад купил за серьезные деньги.
Как оказалось позже – думал, что купил…
Общеизвестно, что именно в Российской империи впервые в мире стали чеканить монеты из платины. Причем обратились к платине не просто так, не из праздного интереса, а из-за вечного дефицита традиционных денежных драгметаллов, – золота и серебра, – в государственной казне. Опыт был кратким и неудачным, но – был! «А также в области балета мы впереди планеты всей…» И в платине, если не считать более ранних подделок испанских или испанских колониальных монет, тоже – целых восемнадцать лет, с 1828 по 1845 годы. Начато все было по уму, как при Петре Великом: сначала маленькая трешка, потому что более мелкие монеты легче чеканить, да и тираж у них самый массовый. В 1829 году добавился диковинный номинал в шесть рублей, а в следующем и вообще – экзотичная 12-рублевка. Однако очистить платину тогда удавалось только до девяноста пяти процентов, поэтому монеты получались внешне неказистыми, не привлекательными и не были популярны. Поэтому, в конце концов, всю платину из денежного оборота изъяли и продали англичанам, которые в результате стали на какое-то время монополистами.
Так вот, под конец девяностых годов уже прошлого века, именитый коллекционер Леонид Леверман, предложил Олигарху приобрести полную коллекцию российской платины, включая даже такие редкости, как рубль 1827 года, две монеты по двенадцать рублей, две по шесть, пять «трешек», а еще уникальные «полтины» и «четвертаки» 1826 и 1827 годов. Кроме этого, приятным бонусом к предложенному товару шли медали и памятные жетоны – и таким образом получалась коллекция платины более полная, чем в любом музее Москвы или Питера.
Разумеется, просто с улицы, без своего человека в ближайшем окружении Олигарха, выйти на него с таким предложением было бы нереально. Поэтому Леверман, для начала, подкупил за большие деньги и за обещанный процент именитого столичного коллекционера, который считался при Олигархе советником по антиквариату. Тот провел со своим подопечным определенную подготовительную работу, показал ему несколько экспертных заключений разной степени достоверности, и через некоторое время организовал встречу покупателя и продавца.
Остальное для нумизмата Леонида Левермана было делом техники. Сторговались на двадцати пяти миллионах долларов. Разумеется, с премией к цене за полноту коллекции. Потому что, пояснил Олигарху тогдашний его консультант, так все равно получается выгоднее. Например, полный набор чего бы то ни было – пятьдесят монет, у тебя сорок девять, и не хватает одной, которая уникальная, но имеется на руках у кого-то из коллекционеров. И хозяин монеты прекрасно осведомлен, что у тебя нет только ее. За сколько ты ее получишь? Только что не разденут. Вот и следует брать коллекцию разом, убеждал консультант. Заплати, положи и гордись – только не лопни от осознания своего величия…
Чтобы не связываться с органами валютного контроля и таможней, деньги за монеты ушли с иностранных счетов Олигарха куда-то на кипрские оффшоры, указанные продавцом. После этого сразу же началось оформление документов для возвращения коллекции в Россию, но… известие о скоропостижной трагической гибели Леонида Борисовича Левермана странным образом оборвало все ниточки, за которые следовало потянуть, чтобы завершить сделку.
Это было обидно и больно. Тем более, что Олигарх, как оказалось, преждевременно пообещал кое-кому на самом-самом верху, что непременно вернет на родину из Австрии российские платиновые монеты и даже создаст специально для них некий частный музей, экспонаты которого будут иметь, безусловно, не только материальную, но и культурно-историческую ценность.
Свято место пусто не бывает. Поэтому неудивительно, что спустя короткое время, прекрасной патриотической идеей Олигарха воспользовались другие, сделав себе имя на царском золоте или на яйцах Фаберже, а сам он потерял не только и даже не столько деньги, сколько репутацию в определенных деловых и политических кругах.
Интерес к собиранию старых и редких монет он тоже потерял надолго, если не навсегда.
…Каким образом Саша Дыбенко, математик и нумизмат, вычислил связь продавца с человеком из близкого окружения Олигарха, каким образом раскопал доказательства сговора их за спиной покупателя – это совсем другая и непростая история, требующая отдельного описания. Как бы то ни было, Олигарх тогда сразу поверил всему, что рассказал молодой человек странной внешности – и про самого Левермана, и про своего собственного консультанта по антиквариату, и про настоящую стоимость платиновой коллекции. Олигарх вообще был человеком неглупым и хватким, он уже давно предполагал, что дело нечисто, и что его просто надули, как последнего лоха. Однако сознаваться в этом не хотел даже себе. Во всяком случае, до тех пор, пока сам не услышал признания жадного антиквара, сделанные им перед смертью.
Перед смертью, которая, разумеется, наступила в результате несчастного случая… А еще перед тем, как по неосторожности вывалиться во двор из окна своей новой квартиры на четырнадцатом этаже, антиквар добровольно передал Олигарху, в качестве своего рода извинений, небольшую коллекцию старых монет, которыми давно интересовался Дыбенко.
Сам Александр, надо сказать, ни тогда, ни в последствии не пожалел о том, что вывел этого человека на чистую воду, и никогда не испытывал угрызений совести из-за того, как неожиданно покинул этот мир бывший консультант Олигарха. Он вообще терпеть не мог всяческих откровенных дельцов и перекупщиков, которые называли себя нумизматами, но монет не любили и не понимали, а потому и не имели права обладать ими. Иногда при виде таких людей у нормального коллекционера могло возникнуть даже ощущение, что перед ним и не жулик вовсе, а искренне ошибающийся человек, просто не ведающий, что творит. Но, по мере общения, по мере узнавания и попыток объяснить, что не так, молодому тогда еще Дыбенко раз за разом приходилось убеждаться, что это неспроста, что жуликами просто так не становятся, и что обязательно вылезает какая-нибудь выгода «заблуждающемуся». Большинство из них, в свое время, прошло мимо стадии восторженного детско-юношеского собирательства, когда нарабатывается бесценный опыт, поэтому незнание предмета они скрывали за счет умения заговаривать зубы, десятка умных фраз из иностранных каталогов и профессионального жаргона. Максимум, что эти люди прочитают – это какую-нибудь историческую справку из глянцевого журнала. А до серьезной нумизматической литературы и сами не добираются, и другим не дают, потому что все у них только за деньги: знания, опыт, улыбки, даже тумаки…
В принципе, что за монета перед жуликом на самом деле – его не интересует, он видит за ней только прибыль, потенциал для получения денег, и представляет себе, как можно извратить реальную картину, где и что нужно подтасовать в свою пользу.
…К сожалению, о дальнейшей судьбе русской платины, за которую было заплачено и переплачено, покойный консультант по антиквариату не имел ни малейшего представления. Так что потом, на протяжении многих лет, Олигарх все еще без успеха искал свои деньги, а также часть легендарной коллекции Леонида Левермана, за которую и ушли в небытие эти деньги.
И вот сейчас Александр Дыбенко принес ему известие о предстоящем аукционе – плюс цветной предварительный каталог этого аукциона, с аккуратными собственноручными пометками.
– Откуда у них монеты покойного Левермана?
– Не знаю.
– А сам-то как думаешь?
– В открытом доступе нет сведений о том, кто их выставил на продажу. Надо выяснять на месте.
– Предлагаешь принять участие в аукционе?
– Как вариант. – Дыбенко с самого начала понимал, что другого выхода нет. Но даже в самом доверительном в общении с любым собеседником он предпочитал, чтобы тот сам приходил к нужным выводам и самостоятельно принимал все важные решения.
Олигарх сделал вид, что задумался:
– Значит, у тех, кто распродает сейчас коллекцию, может оказаться и моя платина?
– Да, не исключено.
Олигарх посмотрел на цветную брошюру:
– Там у них будет выставлено все, что осталось от Левермана? Кроме того, что я тогда купил?
– Нет, конечно. В каталоге вообще только российское серебро. Но, к примеру, в нем совершенно не представлено знаменитое золота из его коллекции, которого было ой, как много, – покачал Дыбенко головой:
– Сдается мне, что это пробные торги. А все самое интересное нас еще впереди ожидает…
Знаменитый нумизмат польский граф Эммерих Гуттен-Чапский
Значок на поле знаменитого графа Эммериха Гуттен-Чапского… Стр. 28
Гурте целой серии редких платиновых монет, также выставленных на аукционе 1968 года». Стр. 29
Пробный рубль 1740 года, так называемый «Бензельный Антоныч», продали десять лет назад…». Стр. 26
Глава 2
«Золотой семейник»
«Теперь я пирожок с мясом!» – сказал колобок, дожевывая лисицу.
Откуда-то из Интернета
Раньше, в молодости, Виноградов любил носить черные рубашки. Теперь перестал. Слишком часто в последнее время ему приходилось надевать их на похороны сверстников…
– Здорово, Володя.
– Привет.
Народу на кладбище в этот раз было не то, чтобы много, но военкомат организовал все, как положено: два автобуса, почетный караул, салют…
– Давно не виделись.
– Да уж, это точно…
С человеком, оказавшимся рядом, Владимир Александрович когда-то давно учился в Высшем морском училище, в одной роте, хотя и на разных специальностях. Не то, чтобы они близко дружили, но все-таки были приятелями – посещали вместе Интерклуб моряков, нарабатывая языковую практику на английском и на немецком, менялись книгами из родительской домашней библиотеки. Виноградов после училища получил диплом полярного метеоролога, сдал экзамены в аспирантуре, но почти сразу отправился по «андроповскому» набору на оперативную работу, в органы внутренних дел. А курсант Паша Белкин выпустился океанологом, тоже с красным дипломом, и вроде бы получил распределение в какой-то НИИ по охране природы. Потом он исчез на несколько лет из поля зрения, и следы его обнаружились только в городе Лондоне, где молодой кандидат наук Павел Олегович Белкин совсем неожиданно для однокашников занял мелкую должность в советском представительстве при Международной морской организации. Кто-то на встрече выпускников вроде бы упомянул, что у него не то родной дядя чем-то руководил в Министерстве иностранных дел СССР, не то он просто удачно женился на дочке сотрудника Внешпосылторга…
В общем, как бы то ни было, Пашка из Лондона перебрался в Женеву, где потом несколько лет занимался вопросами загрязнения океана. После перестройки Белкин на какое-то время вернулся на родину, где-то что-то, говорят, преподавал, а потом снова на несколько лет пропал из поля зрения Виноградова и других общих знакомых. Вышел он на пенсию даже раньше, чем те, кто всю жизнь зарабатывал северные надбавки – в звании, кажется, подполковника или полковника Службы внешней разведки.
– На поминки поедешь? – поинтересовался однокашник по училищу.
– Поеду, но позже, – кивнул Виноградов. – Я на машине. Отгоню, поставлю, и прямо туда.
– Подбросишь до метро?
– Конечно… а куда тебе вообще?
– Да нет, я от метро потом сам доберусь, так быстрее.
Траурная церемония скоро закончилась. Грохнул салют, над могилой насыпали холмик, поставили крест с фотографией – и люди потянулись протоптанной дорожкой к выходу с кладбища.
– Паша, я и не знал, что вы с ним были знакомы, – сказал Виноградов, обернувшись в последний раз к свежему воинскому захоронению.
– А мы и не были знакомы, – пожал плечами однокашник.
– Тогда как же ты здесь… – спросил адвокат Виноградов, уже, впрочем, догадываясь о том, какой ответ услышит.
– С тобой повидаться, Володя.
Адвокат Виноградов считал себя уже не очень молодым человеком и достаточно серьезным профессионалом. Долгий опыт общения с представителями спецслужб подсказывал, что место, время и даже обстоятельства сегодняшней встречи были выбраны не просто так. Но он все-таки уточнил:
– А что, просто позвонить нельзя было? Договорились бы заранее…
– Никак нельзя было, Володя, извини и поверь, – развел руками Белкин. – Времени очень мало.
Еще несколько метров они прошли молча.
– Хочешь знать, за что сел Леонид Михайлович Леверман?
– Кто? – Переспросил адвокат.
– Да ладно тебе…
В долгой и хлопотной биографии Владимира Александровича Виноградова было достаточно много пересечений с нашими, да и не только с нашими, спецслужбами, чтобы он по-настоящему удивился. Однако правила приличия требовали хотя бы изобразить удивление:
– Паша, ты ничего не перепутал?
Разумеется, Белкин оставил вопрос без ответа:
– Очень надо, чтобы ты согласился на предложение, которое сделала его очаровательная дочь Мария. И чтобы прокатился на венский аукцион.
– Кому надо? – Уточнил Виноградов
– Стране. Государству нашему злополучному… – вздохнул Паша Белкин. – Да и тебе тоже.
– Интересно, а мне-то зачем?
– Меня попросили сделать очень выгодное предложение. По поводу страховой выплаты одним твоим эстонским клиентам. Думаю, догадываешься, о чем идет речь?
Им пришлось посторониться к обочине, пропуская автобус с командой почетного караула, и адвокат даже немного придержал своего спутника за локоть:
– Вот с этого места, Паша, давай-ка подробнее…
Дело, которым занимался Владимир Александрович, лежало сейчас в одном из кабинетов центрального офиса отечественной компании «Морингосстрах». Однако начиналось оно далеко от Москвы, в международных водах Черного моря, еще третьего марта 2022 года, когда сухогруз «НОРТ» под либерийским флагом лежал себе спокойно в дрейфе, ожидая распоряжений от собственника. Судно было небольшое, принадлежало эстонской компании, а экипаж состоял из украинских моряков под командованием капитана с российским паспортом и белоруса – старшего механика. Погода стояла прекрасная, видимость, ветер, волнение и температура окружающего воздуха полностью соответствовали климатической норме. Приблизительно в пятнадцать часов десять минут по местному времени капитан потянулся за кружкой горячего кофе, однако выпить его уже не успел – мостик судна подбросило вверх, потом вниз, палуба накренилась и окончательно выскочила из-под ног… Слава Богу, никто не паниковал, не застрял и не спал, так что спустя короткое время все члены международного экипажа уже оказались в спасательном плотике. Последним, включив аварийный сигнал SOS, к ним прикатился по палубе, накренившейся до семидесяти градусов, капитан.
Судно «НОРТ» затонуло спустя шесть минут после того, как его покинули люди. А еще спустя пять часов моряков подобрали спасатели с катера береговой охраны…
Установить причину взрыва до сих пор не удалось. Боевых действий в этом районе, официально, никто не вел. По одной версии, это была заблудившаяся плавучая мина, по другой – ракета или торпеда, выпущенная кем-то со скуки, или по ошибке. Причем, обе версии вполне устраивали компанию «Морингосстрах», в которой за несколько месяцев до инцидента застраховали на полмиллиона евро свой «НОРТ» эстонские судовладельцы – и которая, по условиям договора, была не обязана оплачивать военные риски. Однако судовладельцы, обратившиеся к адвокату Виноградову для досудебного разрешения спора, предоставили ему целый пакет материалов, включая объяснения капитана и других моряков. Из этих документов следовало, что взорваться вполне могли пары всякой химической гадости, накопившиеся в трюме судна при проведении планово-профилактических сварочных работ. Это было, конечно, нехорошо, и предусматривало суровое наказание нарушителей правил техники безопасности – но под критерии страхового случая подпадало совершенно точно, так что судовладельцы бы свои выплаты получили.
Разумеется, ответ на большинство вопросов мог дать осмотр корпуса судна, лежащего на глубине всего в двадцать три метра. Но по вполне понятным причинам рассчитывать на водолазную экспедицию в ближайшем обозримом будущем не следовало, так что пока адвокат Виноградов вел со страховой компанией бесконечные, долгие и тягучие переговоры…
– Володя, мы можем сделать так, чтобы они перестали сомневаться. И поверили, что произошел несчастный случай техногенного характера.
– И чтобы страховая компания выплатила денежку моим доверителям?
– Да, конечно.
– Полностью? Все полмиллиона евро?
– Точнее, пятьсот тридцать восемь тысяч, если не ошибаюсь… – продемонстрировал Павел осведомленность. – Твои ведь десять процентов?
– Пять, – покачал головой Виноградов. – Гонорар успеха.
За разговором они подошли к воротам кладбища.
Белкин деликатно отошел в сторону – подождать, пока Владимир Александрович попрощается со знакомыми и что-то еще уточнит насчет поминок.
– Вон моя, садись.
– Спасибо, – Паша открыл пассажирскую дверь.
Адвокат сел за руль и включил зажигание:
– Пусть немного погреется. Стекла запотели.
– Да я не тороплюсь.
Виноградов привычно достал видео-регистратор и начал прилаживать его на место.
– Володя, убери, пожалуйста? – попросил однокашник. – А то он и в салоне звук записывает.
– Нет проблем, – Владимир Александрович положил автомобильное устройство обратно:
– А вот скажи-ка мне, Паша, отчего судьба коллекции Левермана так интересует контору?
Вопреки ожиданиям, Белкин ответил:
– Потому что это не его коллекция. Точнее, не только его… и не столько его…
По словам отставного сотрудника внешней разведки, получалась примерно такая история.
В середине семидесятых годов прошлого века в СССР миллионным числом появились поддельные, так называемые «армянские», десятки Николая II, которые лепили из расстрельного самородного золота или песка. Кстати, именно эти николаевские, а точнее советско-николаевские десятирублевые монеты почти сразу же стали самыми популярными для тайников и кладов – их было очень удобно прятать где-нибудь в лесу или на даче в кассетах из-под фотопленки, которые идеально подходили по размеру. Хотя, в сущности, николаевское золото и так сотню лет оставалось в нашей стране самой стабильной валютой – за нее даже в самые черные времена можно было купить жизнь и свободу.
С точки зрения настоящего нумизмата, эти десятки с портретом последнего императора никакого интереса не представляли, но даже известный коллекционер Леонид Леверман не сумел удержаться и прикупил себе некоторое количество таких монет «на черный день». Чем только, собственно, это самый «черный день» для себя и приблизил. Продавец оказался подставной, так что оперативники КГБ очень быстро реализовали разработку и провели задержание. А потом все прошло, как обычно: уголовное дело, обыск, недолгое следствие, суд…
Предложение о сотрудничестве Леверман получил еще в следственном изоляторе и отказываться от него посчитал неразумным. В результате, он не только получил срок ниже низшего, но и на свободу вышел с чистой совестью и со вполне определенными перспективами. Гражданин Леверман почти беспрепятственно получил разрешение на выезд за границу – хотя семья Леонида Борисовича, в лице русской жены и их общей дочери, пока оставлена была в Союзе. Разумеется, с перспективой воссоединения спустя некоторое время.
Леверман выехал из страны по израильской визе, но через какое-то время открыл в столице Австрии небольшой нумизматический магазинчик. Для начала и на развитие бизнеса ему было разрешено тихо вывезти за границу свое обширное собрание монет – причем, не только тех, что следователи так и не нашли, но даже часть коллекции, которая числилась конфискованной по уголовному делу.
– А потом Контора еще много лет подряд передавала ему разное золото. В основном, так сказать, условно «верхний средний класс». Относительно дорогой, но доступный материал – не раритеты, но и не просто рядовое золото, которое надо перетаскать чемоданы, чтобы заработать что-то существенное. Зато в распоряжении Левермана было представлено все. Два рубля Петра Первого и, например, червонцы Елизаветы Петровны – пусть далеко не в идеальной сохранности, но были даже такие, на которых стоит не только год, но и месяц, а то и день их чеканки. Тиражные золотые монеты Екатерины Великой, Павла, Александра I и Александра II, Николая Первого… или вот еще, помню, полный набор пятирублевых монет Александра III в идеальном состоянии, такой же полный набор Николая II – пять, семь с половиной, десять, пятнадцать рублей… Да, монеты не слишком высокой стоимости. Но все же с большой премией к металлу – они компактнее, поэтому небольшой кошелек или альбомчик может стоить немало.
Виноградов как-то незаметно для себя тронулся с места и вырулил с парковки на широкий проезд:
– Паша, а ты уверен, что мне это надо знать?
– У Левермана точно был гроссбух… или что-то в этом роде.
– Домашний каталог? – Владимир Александрович припомнил записи, которые на днях увидел в магазине.
– Нет. То, что он привез в Россию после возвращения, и что сейчас хранится у госпожи Леверман, мы, конечно, внимательно изучили. Но там описана только небольшая часть коллекции. В основном, серебро, совсем мало платины и практически нет золотых монет, – Белкин поправил ремень безопасности:
– Чтобы ты понимал, Володя… Контора в свое время передала ему даже не коллекцию, а целый склад нумизматической торговли. Но вот на некоторые самые дорогие и редкие монеты карточек в каталоге просто не оказалось. И это выяснили, к сожалению, только после убийства Левермана.
Виноградов дождался зеленого сигнала светофора и повернул по стрелке.
– Хотя на некоторых своих карточках он отмечал продажную цену и дорогих монет. В долларах, или в швейцарских франках, потому что никакого евро тогда еще в проекте не было. И, естественно, цены покупки монет Леверман не записывал. Но должен же он был где-то вести, сколько и на что потратил…
– Да, а главное, сколько, чего и на какую сумму получил от государевой казны? – понимающе усмехнулся Владимир Александрович. – Как нас учили на политэкономии, социализм – это строгий учет и контроль!
Подполковник разведки на пенсии сделал вид, что слышит иронии в голосе адвоката:
– Общая сумма должна была складываться из отдельных сумм за монету или за группу монет. Случалось, что для него покупали целые коллекции. Но если наши специалисты подбирали золото для Левермана в СССР, то цены тут и на западе на одни и те же монеты тогда были совсем разные. В Советском Союзе официального рынка на них не было, и цен быть не могло. Леверман должен был продавать все по тем ценам, которые были там. Есть сведения, что он продавал монеты и оптом. Тысяча рублевиков, к примеру…
– Слушай, Павел, – задумался Виноградов. – Наверняка в его коллекции были и по-настоящему редкие экземпляры? С какими-нибудь особенными приметами?
– Ты о чем это? – В свою очередь, удивился Белкин.
– Вот, например, – продемонстрировал, в свою очередь, осведомленность адвокат, – некоторое, особо ценное, серебро у Левермана было со значками графа Гуттен-Чапского. Возьми каталог весеннего аукциона, там есть один такой «Антоныч»…
– Сейчас я тебе точно не скажу, надо посмотреть… – полез в карман Паша Белкин, как-то незаметно превратившийся в Павла Олеговича. – Вот, держи! Только не перепутай, пожалуйста, и не потеряй.
Он положил на матовый пластик приборной панели перед водителем монету белого металла – совершенно обычный рубль, современный, 2015 года.
– Это мне оплата за то, что подвез? Прямо скажем, не густо…
– Смешная шутка. Ты лучше посмотри внимательно.
Владимир Александрович взял монету двумя пальцами: ощипанный орел с опущенными крыльями, номинал и все прочее. Потом перевернул – и увидел на оборотной стороне точно такое же изображение. Еще раз перевернул, потом еще… нет, все правильно, зрение у него было в полном порядке.
– Это брак. Заказной. С монетного двора, – увидев, что Виноградов по-настоящему заинтересовался, продолжил подполковник на пенсии:
– За такими вещами гоняются многие коллекционеры. Контроль качества на производстве высокий, поэтому технические сбои при чеканке происходят крайне редко. И даже такой редкий брак положено сразу утилизировать. Но сообразительные ребята с монетного двора придумали, организовали и наладили схему, при которой бракованные монеты изготавливались почти на потоке и проходили мимо утилизации. А потом их вывозили вместе с готовой продукцией, изымали из общей массы и продавали желающим. В среднем, рубль – «перевертыш» стоил от десяти до пятнадцати тысяч, потом рынок немного упал, но все равно…
– Ничего себе, рентабельность!
– Организованная преступная группа. Поэтому дело расследовала бригада центрального аппарата и парни из местного управления ФСБ.
Когда-то, еще в ранней советской молодости, Виноградову вместе со сдачей попались бракованные десять копеек. С одной стороны у монеты был обычный реверс, а с другой, вместо аверса – негативное изображение этой же стороны. Так получается, если гривенник при чеканке не вылетает, как положено, а застревает, поэтому следующая заготовка чеканится с одной стороны штемпелем, а с другой стороны – не штемпелем, а залипшей монетой. Потом эта, как тогда говорили, «залипуха» куда-то пропала, и Виноградов особенно не огорчился. И еще, помнится, много лет спустя он прочитал где-то, что стандартным браком для советских монет считались так называемые «перепутки» – когда, к примеру, заготовку для двадцати копеек чеканили штемпелями трех копеек. Получалась трехкопеечная монета, только заметно другого металла и цвета, на светлой заготовке…
– Забери, – предложил Белкин, заметив, что адвокат собирается вернуть ему бракованный металлический рубль. – Оставь себе.
– Зачем? Я, знаешь ли, сам-то не коллекционер.
– Володя, если что-то понадобится, или возникнут проблемы, – зайдешь в Вене по адресу: улица Штрассен-штуцер, 9. Запомнил? Там не очень большая, но, в общем, известная антикварная лавка. Покажешь это продавцу и скажешь, что хотел бы оставить на комиссию. Он спросит, сколько ты хочешь. Надо ответить, что двести двадцать евро.
– На каком языке?
– Не валяй дурака. На английском, или на немецком… Да хоть на русском! Он поймет.
– А что за продавец? Приметы есть какие-то? Например, буденовка с красной звездой, или газета «Правда» за двадцатое декабря?
– Там постоянно работает один человек, не перепутаешь, – кажется, собеседник не оценил бородатую шутку Владимира Александровича. – Этот рубль, помимо всего прочего, очень удобно перевозить через любую границу. Никакого риска. И никакого лишнего внимания со стороны таможни.
– Все, приехали. – Виноградов припарковал машину возле остановки.
– Послушай, Володя… Интерпол и австрийцы, сам понимаешь, после известных событий прекратили все связи с нашими официальными структурами. Но они ничего не имеют против контакта с частными лицами, вроде тебя… – Павел Олегович Белкин отстегнул ремень безопасности. – Помоги. В каталоге весеннего венского аукциона засветилась часть монет Левермана. Необходимо найти остальное. И, конечно, его настоящую бухгалтерию, чтобы понять, что и за сколько он продал, что купил, что потом выменял… Нам ведь чужого не надо. Только то, что ему передавали для дела. Остальное пусть забирает себе наследница.
– Знаешь, Павел, я с вашими часто работал. Но никогда не работал на вас.
– Ну, если тебе так легче думать, – пожал плечами пассажир.
Виноградов посмотрел на выход к станции метрополитена:
– Тебя куда-то, может, все-таки подбросить?
– Нет, Володя, не надо, – показал Белкин в зеркало заднего вида. – Вон, за нами машина от самого кладбища ехала. Я пересяду.
– Надо же, старею… – расстроился адвокат, – даже хвоста не заметил!
– Ладно тебе, какой хвост, – однокашник по мореходке, а ныне пенсионер Службы внешней разведки, протянул Виноградову на прощание руку, – …так просто. Для удобства. И для спокойствия.
Как известно, Леонид Леверман почти не занимался медными монетами.
Медь его не интересовала, хотя он не отказывался ни от чего, на чем можно было при случае заработать. Тем более, что по классической, дореволюционной традиции, в крупные коллекции подбирали, как правило, все металлы.
Но ведь Петр I начал свою денежную реформу в 1700 году именно с чеканки меди. Какой был тогда номинал? Деньга – полкопейки, полушка – четверть копейки, и даже полполушки… А вот копейка появилась вместе с рублем целковым, то есть целиковым, только спустя четыре года. Между прочим, из-за попытки ввести в обращение медные деньги при его отце случился бунт, а вот Петру I удалось.
Даже в больших и серьезных коллекциях вполне может быть реально «слабая» медь. И причина утилитарна – в меди относительно мало денег. Медные монеты много походили, долго послужили и только некоторые из них сразу легли в коллекции, дошли до наших дней в первозданном состоянии. Это так называемая «красная медь», как вчера отчеканенная. Однако слишком многое в меди в таком, хорошем, или хотя бы в удовлетворительном состоянии просто отсутствует. Взять хотя бы того же Петра I… Ну, нет многих его медных монет в «высоком» состоянии в принципе, вот и приходится идти на компромисс – или в коллекции будет дырка, или хоть какая-то, но «гнилушка».
В меди вообще все и вся – кто в лес, кто по дрова… демократия, разброд и шатания. Вот собирает человек, к примеру, один номинал – пятаки Екатерины II, по 50 граммов каждый. А вдруг попадается интересный, чуть ли не пьефорт[3] весом 80 граммов с лишним. Или, наоборот, тоненький до 30 граммов, и оба варианта – большая редкость. Надо брать… А еще встречается чеканка на различных заготовках – как значительно большего размера, с большим пустым ободком, так и такие монеты, на которых часть изображения вовсе не поместилась. Есть среди нумизматов к тому же и непримиримое соперничество – так называемая «копанина», доставшаяся нам из-под земли, против «кабинетной», «красной» меди, которая все время провела в идеальных условиях, в каком-нибудь дворце или в музее. Причем обе стороны с пеной у рта доказывают свою исключительную правоту…
Для состояния монеты из погреба или из клада очень важно, что там было за стеночкой – песок сухой, или болотина. Но даже самое «высокое» состояние меди легко испортить неправильным хранением: достаточно взять монету пальцами и вот уже отпечатки готовы. А чистка меди – это, вообще отдельная песня, шаманство и наука. В любом случае, уродцев, то есть явного брака, в меди намного больше, чем в золоте и серебре. А вот писаных красавцев совсем мало.
Причем, в отличие от золота, серебра или платины, медные монеты практически не имеют существенной внутренней стоимости, а имеют только нумизматическую, культурно-историческую ценность, представляют интерес, как артефакт…
Существует не то правдивая история, не то легенда, что великий Ломоносов получил от императрицы Елизаветы в награду приличную сумму – целыми телегами медяков. Но даже сейчас редко какая медная монета стоит больше десяти-двенадцати тысяч. А за пятак времен Екатерины II, в зависимости от состояния, придется заплатить всего лишь от 500 до 5000 рублей. При этом, конечно, встречаются редкие экземпляры и по тридцать, и даже по сорок тысяч. А новодел пробного «Меньшикова гривенника» вообще недавно выставили на продажу за 15 000 долларов, так что зарабатывать понемногу на медных российских монетах всегда было вполне реально. Недаром же существовала присказка: настоящий нумизмат коллекционирует не «блестяшки», а медяшки…
Но для самого Леонида Борисовича Левермана «медянка» была – неуважаемый металл. По его представлениям, в советское время ее собирали либо самые бедные, либо самые осторожные и предусмотрительные – с серебром или с золотом тогда можно было запросто попасть под суровую «валютную» статью 88 УК РСФСР…
Пенсионеру СВР Белкину медные монеты тоже не были особо интересны.
Лично Павлу Олеговичу когда-то больше всего понравилась «Тридцать семь с полтом», как ее называли коллекционеры – замечательная золотая монетина экзотичного двойного номинала 37 рублей 50 копеек и 100 франков 1902 года. Тираж этой прелести был всего 236 экземпляров, и предназначалась она для подарков во время визита Президента Французской республики в Петербург, особо приближенным лицам, принимавшим участие в торжествах и протокольных церемониях. Помнится, он сам передавал две такие покойному коллекционеру.
…В то время капитан Белкин был одним из тех, кто по линии Первого главного управления КГБ СССР обеспечивал переправку в Швейцарию редких монет и советского золота в слитках. Вообще-то, занималось этим направлением, помимо Конторы, достаточно много народа, включая дипломатов, сотрудников Госбанка и Внешторгбанка и даже представителей Аэрофлота, на самолетах которого, под сиденьями, перевозилась значительная часть государственной контрабанды. Ну, а в курсе было еще большее количество людей – в том числе, разумеется, местные пограничники, контрразведка, налоговые службы и таможня. Потому что основная часть золотых слитков все равно продавалась на рынке в Швейцарии, через советский «Восход Хандельсбанк», который и занимался его дальнейшей легализацией и реализацией на рынке драгоценных металлов.
Нелегально и тихо такие операции осуществлялись по нескольким причинам. Во-первых, объем продажи за границу золота СССР считался государственной тайной. Во-вторых, ценой на золото манипулируют лондонские банки, которые устанавливают его котировки. Поэтому и скрывалось, когда именно будут фактически продавать физическое золото, а когда проводят обычные арбитражные сделки для получения спекулятивного заработка – вообще без реальной поставки металла.
По правде говоря, все это было в традициях большевиков. Например, те же «николаевские» десятки и пятерки огромными тиражами чеканились еще в двадцатые годы, а затем без огласки использовались для оплаты всяческого импорта из капиталистических стран – после того, как попытка расчета нашими советскими червонцами-«сеятелями» провалилась из-за агитационного вида этих монет. Ну, и когда надо было скрыть происхождение золота из Советской России.
Для целей же куда более деликатных, таких, как, например, разведка, или финансирование международного коммунистического движения, таскать через границу чемоданы банальных «николаевских» десяток смысла не было. Вот привяжется какой-нибудь швейцарский, к примеру, таможенник к обычным тиражным монетам, и будет требовать заплатить НДС. А так сразу видно, да и по каталогу он может проверить, что перед ним не обычные, а редкие, а потому коллекционные монеты, освобожденные от уплаты налога при ввозе… Или же монеты коллекционной сохранности, стоящие по каталогу же значительно дороже металла, который в них содержится. Поэтому превращать интересные с точки зрения нумизматики российские монеты в банальное, массовое английское, французское, немецкое, швейцарское и тому подобное золото вполне можно уже на месте.
