Четыре предела свободы. На подступах к Иному. Стратегия и тактика становления личности бесплатное чтение
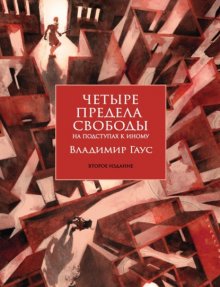
Если бы бытие не могло быть иным, чем оно есть, то сама свобода без остатка растворилась бы в бытии. «Возможность иного», «возможность инобытия» составляет поэтому конститутивный признак свободы
С.А. Левицкий«Трагедия свободы»
Благодарности
Сложно претендовать на авторство текста, который пишется в кругу близких по духу людей и текстов. В этой ситуации различные идеи подхватываются, трансформируются, перетекают, возникают одновременно в разных местах, забываются, а затем всплывают уже в измененном виде. Случайно брошенное слово или промелькнувший образ, прочитанная фраза или новая, порекомендованная друзьями, книга прорывают плотину накопленного (но до этого момента не воплощенного) потенциала смыслов, а результатом «неудачной коммуникации» становится понимание работы заклинившего механизма структуры личности и метода его «починки».
Иногда достаточно даже не собеседника, а внимательного (или хотя бы притворяющегося таковым) слушателя. Проговаривая ему интересную, но уже высказанную когда-то мысль, ты вдруг неожиданно для самого себя выражаешь в ней что-то новое.
В какой-то момент уже невозможно с точностью определить авторство той или иной идеи или какой-то ее части, того или иного термина или методического подхода. Но, может, это не так уж и важно, если эти идеи удается по-настоящему усвоить, пропустив одни через тигель мышления, а другие через горнило опыта. Имеет значение лишь то, что такое усвоение помогает уберечь их от опасности искажения.
Поэтому я хочу выразить благодарность всем соавторам и заранее попросить прощения у тех, кому покажется, что это именно его идея или предложенный им термин прозвучали в книге, а сам он обойден заслуженным вниманием.
Спасибо Олегу Георгиевичу Бахтиярову за психонетический метод, помощь и всестороннюю поддержку. Без него эта книга не появилась бы на свет ни в каком виде. Спасибо Рустаму Муслимову и Алине Красновой за труд по вычитыванию текста и за ценные советы; Сергею Брызгалину за консультации по вопросам, касающимся намерения и сверхпроизвольного действия; Дарье Халаджиевой за предложение провести вебинар на тему «Четыре предела свободы», с которого все и началось; Владимиру Васильевичу Долгачеву за бесценный опыт; Павлу и Любови Аксеновым за практические примеры действий в соответствии с Ценностями; Оксане Завадской за помощь в исследовании тонкостей творческих актов; Алексею Урусову и Павлу Кораблеву за то, что показали вход в Лабиринт; Александру Мартынову, Вадиму Федорову и Владимиру Мелешину за плодотворные дискуссии и помощь с ответами на возникающие вопросы; Дмитрию Коваленко за рекомендованных им авторов и за проявленный интерес; Галине Гаус за терпение и поддержку.
Пусть эта скромная и местами сложная для восприятия книга будет для всех и – от каждого.
В том числе – для меня вчерашнего от меня сегодняшнего.
Автор
Предисловие
Текст, который представлен вниманию читателя, проявлялся в процессе своего написания, подобно дороге, возникающей под ногами идущего. Первоначально у него не было плана и не существовало завершенного образа, который вынуждал бы меня следовать заранее намеченным маршрутом. Именно этот момент показался мне значимым, поскольку такой подход полностью соответствует идеям, раскрываемым в книге. Никакая, предварительно заданная «снаружи», цель не определяла собой процесс порождения идей и их конечный результат.
Получившееся можно уподобить карте Лабиринта сознания, путь по которому запутан и усеян многочисленными ловушками и тупиками. Стены и даже потолок картографируемого Лабиринта сложены из личностных и психических структур сознания, привычных способов поведения и паттернов восприятия, языковых конструкций и личной истории, и возведены вокруг собственного «я».
Обнаружив себя в самом сердце такого Лабиринта, мы начнем последовательное изучение мира сознания и действующих в нем сил и законов. На этом пути нам станут встречаться люди, тексты, идеи, ситуации… И, возможно, в какой-то момент мы почувствуем в руке ту путеводную нить, которая там находилась с самого начала путешествия и без которой шансы выбраться из Лабиринта равнялись бы нулю.
Хочется верить: по мере продвижения по Лабиринту мы будем все чаще ощущать на своих лицах движение свежего воздуха и тот зыбкий свет, что, робко пробиваясь сквозь кромешную тьму, распугивает копошащуюся в ней хтонь.
Стратегия чтения, которую я хотел бы предложить читателю, логично вытекает из приведенного выше подхода к ее написанию. Пусть эта книга станет приглашением к со-путешествию, к совместному исследованию Лабиринта сознания и того, что находится за его пределами. Ну а поскольку представленная «карта» содержит в себе множество лакун и «белых пятен», наше путешествие должно подразумевать возможность внесения в нее уточняющих правок и освоение «необжитых земель».
В процессе такого освоения читателю предлагается не отбрасывать сходу какие-то спорные, не вполне понятные или даже провокационные идеи и положения. В то же самое время не следует принимать на веру те утверждения, которые постулируются автором как нечто само собой разумеющееся. Надо стараться все рассматривать через призму собственного опыта и мышления.
Очень важно не игнорировать обильно обеспечиваемые текстом «семантические пустоты» и противоречия, рассыпанные то там, то здесь, подобно хлебным крошкам Гензель. Ведь только смело и безоглядно погружаясь в обнаруженные неопределенности, мы получаем шанс открыть для себя и других нечто действительно новое.
Изначально эта работа рассчитывалась на круг людей, знакомых (хотя бы в общих чертах) с разработками Олега Бахтиярова: с основными положениями психонетики (практические методы «инженерии» сознания) и с ее феноменологией. Но в процессе написания возникло понимание, что книга может быть полезна и более широкому кругу читателей, заинтересованных в исследовании проблематики свободы.
Введение
Основная задача данной книги – рассмотрение идеи свободы. Однако под «свободой» здесь следует понимать не то рафинированное и отвлеченное понятие, которое стало достоянием культуры неоромантической эпохи и было превращено ею в своеобразный фетиш, а результат динамического восхождения, меняющего статус ее «носителя» с бытового на бытийный.
Мы не ставим перед собой цель показать, что реализация неуправляемого хаоса желаний или бунт ортега-и-гассетовского «массового человека» не является свободой; не собираемся подвергнуть сомнению потенциальное определение свободы как возможности выбора из сотен сортов колбасы (пожалуй, во всех этих случаях все же можно обнаружить некоторые следы свободы, имеющей онтологический статус). Нам интересно проследить как будет меняться понимание свободы при трансформации человеческого существа и того мира, со-творцом которого он является.
У свободы много лиц и имен. Сама попытка сформулировать, чем именно она является, была бы чересчур самонадеянной. Как бы мы ни старались это сделать, свобода по самой своей природе всегда будет ускользать из той языковой клети, в которую мы пытаемся ее поместить: никакие определения не могут исчерпать ее сути.
Поэтому будет осуществлена попытка рассмотреть свободу объемно: взглянуть на нее с разных ракурсов, сохраняя при этом некоторое пространство недосказанности и неполноты определения. Ведь свобода не столько гипотетична, сколько эмпирична, а потому нам вполне доступен прямой опыт соприкосновения с ней.
Все это многообразие должно помочь Читателю собственными силами совершить смысловую операцию интеграции представленного материала и ответить на вопрос «Что есть свобода?»
Свобода как ценность всегда присутствовала в человеческой истории и культуре. Но ее понимание неизбежно трансформировалось от эпохи к эпохе, от цивилизации к цивилизации. Красной нитью через всю историю человечества проходит понимание свободы в ее социальном и политическом аспектах: свобода от физического рабства и подчиненности чужой воле, независимость от общества, свобода слова.
Другой «смысловой нитью» является понимание свободы как возможности и способности беспрепятственно реализовывать возникающие желания, осуществлять личный произвол.
Третье понимание связано со свободой выбора. Так современный человек, вскормленный идеалами консьюмеризма, чувствует себя вполне свободным лишь тогда, когда его способность выбора не ограничена. Но уже у античных философов (и в особенности у стоиков) обнаруживаются иные смысловые оттенки данного понятия. Так Эпиктет смещает акцент свободы от общественного и телесного к духу и воле: «Без власти над собой невозможно обрести свободу»; «Свобода – это независимость мысли»; «Кто свободен телом и несвободен душою, тот раб; и, в свою очередь, кто связан телесно, но свободен духовно – свободен»; «Человек со свободной волей не может быть назван рабом».
Действительно, все попытки построить свободное общество, состоящее из индивидов, безоговорочно порабощенных собственными страстями, закономерно заканчивались диктатурой, в том числе диктатурой демократии или потребления. Ведь если отдельные индивиды не обладают личностной свободной волей, то «правильная» воля будет неизбежно навязана им сверху – властью или рекламой.
В словаре Даля одно из определений свободы гласит: «Возможность действовать по-своему; отсутствие стесненья, неволи, рабства, подчинения чужой воле». Это, в общем то, соответствует древнейшему ее пониманию. Но, прежде чем брать данное определение на вооружение и освобождаться от чужой воли, было бы неплохо разобраться: что из себя представляет наша собственная воля и есть ли она?
Заметим, что слово «воля» в современной культуре обросло бытовыми коннотациями и опошлилось многочисленными руководствами «для чайников» с «говорящими» названиями: «Как развить силу воли?», «Наука самоконтроля» и т. п. Такая «сила воли», обычно сопровождаемая «сжатыми зубами и сдвинутыми бровями», помогает решать некоторые задачи и даже добиваться поставленных целей. Но за фасадом подобных операций неизбежно накапливается внутренняя неудовлетворенность собой и сопутствующее ей напряжение. На поверку такая «сила воли» оказывается внешним элементом в отношении глубинных слоев человеческого существа.
Действие же той природной Воли, которая будет рассмотрена нами немного позже, отличают такие свойства, как естественность, целостность и полнота. Действие Воли неделимо, оно не содержит в себе никакого противоречия и конфликта, а потому обладает властью менять «человека сокровенного».
Это не про «побороть желание курить», а про «перестать хотеть курить», не про лицемерное «я тебя прощаю», а про искреннее и безусловное прощение другого от всей своей души, не про раскалывание себя на две противоборствующие части, а про исцеление.
Обычно свобода и воля рассматриваются в антропологическом контексте, т. е. в ключе, исключающем всякую трансцендентность. Впрочем, даже ограниченное лишь посюсторонним бытием знание свободы можно попытаться экстраполировать за пределы этого горизонта. Можно превратить это знание и в способ указать на то, образом чего является свобода.
Хотя некоторое отступление от «горизонтального правила» было осуществлено еще Платоном, наиболее громкое трансцендентное звучание идея свободы получила с приходом в мир христианства. Это произошло на стыке двух эпох, в синтезе античной философии с религией откровения Нового завета. Христианская традиция дополнила понимание свободы новым смыслом: в своем предельном значении свобода стала пониматься как синергийное отношение двух воль – человеческой и Божественной.
Доказать фундаментальное наличие свободы невозможно, поскольку она является реальностью, имеющей субъективное, личностное измерение, познаваемое в опыте. Факт свободы не может быть ни установлен, ни опровергнут приборами или внешним наблюдателем: так многочисленные эксперименты Либета «доказывают» отсутствие свободы воли лишь в ангажированных интерпретациях сторонников редукционизма, произвольно подменяющих причину следствием и сводящих субстанцию к субстрату.
Поэтому мы ограничимся лишь общим указанием на существование необходимого условия свободы: на наличие фундаментальной неопределенности, лежащей в основании всех уровней бытия и перечеркивающей детерминизм как фатальность1.
Любые попытки апологии свободы перед теми, кто заранее отказывает ей в существовании, являются делом совершенно бесперспективным. Более того: даже вредным, поскольку могут стать в некотором смысле формой «принуждения к свободе», а свобода не терпит принудительности.
Таким образом, эта книга адресована тем, для кого свобода уже стала частью действительности, и всем «заинтересованным лицам», чья позиция допускает хотя бы саму возможность необусловленного действия.
В завершение следует добавить, что одним из лейтмотивов книги станет рассмотрение проблематики Иного.
Об Ином нельзя сказать прямо, на него не получится указать пальцем. Поэтому все, что мы можем сделать – это лишь намечать подступы к нему, указывать на то, чем оно не является. А еще – попытаться создавать условия для его проявления. Но – вне всяких гарантий результата.
О структуре книги
В самой первой, «спойлерной» главе, под названием «Четыре предела свободы», будут кратко рассмотрены «четыре свободы», три из которых принадлежат к онтическому уровню (то есть к горизонту человеческого существования), и один – к онтологическому.
Три «онтические» свободы – это свобода от непроизвольности, свобода от выбора и свобода творчества.
Онтологическая свобода, в свою очередь, есть размыкание границ сугубо человеческого и появление вертикального измерения. Как мы сможем убедиться, получившееся в итоге такого размыкания находится уже за рамками, определенными противопоставлением свободы и несвободы. Это – нечто «за пределами» свободы.
В качестве способов достижения, а затем и преодоления онтических пределов будут применяться технологии и процедуры работы с сознанием, детально разработанные в рамках психонетического подхода2. В свою очередь, для описания методов достижения онтологического размыкания автором будут рассматриваться средства, присущие православной традиции. Вопрос о том, возможно ли и как именно возможно такое размыкание в рамках иных традиций, мы оставляем в стороне.
Кроме классификации по «четырем пределам свободы» мы вводим еще одну важную нормировку, которую назовем «три уровня (или три плана) бытия». Эти уровни вводятся, чтобы методически структурировать используемый в книге материал.
Три уровня, или плана бытия:
Первый уровень: Консциентальный
Второй уровень: Антропологический
Третий уровень: Синергийный
Рассмотрим их здесь подробней.
1. Консциентальный уровень (от лат. conscientia – сознание) представляет собой «мир» сознания. Оно может рассматриваться нами автономно от других «составляющих» человека, поскольку для изучения сознательных феноменов достаточно обладать одной лишь способностью осознавать.
Основные понятия, используемые при рассмотрении данного плана бытия3:
– Я (Субъект)
– Сознание
– Воля
Для исследования сознания мы будем придерживаться феноменологического подхода. Однако – без претензии на непогрешимое соответствие одноименному философскому направлению, разработанному Эдмундом Гуссерлем.
Феноменологичность здесь будет означать в первую очередь следование принципам опытного, эмпирического постижения, по возможности очищенного от мистики, метафизики и теологии (за исключением нескольких ссылок на греческие мифы, имеющие своей целью скорее художественное и метафорическое значение, нежели гносеологическое). Впрочем, это не должно помешать нам строить модели, адекватно описывающие феноменологию сознания.
Терминологический аппарат описания данного «плана бытия» схож с феноменологическим, но в значительной степени заимствован у психонетики (см. примеч. 2). Так или иначе, психонетическое описание генетически родственно феноменологическому.
В качестве инструмента исследования сознания мы будем использовать аутогенные психотехнические методы. Это связано с тем, что сознание обладает:
– относительной прозрачностью и понятностью протекающих в нем процессов,
– возможностью для осуществления в нем произвольных операций (например, операцией управления вниманием).
2. Антропологический, или холистический уровень. Это – весь человек как целокупность духовных, душевных, психических, ментальных и телесных устроений.
Поскольку одной из основных задач книги является рассмотрение вопросов преодоления обусловленности и «пробуждения» волевой активности, данный план бытия будет нами рассматриваться, главным образом, как органичный сплав двух «миров»: мира сознания и мира души, соединяемых в личности человека.
«Личность не часть какого-либо целого, она заключает целое в себе. Поставленный на грани умозрительного и чувственного, человек сочетает в себе эти два мира».
В.Н. Лосский, «Очерк мистического богословия Восточной Церкви» [3]
Можно сказать, что мы в стремлении к целому дополняем мир сознания и смыслов (рассматриваемый феноменологически) миром души и чувств. Данный план бытия будет рассмотрен нами концептуально с позиций, разработанных преподобным Максимом Исповедником.
Основные понятия этого уровня:
– личность (лицо),
– природа,
– природная воля.
Все они конституированы православной антропологией.
В целом эти понятия соответствуют основным терминам консциентального плана, хотя и не тождественны им (о чем дополнительно будет сказано ниже). Но это не столько концептуальная или феноменальная нетождественность, сколько контекстуальная. Поскольку рассматриваемый план бытия «шире», чем предыдущий, то и основные понятия должны рассматриваться «шире».
Так, если «Я» обладает сознанием, и рассматривается нами исключительно в рамках сознательного контекста, то личность – это тот же самый «Я-субъект», но обладающий уже всей полнотой человеческой природы (включая сознание, душу и тело) и вместе с тем не сводимый к ним.
Существует еще один термин – ипостась, который снимает данную терминологическую проблематику. Он может полноценно замещать собой слова «Я» и «личность» и применяться при описании «я-бытия» всех трех бытийных пластов. Аналогично термин «природа» включает в себя сознание, но не исчерпывается им.
Природная воля обнаруживает свое сходство с консциентальной Волей, но с той поправкой, что она есть категория, исследуемая в рамках иного подхода. Отсюда существенная (но не сущностная) разница в определениях: термин «природная воля» носит скорее концептуальный характер, в то время как «Воля», введенная нами в рассмотрение на предыдущем уровне, – феноменальна, а местами и онтологична.
На антропологическом уровне бытие замкнуто в пределах горизонта человеческого существования. Выход за его пределы будет означать добавление вертикального измерения, которое меняет онтологический статус человека. Поэтому данный тип размыкания назван онтологическим.
Способы такого размыкания обнаруживаются в христианской традиции: это аскеза, молитва, трезвение – все, что подводит человека к обо́жению и синергийному взаимодействию с Божественными энергиями. Особенно ярко эти способы отражены в практике исихазма.
Данные способы не просто организмичны, поскольку требуют задействовать всего человека целиком, включая его чувства. Они еще и мистичны, сверхъестественны, в отличие от вполне естественных методов онтического размыкания. Они «требуют» участия в этом процессе другой Личности, свободно открывающей себя всякому восходящему по «духовной Лествице».
3. Синергийный уровень. Здесь все духовно-душевные силы человека сверхъестественным образом входят в соединение и соработничество с Инобытием. Переход на этот уровень достигается путем размыкания антропологических границ и носит преображающий человека характер.
Если предыдущий план бытия строился как сплав различных начал и сил человека, то здесь рассматривается синтез человеческого и Божественного. Поскольку между человеческой природой и Божественной сущностью пролегает бесконечная онтологическая дистанция, данный синтез мы должны понимать именно как энергийный: человек входит во взаимодействие не с самой Божественной природой, а с тем, что преподобный Григорий Палама предложил называть нетварными Божественными энергиями.
Синергийная антропология была подробно разработана в трудах С.С. Хоружего, Этот метод будет, помимо прочего, использоваться нами при рассмотрении данного уровня бытийности.
Сразу отметим, что, в отличие от двух предыдущих уровней, синергийный план не имеет границ и потому принципиально открыт. Это открытость никогда не достижимого горизонта, подразумевающего возможность бесконечного приближения к мета-антропологической Цели, или Телосу.
Термины «личность», «природа» и «воля» по-прежнему сохраняются в качестве важнейших понятий данного уровня описания, но приобретают новые звучания. Это связано с тремя основными факторами.
Во-первых, на высших ступенях исихазма (мистическая молитвенная практика православия) все человеческое существо достигает небывалого уровня целостности: прекращается дробление человеческой природы на отдельные фрагменты и происходит ее соединение с Божественными энергиями-Именами. Привычная феноменологическая интенциональность (направленность) сознания трансформируется в то, что Сергей Хоружий назвал «холистической интенциональностью», а молитва превращается в безмолвное созерцание, не имеющее перед собой предметной цели.
Во-вторых, происходит то, что в православии называется обо́жением: человеческая природа, включая тело и волю, становятся сообразны тем энергиям, с которыми они соединяются.
И, в-третьих, у человека формируются новые сверхчувственные «органы», позволяющие ему воспринимать духовную реальность. Примерами этого являются переживание фаворского света, особой сердечной теплоты, видение будущего и др.
Поскольку между указанными выше разноуровневыми основными понятиями различных планов бытия прослеживаются однозначные соответствия, разделение на три бытийных уровня является удобной схемой. Она должна позволить Читателю применять метод аналогии при осмыслении наполняющих эти планы содержаний.
Эти инварианты, подобно «полисемантическим стержням», насквозь пронзают собой структуру бытийных планов и позволяют обнаруживать новые грани каждого из уровней через призму двух других.
Структурно книга строится следующим образом.
В первой ее части будет сделана попытка проблематизировать текущее состояние человека, обнаружить причины такого состояния. Первая глава в кратком изложении наметит основные положения книги, используя для этих целей миф о Тесее и Минотавре. Она содержит в себе довольно специфическую терминологию, которую следует понимать контекстно; подробней она будет раскрыта в последующих главах.
Вторая, третья и пятая части будут посвящены основным положениям «трех планов бытия» и проблематике Иного.
В четвертой части рассматриваются способы преодоления главных «онтических барьеров свободы»; они не разбиваются по трем уровням, поскольку имеют отношение к каждому из них.
В приложение вынесены практические процедуры и методики, имеющие, главным образом, выраженный психонетический характер. Знакомство с ними предлагается Читателю, чтобы проиллюстрировать некоторые положения и понятия этой книги.
В самом общем виде преодоление «четырех пределов свободы» сводится к двум основным стратегиям:
I. Обнаружение субъектной де-центрированности, связанной с отождествлением субъекта со структурами сознания (или, в другом описании – смешением личности с природой) → разотождествление с ними → преобразование этих структур.
II. Обнаружение и прекращение непроизвольности (упроизволение) → преодоление произвольности → сверхпроизвольность. Здесь необходимо обратить внимание на то, что выражение «произвольное действие» не всегда тождественно «волевому действию», как оно рассматривается в психонетике, поскольку волевое действие в своем предельном и небытовом смысле не обусловлено ни личностью, ни теми целями, которые она ставит. Пока произвольность и непроизвольность предлагается понимать так, как они обычно понимаются в психологии.
Дадим этим важным для нас терминам (произвольное и непроизвольное действие) первичные определения:
Непроизвольное действие – импульсивное или неосознанное действие, реакция на внешний раздражитель или внутренний стимул, рефлексы, автоматизмы. В отношении такого действия мы обычно выносим вердикт: «со мной произошло» или «случилось помимо меня». Пример: «Я рассердился». По умолчанию подразумевается, что за такое действие мы не готовы нести всю полноту ответственности, поскольку субъект такого действия, а, стало быть, и ответственности, для нас самих не вполне определен.
Произвольное действие – действие, определяемое сознательно поставленной целью; способность подчинять целям свое поведение и психические процессы. (Обратим внимание на важный момент: цели здесь первичны.) Такое действие всегда «принадлежит мне»; в отношении этого действия мы всегда можем утверждать: «это сделал я». Пример – «Я осознанно уволился с работы».
Но помимо этих двух типов действия, составляющих методически важную для нас оппозицию «произвольное-непроизвольное», необходимо ввести еще один тип действия, который нам не всегда очевиден. Назовем его сверхпроизвольным действием.
Его описанию и способам достижения будет посвящена значительная часть книги; пока же определим его как действие, не присвоенное себе локальным «я», но при этом осуществляемое «не без моего участия».
Такое действие больше, чем произвольность. В отличие от произвольной активности, которая «делается мной» из привычного состояния сознания, сверхпроизвольность является волевым саморазворачивающимся процессом, инициируемым тем активным и единым началом, которое еще не «расслоилось» на локальное «я», действие и его рефлексию. Мы можем обнаруживать результаты такого действия, но в привычном смысле слова «я» им не управляет, поскольку не порождает его.
В заключение необходимо сказать несколько слов о тех затруднениях, которые возникают при попытке согласовать понятийно-терминологические аппараты различных бытийных уровней между собой. Поскольку эти уровни в контексте книги не являются замкнутыми на самих себя и пересекаются друг с другом (как, например, в четвертой части, являющейся синтезом консциентального и антропологического планов), между разноуровневыми терминами, обозначающими одни и те же категории, необходимо установить соответствия.
Но при попытке «перенести» ключевой термин «сознание» из феноменологического или психологического описания в богословское, появляются определенные сложности, связанные со спецификой понятийно-терминологического аппарата православной антропологии. Так, пожалуй, термин «сознание» наиболее близок антропологическому понятию «ум» (греч. νοῦς – разум, мысль, дух), но вовсе не тождественен ему.
Данное затруднение можно объяснить не только античными корнями богословия, унаследовавшего у древних такие понятия, как дух, душа, мышление, разум, но и исключительным многообразием определений «сознания» в современном мире (часто противоречащих друг другу).
Впрочем, данная ситуация зеркальна: важнейшее понятие православной антропологии «душа» практически не обнаруживается в психологии и большинстве философских систем, заменяясь не вполне релевантным ему понятием «психика».
Аналогичная ситуация возникает и с пониманием воли, определяемой в богословии как «стремление к сообразному с природой», а в психонетическом описании – как ничем не обусловленная творческая активность.
Впрочем, по убеждению автора, такое различие между определениями не является критическим. Более того, можно обнаружить как в процессе «восхождения» в ту точку, из которой проясняется замысел книги, разница между этими понятиями постепенно исчезает: так Воля к творчеству и Воля к Благу объединяются в своей общей направленности к Иному.
Таким образом, указанные выше понятия могут рассматриваться не как взаимоисключающие, но как дополняющие и обогащающие друг друга новыми смысловыми оттенками (с поправкой на общий контекст и с учетом соответствующих оговорок по тексту книги).
В Приложении № 4 в помощь читателю будет приведена классификация основных терминов различных «бытийных уровней» на предмет их соответствия друг другу «в первом приближении».
Часть первая
Проблематиа свободы
Глава I
Четыре предела свободы
Перефразируя слова песни, хотелось бы начать так: «У свободы нет границ, у свободы есть только горизонт». Поскольку понятие «свобода» рождается из предельных базовых смыслов, которые не могут быть адекватно описаны в языке, попробуем рассмотреть его не только катафатически (в положительных описаниях и терминах), но и апофатически (методом отрицания). Попытаемся отсечь все то, что не является, а лишь «притворяется» свободой.
Нам необходимо обнаружить горизонты свободы. Это возможно сделать, только изучив данный вопрос с различных ракурсов и задавая ему объемное измерение. Такой способ рассмотрения должен стать своеобразным восхождением в ту точку, из которой станет ясно, что свободу невозможно опреде́лить никакими способами. Но можно определи́ть собственную фундаментальную несвободу и задать направление прочь от нее – в Иное, за линию горизонта.
В процессе «покорения» Лабиринта, можно обнаружить четыре «предела свободы», достижению каждого из которых, препятствует свой барьер4. Преодоление очередного препятствия будет означать выход к следующему пределу, за которым открываются новые горизонты.
В какой-то момент подобная цикличность «барьер-предел-барьер-…» прекращается. И – наш путь упирается в вертикальную лестницу, а горизонт сменяется бездонностью звездного неба.
Сразу заметим, что, настоящая глава является не столько «картой территории проблематики свободы», сколько «обзорной экскурсией по terra libertas».
Чтобы сделать данный текст более доступным читателю, в дальнейшем мы попробуем рассмотреть некоторые пределы через призму мифа о Тесее и Минотавре.
Условно нулевым барьером, с которым мы вынуждены столкнуться в самом начале, является неопределенность нашей цели и непрозрачность тех причин и стимулов, которые подвигли нас на поиски свободы. В слове «свобода» будто прячется нечто притягательное и многообещающее: намек на то, что в случае поиска (а еще лучше – обретения) свободы, наша жизнь наполнится важным смыслом.
Нулевой предел свободы возникает перед нами, когда мы решаемся задать себе главные и неудобные вопросы:
Что такое свобода? Свободен ли я? Могу ли я действительно желать свободы? Являюсь ли я субъектом своей жизни и тех решений, которые принимаю? А принимаю ли я решения? И как вообще понять, что это именно я их принимаю?
Даже не столько для того, чтобы получить ответы на эти вопросы, сколько для того, чтобы их себе задать, можно поставить эксперимент. В самом общем виде он будет сводиться к противопоставлению своего решения всему тому, что обычно «приходит» к нам: впечатлениям, желаниям, привычкам, реакциям.
Очевидно, что весь этот набор, как правило, реализуется вне нашей произвольной активности: нечто случается с нами и помимо нас, и так – всю жизнь. Чтобы в этом убедиться, достаточно просто понаблюдать за своим дыханием в течение 30 минут или все это время оставаться в неподвижности. Довольно скоро мы обнаружим странную активность, которая не была нами инициирована, – активность, направленную против нашего решения. Она может проявлять себя в виде возмущения, сопротивления, лени, скуки и т. п.
Провокация такого сопротивления, его обнаружение, а вслед за этим и «знакомство» с теми силами, которые стоят за ним, являются главной задачей нашего эксперимента. Гарантированно и наиболее ярко эти силы проявляют себя в момент совершения бескорыстных поступков, воплощения этических решений, осуществления выборов, противоречащих меркантильным интересам того, что мы привыкли считать своей личностью. Но в такой «игре» ставки уже весьма высоки и далеко не каждый захочет принимать в ней участие.
Поэтому пока можно ограничиться работой с дыханием. Если нам повезет, в какой-то момент мы сможем ясно увидеть, как нечто проживает за нас нашу жизнь; что мы, подобно библейскому Исаву, радостно отрекаемся от своих «первородных даров» – активности и творчества – в обмен на комфортную возможность быть пассивными наблюдателями происходящих с нами процессов5.
Итак, если эксперименты проведены (хотя бы мысленно), проблематика поставлена и вопросы заданы, мы, оттолкнувшись от нулевого предела, можем начать свое «путешествие».
Барьер непроизвольности
Данный барьер обнаруживается, когда приходит ясное понимание, что наши действия являются лишь непроизвольными реакциями на приходящие стимулы. В процессе такого реагирования практически не участвует разум, а руководство действиями осуществляется посредством простейшей команды: «Я так хочу!» Любая вариативность поведения здесь исключена, а выбор декларативен: нам может казаться, что мы вольны выбирать, но результат, как правило, предопределен.
Как ни парадоксально, но именно возможность «делать что хочется» господствующей культурой обычно и объявляется свободой. В этом можно увидеть почти необратимое, метафизическое падение данного слова.
Такая свобода есть «свобода Минотавра». Минотавр, помещенный в Лабиринт и обладающий в нем абсолютной властью и произволом, даже не помышляет о том, чтобы выбраться из него. Получеловек, чудовище с головой быка, обладающее животной мощью и вполне человеческими страстями, по своим физическим особенностям не способно поднять голову вверх и преодолеть горизонтальность своего бытия, ограниченного стенами Лабиринта.
Другой отличительной особенностью «я», запертого в Лабиринте, является его стремление обладать всем, что попадает в поле его зрения, всем до чего оно может дотянуться: миром, ценностями, чувствами, активностью, любыми содержаниями сознания.
Это связано с бессознательной потребностью Минотавра обрести утерянную целостность, память о которой все еще жива в нем. Сама идея свободы, ставшая предельно абстрактной и оторванной от реальности, может быть объявлена им своей собственностью. Такие акты присвоения склеивают воедино присваивающего субъекта и присваиваемый им объект, делая их фактически тождественными.
Некоторые «объекты», словно бы обладающие собственной «волей» к существованию, подчиняют себе своего владельца, который теперь не может отличить волю от иных действующих в нем сил. В подобном диффузном смешении субъект и объект могут меняться местами.
Яркой иллюстрацией таких отношений служит история Смеагола и Кольца всевластия с того момента, когда Кольцо полностью подчиняет себе волю своего хозяина. Во фразе «моя Прелесть» мы можем увидеть точное указание на сложные причинные отношения между объектом и субъектом. С одной стороны, субъект присваивает себе объект, а с другой – он оказывается плененным, прельщенным таким объектом. В результате возникает новое лицо, отличное от Смеагола. Это Голлум – жалкая тварь, появившаяся в результате противоестественного «смешения» Смеагола и Кольца, для которой весь мир и вся жизнь теперь сконцентрированы вокруг объекта вожделения и служения ему.
Достижение первого предела – предела произвольного действия
Для преодоления первого барьера необходимо непроизвольное сделать произвольным или, другими словами, «упроизволить» его. Речь, конечно, здесь не идет об упроизволении рефлексов или действий, доведенных до автоматического навыка: таких, например, как ходьба, езда на велосипеде, печатание текста и т. п. Произвольность в их отношении может существенно осложнить нам жизнь.
Одним из эффективных способов трансформации непроизвольного в произвольное в «лабораторных условиях» является работа с самой подвижной и неустойчивой функцией сознания – вниманием.
Недисциплинированное внимание мгновенно реагирует на всякий привлекающий его раздражитель и захватывается им. Поэтому на уровне данного предела важно научиться отрывать свое внимание от стимулов, направлять его на произвольно выбираемые объекты и стабильно удерживать его там. Для этих целей могут быть использованы практики концентрации и деконцентрации внимания, осознания себя и своих действий и т. п.
Но главным условием достижения первого предела является необходимость разотождествления «я» с захватившими его содержаниями сознания. Выражаясь аллегорически, хоббит должен попытаться отдать свое Кольцо, а Минотавр – рискнуть выбраться из Лабиринта. Только осознав свои мысли, эмоции, желания и состояния, мы получаем шанс перестать подчиняться им.
В случае успешного разотождествления субъект вступает с объектом в равноправные отношения; и дальнейшее развитие состояния этой пары будет зависеть от степени той активности, которую сумеет развить в себе субъект. Вынесенное перед ним содержание будет стремиться снова поглотить субъекта, будет так или иначе влиять на него и обусловливать его самим фактом своего отдельного существования. Но важно, что такое противостояние уже будет явным. В том случае, если субъект не подчинится и не «согласится» на повторное отождествление, он упрется в следующий барьер —
Барьер выбора и второй предел
Достигнув произвольности, мы оказываемся лицом к лицу с очередным препятствием: второй барьер теперь задан обусловливающей функцией «я», которое выступает в роли надстройки над активностью сознания, своеобразным управляющим центром, выбирающим между определенным набором альтернатив. Ни о каком порождении смыслов и целей, ни о каком творчестве, конечно же, речь здесь не идет – только о выборе между целями, заданными, как правило, субъекту «снаружи».
Личностное и разумное начало (Тесей) побеждает непроизвольное, хаотичное, животное начало (Минотавр), приручает, ограничивает и направляет ослепшую «минотаврическую волю». И вот, теперь уже сама активность сознания обусловлена этим «управляющим центром», за которым она вынуждена следовать. Именно на этом этапе возникает то, что обычно называют «силой воли».
Понятия «свободный выбор» или «свобода выбора» в известной степени являются оксюмороном, поскольку выбор не вполне свободен. Это связано со следующими факторами:
– ограниченность несколькими вариантами действия;
– обусловленность причинами, на основании которых мы принимаем то или иное решение;
– цель, являющаяся чем-то внешним по отношению к нам;
– сама необходимость выбирать.
И вместе с тем выбор есть изображение и тренировка свободы. Для того, чтобы преодолеть выбор, прежде необходимо научиться осознанно выбирать. (Если предположить, что в Лабиринте выбор символизируется развилками, то Минотавр, оставаясь в его центре, символизирует отказ от выбора, пусть и слепого.)
Второй предел достигается не столько в плоскости порождения новых вариантов выбора (которые лишь увеличат число возможностей и развилок), сколько в результате изменения самого́ главного героя и его привычного способа действовать. Только когда Тесея покидает всякое сомнение, страх и малодушие, он может освободиться от диктата выбора.
Это – этап исцеления, результат которого мы в дальнейшем будем называть центрированностью.
Поясним этот момент. Искусственное субъект-объектное разделение – это та необходимая цена, которую приходится платить за преодоление первого барьера. Но в какой-то момент эта цена оказывается непомерно высокой, поскольку цели, а также способы их осуществления, навязываются субъекту «извне» и носят внешний по отношению к нему характер.
Выбирающий тип действия неизбежно сопровождается борьбой мотивов, сомнениями, противоречиями – а, стало быть, такое действие глубоко не целостно. Обнаружение факта нецелостности может понудить нас выйти за пределы выбора, для чего необходимо осуществить переход к организмическим, целостным способам осуществления активности.
Итогом этого должно стать преодоление разделения на выбирающего и сам выбор. Такое прекращение деления прямо противоположно отождествлению. Теперь субъект «вмещает» в себя содержания сознания, а не поглощается ими. Локальность «я», вызванная противопоставлением себя всем иным содержаниям сознания, исчезает, уступая место чистому потоку активности и бытия. Выбор как заданная снаружи цель перестает предлежать перед субъектом, составляя теперь с ним органическую нераздельность. Необходимость выбирать сменяется тем, что позже нами будет названо простым действием.
Попробуем проиллюстрировать преодоление выбирающего типа действия на примере этического выбора. Как и любой другой выбор, это – выбор в пользу наиболее сильного мотива. Но в действительности оказывается, что субъект вовсе не выбирает тот или иной мотив: он, как правило, лишь следует мотиву. В этом случае свобода выбора иллюзорна: нам может казаться, что мы вольны выбирать, в то время как выбор предопределен. Так или иначе, отношение мотива к субъекту – это отношение принудительности.
Мотивация преодолевается в тот момент, когда личность начинает соотносить свои действия с Ценностью. Ценность противоположна мотиву. В отличие от мотива, который задается нам как нечто внешнее, Ценность всегда составляет с человеком органическое единство, являясь своеобразным ядром личности.
И если мотивы формируются культурой, личными выгодами и другими факторами, имеющими внешнюю по отношению к личности человека природу, то Ценность даже не формируется, а выращивается самим человеком на протяжении всей его жизни, в соответствии с ежедневно и ежечасно принимаемыми им решениями.
Действия, которые соотносятся с такими Ценностями, не определяются ничем из выгод «мира сего», а потому носят предельно целостный характер.
В дальнейшем мы будем называть их поступками.
Третий предел, или предел творчества
По мере преодоления диктатуры локального «я» все очевидней проявляется антиномичность определения воли, принятого в психонетике: «Воля есть необусловленная направленная активность сознания» . Каким образом «целенаправленная активность» может быть «активностью необусловленной»? Можно ли считать творческим актом целенаправленный результат произвольного усилия моего «я», в условиях, когда «я» направляет волевую активность, задает ей цель и присваивает себе результат? С другой стороны, можно ли считать волевым действием и творческим актом то, что осуществляется помимо меня; то, к чему я, как выбирающий и разумный субъект, не имею никакого отношения?
Антиномия между необусловленностью и целенаправленностью воли разрешается эмпирически, а не рационально. Для этого мы каким-то образом должны суметь обнаружить себя в волевой позиции, т. е. осуществить редукцию от привычного эмпирического «я» к тому, что называется «чистым Я»6.
В этом случае всякая различающая дистанция между Субъектом и Волей исчезает: действие Субъекта становится действием Воли, и наоборот.
Между предельно редуцированным локальным «я» и нередуцируемой субъектностью чистого «Я» обнаруживается то, что можно сравнить с математическим понятием «разрыва функции». Преодоление этого разрыва должно носить характер «фазового перехода», который может быть уподоблен прыжку в неизвестное. Это выраженно организмический процесс: он не является следствием одних лишь дискретных процедур, осуществляемых по заданным шаблонам с предустановленным результатом.
Так и порождение нового можно отнести к процессам, имеющим в чем-то вероятностный и спонтанный, но отнюдь не случайный характер. Творческие акты и их продукты нельзя ни предсказать, ни регламентировать, но вместе с тем они есть результат целенаправленного намерения. Возникновение нового нельзя формализовать, но можно создать условия, при выполнении которых оно может произойти.
Таких условий два, и они связаны друг с другом.
Одно из условий было рассмотрено выше: органическая субъект-объектная целостность и прекращение «расслоения» между Субъектом и Волей.
Второе мы вкратце рассмотрим ниже.
Третий барьер обнаруживается при столкновении волевой активности с «миром необходимости», с «плотными» и не вполне пластичными средами: психикой, физическим телом, объективным миром. В результате такого столкновения сами среды и разворачивающаяся в них активность оказывают взаимное влияние друг на друга. Со стороны активности это влияние преобразующее и преодолевающее, а со стороны мира необходимости – ограничивающее и искажающее. Сознание «вынуждено» отражать и упорядочивать то, что находится за его пределами. Человек подчиняется языку, культуре и физическим законам. Психика обусловлена характером и привычками, а мышление – выработанными алгоритмами и паттернами. Даже творческий акт может быть воплощен весьма ограниченными средствами.
Этот барьер можно уподобить сложной структуре Лабиринта, составленной из стен, которые принуждают Тесея следовать в рамках пусть и многочисленных, но четко сформированных маршрутов.
Преодоление третьего барьера и достижение предела творчества является комплексной задачей и подразумевает обнаружение того слоя сознания, в котором отсутствуют любые качества, неоднородности и структуры. А также – создание в этом слое устойчивой волевой инстанции.
Именно здесь активность сознания опознается как ничем не обусловленная и смыслопорождающая. Из «тончайшей» субстанции сознания Воля, подобно Творцу, свободно создает те смыслы, которые не определяются ничем известным, ничем, что лежит «по эту сторону» человеческого существования и опыта, включая прихоти индивида.
Действие Воли не ограничивается только лишь смыслопорождением: она прокладывает в Лабиринте новые пути своего воплощения, обнаруживает неожиданные способы решения актуальных задач и даже создает новые среды для разворачивания творческих актов.
Конечно, полностью избавиться от диктата ограничений со стороны мира необходимости не получится. Тем не менее, мы можем уверенно говорить о том, что после того, как главным действующим лицом этой истории становится Воля, изображения свободы сменяются ее реальностью.
Барьер герметичности и «слишком человеческого»
Рассмотренные выше пределы свободы лежат в горизонте человеческого бытия. Никакое одностороннее усилие в пределах этой плоскости не может изменить онтологический статус человека, не может придать его бытию вертикальное измерение. В горизонтали первых трех пределов можно достичь произвольности, целостным действием преодолеть ограничение выбором, пробудить творческую активность. Можно даже перестать быть, развоплотившись с помощью высших ступеней йоги (в этом случае «человеческое» не преображается, а прекращается).
Чего нельзя сделать, так это осуществить размыкание своего бытия навстречу иному бытию, поскольку такое размыкание должно подразумевать соединение с Иным. А это недостижимо без участия в этом процессе другой воли, а стало быть, и другой свободы.
Даже в своем предельно необусловленном модусе человеческая воля «слепа» в отношении вертикального измерения, которого для нее как бы и не существует. В рамках человеческого существования действия из волевой позиции a priori совершенны и свободны, но из позиции, которая включает в себя и вертикальное измерение, такая свобода ограничена самим отсутствием вертикали, то есть герметичностью человеческого.
Поскольку Лабиринт задумывался как ловушка, выйти из него собственными силами невозможно. Но эта невозможность гарантирована не сложностью лабиринта, а тем забвением и удовлетворенностью, которые возникают у автономного и самодостаточного существа.
Освободиться от власти Лабиринта Тесей может только в одном случае: с ним должна пребывать сияющая нить, соединяющая его с тем, что внеположно миру Лабиринта.
Четвертый «предел» свободы, или беспредельность любви
Если быть точным, это уже не вполне предел и не вполне свобода. Свобода в самом общем смысле понимается либо негативно (как отсутствие любой детерминации и необходимости), либо позитивно (как условие и возможность творчества). Так или иначе, понятие свободы тесным образом сопряжено с другим понятием – понятием воли.
Но как быть, если рядом с нашей волей обнаруживается другая воля и другая личность?
Здесь возникает вопрос о взаимоотношении двух воль и двух свобод между собой. Довольно легко представить себе ситуацию, в которой такое отношение сводится к их конкуренции. В этом случае «побеждает сильнейший».
Но возможен и иной, более редкий сценарий.
Это – вариант сонаправленности двух или более воль, предел которой поэтами и мистиками всех времен именуется любовью.
Из позиции эмпирического «я» любовь парадоксальна. Это не то, что мы вольны сделать: ни о какой произвольности здесь речь идти не может. Но она и не то, что с нами случается или происходит: в отличие от любой страсти, любовь не управляет нами, не захватывает и не влечет. Пожалуй, мы не можем даже утверждать ее природу как сверхпроизвольную, поскольку мы вольны не любить.
Любовь можно уподобить акту размыкания навстречу чему-то большему нас. Такое размыкание неприемлемо для эго, поскольку требует от него самоопустошения и жертвенности. Но именно любовь освобождает человека от гнета себя самого – от диктатуры «я», являющегося центральной ценностью в жизни индивида, а, стало быть, и от всего того, что с ним связано: страстей, мотиваций, проблем выбора и даже ограничений известным.
В любви не обнаруживается ничего, что обусловливает человека. Более того, в ней преодолевается самый главный обусловливающий фактор: претензия индивида на распоряжение свободой и волей по своему усмотрению. Поэтому можно говорить о том, что любовь «предшествует» свободе.
Когда воля перестает быть направленной исключительно на индивидуальное бытие, самая надежная темница Духа оказывается распахнутой настежь. Личность при этом никуда не исчезает, но в актах «обнищания собственным духом» достигает подлинного преображения.
Хронический спазм индивидуального сознания на самом себе, выраженный как «Я!», может быть снят целым комплексом методов, разработанных в различных подходах и Традициях, а также посредством поступков «во имя ближнего». Но, пожалуй, наиболее полное свое раскрытие эта идея получает в православном учении о синергии.
С греческого языка слово «συν-εργεία» (синергия) переводится как сотрудничество или соучастие и означает соединение человеческой воли с Божественной внемирной волей. Сочетание этих двух онтологически различных энергий-волений носит сверхъестественный и свободный характер. Такое соединение воль можно представить не как их смешение7, но как акт согласия человеческой воли быть направленной ко Благу, «воспринимаемому» ею как естественный и безусловный Ориентир.
Действительно, Божественные энергии открываются человеку не как внешняя принудительная сила, но как дар Любви, Красоты и Блага, непосредственное знание которых приводит к преображению и восстановлению искаженной природы человека.
Свет Любви и Красоты не только указывает путь «из Лабиринта», но лишает власти и могущества тех чудовищ, которые прячутся во тьме неведения, обусловленности и смутности. И лишь во власти человека принять или отвергнуть этот дар, подобный нити Ариадны.
Свобода никогда и ничего не может дать «Минотавру»; она может лишь что-то у него забрать, лишить его непоколебимых оснований: лабиринта, комфортного неведения, самого существования. В здравом уме ее нельзя хотеть, потому что свободой нельзя «разбогатеть». От того, что мы не можем присвоить ее себе и не можем обозначить ее как «свою», возникает переживание диссонанса: свобода оказывается не тем, что мы ожидали. Присваивающее себе все и вся «я», ищущее во всем своей выгоды, не может понять, что делать со свободой, не может понять, что «это может дать мне?!»
Нельзя сказать: «Я достиг свободы». Потому что в тот самый момент произойдет необратимое «падение слова» и утрачивание того, что мы попытаемся себе присвоить.
Как мы видели, каждый предел приоткрывает свой особый аспект свободы; и каждый раз понимание свободы ускользает от попытки точно зафиксировать ее в словах. Сам факт множественности модусов свободы как будто намекает на то, что должен существовать некий мета-принцип, который собирает их воедино: то онтологическое, отражениями чего являются образы человеческой свободы.
И если предположение о существовании того, что больше свободы верно, то действительное понимание свободы может быть получено только через призму такого мета-принципа.
Глава II
Миф о грехопадении
В этой главе мы попробуем осмыслить актуальное состояние человека через призму Мифа о грехопадении, а также, раскрыв процесс грехопадения как дифференциацию человеческого существа, наметим способы его обратной интеграции. Данный нарратив, преломленный в свете православной антропологии и учения святых отцов (особенно преп. Максима Исповедника) о природе, ипостаси и воле, дает весьма точное описание текущего состояния тотальной обусловленности, указывает на ее причины и намекает на способы восстановления свободы и целостности.
Пожалуй, всем в общих чертах известна история об изгнании Адама и Евы из Эдема, изложенная в книге Бытия. Обычно эта история воспринимается с некоторым недоумением. В ней не вполне понятны мотивы всех действующих лиц.
Непонятно, зачем был введен запрет на вкушение от плода Древа познания добра и зла. Почему это древо нельзя было просто оградить и сделать недоступным? Почему Ева и Адам нарушили запрет? Наконец непонятно, почему нарушение запрета повлекло за собой столь суровое наказание?
Но прежде чем приступить к рассмотрению основных положений мифа о грехопадении и вытекающих из него следствий, дадим краткие определения основных понятий, принятых православным богословием и имеющих прямое отношение к теме данной главы:
● Природа (сущность, естество) – единое образующее начало, заключенное во всех представителях того или иного вида; нечто общее, прилагаемое ко многим, численно различным.
● Ипостась – конкретный способ существования природы; представитель того или иного вида, в котором уникальным и действительным образом осуществляется сущность (природа, естество), носитель природы.
● Личность (лицо) – разумно-свободная ипостась, которая обладает способностью к выбору и рефлексии. Личность может пониматься как конкретный способ существования человеческой природы.
● Природная воля – сила стремления к сообразному с природой, обнимающая собой все свойства, существенно принадлежащие природе. Естественное тяготение разумного существа к добру (преп. Максим Исповедник).
● Гномическая воля или «воля выбора» – руководимая разумом воля человека, с учетом тех последствий грехопадения прародителей, которые отразились на человеческом естестве (подразумевает возможность колебаний человека в выборе между добром и злом).
До своего грехопадения Адам по природе имел естественное устремление ко Благу. Будучи созданным по образу и подобию Бога-Творца, он обладал как ничем не обусловленной волей, так и совершенными творческими способностями. Поскольку Адам жил Богом, то есть питался непосредственно от Древа жизни, он был потенциально бессмертен.
Итак, Адам являлся почти совершенным существом. Мы можем предположить, что он не просто нарекал имена животным, но активно познавал и осмыслял творение в его сокровенной сути: т. е. назначал объективно существующим вещам и явлениям мира создаваемые им смыслы («это да будет тем-то, а это – тем-то…!»). Это был акт «расшифровки» мира, лежащего по другую сторону от человеческого сознания и до тех пор сознанием не понимаемого.
Таким образом, Адам решил важнейшую задачу: фактически им был «собран» новый мир, «мир как представление», мир как упорядоченное и понятное отражение внешней действительности в сознании.
В этом проявилась уникальная способность воли и сознания (не ограниченных никакой необходимостью) к конструированию реальности.
И вместе с тем совершенство Адама не было полным. Естественное устремление ко Благу являлось данностью, даром, как бы природной «настройкой по умолчанию», но не было испытано «огнем» личной ответственности и свободного выбора. У Адама отсутствовала не только необходимость, но и сама возможность выбирать. Такую свободу можно назвать относительной, т. е. бессознательной, безличностной.
Для испытания свободой и возрастания в ней к своему совершенству (к подлинной свободе) Адам получает от Творца заповедь: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и злане ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь…» (Быт. 2:17).
Эта заповедь носила не столько запрещающий (природная воля в запретах не нуждалась), сколько информирующий, ограничивающий и воспитательный характер. Это ограничение создает в бытии Адама некий предел, за который он не должен переступать, но может переступить.
Мир Адама опреде́лился и определи́лся (или, по меткой формулировке А.В. Смирнова – опреде́ли́лся). По эту сторону границы – жизнь и бытие, по ту – смерть и ничто.
Установление такого предела носит онтологический характер, кардинально меняющий бытийный статус самого Адама: с этого момента в его сознании появляется неустранимое различение (можно/нельзя, к Богу/от Бога, Благо/не Благо, жизнь/смерть), противопоставление одних райских деревьев другим, отношение к Древу познания добра и зла как к границе допустимого.
И только теперь, после введения добровольного испытания, когда у Адама появляется потенциальная возможность выбора, можно говорить о том, что его свобода приобретает сознательный и личностный характер.
Обратим внимание на следующий важный момент: само наличие выбора, появившееся за счет введения пределов, не вынуждает Адама этот выбор совершать и не вводит нечто сверх природной воли, которой Адам продолжает следовать. Он не сомневается и не размышляет: «Нарушить мне заповедь или нет, следовать ко Благу или идти против него?». Адам еще не выбирает – ему это и не нужно, но в его жизни уже что-то неуловимо изменилось: появилось дополнительное измерение, некоторое «пространство возможностей», которое еще ничем не занято, но уже самим фактом своего существования постулирует новые грани свободы.
До заповеди природная воля влекла Адама за собой. Теперь Адам уже сам свободно следует благодати; личное и природное, уникальное и общее в нем как бы уравновешиваются.
Следование Благу есть ни принудительность, ни данность, ни влечение, ни некое специальное волевое усилие, а акт свободного согласия личности. Так в бытии Адама появляется то, что можно назвать новым личным измерением. Теперь его «повзрослевшая» личность является не просто ипостасью, понимаемой как конкретный способ существования природы, а мерой поступков и решений, субъектом ответственности, тем, что свободно владеет своей природой.
Итак, заповедь воспитывает в Адаме свободу и формирует его личность: Адам должен стать лично ответственным за свои поступки. Это ответственность не только за себя, но и за вверяемый ему для владения и попечения «сад».
Но появление личного измерения и связанной с ним свободы имеет свою обратную сторону – риск падения. Испытание свободой никогда не заставляет себя долго ждать; не стал исключением и Эдем. Для того, чтобы первые люди в лице Евы и Адама начали сомневаться в том, что данная им заповедь добра, потребовалась третья сила, нечто внешнее, что-то, что должно было попытаться переубедить их верить Творцу, заронив зерно сомнения. Этой силой стал змей.
Нам невозможно представить благодатное состояние первых людей в раю. Его не получится ни изобразить, ни проимитировать никакими способами и психологическими приемами. Но чтобы хоть как-то понять, что же именно произошло в сознании Адама и Евы в результате грехопадения, попробуем намекнуть на то состояние, с которого произошло их падение.
Святые подвижники описывают переживание благодати как мир в душе, тихую, но очень глубокую радость, безусловную любовь, неиссякаемую жизнь, незримый свет, духовную сладость, умиление и т. п. Это переживание единства с Богом и миром. Но – не того единства, при котором происходит растворение ипостасной различенности в чем-то общем, а единства, в котором наличествует уникальное и личное. Это – единство, подразумевающее возможность творить и любить; единство, постулирующее онтологическое наличие Другого.
Теперь попробуем рассмотреть не столько саму историю грехопадения (об этом можно прочесть в третьей главе Книги Бытия), сколько механизм того превращения, которое произошло в сознании Адама и Евы. Сразу заметим, что этот механизм разворачивается в каждом из нас по многу раз на день и должен быть хорошо нам знаком.
Процесс грехопадения может быть разделен на семь стадий:
1. Прилог
«Ева заметила движение веток на ближайшем кусте, а вслед за этим увидела блеск абсолютно холодных глаз, посаженных на чешуйчатой голове древнего существа, которому здесь было явно не место, и услышала тихое и даже чем-то приятное слуху шипение».
Так мог бы начинаться рассказ о драме, разыгравшейся в Эдемском саду. Но наш рассказ будет иным: в уме появляется еще не оформленное предчувствие, намек, пытающийся обратить на себя наше внимание. Уже на этом этапе прилог может быть узнан как нечто имеющее принудительную, а может быть, даже и внешнюю по отношению к сознанию природу.
Еще до обращения на него внимания и до того, как это смысловое переживание перерастет в мысль или образ, при определенном навыке можно понять, что этот прилог чужд и инороден нам и в своей перспективе грозит перерасти в нечто, потенциально опасное для нашей целостности. На данном этапе очень легко прогнать прилог (если, конечно, удалось его вовремя опознать): достаточно произвольно не смотреть и не слушать «в его сторону».
2. Помысл
«Змей начинает свой вкрадчивый разговор с Евой».
Прилог, как и ожидалось, оформляется во вполне конкретную мысль. На инородность этой мысли указывает не только непроизвольность возникшего движения ума, но и в некоторых случаях тот голос, которым такая мысль может звучать, а также узнавание в ней какой-то вкрадчивой лживости.
Отогнать от себя помысл немного сложнее чем прилог, но вполне по силам любому, даже неискушенному в вопросах мыслительной аскезы человеку. Для этого необходимо либо подавить эту мысль, либо переключить внимание на что-то другое.
3. Собеседование (или сочетание) с помыслом
«Ева вступает в диалог со змеем и получает предложение с “той стороны”».
Сочетание с помыслом возникает в результате внимания ранее возникшему помыслу. Как известно из повседневной жизни, если мы вступаем в беседу с каким-нибудь уличным торговцем, нам затем бывает довольно сложно от него избавиться. Зачастую дело заканчивается тем, что мы у него что-нибудь да купим. Змей, подобно такому торговцу, начинает «продавать» Еве плод с Дерева познания добра и зла, описывая его достоинства:
«…будете как боги, знающие добро и зло».
Он искушает Еву и, будь у Евы побольше опыта, она могла бы обнаружить в этом искушении отчетливый характер принуждения: происходит то, что можно назвать «захватом» внимания. Теперь не она произвольно управляет своим вниманием, а внимание непроизвольно следует за внедренным в сознание объектом.
На данном этапе в сознании случается то, что должно сигнализировать о греховности собеседования: собеседуя с чем-то внутри себя, человек как бы разделяется на собеседующие стороны. А это, в свою очередь, означает потерю целостности. Разрушение целостности можно сравнить с потерей важнейшего плацдарма обороны. Дело в том, что удержание целостности как характерного переживания внутренней монолитности, может служить нам чем-то вроде щита. До этого момента мы могли использовать само это переживание как возможность противостоять всему, что на нее посягает: через щит целостности не могли проникнуть никакие «разжженныя стрелы лукавого».
Потеряв этот плацдарм, нам не остается ничего другого, как попытаться особым усилием воли освободиться от уже случившегося захвата внимания.
4. Услаждение, или приложение чувств
Ева как бы предвкушает обещанную змеем сладость запретного плода. В ее сознании возникает нечто виртуальное: образ плода. Появление того, что мы в дальнейшем назовем «вторичной визуализацией», приводит к еще большей фрагментации сознания. Оно начинает разделяться на ту часть, которая «смотрит» и на объект такого внутреннего смотрения. Возникающий в уме образ уже не имеет никакого отношения к действительности: Ева увидела то, чего нет и тем самым впала в самообман.
Появляется «темная сладость», выраженная в специфическом чувстве вожделения.
Появляется оценивающий и оцениваемое.
5. Пленение или приложение воли
Возникший ранее образ набирает силу: на него теперь направлены львиные ресурсы непроизвольного, захваченного им внимания. Внимание делает его плотным, тяжелым; некогда легкий виртуальный образ превращается почти в автономный объект сознания, который, со своей стороны, начинает обретать власть над субъектом, диктовать ему свою «безсубъектную волю»: «Съешь меня!»
В данном случае к объекту прилагается уже не чувство и даже не желание, а деятельное, но совершенно несознательное и безличностное воление. Одновременно с утерей остатков свободы в мире Евы появляется ценность вне Бога.
Ее взор направляется в сторону, противоположную от благодати, и… благодать начинает отступать от Евы, чтобы не нарушить ее свободу.
6. Решение
Личность «отзывает» свое согласие на следование благодати и дает новое согласие – на поедание запретного плода. Выбор сделан, решение принято.
Заметим, что сам акт принятия решения выглядит вполне произвольным, хотя причины, предшествующие ему (все предыдущие пять стадий) спрятаны от лица, принимающего решение, в глубокой тени. Так зачастую решения, кажущиеся нам осознанными, не вполне таковы: личность лишь ставит штамп «Исполнить» на услужливо подготовленный кем-то приказ, не особо вникая в его суть и в причины его появления.
В человеческом сознании возникает то, что мы могли бы назвать смутностью.
Смутность крайне опасна тем, что непрозрачность причин принятия решения представляется «исполнителю» фактором несущественным, второстепенным: ведь само решение было принято осознанно – не кем-то, а им лично. Но, повторим, во всей этой ситуации более-менее осознанно был лишь проставлен штамп на «приказе». А кем и как на самом деле решение было подготовлено, какова в нем роль чужой активности, какова сила прячущегося в непросматриваемых закоулках сознания внешнего принудительного фактора – неизвестно, да и не очень-то и интересно этому лицу. Ведь, по его мнению, у него все находится под полным контролем.
Вся сила враждебной человеку воли, позволяющая беззастенчиво обманывать, манипулировать и управлять им, базируется на собственной скрытности и состоит в том, чтобы выдать подготовленный приказ за решение самого человека.
Но при этом личная ответственность за данное решение (вне зависимости от его истинных причин) лежит на том, кто его принимает. Смутность сознания в данном случае будет являться скорее отягчающим, нежели смягчающим обстоятельством: ведь оправдавшись перед самой собой тьмой неведения, поддавшись на ложные и льстивые обещания, Ева позволила внедриться в себя и действовать в себе (а также и через себя) чужой воле.
7. Падение
Принятое решение приводится в исполнение. В этот момент человек перестает жить Богом и вкушать от Древа жизни и, как ему было обещано, познаёт смерть8.
Ева не только вкушает от плода, но и дает его есть мужу. В этом действии можно увидеть указание на то, что грех распространяется, подобно заразной болезни, и очень скоро этой болезнью окажется заражен весь мир. И если «слабым звеном» для проникновения соблазна в человеческую природу оказывается Ева, то Адам, в свою очередь, делает состоявшееся грехопадение необратимым. В своем диалоге с Богом он отказывается принять на себя ответственность за свой поступок, без чего совершенно невозможен акт покаяния (в букв. переводе с греческого «метанойя» – изменение ума, а с еврейского «шув» – обратиться, возвращаться).
Словно первый детерминист, Адам выстраивает причинно-следственную цепочку появления зла «Бог –творение – Ева», но не находит в этой цепочке места для единственно верной причины: личного свободного решения. Тем самым он соглашается с тем, что его решение не было ни личным, ни свободным, и таким образом постулирует несвободу как норму бытия и легитимирует собственную инфантильную безсубъектность. Она выражается в формуле: не «я делаю», но «со мной что-то происходит».
Согласно событиям, описанным в 3-й главе Книги Бытия, Адам и Ева обнаруживают, что они наги, и испытывают чувство стыда. По трактовке некоторых св. Отцов это происходит вследствие утраты первыми людьми благодати Святого Духа, который до сих пор облачал их в свет. Также можно предположить, что это случается в результате онтологического и экзистенциального отчуждения человека от Бога, мира и другого человека. Его энергии теперь всецело направляются на себя самого. Человек замыкается в границах личного бытия, которое становится герметичным и как бы «консервируется в вечности». Теперь он сам является главной ценностью, мерой всего, «центром и средоточием вселенной».
Воля к Благу и Истине сменяется новым модусом – Волей к себе. Отчуждение, в свою очередь, приводит человека к полной автономности, а стало быть, и к конечности бытия, поскольку любая закрытая система обречена на смерть.
Так Воля к себе оборачивается Волей к смерти.
Направив свою волю к мнимому добру и тем самым уклонившись от благодати, прародители лишаются благодатно-природного способа осуществления природной воли. В отсутствие своего изначального ориентира – прямого знания Блага – природная воля начинает жить собственной герметичной жизнью, реализуя целе- и смыслополагание «наощупь», наугад.
Такое стихийное осуществление природой своей активности приводит к тому, что «новая» воля безуспешно пытается попасть в Цель, но в условиях хронически «сбитого прицела», она обречена на вечный промах, на ошибку (именно так буквально и переводится греческое слово «амартиа», означающее грех).
Она обречена на вечное попадание в «я».
Но человек разумен: он может направлять ослепшую природную волю своим личным решением, принимаемым с помощью разума. Такой способ осуществления природной воли в православии именуется гномической волей9, или «волей суждения». Гномическая воля относится к личности и отвечает за выбор направления приложения природной воли.
Гноми, таким образом, есть способ «обуздать» стихийную природную активность, придать ей характер произвольности и, оторвав ее от случая, направить в соответствии с разумным решением. В этом смысле гноми совершенно необходима человеку, пребывающему в падшем состоянии: в условиях «ослепшей» воли нет иного способа выбирать добро. В результате появления выбирающей воли личностное надстраивается над природным и задает ему цели.
В этих условиях подлинная свобода невозможна, но возможна «тренировка» свободы, реализуемая в каждом разумном акте выбора. Гномический способ осуществления природной воли возникает в результате грехопадения, но он же является тем законным инструментом, который должен помочь человеку вырваться из данного состояния.
Вот что пишет о двух волях Владимир Лосский:
«Св. Максим очень тонко анализирует понятие «воли». Он различает две категории волений, первая, θέλησις φυσική, «воля природная» есть тяготение природы к тому, что ей подобает, «природная сила, тяготеющая к тому, что соответствует природе, сила, объемлющая все основные природные свойства». Природа в естественном своем состоянии, то есть состоянии, не искаженном грехом, может желать только добра, поскольку она – природа «разумная», то есть устремленная к Богу. Воля совершенной природы сознает добро и, следовательно, принадлежит добру. Но грехопадение затуманило это сознание; теперь природа тяготеет чаще всего к «противоприродному»; ее желания погрязают в грехе. Однако человеку дана и другая воля, θέλησις γνωμική, как воля, присущая личности. Это воля выбора, тот личный суд, которым я сужу природную волю, принимая ее, отвергая или направляя к другой цели, и, очищая её от греха, превращаю в волю подлинно естественную. Пользоваться этой «волей суждения» обязывает нас возрастание истинной нашей свободы. Свободный выбор соответствует состоянию, в которое поверг нас грех; именно потому, что мы – в грехе, мы должны непрестанно выбирать. Воля выбирающая придает нравственному акту личностный характер»
В. Лосский, «Догматическое богословие» [6]
Итак, вкусив от плода, Адам и Ева действительно познают добро и зло. Но поскольку зло не самосущно (все творение было создано «хорошим, и хорошим весьма»), люди «знакомятся» не с подлинной онтологической реальностью, а с объективированным недостатком Блага в вещах и явлениях.
До такого познания человек жил в безусловном добре: все мироздание было добрым, а потому не было необходимости его расценивать как не-злое. Познав двойственность «к Благу или от Блага», люди начинают жить в мире, подчиненном диалектическим законам развития, и вынуждены непрестанно выбирать «между».
Теперь само добро следует понимать относительно: будучи отчужденным от субъекта, оно никогда не совпадает с Благом и не может выступить в качестве абсолютного Ориентира10. По этой причине ни разум, ни выбирающая гномическая воля сами по себе не достаточны для возвращения человеку его райского достоинства.
Данная ситуация напоминает блуждание в темном и бесконечно сложном подземном лабиринте, где знание об относительном добре можно сравнить с общим знанием о том, в каком направлении следует идти, в то время как знание Блага есть даже не карта, не освещение Лабиринта, а прямой способ быстро и навсегда его покинуть, вертикально поднявшись из любой его точки наружу, на поверхность земли – к свету.
Если до появления заповеди состояние свободы Адама может быть описано формулой: «Не могу не быть условно-свободным», то после ее появления: «Могу быть свободным». Между этими двумя состояниями пролегает лишь тонкая граница в виде принятия решения. После грехопадения это состояние меняет свой статус на «не могу быть свободным».
Человек оказывается в мире, где естественное знание Блага подменяется его изображениями – культурными и этическими нормами, религиозными заповедями и юридическими законами. Теперь к «природно-стимульной» обусловленности добавляется еще и обусловленность культурная.
Имея столь ненадежный ориентир, коим является культура, человек обречен вечно скитаться по лабиринтам в поисках Истины. Тем не менее, в отличие от слепого следования поврежденной природной воле, культурная обусловленность есть способ удержать падшего человека от еще большего разрушения, от окончательного впадения во зло.
Но нельзя расценивать последствия первородного греха как наказание. Появившееся зло является логичным следствием отдаления от Блага, причем следствием, о котором Адам был предупрежден. Падение не было неизбежным, но стало возможным благодаря свободе человека. В этом тайна и непостижимость свободы – свобода всегда является причиной достаточной.
«Личные существа – это апогей творения, потому что они могут по своему свободному выбору и по благодати стать богом. Сотворяя личность, Божественное всемогущество осуществляет некое радикальное «вторжение», нечто абсолютно новое: Бог создает существа, которые, как и Он могут решать и выбирать. Но эти существа могут принимать решения, направленные и против Бога. Не есть ли это для Бога риск уничтожить Свое создание? Мы должны ответить, что риск этот парадоксальным образом вписывается во всемогущество Божие. Творя «новое», Бог действительно вызывает к жизни «другого»: личное существо, способное отказаться от Того, Кто его создал. Вершина Божественного всемогущества таит в себе как бы бессилие Бога, некий Божественный риск. Личность есть высочайшее творение Божие именно потому, что Бог вкладывает в нее способность любви – следовательно, и отказа. Бог подвергает риску вечной гибели совершеннейшее Свое творение именно для того, чтобы оно стало совершеннейшим. Парадокс этот неустраним: в самом своем величии – в способности стать богом – человек способен к падению; но без этой способности пасть нет и величия. Поэтому, как утверждают отцы, человек должен пройти через испытание, peira, чтобы обрести сознание своей свободы, осознание той свободной любви, которой ждет от него Бог».
В.Н. Лосский, Догматическое богословие [6]
Сознание модерна мыслит свободу гномически – как разумный и ответственный выбор между взаимоисключающими альтернативами. В христианстве же свобода понимается как отказ от гномического выбора между «добром и злом» в пользу безусловного Блага; как свободное соотнесение своей воли с волей Бога.
Такое смещение баланса от личного произвола в сторону того, что «предшествует» выбору, достигаемое в результате радикального кенозиса (самоопустошения) личности11, современным эмансипированным сознанием сходу расценивается как несвобода. Это происходит сразу, как только сознание сталкивается с таким триггером, как «отказ от свободного выбора», что воспринимается им как недопустимое покушение на индивидуальность, независимость и свободу «от чего-то», в том числе – от греха.
Подводя итоги сказанному выше, вкратце перечислим главные последствия произошедшей катастрофы, отразившиеся на человеческой природе, воле и свободе.
1. Потеря природной волей своего сверхъестественного Ориентира и благодатного способа осуществления природной активности. Как следствие – появление гномической воли, вынужденной выбирать между относительными добром и злом. Подчиненность человека культуре.
2. Онтологическое замыкание человека в пределах антропологического горизонта бытия, присвоение воли индивидуумом. Возникновение отчужденности от Бога, другого человека и мира, противопоставление им себя и своей воли. Появление смертности.
3. Облачение человека в «ризы кожаные» – появление новой материальной телесности. Изгнание человека из рая, попадание в мир плотных и неподатливых форм12. Мир возможности сменяется миром необходимости. Сопротивление непластичных сред любым попыткам их преобразования. Творческий акт осуществляется через «муки рождения» и может быть воплощен лишь ограниченными средствами.
Эти последствия приводят, в свою очередь, к тому, что частное и общее, дискретное и континуальное, причины и следствия в человеческом бытии меняются местами. Происходит серия так называемых онтико-онтологических переворотов, примеры которых будут рассмотрены нами в следующей главе.
Глава III
Три переворота
Онтическое и онтологическое
Целое, общее, континуальное (онтологическое) всегда «стремится» существовать через частное, конкретное, дискретное (онтическое). Онтическое есть способ существования, проявления онтологического. Так, например, мир идей у Платона есть онтологическое, воплощающее себя посредством неистинных «вещей-теней», т. е. онтического. Можно сказать, что онтологическое разворачивается в онтическое в процессе формирования феноменального мира: непрерывное в дискретное, общее в конкретное, единое во множественное, вечное в конечное, а самодостаточное в зависимое. Важное допущение делает основатель метафизики тотальности д. ф. н. В.В. Кизима, утверждая неразрывность онтики и онтологии вопреки исторической традиции их противопоставления:
«Не существует онтического вне онтологического, а онтологическое не может существовать иначе, как через онтические формы своего проявления. Сущее как Бытие дуально, оно есть единство многообразия, в котором единство означает сохранение идентичности Бытия, несмотря на его развертывающуюся множественность».
В.В. Кизима, «Социум и Бытие» [8]
Говоря о причинных отношениях между этими двумя аспектами, автор «Социума и Бытия» также пишет:
«Онтологическое есть достаточное основание в отношении к своему онтическому, и выступает как его условие. Онтическое же находится с другими онтическими проявлениями в причинных условиях».
там же [8]
Это заключение нам понадобится в дальнейшем. Пока же остановимся на следующем моменте. Многие проявленные аспекты феноменального мира существуют как разворачивающееся в определенной среде Целое. Такое разворачивание можно представить, как творческий акт, в процессе которого происходит последовательность разделений и различений.
Онтологическая причина множественного и конкретного неделима, но проявлена в конечной среде развертки как нечто дифференцированное. Причем это проявленное реально и составляет нераздельное единство со своим онтологическим началом (такое единство онтического и онтологического В.В. Кизима предложил называть тотальностью). Результат разворачивания не замещает собой причину и не отрывается от нее, но един с ней.
Наблюдая за различными явлениями в нашей жизни, мы можем обнаружить довольно странное положение дел, которое точно описывается известным выражением: «за деревьями леса не видеть». Конечное, конкретное и частное как будто существует само по себе. Эти проявления становятся обособленными, а тотальность бытия подменяется дискретным множеством «сущих».
Данную ситуацию можно объяснить смещением нашей субъектной позиции: меняется не сам мир, а то, из какого пласта реальности мы на него «смотрим». По некоторой причине, не имея возможности охватить тотальность во всем ее многообразии, человек начинает отождествлять Целое с конкретными его проявлениями. Если представить связку «онтологическое – онтическое» как некий вектор, то превращение онтического в условно-независимое начало можно описать как переворачивание такого вектора. Теперь онтологическое «уходит в тень», а если и просматривается, то его функция как бы подчинена онтическому, в том числе и каузально: оно становится второстепенным и, по большей части, умозрительным дополнением к нашей жизни. Феномены объявляются эпифеноменами (и наоборот), а общее начинает выводиться из частного, что, в общем-то, абсурдно.
Можно привести множество примеров таких переворотов и подмен, но мы выделим и подробно рассмотрим лишь три из них, как имеющие непосредственное отношение к проблематике книги13.
Первый переворот
Православная антропология рассматривает человека как триединство «дух-душа-тело», где дух есть высшее начало в человеке: животворящая душу «энергия» или «дыхание жизни»; душа – духовно-психическая сущность, являющаяся квинтэссенций человека и «суверен» личного бытия; а тело – материальный «носитель» души, и вместе с тем ее «орудие». Благодаря такой сложносоставности, человек как бы пронзает собой все уровни мироздания: мир духовный, чувственный и материальный, соединяя их в себе в нераздельное целое.
До грехопадения дух животворил душу от Древа жизни, душа «питалась» от духа, а тело – от души. В результате случившейся катастрофы эта вертикальная связь нарушается: дух начинает паразитировать на душе, питаясь искаженными чувствами и эмоциями; душа через тело «питается» страстными состояниями, а тело отбирает ресурсы у других существ, чтобы жить самому.
Происходит так называемый «антропологический переворот», прекрасно иллюстрируемый получившей широкую известность в современной мире «пирамидой потребностей Маслоу». (Хотя сам Абрахам Маслоу, возможно, и не согласился бы со столь упрощенным изображением его идей.) Триединство «дух → душа → тело» переворачивается, превращаясь в цепочку «тело → душа → дух».
Антропологический переворот обозначил разрыв между Духом и материей, между Царством Небесным и земным. Дух человека теряет непосредственную связь с Творцом, а приоритетной задачей теперь является удовлетворение телесных нужд и желаний. Тело приобретает статус самодостаточности, а ценности определяются всем тем, что доставляет удовольствие. Но с христианской позиции невозможно подойти к Духу через удовлетворение базовых потребностей (их попросту невозможно удовлетворить). В этом смысле характерно парадоксальное высказывание Спасителя: «Ищите же прежде Царства Божия и правды его, и это всё приложится вам» (Мф. 6:33).
Второй переворот
В раю Адам осуществлял необусловленную смыслопорождающую деятельность. Обладая полнотой творящей способности и проникая в самую сущность нарекаемого, он осуществлял в его отношении первичные творческие акты осмысления, соучаствуя в творении феноменального мира, нарекал творению имена, соответствующие именуемому настолько, что В.Н. Лосский пишет: «Тогда язык совпадал с самой сущностью вещей» [6].
Мы можем предполагать, что мир Адама представлял собой предельно пластичную реальность, обладающую преимущественно смысловой природой: мир, подразумевающий почти неограниченную свободу творчества.
Но после отказа от свободы в пользу внешних принудительных факторов Адам с Евой обнаруживают себя «одетыми в кожаные ризы» во враждебном мире жестко заданных форм; мире, который своей принудительностью теперь сам начинает «творить» человека. Так в результате антропологического переворота действие ничем не обусловленной воли человека ограничивается телом и законами физического мира, а ее творческий потенциал становится второстепенным и чем-то несущественным.
Теперь воля служит потребностям души и тела и в этом подчиненном статусе вынуждена следовать за целым спектром обусловливающих факторов и стимулов. К ним следует относить желания, привычки и зависимости, гормональные механизмы, культуру, этические нормы и многое другое.
Очередная триада «Воля → смысл/значение → слово/знак» переворачивается в цепочку «знак → смысл → воля».
Смыслы (безмолвное знание, предшествующее появлению чувственных форм), в условиях «спящей воли» или даже в отрыве от нее, теперь не порождают язык, а обслуживают его, подчиняясь его законам и логике. Смысловой слой сознания все более виртуализируется и приобретает характер некоторой «невидимости» для своего носителя: его как бы и не существует. Очень сложно объяснить человеку, не имеющему опыта произвольных смысловых операций, не только то, что смысл может предшествовать слову (либо же иной форме), но также и то, чтò он, вообще говоря, из себя представляет.
Слова в процессе своего «падения» отчуждаются от своих первоначальных значений и соответствующих им смыслов, становясь все более независимой реальностью. В этих условиях язык начинает занимать в сознании господствующее положение и формирует новые алгоритмы его функционирования. Он навязывает сознанию дискретную логику мышления и берет на себя функцию конструирования смыслов, являющихся теперь генетически вторичными по отношению к словам.
Слова и их значения определяются другими словами за счет чего появляются искусственные смысловые образования – симулякры, не имеющие под собой реальной основы.
Вследствие этого начинаются подмены: носитель языка принимает «пустое» (или «падшее» слово) за ту реальность, которую оно призвано обозначать. В первую очередь это касается таких «предельных» понятий, как «свобода», «смысл», «воля» и т. п. Подобно тому, как ДНК накапливает мутации, так и слова в своем «падшем» состоянии лишаются своих изначальных значений и приобретают новые, почти случайные смыслы, весьма далекие от исходных.
Этот процесс, как правило, никак не рефлексируется пользователем языка, а потому новые значения старых слов по привычке «натягиваются» на прежние способы смыслополаганий. Теперь уже происходит не подмена реальности словами, а подмена одних значений другими.
Проблемой здесь является даже не сама ошибка подмены, а возникающая в результате ее удовлетворенность: человек начинает считать, что, обладая словами, он владеет и тем, что они призваны обозначать.
«Желание свести значение к чему бы то ни было представляется абсурдным, поскольку то, что служит основанием такого сведения, само должно прежде обладать неким значением. В лучшем случае мы можем свести одно значение к другому, которое считаем более твердо установленным или понятным, но вовсе не к чему-либо за пределами самого значения»
А.В. Смирнов, «Сознание. Логика. Язык. Культура. Смысл» [9]
Предположим, нам необходимо разъяснить смысл некоторого слова. Понятия, с помощью которых мы попытаемся это сделать, обладают значениями, которые, в свою очередь, также потребуют разъяснения через апелляцию к другим словам. В результате такого «раскрытия смысла» мы начнем последовательно упираться в нагромождение синтаксических конструкций, определяемых очередными значениями, а значит – и словами.
Продолжая двигаться в этом направлении, будучи не в силах преодолеть замкнутость слов на самих себя, мы получим повторяющийся рекурсивный цикл и регрессию в дурную бесконечность.
Разорвать герметичность языкового пространства можно, либо обозначив «предельным» словом некий «артефакт», не принадлежащий языковому миру, либо апофатически «назначить» предельное слово, договорившись не определять его через другие слова. Это тот самый случай, когда можно воскликнуть, подобно Архимеду Сиракузскому: «Дайте мне слово – и я переверну мир!» и … перевернуть перевернувшееся.
По большому счету, такое слово, не определяемое другими словами и не сводимое к иным значениям, равное лишь собственному смыслу, могло бы стать одним из условий восстановления падшего языкового мира. А стало быть, в какой-то степени – и мира феноменального (вспомним здесь про язык Адама, который «совпадал с самой сущностью вещей»).
Слово, рожденное от смысла (но не наоборот), может стать для других слов семантическим началом, на который те могли бы опираться в своем «бытии». В частности, таким «краеугольным» словом-камнем для нас мог бы стать воплощенный в языке, переживаемый в предельных состояниях, личный опыт базовых оснований (собственного бытия, необусловленной воли, свободы, благодати и многого другого).
Метафизической иллюстраций данного подхода может служить понятие Божественных Имен, выражающих Божественную сущность (но не исчерпывающих Ее) и являющихся «излияниями Божественной жизни» [6].
Византийское богословие называет такие Имена нетварными энергиями, посредством которых Бог открывает Себя миру14. Имен бесчисленное множество, и к ним относятся такие, как: Сущий, Единое, Бытие, Жизнь, Мудрость, Любовь, Истина, Благо, Тишина, Творец15…
Благодаря тому, что Божественные энергии «пронзают» собой тварный мир, становится возможным их непосредственное созерцание. Созерцаемые Имена открываются человеку как непосредственное и прямое знание инобытийной Реальности. Через такое опытное познание может произойти восстановление «имен вещей» до их неповрежденных значений.
Другой иллюстрацией может служить понимание и роль символа в таинстве Литургии.
«Слово “символ” происходит от греческого symballo, что означает совпадение, соединение, слияние. Но, несмотря на приведенную дефиницию, “символ” на деле не поддается определению. Его можно понять больше на уровне интуитивном. В нем соединяются две реальности. Символ указывает на то, что одна реальность может не только означать другую реальность, но являть и передавать ее нам, и поэтому символ – больше чем знак. Символ не просто умозрителен и воображаем, он – онтологичен и экзистенциален. Это – реальность, которая во всей полноте выражается, является и сообщается через другую реальность. Символ – это не просто указание на нечто иное. Это – присутствие этого иного, которое не может присутствовать иным образом»
Протопресвитер А. Шмеман, «Литургия, символ и таинство» [11]
Здесь следует добавить, что в соответствии с платоновской парадигмой становления, вообще все вещи материального мира являются «воплощением» иного (Идей, логосов) в мир форм. Соединяя в себе два плана бытия, они выполняют функцию символов (подробней со значением символов у неоплатоников можно ознакомиться в работе Ямвлиха «Египетские мистерии») и могут быть использованы в качестве «проводников» для обратного «восхождения» (возвращения) к своим первопричинам. Более того, к такого рода символам можно отнести не только вещи, но также слова, действия и даже самого человека [cм. прим.1]. Данное замечание нам понадобится в дальнейшем для понимания некоторых аспектов работы с иным.
Третий переворот
Рассмотрим третий переворот, который происходит с очередной триадой: «Имена → Ценности → “ценники”».
Божественные Имена сообщают творению образы Божественной природы и внутритроичной жизни. Пронизывая собой традиционную Культуру, они обнаруживаются в среде человеческого в виде фундаментальных Ценностей.
Так, например, Ценности, являющиеся отражением Любви, содержат в себе общий ценностный принцип «бытия для другого», жертвенности. Другие Ценности несут в себе образы таких Имен-энергий, как Благо, Свобода, Красота и многих других16. Они неконъюктурны, безусловны и естественны, точнее – сверхъестественны. Ценности не являются ни застывшими формами, ни внешними требованиями. Они обладают свойством радикальной имманентности человеку, созданному по «образу и подобию».
В условиях разворачивающегося исторического процесса секуляризации роль сакральных институтов на себя принимает Культура, которая начинает транслировать в общество уже не сами Ценности, но их «изображения», обезличивая и адаптируя их к широким массам вне зависимости от принадлежности этих масс к соответствующей Традиции. Эти образы все еще наследуют сакральному, несут в себе его «гены»; они вполне узнаваемы. Ярким примером такого перехода является эпоха Ренессанса.
Этот процесс логично завершается окончательным отделением профанного от сакрального, а Ценностей – от участвующей прежде в их порождении Традиции17. В эпоху модерна в Культуре накапливается неустранимая «генная мутация»: в секулярном и постсекулярном сознании ключевые ценности приобретают новые, нетрадиционные звучания. Теперь они определяются лишь степенью своей утилитарности и выделяются из распадающейся целостности в автономные директивы (этические, юридические и культурные нормы), в такие навязанные господствующей культурой цели, как успех, власть, обогащение и т. п. (В терминологии Николая Лосского это «служебные ценности», «субъективные отрицательные ценности», «относительные ценности».)
В результате такой объективации они становятся внешней и доминирующий в отношении человека силой, инструментом подчинения сознания.
Теперь целеполагание и смыслопорождение Культура осуществляет в условиях полной дезориентации. В результате описанного выше процесса «падения слова», лишенная возможности восстановления и оздоровления искаженных целей Культура, подобно поврежденной природной воле Адама, начинает следовать за появляющимися в ее «поле зрения» соблазнами. Они берут начало в запросах, связанных с обслуживанием власти, капитала или массового потребителя.
В этом случае Культура либо адаптирует под них уже существующие ценности, либо создает удовлетворяющие их культурные нормативы. (Отсюда берет свое начало релятивистская теория ценностей, объявляющая их природу относительной и субъективной.)
Ценности превращаются в «ценник».
В свою очередь общество, подчиненное господствующим корпоративным и идеологическим директивам, трансформируется в массы18.
Если в слове «общество» (в его идеальном прочтении) можно видеть указание на литургическую соборность и единство, обеспечиваемое общением, то «массы» являют собой множество индивидов, предельно отчужденных друг от друга, чье «общение» сведено к коммуникации, призванной заместить зияющую онтологическую пустоту и утрату качества количеством горизонтальных, ни к чему не обязывающих социально-сетевых связей.
Массы загоняются в «единство» господствующей идеологией и новыми «ценниками». Теперь задача культуры – поддерживать устойчивое состояние разобщенности, примитизировать или вовсе не допускать мышление, обеспечивать безсубъектность общества, что позволяет в разы повысить его управляемость.
Это вполне естественное для неживого мира следствие общего принципа роста энтропии. Неживому невыгодно уменьшать энтропию и совершать восстановление первичного состояния триады: такое восстановление не может произойти естественным или случайным образом.
Как можно убедиться, переворачивание триад есть процесс деградации от Целого к частям, от организма к механизму, от Бытия к вещам. Мы видим эту деградацию на всех уровнях общества.
Эпифеноменалисты и редукционисты отказывают человеку в свободной воле, а природа чувств объясняется ими исключительно механизмом действия гормонов; потребности тела выходят на первое место; смыслы не порождаются, а потребляются; мемы управляют мышлением и поведением; Церковь принимается за набор догм и ритуалов, а «религиозное чувство» считается верой; художественная ценность произведений искусств определяется их стоимостью, а исихастская молитва, ведущая к соединению ума и сердца, превращается в изощренную нью-эйдж-технологию, применяемую теми, кто не обладает ни умом, ни сердцем.
Теперь последние члены триад (потребности тела, чувственные формы, «ценники»), ставшие в результате «переворотов» первыми, превращаются в предлежащие перед субъектом цели. Субъект подчиняется этим целям, подобным «морковке перед носом», и сам приобретает подобный им онтический характер.
Если Дух, Воля и Имена составляли то, что было трансцендентно и вместе с тем имманентно личности, а душа, смысл и ценности – то, что составляло с человеком неразрывное имманентное единство, то вынесенные перед субъектом онтические цели теряют эти свойства. Возникает субъект-объектная двоица, и теперь субъект связан с объектом не органически, а «механически», инструментально.
Оказавшись в «перевернутом» состоянии и имея в своем распоряжении лишь дискретные инструменты, человек пытается вернуть себе тотальность, память о которой настойчиво просачивается в его жизнь.
Данное стремление нашло свое отражение в повествовании о Вавилонской башне (см. Книгу Бытия, 11:1-9). Мотивы и цели ее строителей были весьма амбициозными: «построить башню, выстою до небес, чтобы сделать себе имя». Технологии, при помощи которых планировалось этот проект осуществить, являлись типичными технологиями копирования: если до Вавилонской башни строительство велось из обтесываемых вручную камней, то теперь башня возводится из формируемых «под копирку» кирпичей.
В этом мифе можно усмотреть намек на человека, который ищет Царство Небесное не «внутрь себя», а во внешнем мире, применяя для этого «машинные», механистические технологии и осуществляя все это в конечном счете ради себя самого, «во имя свое».
Примерами социально-политических Вавилонских башен явилось строительство коммунистического, фашистского или либерального проектов. Эти, как впрочем и все иные «башни», возводимые снизу (от онтического, от раздробленной грехом человеческой природы), оказываются обречены: невозможно склеить «земляной смолой» отдельные элементы собственной психики или разобщенных между собой и не свободных в своем выборе и поступках индивидов, и достичь при этом Целого.
«Новая научно-техническая революция приводила к появлению более эффективных технологий, более изощренных систем описания Мира, но эти описания становились все более специализированными, менее глубокими и все более оторванными от понимания Мира как единого целого … заменяя его механической карикатурой»
О.Г. Бахтияров, «Постинформационные технологии: введение в психонетику» [14]
Но строители новых Вавилонских башен уже даже и не амбициозны. Время строительства башен «до небес» прошло; «небеса» мало волнуют современное человечество. Технологии обслуживают запросы потребителя, формируемые новыми «ценностями», которые, в свою очередь, определяются возможностями технологий… и т. д.
Поскольку говорить о наличии проектов подобного строительства, как правило, не приходится, оно носит довольно случайный характер. И вот уже новые «башни» стелются по земле, представляя собой беспорядочное архитектурное нагромождение уродливых форм и построек, большинство из которых давно заброшено. С другой стороны, такие «башни» не имеют даже фундамента и все больше напоминают карточные домики, готовые рассыпаться от малейшего к ним прикосновения.
И вместе с тем появляются некоторые технологии работы с сознанием, которые дают возможность форсировать первый барьер свободы и актуализировать второй и третий пределы, то есть выйти на проблематику выбора и творчества. Что очень важно, они позволяют обнаружить перманентную и неосознанную подчиненность имплицитно навязанным извне «ценникам» и преодолеть ее.
Именно с этих особых технологий, ставших последним «рубежом обороны», может быть начат обратный процесс восхождения к Целому и Бытию.
Но чтобы использоваться человеком, а не использовать его, эти технологии должны отвечать принципам аутогенности, результативности и прозрачности (см. определение психонетики во «Введении») и быть направлены в своей перспективе на пробуждение необусловленной активности сознания.
Психонетические технологии или процедуры могут быть разбиты на два типа – механистические и организмические. Под механистическими технологиями будем понимать регламентированные инструкциями алгоритмы решения поставленных задач; все те психотехнологии «копирования», которые отталкиваются от уже известного: «пойди туда, принеси то». Вместе с тем как раз регламентированность и прозрачность являются их сильными сторонами, позволяя формализовать процесс обучения, нормировать результативность и уменьшить степень субъективных искажающих факторов. Они всегда отталкиваются от самого факта нецелостности, чем и объясняется их дискретность и алгоритмичность, связанная с процедурным разделением оператора, инструмента (например, внимания) и объекта преобразования (содержаний сознания).
Такие технологии имеют ряд ограничений и сами по себе не могут охватить Целое или изменить онтологический статус падшего Адама. Поэтому по достижении пределов своего применения они должны быть преобразованы в организмические процедуры «выращивания».
Организмический подход подразумевает осуществление операций с целостностями и отвергает всякую задаваемую извне «кирпичную» регламентированность. Вместо этого он направлен на создание условий для проращивания тех «семян-намерений», которые, в свою очередь, порождаются в творческих сверхпроизвольных актах19.
Необходимо заметить, что даже сам переход от механистичности к организмичности не произволен и не регламентирован, а является следствием смещения субъектной позиции в область онтологического.
Это довольно парадоксальная задача – для того, чтобы вырастить целостность, необходимо прежде самому «прорасти» в Целое.
Часть вторая
Консциентальный уровень: территория Cознания
Глава IV
Основные положения: Сознание, «Я», смысл, Воля
По законам жанра, прежде чем начать рассматривать вопрос, посвященный Сознанию, «Я» (Субъекту) и Воле, им нужно дать позитивные определения. Но задача определить эти категории вызывает неразрешимые трудности.
Они связаны, во-первых, с предельностью этих категорий (что вынуждает ставить им в соответствие более «поздние» в семантической иерархии понятия), а, во-вторых, с тем, что эти «начала» фундируют друг друга и потому не позволяют описывать одно через другое.
Действительно, возможно ли сознание без «Я» и активности? Возможно ли «Я» без сознания? Нередко встречается мнение, которое отождествляет между собой сознание и «Я», но вряд ли такое упрощение можно считать удовлетворительным.
Несмотря на то, что наше «Я» и сознание являются для нас предельно очевидными в актах прямого «схватывания», все попытки дать им непротиворечивые определения обречены на провал, поскольку сознание и «Я» всегда указывают сами на себя. В этом случае самым понятным (и вместе с тем довольно непрезентабельным) объяснением того, чтò есть сознание, может стать негативное указание на возможность его потери: на прекращение фундаментальной способности осознавать. И тогда интуитивное знание или, по крайней мере, полагание того, что значит «потерять сознание» или «быть» без сознания является наиболее простым указанием на то, что может быть потеряно.
Таким образом, непосредственный опыт собственного существования является лучшим «определением» сознания и субъекта.
1. Сознание
На сегодняшний день существует множество определений сознания. Выделим из них несколько основных «лейтмотивов», которые нам пригодятся в дальнейшем, и таким образом попробуем определить сознание интегрально:
● Сознание как совокупность рефлексируемых явлений, т. е. сознание как осознаваемое
● Сознание как понимание и как смыслообразование
● Сознание как то, что отражает действительный мир
● Сознание как самосознание
При этом необходимо сразу осуществить демаркацию между сознанием и его содержаниями (несмотря на то, что некоторые определения указывают на обратное). Сознание не сводимо к своим содержаниям, но есть «среда» и необходимое условие их проявления. На это указывает достижимая в предельном опыте возможность «чистого сознания» – то есть сознания, свободного от любых содержаний и проявляющего себя лишь в феномене смыслопорождения (по Гуссерлю).
Приведем ниже схему слоев сознания, которая разработана в рамках психонетической модели (взято из книги О.Г. Бахтиярова «Технологии свободы» [15]) и которая нам пригодится в дальнейшем (также см. рис. № 1):
● Предметный слой сознания (ПСС): слой сознания, состоящий из различимых объектов-фигур – предметов, свойств, качеств, отношений и т. д.
● Фоновый слой сознания (ФСС): слой сознания, в котором объектом выступает фон, из которого выделяются объекты-фигуры; инструментом достижения ФСС являются различные виды деконцентрации внимания.
● Смысловой слой сознания (СмСС): слой сознания, в котором объектами являются амодальные смыслы, лишенные чувственных проявлений.
● Субстанциальный слой сознания (ССС): слой сознания, лишенный смысловых наполнений, где объектом является бескачественное сознание как таковое
Рисунок № 1
Данная модель является конструктом и вводится исключительно для методических целей. В действительности «слои» не расположены последовательно, подобно слоеному пирогу, и не исключают, а, скорее, включают друг друга.
Поскольку для субъекта все слои представлены сразу (по крайней мере, потенциально), правильней говорить не о «перемещении» между слоями, а об активации того или иного слоя (слоёв). Выражение «активированный слой» будет указывать на степень «плотности» тех содержаний, с которыми имеет дело субъект в настоящий момент. Говоря иначе, слои определяются по актуальным содержаниям сознания (или же для субстанциального слоя – их отсутствием).
В дальнейшем мы будем опираться на идею о том, что сознание по своей природе – субстанциально. Субстанция сознания здесь должна пониматься в единственном смысле – как указание на то, что все содержания сознания, включая восприятие и смысловые наполнения, «изготовлены» из этой субстанции – т. е. из самого сознания.
Тогда субстанция, не имеющая никаких форм и модификаций, будет соответствовать субстанциальному слою сознания – сознанию как таковому.
2. Субъект («Я»)
2.1. Две «стороны» чистого «Я»
Зададимся вопросом: каким образом при изменении во времени нашей психики, памяти и тела, сохраняется самоидентификация личности? Почему нечто в нас, позволяющее точно себя идентифицировать и не путать с другими людьми, оказывается инвариантным во времени? Что стоит за нашим самосознанием (но не самоощущением!) и обеспечивает единство психической жизни, являясь консолидирующим ее фактором?
Пытаясь ответить на эти вопросы, мы обнаруживаем, что нет ничего более нам близкого и вместе с тем более непостижимого, чем наша субъектность, которая ничем не определима и ни к чему не сводима. Будет справедливым сказать, что «Я» стоит за каждым актом рефлексии и отличает себя от любых содержаний сознания. Но при попытке ухватить «Я» вниманием (чтобы исследовать его доступным нам способом) мы обнаруживаем, что всегда упираемся в некий «я-объект», с которым привычно себя отождествляем. «Я» неизбежно ускользает от нас, оставляя в наших руках довольно грубую подделку.
В процессе исследования субъектности перед нами встает ещё один довольно любопытный вопрос: «Я возникает только как акт осознания и самосознания, или же “Я” есть нечто большее, чем эти акты?»
Дать феноменологически точный ответ на данный вопрос весьма затруднительно. Он разделяет на два лагеря мыслителей, философов, психологов и даже Традиции. В этих условиях неопределенности, исходя из прагматических задач, стоящих перед нами, и необходимости построить «рабочую модель сознания» (которая может быть использована для описания процессов, происходящих в психонетических процедурах), мы рассмотрим «Я» с двух сторон: как методологическое допущение и как явление (т. е. подойдем к нему феноменологически).
Похожего подхода придерживается (хотя и не вполне четко его артикулирует) Эдмунд Гуссерль. С одной стороны, он вводит понятие «чистого Я» как трансцендентальную категорию, выходящую за пределы эмпирического опыта. Она позволяет ответить на вопрос «чьи20 именно переживания присутствуют в феноменологическом поле?» и тем самым определяет «Я» как принцип единства потока сознания21.
С другой стороны, «Я» по Гуссерлю обладает феноменологическим аспектом, когда определяется им через cogito22, т. е. через акт сознания:
«Среди всеобщих сущностных своеобразных черт трансцендентально очищенной области переживаний первое место подобает, собственно говоря, сопряженности любого переживания с “чистым” Я. Любое “cogito”, любой акт в указанном смысле характеризуется как акт Я: акт “проистекает из Я”. Я “актуально живо” в акте»
Э. Гуссерль, «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии» [17]
«Я» является источником направленных актов сознания, а потому оно в некотором смысле может пониматься как «центр жизни» Сознания, из которого акты «излучаются» и к которому эти «лучи» возвращаются.
При этом «Я» живет в cogito актуально, т. е. акт осуществляет меня. Иными словами, «Я есть» постольку, поскольку каждый такой акт сознания проявляет (но не создает) Субъекта действия: «Я» действует, чтобы актуально быть. Отсюда становится понятным, почему «Я» не есть сам этот акт, но не является при этом и его следствием.
Далее Гуссерль делает еще одно весьма важное замечание:
«При таких специфических сплетенностях со “своими” переживаниями переживающее Я – тем не менее, вовсе не то, что могло бы быть взято для себя и обращено в особый объект изысканий. Если отвлечься от его “способов сопряжения” или “способов отношения”, то оно совершенно пусто – в нем нет никаких сущностных компонентов, нет никакого содержания, какое можно было бы эксплицировать, в себе и для себя оно не подлежит никакому описанию – чистое Я, и ничто более»
там же [17]
Таким образом, феноменологическая сторона чистого «Я» обнаруживается в событиях сознания, включая и такой его непреложный факт, как факт собственного существования: «Я есмь». (Даже сама возможность сомнения в этом факте предполагает существование сомневающегося субъекта.)
Иначе говоря, «Я» есть всегда, когда есть сознание.
Об этом пишет и Фихте:
«Всякое сознание обусловлено непосредственным сознанием нас самих»
И. Фихте, «Опыт нового изложения наукоучения» [18]
Говоря же о трансцендентальном аспекте «Я», мы будем следовать логике А.В. Смирнова и Ибн Сины. Примем в качестве одного из базовых оснований то, что чистое «Я» не сводимо к сознанию, не является его содержанием (в том числе и смысловым), но представляет собой условие сознания:
«“Я” дано мне до и вне какой-либо активности моего сознания; оно – непременное условие моего сознания. Условие не может стать содержанием»
А.В. Смирнов, «Сознание. Логика. Язык. Культура. Смысл» [9]
Надо понимать, что речь здесь идет о двух сторонах единого «Я». Подобно двуликому Янусу, оно одновременно обращено и к ничто (трансцендентальный аспект), и к бытию (феноменологический аспект). Чтобы быть, чистое «Я» «воплощается» в субстанциальном слое сознания, совпадая с ним:
«“Быть в этом слое” равнозначно “быть этим слоем”»
О.Г. Бахтияров, «Активное сознание» [4]
Можно сказать, что «Я» представляет собой непрестанное и творческое становление от небытия к бытию. Подобно границе, проведенной между ничто и нечто, «Я» не только отделяет одно от другого, но и соединяет их в себе. Стоит сделать лишь шаг в одну сторону от границы – и «Я» перестает актуально быть, в другую – и чистое «Я» теряет свою «чистоту», погружаясь в плотные слои сознания. Единственный способ для «Я» оставаться границей – осуществлять активность, порождая cogito, но не отождествляться с ними.
«Я», взятое в рассмотрение сразу с двух ракурсов, шире категории «сознание», которое рассматривается только феноменологически. По этой причине мы не можем сказать, что «нет “Я” без сознания». (Такое утверждение будет корректным только в отношении «Я», являющегося событием сознания, но не его подлинным условием.) В то же время утверждение «феноменологическое “Я” всегда есть, когда есть сознание» выглядит вполне достоверным.
Итак, «Я» обнаруживается посредством самого первого события сознания23. Из чего, конечно же, не следует, что «Я» порождается сознанием. Напротив – поскольку сознание возможно лишь как событие, можно допустить, что «Я» является «гарантом» сознания.
Обратим внимание на разницу между чистым «Я» и чистым сознанием. Если под чистым сознанием следует понимать сознание, лишенное любых наполнений и свободное от любых качеств, то «чистота» «Я» определяется не отсутствием cogito, а тем, что оно не смешано, не отождествлено с содержаниями, хотя может соприкасаться (сопрягаться) с ними в рефлексивных актах.
В этом случае Субъект24 свидетельствует о cogito посредством Сознания, а потому можно сказать, что Субъект «обладает» Сознанием.
Подводя промежуточные итоги, отметим такие важные свойства «Я», как пустотность, проявленность посредством актов, а также несводимость ни к чему (в том числе и к смыслам). Следствием принципиальной необъективируемости Субъекта является его трансцендентность всем содержаниям.
Чистое «Я», таким образом, совершенно свободно от природы, от чего бы то ни было в мире. Будучи не связанным ничем из «мира сего», «Я» является носителем и субъектом свободы. А потому любой акт, исходящий из такого «Я», свободен по определению.
2.2. Два «Я» консциентального плана
Весь наш жизненный опыт указывает на то, что мы можем с легкостью отождествиться с различными содержаниями сознания, локализовать себя в пространстве и времени, описать себя посредством личной истории. Но при попытке редуцировать «Я» до «сухого остатка» нам не удается обнаружить ничего, на что можно было бы с уверенностью опереться; ничего, кроме упрямой очевидности «Я есмь».
Чтобы в дальнейшем избежать терминологической путаницы, нам будет необходимо ввести различение между тем, что мы привыкли называть собой, имеющим ряд характеристик и качеств (самоощущение, тело, имя, характер и т. п.), и тем, что неподвластно никаким изменениям (по той причине, что там попросту нечему меняться):
2.2.1. Эмпирическое (локальное) «я» возникает в результате отождествления чистого «Я» с определенными содержаниями и структурами сознания, с представлением человека о самом себе, совокупностью всего, что мы привыкли называть собой. Не отличая себя от психических структур, «Я» в этом случае принимает их команды за свои, даже не задаваясь вопросом о том, что является причиной и источником их возникновения. В большинстве случаев его действия не произвольны: они являются заданными реакциями на приходящие стимулы. Можно сказать, что в эмпирическом «я» субъектность «смешана» с содержаниями сознания или даже поглощена ими.
Выражаясь метафорически, такое «я» возникает в результате погружения изначально бескачественного и пустотного «Я» в плотные слои сознания.
Характер существования «воплотившегося» таким образом «я» описывается страдательным залогом: «я претерпеваю», «со мной случилось».
«Я» отождествляется не только со структурами, но и со специфической перцептивной конфигурацией, возникающей в результате хронической фиксации внимания на самом себе. Это – определенный «рисунок» соматических ощущений, зачастую локализованный в районе головы; некий образ себя, формируемый так называемой «вторичной визуальностью»; голос, которым мы думаем (или, точнее, который «думает нас»). Поскольку здесь эмпирическое «я» задано как самовосприятие, зафиксированное рефлексивным, направленным на самого себя вниманием, оно не столько осознается, сколько ощущается, проявляясь как локальное образование, имеющее форму и качества.
Будучи очищенным от психических и психологических компонент, такое «я» может быть названо локальным, точечным «я». Оно также, как и эмпирическое, отождествлено с содержаниями; только теперь это не психические структуры, а некоторая перцептивная данность. Понятие «эмпирическое я» шире, чем «локальное я», и включает его в себя. В дальнейшем мы будем применять тот или иной термин для обозначения «я», в зависимости от требований контекста.
Итак, эмпирическое «я» всегда локализовано и, в отличие от чистого «Я», существует по лишь отношению к тому, что им объективируется (пара «субъект–объект»). Из этой позиции эмпирическое «я» стремится присвоить себе все, что попадает в его «поле зрения»: вещи, смыслы, активность… Это как бы дает ему возможность утвердить свою «реальность», пусть и за счет противопоставления себя объектам: «я делаю это», «я присваиваю то», «я наблюдаю за тем».
В дальнейшем понятие «субъект» будет использоваться нами как синоним эмпирического «я» в тех случаях, когда нам будет необходимо подчеркнуть его активный, познавательный и бытийный статус (которым оно, несмотря на свою эмпиричность и локальность, обладает) в противоположность «я-объекту», где оно выступает лишь как социальный, телесный или психический образ.
2.2.2. Чистое «Я»25 (в дальнейшем – «Я» или Субъект) достижимо посредством предельной редукции, применяемой к эмпирическому «я». Такое «Я» не может быть сведено ни к каким качествам, а потому – апофатично, «бесплотно» и не локально. Оно тождественно себе и незримо присутствует во всех явлениях психической жизни, свидетельствуя о них. Рефлексивные акты сознания всегда чьи-то и именно «Я» является их «бенефициаром». Каждый акт восприятия есть не просто «восприятие, повисшее в воздухе», но чье-то восприятие. «Я» как бы отражается в cogito и потому может быть обнаружено и познано по таким «отблескам».
Если локальное «я» создается и фиксируется вниманием, направленным на себя же, и потому есть результат объективации, то Субъект не может быть схвачен вниманием: он всегда ускользает от самого себя. И если эмпирическое «я», это то, как мы себя воспринимаем или ощущаем, то чистое «Я» – это тот, кто воспринимает.
В отличие от эмпирического «я», которое обусловлено содержаниями и процессами сознания, «Я» – как было замечено выше – само является условием сознания, устанавливающим «диктат бытия».
Вот что по поводу «диктата бытия» пишет А.В. Смирнов со ссылкой на Ибн Сину:
«Ибн Сина настаивает на том, что хадс не может бездействовать: если Я открыто прямому схватыванию, оно не может не схватываться. Иначе говоря, мы не можем волевым усилием отказаться от схватывания Я: его открытость нам не зависит от нас». «И спящий, и пьяный человек воспринимает свое Я в момент сна или опьянения, однако потом не помнит об этом; теряется память, но не восприятие Я, которое в принципе не может прерваться (Ибн Сина)»
