Норманская теория. Откуда пошла Русь? бесплатное чтение
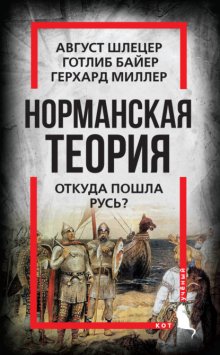
Август Людвиг Шлецер, Герард Фридрих Миллер, Готлиб Байер
Норманская теория. Откуда пошла Русь?
Предисловие
Викинги (норманны, варяги) — общее название скандинавских народов, более всего известных своими морскими походами и набегами на европейские земли. Эти набеги начинаются в VIII веке н. э., достигают пика в IX веке, а в последующие два столетии постепенно прекращаются.
Причинами походов викингов были, с одной стороны, перенаселённость приморских районов Скандинавского полуострова, нехватка пригодных для обработки земель, а с другой, общее потепление в эту эпоху, в частности, освобождение ото льда норвежских фьордов, Северного моря и северной части Атлантического океана, что способствовало прогрессу кораблестроения у скандинавов.
Если на Севере викинги совершали плавания в поисках новых, пригодных для заселения земель (там они достигли Гренландии и Северной Америки), то на юго-западе и юго-востоке Европы целью походов вначале являлся грабёж, затем здесь начинают создаваться опорные пункты для торговли, позже возникают государства викингов.
Этот процесс наиболее активно идёт в IX веке: викинги вторгаются в германские земли, во Францию и Британию, в Испанию и Португалию, в Северную Африку и Италию. В Британии центром их экспансии и одновременно торговли стал город Йорк, где образовалась «область датского права», во Франции они захватили обширные земли на западе страны, где позже было образовано герцогство Нормандское, на юге Италии викинги также основали своё государство.
В X веке правители викингов породнились со многими европейскими правящими домами: так английская династия всё больше становилась скандинавской, и, в конце концов, полностью стала ею после битвы при Гастингсе 14 октября 1066 года, где нормандский герцог Вильгельм II Завоеватель разбил войско английского короля Гарольда Годвинсона и захватил Англию (следует отметить, что и Гарольд был скандинавом по происхождению).
Понятно, что викинги не оставляли своим вниманием и восток Европы: в землях пруссов они держали в своих руках торговые центры Кауп и Трусо, откуда начинался «янтарный путь» в Средиземноморье; в Финляндии следы их длительного присутствия обнаружены на берегах озера Ванаявеси; на будущих русских землях археологические свидетельства о присутствии скандинавов найдены в Старой Ладоге, Тимерёве, Гнёздове, Шестовице и в ранних городах — Новгороде, Пскове, Киеве, Чернигове.
Таким образом, к IX веку викинги на востоке Европы основали свои опорные пункты вдоль всего пути «из варяг в греки» и, так же как в западной Европе, влияние викингов на жизнь местных народов усиливалось. Нет ничего удивительного, что именно викинги-варяги основали государство у восточных славян, как об этом сообщает «Повесть временных лет». Призванные на княжение Рюрик и его братья Синеус и Трувор были типичными представителями скандинавской знати. По одной из версий, Рюрик являлся викингом Рориком Ютландским (или Фрисландским) из рода южнодатских правителей династии Скьёльдунгов.
Имя Рюрик происходит из прагерманского языка, который является прообразом скандинавских языков: оно базируется на германских корнях hrôþaz — «слава» и rîk — «воин-правитель». Имена его братьев — Синеус и Трувор — происходят от древнескандинавских Signjótr и Þórvar. Эти имена хорошо известны в рунических надписях.
Само название государства восточных славян «Русь» возводится к древнескандинавскому rôþr «гребец» или róþskarlar — «гребцы, мореходы». «Рѹсью» («Русью») восточные славяне первоначально называли викингов из шведского Рудена, с которым у славян имелись устойчивые связи, поэтому именно к «роусьи» эти племена обратились с просьбой прислать посредника в междоусобных спорах. После вокняжения династии Рюрика в Ладоге и Новгороде этническое название правителей было перенесено на подвластный им народ по распространенной в Средние века модели (так, например, произошло название восточно-балканских славян «болгаре» — от булгар, тюркских завоевателей; французы — по названию завоевателей-франков). Академик А. А. Зализняк считает, что слово «русь» вначале обозначало только норманнов, а затем с норманнской элиты перешло на славян, живущих вдоль всего пути из «варяг в греки».
Целый ряд имен и слов древнерусского языка имеет доказанное древнескандинавское происхождение: Глеб, Игорь, Олег, Ольга, Рюрик; варяги, вира, стяг, пуд, якорь, ябедник (старое значение — чиновник), кнут, голбец и другие.
* * *
В раннем средневековье норманское происхождение древнерусского государства и правящей династии не вызывало никаких споров. Родство с викингами королевских домов Европы было, как уже отмечалось, обычным явлением и нисколько не умаляло местных правителей. Положение изменилось после долгого монголо-татарского ига, когда Россия, собранная из осколков Древней Руси, пытается вновь войти на равных в число европейских стран и даже подчеркнуть своё особое положение. Не случайно в начале XVI века возникает теория «Москва — Третий Рим», а в середине этого же века первый русский царь Иван Грозный яростно спорил со шведским королём Юханом III, доказывая, что русская династия ведёт своё происхождение не от варягов, а от «Августа-кесаря».
Через полтора века после этого положение резко изменилось: Пётр I, «прорубив окно в Европу», напротив, был заинтересован в доказательстве древних связей России с европейскими династиями. Приглашённые им немецкие учёные (своих в России тогда не было), добросовестно изучив русские летописи, подтвердили норманскую теорию. Однако эти учёные — Байер, за ним Миллер и Шлёцер не помышляли о том, чтобы унизить россиян, да Пётр и не позволил бы этого сделать. Норманская теория удачно вписалась в общую идеологию этого времени — до тех пор, пока на престол в 1741 году не взошла Елизавета Петровна.
Она захватила власть в результате государственного переворота, свергнув последнего представителя другой ветви Романовых — малолетнего императора Ивана VI Антоновича. Как всякому узурпатору, Елизавете было крайне важно доказать, что совершённый ею переворот был благом для страны, а предыдущее правление представляло собой сплошной кошмар. Для доказательства этого использовался миф о немецком засилье в правление Анны Иоанновны (1730–1740), двоюродной бабушки Ивана Антоновича. Её фаворитом был курляндский герцог Бирон, отсюда этот период получил название «бироновщины»; при Елизавете «бироновщина» описывалась чёрными красками: утверждалось, что немцы обладали всей полной власти в России, творя страшные притеснения русским людям.
Между тем, верхушку власти при Анне Иоанновне составляли в основном те же лица, что были при Петре I — и русские, и немцы, — а политика её в целом была продолжением петровских реформ. Бирон, объявленный при Елизавете воплощением зла, действительно неважно отзывался о русских, но исключительно в частных беседах, а в общественной жизни неукоснительно соблюдал русские традиции и постоянно посещал православные церковные службы, пусть и принадлежал к лютеранству. Россия сделалась для него вторым Отчеством: вернувшись из двадцатилетней ссылки, Бирон верно служил российскому государству до конца жизни. Что же касается жестокости правления Анны Иоанновны, оно мало чем отличалось от петровского, даже было сравнительно мягче.
Тем не менее, Елизавета всячески подчёркивала, что в отличие от Анны Иоанновны и Бирона ведёт политику в русских интересах. Борьба за «русскость» была перенесена и в научные споры, её возглавил М.В. Ломоносов. Он выступил с яростной критикой норманской теории, применяя своеобразные аргументы: так, он утверждал, что Рюрик, Синеус и Трувор были славянами и имена их тоже славянские. Никаких серьёзных доказательств этому не существовало, но Ломоносов упорно громил немецких учёных, продолжавших придерживаться «норманизма»: порой дело доходило до настоящих драк, причём, Ломоносов каждый раз отделывался незначительными наказаниями за рукоприкладство, поскольку правительство поддерживало борьбу с «норманистами».
* * *
В XIX веке изучение норманской теории стало более спокойным: к концу девятнадцатого столетия большинство исследователей принимало её, не ставя, однако, под сомнение способность славян самостоятельно создать государство. Главным здесь было наличие экономических и социальных предпосылок к его созданию, а не национальность первых русских князей.
Положение снова изменилось в период «сталинской империи». Исключительность советско-российского государства опять приобрела довлеющее значение в противоборстве с Западом, и норманская теория была объявлена орудием враждебных России сил. Этому способствовало использование «норманизма», доведённого до абсурда — до отрицания способности славян к самоуправлению, — в идеологии нацистской Германии. Конечно, Гитлер, призывая немцев к зачистке «жизненного пространства» на востоке Европы для германской нации, опирался не столько на «норманизм», сколько на расовую теорию о неполноценности славян вообще и русского народа, в частности, но и «норманизм» сыграл определённую роль в захватнических планах нацистов.
В результате, норманская теория в СССР долго была под запретом: она вновь была введена в научный оборот лишь в позднесоветские времена. В современной России битвы между норманистами и антинорманистами возобновились, причём, первых считают чуть ли не русофобами, а вторых — защитниками традиционных российских ценностей.
Примечательно, что несмотря на сложные отношения с Западом и антироссийскую риторику определённых политических кругов на Западе, никто из западных политиков не пользуется норманской теорией для обоснования неполноценности россиян. Это было бы нелепым анахронизмом, — в представлении Запада норманнская теория давно отошла в область чисто научных споров.
Август Шлёцер
Начало Руси по русским летописям
(из книги «Нестор: русские летописи на древнеславянском языке»)
Нестор, первый русский летописатель
Киев на Днепре, в Украине или в Малой Руссии, следственно, еще в южной Европе, принадлежит к древнейшим городам нашей части земного шара, хотя никто не знает не только года, но и столетия, в которое он основан. Около 882 года был он уже главным и столичным городом нового русского государства, а спустя сто лет после сего принял он с остальной Русью христианскую веру.
Вскоре после крещения стали приходить в Русь из Византийского царства монахи и пустынники. Иларион, пресвитер на Берестове, оставив свою церковь, пошел на Днепр на холм, где теперь стоит старый Печерский монастырь, а тогда был большой лес. Здесь вырыл он себе пещеру в две сажени глубины, часто приходил в нее с Берестова и молился Богу втайне. А в 1050 году великий князь Ярослав сделал его первым русским митрополитом.
Вскоре после того вздумалось одному мирянину из города Любеча идти странствовать. Пришед на святую гору, обошел он тамошние монастыри, возлюбил монашеское житье, пострижен одним из игуменов и назван Антонием. Пришел он на холм, где Илларион вырыл себе пещеру, которая ему понравилась, и он в нее вселился. После он выкопал себе новую пещеру, где пребывал в трудах, молитвах и посте. Вскоре узнали о том добрые люди и стали приносить ему все нужное. Распространившаяся о нем слава возбудила некоторых просить его о приеме их в братство…

Август Людвиг Шлёцер (1735–1809) — немецкий историк, в 1761–1767 годах состоявший на русской службе в Санкт-Петербурге.
Шлёцер — один из авторов норманской теории возникновения русской государственности. Особенно резко выступил Шлёцер против искажения истории с патриотической целью. В этом отношении ему пришлось вынести большую борьбу с приверженцами противоположного взгляда.
Число братии все умножалось и построили они монастырь и церковь возле него; затем Феодосий, избранный Антонием, занял место его. Феодосий принимал всякого к нему приходящего — здесь начинается Несторова история.
В том, что бессмертный сей муж есть точно русский, в том никто не сомневается, но настоящее место его рождения неизвестно. Татищев думал, что отыскал оное на Белоозере, но он обманулся ложным или не так прочитанным разнословием, находящемся в одном только Радзивилловом сборнике.
Нестор оставил две книги: «Житие некоторых игуменов и других богобоязливых мужей Печерского монастыря», но несравненно важнее и дошедшее до нас сочинение его есть Временник, который доставил ему по превосходству почетное звание русского летописателя. Временник сей очень важен сам по себе, ибо без сего монашествующего брата что знали бы мы достоверного о всем верхнем севере до XI столетия?
Но каким образом человек сей образовался на Днепре, а особливо, как пришла ему в голову мысли написать временник о своей земле на своем языке? Кого брал он за образец? Из каких источников брал он свои известия и как поступал вообще при своем описании?
С 988 года было дружеское и редко прерываемое сношение между Киевом и Константинополем. Священники, монах, художники (архитекторы, живописцы и т. д.) отправлялись во вновь обращенную землю, а русские путешествовали в Грецию. Не удивительно, что весь временника Нестора сделан на византийский покрой, также подражал он византийским историкам и в хронологическом расположении.
А источники, из которых почерпнул он свои известия? О многом писал он как современник, ибо государству его не исполнилось и двух столетий; многое узнал он, как сам говорит, от одного своего товарища, монаха Яна, умершего в 1106 году 90 лет отроду, следовательно, родившегося в 1016 году, спустя всего год после смерти Владимира Великого.
Но не было ли у него еще каких-нибудь древнейших письменных известий? Верно не Иоакимовские бредни. Если бы существовала когда настоящая Иоакимовская летопись, то возможно ли, чтобы Нестор ее не знал и не привел ее в свидетельство? Особливо, если бы сие древнейшие известия, как в отрывке ложной Иоакимовской летописи, совершенно отличались от Несторовых.
Но об Олеговом и Игоревом мирных договорах с византийскими императорами говорит он пространно, по крайней мере, помещены они во многих списках, что составляет для меня загадку. Столь пространные памятники в прозе не могли никак сохранится славянскими преданием, но неужели тогда уже (в 907 и 945 годах) умели писать необразованные норманны? И византийцы ничего не говорят о сих двух важных договорах; Олега не знают даже по имени. Правда, сие происшествия случились в то время, когда сделался величайший промежуток в византийской истории (813–959).
А каково его изложение? Точно по-византийски начинает он космографией, баснословствует о разделении земли между Ноевыми сыновьями и доходит до Вавилонского столпотворения, которое, однако, скоро оставя, приступает к вступлению в историю своего отечества. Тут доставляет он очень полезные и совершенно новые известия о многих малых народах, обитавших тогда в Руси, прежде чем соединились они под одну державу. О переходах славян в древние времена говорит он много такого, чего нет ни в одном византийском историке, и что, однако, согласуется с прочими известными историями, или, по крайней мере, не противоречит оным.
Удивительно, с какой точностью отличает он славянские и финские племена; но то что он леттов (древних пруссов) мешает с финнами, а не со славянами, утверждает меня в моем старом, некоторыми людьми оспариваемом мнении, что летты составляют особенный, отличный от славян народ.
Также исчисляет смежные и отдаленные европейские народы, как тогда известны они были в Киеве.
После сего краткого вступления приступает он немедленно к своей истории. Повествование его о происхождении русской державы можно в настоящем смысле назвать всеобщим: как по странному, но понятному стечению вещей, три совершенно различных народа соединяются; как Рюрик, призванный только для того, чтобы быть простым предводителем, делается государем и т. д.
Но то что говорит он о путешествии апостола Андрея в Русь, есть благочестивое повествование, которого истину может оценить лишь тот, кто сведущ в церковной истории. Его Кий, Щек, Хорив, Лыбед, Радим, Вятко суть этимологические существа: перевозчик Кий мог быть и дать свое имя Киеву, но никогда не мог быть князем, которого уважали константинопольские императоры (однако последнее, может быть, вставлено позже).
Каким же был древний верхний север с 800 года, когда мало-помалу начал он открываться с многих сторон? Люди в нем уже были, но, верно, не в большом числе, ибо чем им питаться? Люди, разделенные на малые орды, предводительствуемые старейшинами или кациками, которых баснословы, следуя греческому обычаю, называли царями и князьями; люди, очень способные к образованию, которого, однако, сами себе дать не могли, а должны были ждать от внешнего побуждения; не имеющие политического постановления, сношений с иноплеменными, письма, искусства, религии, или только глупую религию.
Вот как изображает нам честный Нестор землю свою до Рюрика, т. е. до 860 года: как пустыню, в которой жили порознь небольшие народы, которых всех исчисляет он подробно и часто, с точностью определяет место их пребывания; которые жили, а не кочевали, жили в городах, не похожих на нынешние города, а на огороженные деревни. Русские летописи очень обстоятельно описывают, как мало-помалу в последующих только столетиях возникли настоящие города в Руси.
Первый шаг к образованию, сделанный новгородцами и соседственной чудью, состоял в том, что те и другие, хотя и против воли, поставили у себя государя; второй же шаг состоял в том, что первые около 1000 года, хотя и тоже против воли, крестились.
Прочие северные народы достигли своего образования по другим степеням. В последней четверти восьмого столетия голод, а потом мщение против франков погнали ютландских норманнов в Немецкое море и на юг; их набеги им удавались и этот пример, вместе с голодом, повлек за ними и прочих норманнов. В IX столетии с удивлением видим, что множество малых народов, вскоре один за другим и по большей частью неволей, соединяются и образуются в шесть правильных больших держав: Данию, Норвегию, Исландию, Швецию, Польшу и Руссию. Как это сделалось, знаем мы только про Норвегию, Исландию и Руссию.
* * *
Нестора можно и должно исправлять с помощью прочих исторических познаний; в коротких словах скажу, что произвело одно простое сличение его переписчиков.
I. Все показывают год, в который призваны варяги, в который они пришли, в который Рюрик сделался государем, и все это ложь, ибо в начале русской истории совсем нет верной хронологии и грубые противоречия ощутительны.
II. Начало Руси — не теперь отыскано, ибо слава этого принадлежит Байеру, — но выведено из всякого сомнения. Никто, кто только что-нибудь читал о норманнах, не может принять варягов ни за кого более, кроме норманнов; сам Болшев убедился бы, что Рюрик был немец, а не финн, а Варяжское море было Балтийское, а не Ладожское озеро.
III. Никто не может более печатать, что Русь, задолго до пришествия Рюрика, называлась уже Русью. До сего времени земля эта не имела никакого общего названия, а получила его только от некоторой особенной части варягов, называемых руссы, ибо это говорит сам Нестор, противоречить которому есть то же, что признавать ложную Иокимовскую летопись за истинную.
Что хотя многие считают весьма вероятным, что эти руссы означают шведов, то если они и обманываются, то не за что считать их государственными преступниками; а равно и тех, которые думают, что прародитель высокого Рюрикова племени упражнялись в (тогдашнем) почетном ремесле прародителей англо-саксонских королей.
IV. О древних городах Славянске и Русе Нестор столь же мало знает, как о сродстве Рюрика с императором Августом. Даже существование самого Гостомысла подвергается опасности от грубых противоречий и т. д.
В описаниях происшествий, бывших при последующих государях, а особливо при Ольге и Владимире Великом, представляются такие же вздорные басни и несообразности, принадлежащие как переписчикам, так и самому Нестору, и которые должна разобрать критика.
Неизвестно, до какого места писал Нестор, ибо временник его смешан без отделения с продолжателями оного. Татищев думал, что Нестор перестал писать в 1093 году, ибо здесь в некоторых списках на конце поставлено увещевание, оканчивающееся аминем.
Предлагаемое мною начертание истории
Первый закон в истории — не говорить ничего ложного. Очистить малообработанную историю от басен, ошибок и вздорных мнений, можно по справедливости назвать трудом, заслуживающим уважения, хотя часто и неблагодарным. Нелегко отстать от положений, которые долгое время вообще всеми принимались; оскорбляешься, если покажут тебе важную, а часто даже смешную ошибку; сердишься на того, кто смеет противоречить всем, кто только разрушает, вместо того чтобы созидать, и кто только из одной ученой дерзости возводит сомнения на доказанные истины.
Но сомнения и легковерие суть две крайности, которые подобно всем крайностям, ни к чему не годятся. Что я их знаю и от обеих остерегаюсь, тому служит одно место, напечатанное мною:
«Человек, находящий повсюду в истории сомнения, не как картезианец, но как раскольник, есть презрительное творение, заслуживающее ненависть или сожаление, смотря по тому, отчего происходит его сомнение: от простой ли охоты говорить что-нибудь новое, или от неспособности понимать основательные начала.
Но легковерный, верующий без основания, и суеверный, верующий против основания, походит на старую бабу, которая верит только тому, чему верят другие, которая не может рассматривать, не хочет исследовать, и только что бранится, если нарушат спокойную ее веру: разве мало наносят вреда истории сии оба рода людей?..».
Первый, кто изгнал из британской истории Приама, из французской Брута, из немецкой Сакса и Франка и т. д., верно от современников своих был почтен за неверующего и даже нажил врагов. Второе поколение само уже начало сомневаться, а третье совершенно примирилось с первым неверующим и даже сделалось ему благодарным.
* * *
Из сделанного мною исследования до самой Рюриковой смерти следует теория и вместе начертание, как можно и должно начатый мною труд продолжить и усовершенствовать более, нежели мог я это сделать в моем положении. Эти страницы относятся единственно к русским читателям, даже не к историкам, если только они ученые. В существе они содержат все то, что я напечатал за 35 лет, только сокращенно и гораздо определеннее. В Германии моя книга принесла пользу, как я вижу из всех учебных книг по европейской истории, но в России осталась совершенно без действия.
Тогда обнимал я всю древнюю русскую историю до Романовых. Взор на ужасную, но совершенно еще грубую громаду воодушевил меня и я написал:
«Какое ужасное понятие представляет русская древняя история! Я почти теряюсь от величия оного! История такой земли, которая составляет 9-ю часть обитаемого мира и в два раза больше Европы; история такой земли, которая в два раза обширнее земли Древнего Рима, хотя и называющегося обладателем Вселенной; история такого народа, который 900 уже лет играет важную роль на театре народов… история державы, соединяющей под своим скипетром славян, немцев, финнов, самоедов, калмыков, тунгузов и курильцев, народов совершенно различных языков и племени, и соседствующего со шведами, поляками, персами, бухарцами, китайцами, японцами и североамериканскими дикарями, — история России, сего настоящего рассадника народов, из южной части которого вышло столько народов, разрушивших и основавших целые царства.
Раскройте летописи всех времен и земель и покажите мне историю, которая превосходила бы или только равнялась с русской! Это история не какой-нибудь земли, а целой части света, не одного народа, а множества народов, которые различаясь между собой языком, религией, нравами и происхождением, соединены под одну державу завоеваниями, судьбой и счастьем.
Русская история есть вообще: I. бесконечно пространная по множеству или совсем не описанных, или недостаточно описанных народов, составляющих части сего великого целого, члены сего исполинского политического тела; II. чрезвычайно важна по непосредственному своему влиянию на всю прочую, как европейскую, так и азиатскую древнюю историю; III. очень верна по богатству своему в достоверных временниках и прочих исторических источниках».
В этом воспламенении делал я обширные начертания, соразмерные величию государства и богатству истории оного; начертания, долженствовавшие объять все, и для выполнения которых нужно было всемогущество Екатерины II; и действительно в самое то время, в царствование сей великой женщины заблистал и новый свет в русской словесности. Но все мои патриотические и космополитические желания подавлялись густым туманом, окружавшим тогда Академию…
В царствование Екатерины и самой ею удивительно много сделано в отношении познания отдаленных народов ее царства, но для отечественной истории — ничего. Даже небольшое число летописей издавалось не всегда надлежащим образом; простое же печатание наполненных ошибками временников, хотя и достойно благодарности, но нельзя назвать обрабатыванием истории.
* * *
Неисторик может меня спросить: предлагаемое мною начертание истории есть ли точно лучшее или даже единственно хорошее? Не говоря, что польза, даже необходимость оного очень ясно уже показаны в моем небольшом опыте, у меня готово еще другое доказательство, могущее скорее убедить многих. Это начертание принадлежит не мне, не я изобрел его, но научился от других и приноровил только к русской истории. Все упражняющиеся в истории народы, которые давно уже имеют достойную себя отечественную историю, так и делали и должны были так и делать.
А если и здесь не поверить моему слову, то должен защититься мнением людей известных, из которых привожу одно:
«Как должно обрабатывать и критически употреблять русские летописи, первый Шлецер показал настоящим образом, и его приложение испытанных и давно уже в южной европейской истории употребляемых критических правил к русской истории может, наконец, доставить сей истории достойное основание».
Второе свидетельство. Один геттингский ученый объявил о моей книге вскоре по напечатании оной, в тамошних ученых известиях (я был тогда русским профессором).
Рецензент не только извинил тогдашнее мое мечтание, но сам принял обширное мое начертание и даже распространил его. Он смотрел на это дело с новых сторон, мною не замеченных, и распространил великие идеи, которых я не смел иметь.
Сия прекрасная и, не для одного меня, но для всех полезная рецензия должна была бы подействовать более моей книги; но и та, и другая рецензия теперь верно забыты, по крайней мере, в России.
Фридрих Штрубе де Пирмонт
Древние россияне
(из книги «Рассуждения о древних россиянах»)
Первыми доказательствами о бытии древних россиян мы одолжены монахам Бертинского монастыря, что во Фландрии, отличившимся в подробном исследовании. Вот точные сих летописцев слова:
«В 839 году послал император Феофил (к императору Людовику Благочестивому) с ними (с посланниками) несколько из тех, которые утверждали, что они, то есть народ их, называется Рос, и что они от государя своего, по имени Хакана посланы к нему из дружества, прося при том, чтобы император дал и позволение и помощь пройти по всей его империи, поскольку путь, по которому они к нему в Константинополь пришли, лежал между варварскими и бесчеловечнейшими народами, и потому не велел по нему назад возвращаться.
Император, изыскивая причину их пришествия, познал, что они свейского или шведского поколения, и почитая их более шпионами восточной и западной империи, нежели просителями дружества, до тех пор задержать их у себя заблагорассудил, пока точно узнает, справедливая, или нет сказанная ими причина их пришествия».
Из сего повествования явствует: 1) что прежде 862 года, когда по свидетельствам летописцев руссы соединились с новгородскими и киевскими славянами, в северной стране жил народ, Рос называемый; 2) что посланные от начальника сего народа приходили в Константинополь из северной страны; что земли, населенные варварами, которым на мучение император Феофил не хотел отдать сих посланных при возвращении их, должны были лежать близ севера нашего полукружия, потому что путь, избранный ими для возвращения в свое отечество через всю немецкую землю, доказывает, что он лежал в какой-нибудь стороне, лежащей к северу от Германии и, следовательно, по ту сторону Балтийского моря; 3) что народ, к которому принадлежали руссы, должен быть один из северных народов, потому что их почитали шведами, взяв, может быть, наименование сие за общее имя, соответствующее имени норманнов, или что гораздо достовернее, основываясь только на том, что по приметам они говорили языком, весьма сходным с шведским, и что можно было от них самих узнать о пришествии их из северной страны и о желании туда опять возвратиться: а сие и заставляло думать, будто бы они хотели чужим именем назваться, называя свой народ Россом, хотя шведы никогда сим именем не назывались.

Возможный портрет Фридриха Генриха Штрубе де Пирмонта (1704–1790) — российского учёного немецкого происхождения, члена Санкт-Петербургской Академии Наук.
Фридрих де Пирмонт — один из авторов норманской теории. Он занимался вопросом о происхождении руссов, результатом чего был его труд: «Dissertation sur les anciens Russes» (S.-Petersb., 1785), который был переведён Львом Павловским и издан под заглавием «Рассуждение о древних россиянах» (СПб., 1791 г.). По оценкам историков, этот труд является наиболее ценным из всего научного наследия де Пирмонта; этим трудом впоследствии пользовались многие русские историки
Историки греческие, писавшие о древних россиянах спустя некоторое время после соединения их со славянами, которые и имя их приняли, имевши случай весьма коротко их знать по причине войны, которой сей народ шел против константинопольских императоров; по причине пленников, отведенных в сей город, и по причине принятого путешествия великой княгини Ольги с некоторыми ее сродственниками в царствование премудрого государя Константина Порфирородного (Багрянородного), которые и сам оставил нам некоторые слова их языка, — заслуживают неоспоримо великое внимание.
К сему объяснению надо еще присовокупить, что те же самые писатели говорили о народе, о котором мы говорим, явно отличая его от славян, с которыми он соединился, в именах, языке и нравах.
А есть ли ко всем сим доказательствам мы присоединим еще свидетельства самого древнейшего нашего летописца, которого на верность не можем не положиться, когда он ее почерпнул из чистых источников, говоря, что 1) руссы [русь] составляли один из тех народов, которых славяне называли варягами; 2) что около половины девятого столетия славяне новгородские вместе с некоторыми своими соседями отправили послов за море для избрания себе начальников между сими российскими варягами, и призвания их поселиться на их землях; 3) что после сего избрания оные начальники пришли туда с своим семейством и со всеми руссами; 4) что сие соединение было причиною, по которой назвали славян руссами, а прежде сим именем они не назывались, — то и явствует из прежде означенного мною происшествия, что россы-варяги особенно существовали.
Но поскольку древние писатели нам не дали довольного понятия о смысле, в каком они понимали слово варяг, а сие опущение принудило многих наших ученых делать на сие мнимые догадки и прибавления, то я и рассудил за нужное при сем случае нечто прибавить и приметить: 1) что греческие и скандинавские писатели нам дали знать, будто в древние времена из северных стран в Греческую империю приходило много военных людей, которые там вступали в работу и были употребляемы смотря по их роду и способностям; 2) что в отечестве их приписывали сим военным людям титло верингиара или ландварнара, что соответствует имени сторожа или хранителя государства; 3) что наименование варянги или варяги, которое греки и славяне им дали, поскольку оно ни греческое, ни славянское, то и могло произойти только от наречия сих военных людей, или от наречия северных народов, и что совершенное и чувствительное сходство сих титлов с титлом верингиаров само собою доказывает, что помянутые норманны сохранили его везде, где бы в службе ни находились; 4) таким образом уже известно, что греки и славяне прилагательное варяги приписывали только северным народам, куда военные люди, о которых здесь говорим, подлинно пришли; 5) пускай, наконец, иностранцы, писавшие о сем, называют их датчанами и англичанами, однако нет сомнения, что между ними заключались шведы и россияне, и что по сей только причине и наш летописец положил их также в числе варяжских народов.
Одно наименование варяг, которое наши летописцы дают древним руссам, и которое приличествует только северным народам, от которых произошли помянутые военные люди, известные под сим названием, довольно было бы, чтобы утвердить нас в истинном начале сего народа.
Теперь если сообразить слова Риси или Рисс (также Риса или Рисаландия), которые приводят скандинавские писатели, и положение сей страны в соседстве новгородского владения, которое причиною было соединения риссов со славянами; выгоду, каковую сии последние получили от соединения с народом военным и утесняемым теми же неприятелями, которые в девятом столетии принуждали сих славян платить себе дань, — дабы тем удачнее могли противиться сим врагам, коих хотя и прогнали за море, однако опасались их возвращения и наглости; удаление риссов в северные страны, где они были еще в 839 году, чего нет основательнее той причины, что они оставили древние свои жилища, и составили другой народ, что историки подтвердили молчанием о причинах сего происшествия и неправдоподобием других каких-либо сего причин; ежели, говорю, сообразить все сии наблюдения с тем, что самые древние наши летописцы говорят ясно о особенном существовании руссов, о пришествии их со своими начальниками с той стороны моря, о поселения их в новгородских и киевских пределах, и о основании нового российского владения в киевских пределах, все сие удобно может нас убедить в том, что сии варяги были те же, что и рисы, вышедшие из приморских Рисаландии пределов, и что мы должны первое и точное их жилище положить сей земле.
Молчание же самых древних наших летописцев обо всем том, что могло пролить некоторый свет относительно истории древних россиян, доказывает, что сии писатели или хотели ограничить себя, описывая только происшествия, случившиеся после соединения сего народа со славянам, сохранившими его наименование, или, будучи сами мало знающими, не осмелились дополнить недостаток вымыслами или романическими повествованиями, которые бы не могли иметь успеха в такое время.
Готлиб Байер
Варяги и Русь
Рюрик
От начала руссы владетелей варягов имели, — выгнавши же оных, Гостомысл, от славян происходящий, правил владением (1); и для междоусобных мятежей ослабления и от силы варяг утесненения, по его совету рутены дом владык от варягов опять возвратили, то есть Рюрика и братьев. Посему часто о варягах в русских летописях упоминаемо, но только как о друзьях и приятелях русского имени, и которые на жалованье в войске владетелей русских служили или воеводскую должность отправляли.
Какое же было имя варягам, где они жили, то никто так совершенно не изъяснил, чтоб я на его мнение всячески пристать мог. Находятся русские писатели, которых я при себе имею: те, сказывая, что Рюрик от варягов пришел, на том же месте прибавляют, что из Пруссии (2) прибыл. Но сии все или во время царя Иоанна Васильевича или после писали. Чего ради безымянный летописец в Синопсисе (в сокращенной книжке), чтобы нечто к чести оного мнения прибавить, пишет, что из Пруссии некоторый курфюрст и великий князь именем Рюрик призван. Писал же после рождества Христова в 1612 году, когда Иоанн Сигизмунд (Жигмонт), курфюрст, княжество Прусское своему дому присвоил, и верил (тот писатель), что то же состояние за несколько сот лет пред тем было.
Что же достоверно царь Иоанн Васильевич о том деле, из Пруссии бывшем, якобы ведал, то я о сем Павла Одерборния и Петра Петрея авторов имею. Но ныне какие оного царя с Альбертом герцогом дела известны, из которых все это дело и оного мнения как бы крепость доказывается, и о сем я справедливо умолчать могу, ибо оному мнению иные почти бесконечные обстоятельства противны.

Готлиб Зигфрид Байер (1694–1738) — немецкий историк, один из первых академиков Санкт-Петербургской Академии Наук, зачинатель истории как науки в России.
Байер является основателем скандинавской школы, согласно исследованиям которой народ русь происходит из Скандинавии (скандинавы назывались в Западной Европе норманнами). Народ русь и варяги считаются норманнами и рассматриваются в качестве основателей и активных участников формирования первых государств восточных славян: государства Рюрика, а затем Киевской Руси
Хотя Матфей Преторий в Мире готском, в кн. II, гл. 26, оное доброхотно принял, растолковавши слово от прусского языка, будто бы варяги были вареями (то есть согнанными). Мог бы он туда ж причесть Варген городок, на поле Самбийском построенный, исстари знатный, и деревню, недалеко от реки Мемели построенную же.
Однако, хотя я отечеству сему весьма доброжелателен, но мне оный слух, ни подобия правды не имеющий, не нравится. Ежели сверх того есть нечто такое, которое каждому в Претории приятно бы быть могло, то оное самое по объявлении и утверждении мнения моего не будет приятно. Что же Преторий пруссов древних с поколениями славянских народов смешал, и то он это весьма коварно учинил, чтобы полякам прислужиться, и я о том показать могу. Прусский народ прежде Рюрика за двести почти лет в оной стороне тот же был, который потом рыцари немецкие покорили, то есть с литвинами, куронами и леттами единого языка, а от славянских народов различного языка и рода. Это я так могу доказать, что ничьего несогласия не устрашусь, потому что в сем мнении есть весьма крепкое обоснование.
Когда Преторий указывает, что руссы от народа своей крови владетеля призвали, оное меня нисколько не смущает. Но некоторые русские более передают, Петрей в Летописи русской, часть II, стр. 139 и далее, что оный Пруссии князь род свой вел от родного брата Августа цесаря, каковой брат в Пруссию перебрался. Басня есть достойная ума тогдашних времен, когда древние достопамятные вещи к своим догадкам употребляли и догадки за подлинные известия выдавали.
Винкентий Кадлубек, епископ краковский, первый об оном сродстве Августова дому с фамилиею королевскою польскою Кошишка написал, которую прежде Пиаста полагает и пишет, что Лешек Третий Гая Юлия Цесаря на трех боях победил, и что Публия Красса у парфян (ибо и над парфянами, и над гетами, и неведомо над какими людьми, за парфянами живущими, королем был Лешек) со всеми войсками побил, и что Цесарь оному Лешку сестру свою Юлию в жены отдал, и что вместо приданого была Бавария дана; взамен же того Юлию от Лешка дана Самбийская в Пруссии провинция.
Ежели же попытаться дознаться, от чего сия Винкентиева догадка произошла, то он сам тебе как бы перстом показывает. Верил Винкентий, что Люблин прежде назывался Юлин (3); смешал же Юлин, славянский город, при Балтийском море построенный, с Люблином из-за сходства произношения, а также верил, что от Юлия тот проименован был. Отсюда уже и прочее туда же привлекать надлежало. Это в скуку привести может с болезнями всех внутренностей, пока оная мешанина иным способом извержена не будет. Петр Тевтобургский в Истории прусской, стр. 41, человек не без рассуждения, к прусским делам римские присовокупил, пишет, что Гай Цесарь в Пруссии войну имел. Приведен к оному мнению из-за того, что о походах Друза и Германика цесарей в Глесарские острова где-то прочитал; ибо и Еразма Стелля Глесарские острова обманули.
Направить оные чудовищные ума плоды на некоторый пустой остров надлежит, ибо правдивым историям кончину предзнаменуют. Однако ж удивительно, сколь плодовиты бывают такие басни, ибо когда это у поляков о сродстве Августова дому и о римских в Пруссию походах обнаружилось, то уже отворен был путь: заодно с Юлиею, будто бы сестрою Августа цесаря, и некоторого родного брата из Рима выводит, а потому и Рюрик после этого внук из Пруссии.
Варяжское море
Сигизмунд Герберштейн когда увидел, что руссы варягов за морем Балтийским полагают и что часть оного моря, которое между Ингриею и Финляндиею располагается, Варяжским морем называют, то от прежнего мнения, которое он сам, может быть, первый в Россию занес, (4) потом в другое уклонился. Недалеко от Голштиндии сыскал он Вагрию и вагров, по свидетельству Адама Бременского, славянский народ. Имел он сходство имени, дело весьма обычное, если бы оное крепкими доводами утверждено было. Однако ж Бернард Латом, Фридерик Хемниций и последователи их это в основу всего как подлинное положили. И так как они сыскали, что Рюрик жил около 840 года после рождества Христова, то потому и принцев, процветавших у вагров и абартритов, сыскивали. И поскольку у Витислава короля два сына были, один Тразик, которого дети ведомы были, второй Годелайб, которого дети неизвестны, то оному Рюрика, Трувора и Синава причислили.
Что же кроме этого имени в сей догадке Герберштейну понравилось, что вагры славянского народа с россиянами родственники были. Но о сем самом спор быть может, ибо с оными славянскими народами смешаны были другие, которые сродство имели с пруссами и литвинами, как например так точно были верулы, может же быть, и венды, и что-либо литовского наречия, как то видно, в их языке находилось, что от древнего поколения осталось. Славянское же наречие примешалось от обывателей, которыми они окружены, и от родственников своих они вовсе отлучены были.
Ежели кто захочет вагров к тем самим причесть, то я достаточных свидетельств у Адама Бременского не вижу, чтоб нас он удержал от того, на что мы пристали, хотя нахожу у Гельмольда, стр. 6, в издании Бангерта, что вагры на море Балтийском разбойничали, потому, если кто похочет, на кораблях их вывезти может в Руссию или силою на оных напасть или устрашить. Но свидетеля имею Саксона Грамматика, стр. 186, что все славяне на оном береге поздно начали разбойничать, и весьма редко занимались этим даже во время Свенона короля, около лета 985-го, из-за того и это не довольно явствует, какое сообщество оные вагры с руссами имели (5).
Много мне другого в ум пришло против прежних мнений, что я в надежде обосновать мое мнение, кое я ныне объявить имею, нарочно оставил. Сказывают же, что варяги у русских писателей были из Скандинавии и Дании дворянской фамилии соратники на войнах и на службе у русских солдаты, царские кавалергарды и караульные на границах, а также к гражданским делам и к управлениям допущены от оных, потому все до одного шведы, готландцы, норвежцы и датчане назывались варягами. И хотя первые русские летописи от Рюрика начинают, однако ж слегка припоминают, что он был от поколения прежних русских царей, которые и сами варяги были (6), выгнаны же Гостомыслом, но оные того царя потомки.
Из-за сего уже древние шведские и норвежские саги, то есть колдуньи, не столь всячески надлежит отбросить, чтоб память их никакого вероятия не имела, когда гордорикских и холмогородских, то есть русских, царей прежде Рюрика называют, хотя они много с ветра берут, о чем на ином месте и в иное время разглагольствовать приличнее будет. Ныне же из летописей французских бертинианских, у Духесния, том 3, стр. 195, особенно знатное место присовокуплю. Так безымянный автор пишет в 839 году: «Феофил, император константинопольский, отправил с оными (с послами к Людовику Пиусу императору) нескольких, которые сказывали, что они и народ их рос называются. Их же царь, Каган (7) именем, к нему (как говорил) для дружелюбия отправил, прося в помянутой грамоте, чтоб по императорской милости позволение возвратиться в свое отечество и вспомоществование во всей его империи иметь могли, поскольку они путь, которым к нему в Константинополь прибыли, между грубыми, дикими и весьма бесчеловечными народами имели, и не хотел (император константинопольский), чтоб они теми ж дорогами возвратились, чтобы оным каково бедство не приключилось.
Людовик же император, причину прибытия их прилежно рассматривая, выяснил доподлинно, что они родом шведы. Думая, что они скорее шпионы государства его (Константинопольского) и нашего, нежели просители дружелюбия, присудил их до тех пор у себя удержать, пока точно не сыщется, верно ли они туда прибыли или нет, и то дело Феофилу чрез помянутых посланников своих и чрез грамоту объявить не замешкал, и что он их, ради его дружества, доброхотно принял. И ежели они окажутся правдивы, то и свободность безопасная в отечество возвратиться им дана будет и с вспомоществованием отпущены будут. Ежели ж неправдивы окажутся, то вместе с нашими посланными к оному отправлены будут, чтобы он сам определил, что с таковыми делать надлежит».
Из сего видно, что народ русский был прежде Рюрика, задолго до того, как имя его русские летописи объявляют, и еще я на ином месте греческих авторов приведу. Но здесь видно уже царя со стольким величеством, что каганом, или императором и самодержцем, тогда уже назывался. И видно, что оные посланники, русские по происхождению, шведы были (9).
Имена варяжские и славянские
Потому ж еще от Рюрика все имена варягов, в русских летописях оставшиеся, не иного языка, как шведского, норвежского и датского по сути; и это не темно и не слегка наводится.
Чтобы кто не подумал, что я неправду сказываю, посмотрим на имена первых царей, из варягов бывших. Имеем мы из всех первого Рюрика. Это имя какого есть народа, как не скандинавского или датского? О Рюрике, датском короле пятом и десятом, Саксон Сиаланденский объявляет, стр. 47, оный у Эрика короля или королевского монаха в Истории датской Рорик называется. В расписании же рунском королей датских, от Олая Вормия изданном, Рорек.
У норвежцев знатный есть Грорекур, или Рорекур, Гаральда Пулхрикома, то есть Пригожеволосого, сын; Снорри Стурлсон в Истории инглинцев, в томе I, стр. 96, 113. В то ж время король гейдемарский в Упландии, там же стр. 410, 469, Грорекур и Рорек был, и Рорек, которого Олай, король норвежский, победил, там же в титуле I, стр. 487.
Олай Верелий при конце истории Герварда и Бозы между прочими древнего народа именами от гробовых камней издал: Рорикр и Рюрик.
В Германии также Рюрик, архиепископ ротомагийский, в жалованной грамоте монастыря святого Ремигия, от Сенонского собора подписанной, Дахерия Спицилегии или классов собрание, в томе I, стр. 595, во втором издании. Знаменательно, что это то же имя, которое у германцев (немцев) было Ругерик и Рогерик.
Брату Рюрикову Трувор, Трубар, Тровур имя было, как русские истории объявляют. У Саксона Грамматика, стр. 144, между герцогами Рингона, короля шведского, против Гаральда Гилдетанского и Ивар Труваров проименован. Стефан Стефаний, стр. 171, из древней датской книги — Ивер Труере.
Другого брата имени Синея еще я между северными народами не нашел. Похожие же имена почти бесчисленные и не вполне известно, что не от россиян ли это испорчено было. У Саксона Грамматика, стр. 157, и у Эрика короля, стр. 265, издания Фаброва, находится король Снио, на оное имя похоже.
Остались имена скандинавские также и в потомстве и в доме Рюриковом. Примером есть сын Игорь, как имя его россияне выговаривают, ибо у Константина Багрянородного написано Игорь, Ингорь — у Лиутпранда Тичинского, у Сегиберта Гемблацского и у Еггегарда Урагского — Ингер; Лиутпранд слышал, что так в Константинополе говорили россияне (10) и греки, ежели о северных народах говорили.
На камне, изданном от Генрика Куриона в гробовых камнях из карт Лаврентия Бурея 251, означено: Сигвирд и Ингварь и Ярлабангий приказали вырезать гробовой камень отцу своему Ингвару и брату своему Ронгвалту.
У Эрика короля и у Германна Корнера, стр. 482 издания Еккардова. Ингвара Олай Вормий в Лексиконе рунском толкует крепким мужем. Ингварь, король датский, тот же у Саксона Грамматика, стр. 176. Ивар у Снорри Стурлсона в титуле I, стр. 43.
Ингварь, король фиендрунский, у того ж, стр. 98. Также Ивар, как и у Верелия из гробовых камней. В Герворар саге написано, стр. 179, Ифуар Видбрарни и Ифар. Также и у немцев Иуст Георгий Шоттелий, весьма прилежный таковых вещей выискиватель, нашел Ингвер и изъяснил, что оное имя защищение жительства означает. Пришла мне на ум ныне Константина Багрянородного бабка, которую Леон Грамматик, стр. 464, 471, Ευδοκίαν ν ’Ιγγιρίναν, Ευδοκίαν ου ’Ίγγερος назвал [Евдокия Ингоревна].
Георгий монах в Новых императорах, стр. 544, ’Ίγγιρος [Ингирос], Симеон Логофет, стр. 455, ’Ίγγηρος [Ингерос], Михаил Гликас, стр. 297, и Зонара, стр. 165, ’Ίγκηρος [Игкерос], Леонтий Византийский или кто-либо житие Василия Македонского написавший, более в похвалу сказывая о браке Васильевом, говорит, стр. 147, что дана ему в супружество дочь Ингера, которого тогда больше всех других из-за благородства и мудрости почитали. Кедрин, стр. 565, сему автору точно последовавший, добавляет, что от поколения Мартинакского.
Насколько именно Ингер был благородным, то пусть смотрит Леонтий и о Мартинакском роде Кедрин, однако ж имя чужестранное, и чего бы там восхвалителям ни показалось, но явно, что род его в Греции благородным не был, и из-за происхождения Михаил император, хотя за красоту и ум весьма Евдокию любил, однако ж с оною законным браком совокупиться не отважился.
Я лучше приму, что Ингер был скандинавского рода, нежели другого, ибо имя скандинавское есть, и скандинавского дворянства я у него не отнимаю, и в то время почти каждые знатные дворяне обыкновение имели многократно приезжать в Константинополь, но чтоб он греческое дворянство имел, того я не принимаю. И хотя в Константинополе Ингер, будучи своей самой знатнейшей фамилии, женился на матери Евдокииной, однако ж, как говорит Лиутпранд, кн. 5, гл. 6, греки для этого в родословии дворянском не искали, кто была мать и кто был отец Евдокии.
Игоря сына Святослава имя точно славянское есть, ежели так выговорить, как в русских книгах написано. Но Константин Багрянородный, Кедрин, Зонара, Иоанн Курополат его Сфендославом, Свендсфлаум и Свендославум написали, почему кажется оное, по-видимому, было не просто славянское (11), но с началом нормандским и окончанием славянским. Свен во многих именах норманнов составной частью входит. По сему образу имеем в Дании Свеноттона короля, у германдцев Свендеболда и Свендеборда, лотарингского короля, Германии Корнер, стр. 509, 504, и Свенебилда, игумена герворденского, там же, стр. 449. Греки во время Константина Багрянородного и потом называли славян славонами, стлавами. Таким образом, имя явно было Свен или Свендо с окончанием, приличным к сложению речения.
Я не спорю, что Святослав и Свендослав по-славянски означает муж святой славы, но поскольку святое имя неверному народу (как оно тогда было) неведомо (12), весьма вероятно, что от нормандского языка испорчено, ибо и имя Владимир, как теперь руссы выговаривают, хотя по-славянски вполне прилично владетель мира толкуется, однако ж подобным сомнительством безвестного значения запутано. Славяне в старину говорили Владимир, почему и у Кедрина — Владимир. У Дитмара Мерсебурского, который слышал, что оное имя поляки во время самого Владимира выговаривали, и у Еггегарда Урагского — Владемир, Владамир, Валдемар. У Снорри Стурлсона в титуле I, стр. 196, — Валдемар. Так же точно и у автора Вилки саги, то есть Вилкинской колдуньи (книги так названной), изданной от Перингскиолда, который, смешивая Валдемора, русского царя, с веком Феодорика Веронского, сверх того новые имена прусские и иных областей туда ж приводит и так сказку свою излагает, что нам оного даже и упоминать надобно.
Как Владимир славянское имя есть, так Валдемар нормандское и немецкое. Шоттелий в именах немецких толкует, что оное значит лесного надзирателя, а также от слова вал, кое значение названия нам не приятно, ибо в оные времена вал называли поле, на котором сражение неприятельское бывало, посему и поныне валстадт есть поле или место баталии (стих О потерянии святой земли, стр. 1528, издания Еккарта).
Имя же Всеволода из той же фамилии, которое подлинно славянское есть, Снорри Стурлсон в титуле I, стр. 183, так оборотил, что по-норманнски значит Визивалдур. К родству той же фамилии принадлежал Олег, которого имя на камнях скандинавских находится как Алак (я думаю, Олав в Олег превращено).
Оскольд и Дир, князи киевские, варяги были, как русские летописи объявляют. Олай Верелий из гробовых камней объявляет Оскел, у Снорри Аскел, в титуле II, стр. 319, там же стр. 405, Нашкелл.
Об имени Дировом я сомнения испытываю, может быть, просто обозначающее (13) как кораблей, так и людей. В Эдде, эстляндская мифология, 23, — Тир, в Верелиевых гробовых женских именах — Дирва. Однако ж я более верю, что русские в последовавших веках в другом имени погрешили, ибо думаю, может, Оскольд диар, в Киеве бывши, назывался. Снорри об Асгарде пишет в томе I, стр. 2: «В городе был князь, именем Один. Там в обычай вошло, чтобы двенадцать правителей, от прочих знатнейшие, диар и дроттуар, то есть господа называемые, старались о священнослужении и народу бы суд и справедливость чинили».
Посему от дел, с Игорем и Олегом бывших, я заключаю, что и Оскольд из таковых королей прежде Рюрика князем в Киеве был. Есть же еще и Диар в том же значении названия имя турецкое, и кажется, что оное имя достоинства принято от хазаров, народа турецкого (14), который в то время по обеим сторонам Дона реки и в Крымском перекопе очень силен был.
Далее между герцогами варяжскими, Ингора и Свендостлава оставив, упомяну других царей. Свенделд и Свинделд так явно скандинавское имя есть, что мне стыдно о том множество примеров приводить. Сын Свенделдов у одних Лиутр, у других Блуд (15), из двух какое захочешь, то и прими. Олав Верелий из камней пишет Лиутр, в котором слове последнюю литеру по обыкновению северных народов можно положить, можно же и оставить. Был при Свендославе и еще один герцог, неведомый в русских книгах, но Кедрина из-за добродетели весьма хвалимый, стр. 676.
Сфагелл — имя скандинавское, как я подлинно ведаю, но где именно я оное приметил, то позабыл. Имя Рогволода, псковского князя, так в книге Степенной написано: Рогволод от варягов владеть во Псков пришел. Летописец же русский: Сей был князь в Полоцке из-за моря Полтеске и Муромом и в Торуне владел (16).
Об оных сторонах и местах на ином месте я объявлю. Ныне же об имени оном варягов надпись от Иоанна Перингскиолда из камня еденского в житии Феодорика короля объявлю: Рагвалтр приказал вырезать гробовой камень в память Фаствиды, матери своей, дочери Онемовой, которая умерла в Аиде, да будет бог душе ее помощник. Гробовой камень велел вырезать Рогнвалд, который в Греции был фельдмаршалом и предводителем.
К оным камням, на которых упоминается о Греции, осторожно нам относится надлежит, чтоб сомнительным словом не обмануться. Находится и у Снорри в титуле I, стр. 516 и следующие: Рангвалд ярл, которого Ярослав царь, Владимиров сын, в великой чести имел, тот городом Алдейгобургом, ярлерики Ингегирды королевы приданым, владел (18), от чего и поныне имя Корелии осталось, как мне кажется.
От Снорри имя на ином месте Рагвивалдур и Регивалд произносится, в томе I, стр. 82 и стр. 542, в томе II, стр. 339. Иоанн Фридерик Перингскиолд на шведском языке изобразил Рагнвалд и Рагвалд, известен также Рогнволод, Эйстейнов сын, Ронгвалд — Эйнаров, Рогивалд, Брусов сын, и иные между оркадскими графами у Тормода Торфея.
Оного Рогволда (псковского) полоцкого дочь Рогнеда в Летописце русском называется, от автора же Степенной книги именуется Розгнеда. Имеем мы подобное на камне силтенском. У Олая Вормия, стр. 454, Ротвидга, еще ж Рогигилда, Эрика ютландского короля дочь, Эрика Блодокса, короля норвежского, мать довольно известна. Рогнилта в Древностях Тригвелдских и Билденских. Олай Вормий в Древностях датских, стр. 12, 475 и сл.
У Игоря царя в войске были варяги, когда в Константинополь войною ходил. Посланники Игоревы, в город посланные, упоминаются, между которыми есть Карл, которое имя не что иное есть, как Король, частое имя, так как старинное. На камне Гобройском изображено (Олай Вормий, кн. 5, гл. 3): Турир камень сей положил (usti karl gudoa) Королю доброму.
Есть потом Ингелд, Ингиалд навмудалский король, Ингиалд Старкадов питомец, датский король Ингиалд Трана, все у Снорри. К тому ж Фарлофа у Верелия, Фарулф в Древности фреландской, Герлуф в немецких. Я верю, что Фардулф и Фердулф. Впрочем, Рулав весьма часто употребляемое имя, как Гролф Лангомспада, ярл норвежский, и Гролф Краке король, Ролф Ролло в Оркадах Торфея, у Вормия, стр. 508, у Саксона Грамматика Ролво есть между посланниками Лиду, как Лид, епископ норвежский, Снорри в титуле II-м, стр. 347.
Есть Карн, как Карий, оный эстландец у оркадцев, Торфей в Истории оркадской, стр. 39. Есть Риар, как Гроар, или Руар, король датский, у Тормода Торфея и у Гвалтера в Истории Гролфа Кракия, изданной от Торфея. Находятся еще между посланниками Труан, Руалд, Флелав, Фост, все скандинавские имена (19).
Когда уже я это написал, то потом много я в Перингскиолдовых, Упландских и прочих древностях сыскал, что к изъяснению сих имен относится. Но мне уже и самому это рассуждение скучило, и потому, думаю, и с читателем моим то же случиться может. Одно, но знатное имя присовокуплю. Русские летописи при Ярославе Иакова (20) варяга прославляют. Оный, без сомнения, Ингегерды королевы брат, Олая короля сын был, ибо об оном Снорри пишет в титуле I, стр. 502: «Также другой оному (Олаю королю, Эрикову сыну) от королевы родился сын в самый день святого Иакова. Оному епископ при крещении дал имя Иаков, этим именем шведы весьма гнушались, из-за того что никто из шведских королей никогда таковым именем не назывался. Из шведских королей никто, да и никакого другого дворянина ли или простонародного человека в пример у Стернона не находится. И не только имя Якова, но все христианские имена, как странные, отнюдь не употребляемы в северной стране были» (21).
Владимир и варяги
Неизвестный истории писатель объявляет, что Владимир сын Ярославов на том множестве судов, которыми против Константина Мономаха императора плыл, великое число варягов имел. Об этих варягах Кедрин, согласно с нашим мнением, пишет, что сильные люди из Скандинавии были, стр. 758; говорит он, что Владимир присовокупил к себе немалое вспомогательное войско из тех народов, которые в северных океановых островах живут. Известно, что Скандинавия по весьма древней ошибке островом называлась.
Также о Владимире Великом русские летописи объявляют, что он часто в своем войске великое множество варягов имел. Дитмар Мерсебургский, единовременный с Владимиром царем, пишет и из Дитмара Еггегард Урагский приводит к лету Христову 1018-му, что они датчане были, о чем сам он от поляков и богемцев (чехов) уведомлен быть мог, как то часто случается: «Весьма справедливо познал в оном городе Китаве (читай Киаве, т. е. Киев) неведомый народ (великое множество), который, как вся оная область (Руссия), беглых от силы слуг собравшихся, и особенно датчан, пецинеям (пацинакам, т. е. печенегам), много их озлобляющим, досель противился».
Пусть кого беглые слуги не озлобляют. Слугами называли тех, которые жалованье от службы получают, даже если они дворяне по фамилии и славные люди, никак не бесчестным словом, как на латинском языке сервы — слуги, но полагал, что они беглецы, которые при ином короле в службе ранее обретались, что тогда у немцев необыкновенно было, как и из Дитмара в делах Болеслава польского видно, и у других можно в этом удостовериться. У скандинавцев и датчан иные обычаи, и самый верный к обретению славы способ, ежели кто из дворянства у далеких народов славу себе получит.
Из вышеобъявленных слов можно положить, какая мысль у безвестного автора в житии Романа Лакапена императора была, стр. 262, когда он говорит, что руссы, дромитами также называемые, были французского рода; так равно и Симеон Логофет, стр. 465, и у Ансельма Бандурия в Империи восточной в титуле II, стр. 33. О сем на ином месте способнее говорить буду.
Народ оный французский (22) к чему относится, если не к сродству королевского дому со скандинавцами и к оному множеству норманцев, шведов, датчан, которые между русскими в рангах и в войске были, ибо константинопольцы, в то время когда французы высоко поднялись, всю Германию Франциею назвали. Посему Константин Багрянородный, Об управлении империи, стр. 95, говорит: «Фраггия φραγγία η κα Σαξία». Еще более же Еггегард Урагский, стр. 226 издания Еккардова, Германию своими границами до самого Дону распространяет, так что все то греки Франциею называли, что ни было к западу империи Византийской. Лиутпранд Тичинский пишет: «При нас, оставшихся за столом, император из французов, под которым именем как римлян, так и немцев заключает, играл». Это же есть причина тому, что и поныне от турков почти все европейцы ефренги, т. е. французами, называются, а турки и сами хвалятся, что они от французского поколения (23).
Не новое оное мнение есть, ибо безымянный автор описания дел, бывших чрез французов, который во времена святых войн жил, пишет, стр. 7: «Указывают, что они французского рода и что никто по природе не должен быть солдатом, разве французы». И как раз оные именно турки в Паннонии чрез некоторое время в соседстве с французами жили, как я на ином месте из Константина Багрянородного докажу, от чего, я думаю, оная сказка полна слов их.
Со значительно бóльшими основаниями надлежало бы причесть к французам шведов и прочие северные народы, язык которых от французского не отличен был, дела же менее известны были, которых, увидевши между россиянами живущих, не дивно, что и самих руссов назвали французами по примеру греческому. Венгерцы русских и поныне франциаи непек, то есть родом французским, называют, Альберт Молнар в Дикционарии венгерском в слове Руссия. И что же мы сделаем литвинам, которые россиян гудами зовут (24)? Константин Чирвид в Дикционаре литовского в слове рус. Почему же готтами-то называют? Что же, напротив того, учиним финляндцам и эстландцам, которые не иначе шведов называют, как розалайн, или росов народ?
Но и это на ином месте более подходящим объяснить будет. Лиутпранд же Тичинский, стр. 92, 144, пишет: «Руссов, которых иным именем нордманнами именуем. И опять, есть некоторый народ, в северной стороне живущий, который по качеству тела греки называют руссами (русыми), а мы от положения места нордманами, или северными людьми, именуем».
Я вижу, что Лиутпранд думает, что никакой другой причины не было, для чего руссы от некоторых нордманнами называются, только что на севере жили, как Григорий Малатинский, стр. 108, перечисляя королевства северных народов, между ними и Русь полагает. Однако ж ежели с норманнским именем вспомним о происхождении князей русских и про множество нордманцев на службе и прочее сравним, то кажется, что у Лиутпранда та же причина объявления оного имени была, которая от нас объявлена (25).
Варяги и Вергион
Поскольку варяги из Скандинавии были, то рассудим, какая оного имени сила. Олай Верелий в примечаниях на Герворар сагу, стр. 19, увидевши, что Иоанн Магн написал, что Скандия от некоторых называется Вергион и что оное значит остров волков, так сказал: «Однако ж в оном не большее есть довольство волков, как в прочих европейских лесных сторонах». И здесь то во внимание принять надлежит, что в древнем языке не всегда значит волка, но разбойника и неприятеля.
В Олаевой Тригвониде саге пишется: «Гарваргур ивеум, т. е. в священнослужениях разбойничал» (для сего бренневаргур и какснаваргур о бездельных людях говорят). Ибо скандинавцы почти беспрестанно в морском разбое упражнялись, от чего варгами и отечество их Варгион, или Варггем, могло называться. И хотя он, человек весьма умный и ученый, в том сомнение испытывает, не скорее ли что Иоанн Магнус, употребив испорченные рукописные Плиниевы книги, вместо Неригон издал Вергион (что мне вероятнее кажется), однако ж, собравшись с духом и возвратясь к прежнему мнению, припоминает в прибавлениях, стр. 192: поскольку московиты (разумей, что он по простонародной ошибке о русских говорит) море Балтийское называют морем Варяжским, по свидетельству Герберштейнову, то поверить можно, что и Швеция от них Варег и Вергия называется.
Олав Рудбек в томе I, стр. 518, об этом деле говорит: «Когда придем к происхождению из Швеции поколения великих князей, то много ясным сделать сумеем». Говоря об атлантах и о русских варягах, и него значении слова такое же, как и Верелий разумеет.
Не в давнем времени Арвид Миллер, высокопочтеннейший человек, когда в разглагольствии о Варегии в Лунде 1731-го, стр. 21, писал, хотя на оном же мнение в итоге остановился, однако лучше желал это имя производить от самой Эстландии и Финляндии, которая морских шведских разбойников нападения многократно чувствовала, потому что там варас значит вора и разбойника и Варга мери значит разбойническое море. И это так то есть. Россияне татя называют вором.
Немецкие народы подобное сему слово имеют, но более для обозначения разбойничества, которое скорее насильство в себе заключает, нежели воровство, обман в себе содержащее. У Вольфганга Лазия на старинном немецким языке уваргур разбойник зовется. Авраам Милий в Археологе немецком, стр. 171, вурген — убит, вургер. Годофрид Гвилиелм Лейбниций в Кельтических местах, стр. 145, варги — разбойники, в Арвернах у Сидония тоже в старину у немцев морские разбойники, нормандцы от русских варегиями названы.
В Законах Салических варг значит выгнанного, отброшенного, как ныне баннит. У камбийцев вериад также означает слывущего разбойником, у Камбдена. Законы Салические гласят в титуле 57, статья 5: «Если кто тело уже погребенное выроет или обнажит, варг есть», то есть выгнан будет из жилища. Так же и в Балузиевых в титуле 85, § 2, Рипуарских уложениях.
И чтобы кто здесь честным людям бесчестие за то не вменял, у каждого народа свое было обыкновение. Как древним скандинавцам на море честно было разбойничать, так грекам на сухом пути. Честные оные имена были и славные. Но поскольку дело это весьма древнее, и северные древности от ученых людей прочих народов не так приемлются, как они заслужили, показалось мне, что оное дело немного больше следует изъяснить, особенно, что и к истории русской сопредельная территория.
В первую очередь, довольно известно, что как вся Скандинавия, так и Дания на многие меньшие королевства в древние времена разделены были. У норвежцев первый Гаральд Пулхриком (Красивоволосый), прочих короликов победивши, после баталии Гафурсфиордской в 875-м после рождества Христова состояние монархии для своих потомков укрепил. Побежденные: оркадалский король один, трундгемских четыре короля, голарденских два, Раумдалии северной (26) два и потом иные, ибо, исчисляя всех короликов имена, я устану.
Гаральд к устроению монархии примером как Горма датского короля, так и Эрика упсальского побужден, Снорри в титуле I, стр. 75, 76. О датчанах автора тех времен имею св. Ремберта, архиепископа гамбургского, в житии св. Аншария, стр. 54, издания Фаброва, а заодно Эрика короля Историю датскую, стр. 266, Гвалдона монаха корбейского, стр. 87, издания Фаброва.
О королях шведских Снорри Стурлсон, подобного которому достопамятного человека и автора достойнейшего и справедливейшего, по моему рассуждению, не было, так в титуле I, стр. 43, 45, 51, пишет: «И следующие короли упсальские по самодержавной власти в Швеции знатны были, когда королики многие там владели, а именно с того времени, когда Одинус в Швеции стал владеть монархиею с самодержавным владением, по самую Агнову смерть в Упсале столицу имели. И тогда сначала королевство стало между братьями разделено. Потом королевство на княжения между родственниками по их степеням разделили. Первый Ингиалд Анундов сын, упсальский король, некоторых из тех королей обманом побил, потом и других, обманувши, умертвил, числом всех до двенадцати. Однако ж остались и потом некоторые меньшие короли до самих времен Эрика, всем Шведским королевством овладевшего. В оном состоянии короли, имея многие между собою несогласия, жестокие войны вели, которые создали ожесточенное северных народов мужество и, справделиво будет сказать, сделавшие их свирепыми».
Именно потому, согласно с правдою, Олай Верелий в Герворар саге, стр. 47, сказал: «Для тогдашнего века нормой было, что чаще оружие употребляли, чем в причинах разобраться пытались, и мира сносить не могли. Когда же намерение к тому имели и случая с соседями драться не было, то на море разбойничали, в далекие места заплывали. Была у них превеликая способность к плаванию не только на берегах моря Балтийского и Западного, но и между всею Скандинавиею в больших и малых озерах, и больше они жили на воде, нежели на полях». И потому в плаваниях столь хорошее искусство и способность приобрели, что во всем тогдашнем веке никто с оными народами сравниться не мог.
И хотя, как я нахожу, что Гаральд Красивоволосый первый из всех удивительной величины корабль, именуемый Дракон, построил, а Олай Тригвонид впервые великие ладьи сделал, однако ж во все времена они весьма крепкие и способные суда имели, которых образцы и на камнях видим, особенно на том, который Иоанн Перингскиолд, весьма прилежный древностей отечества изыскиватель, нарисованный нам дал и в житии Феодорика, стр. 493, и присовокупил описание Отера Галееландского и Вульфстана Гетенского плавания, по-саксонски и по-латыни изданное при конце жития Ельфрида короля в Оксфорте 1678 году.
Ежели похвального плавания и славы мужеством поищешь, то ее Балтийского моря берег, почти угол, не есть свидетелем; оркадцы же, Шкоция, Гиберния, Англия, Франция силу оную впервые почувствовали. Великое бы то дело было, ежели бы кто все походы исследовать похотел. У древних греков разбойничать не что иное было, только в войске служить, пиргополиника по их древнему обыкновению именовалось.
О разбойниках греческих ненадобно ничего здесь примешивать. Но подобным образом и у северных обычай был, чтоб время от времени на море то купечествовать, то разбойничать. Снорри в титуле I, стр. 263, 264, 274: «И как можно скорее, отбросив гнев Марсов после разбойнических на море убытков, нагружал купец корабли товарами».
Вольница в разбоях
Злоупотреблю примерами из Сидония. Оные разбойники называли себя викингарами, как многократно у Снорри, к тому же у Олая Вормия в Древностях датских, стр. 268, 292, и время от времени каппарами, Снорри в титуле I-м, стр. 27, 29, во второй части Эдды исландской каппар, киемпур, гарпар, как Резений перевел, о богатырях, о борцах, и бойцах, упоминается. Те же у Снорри, стр. 40, 41, названы секонгар, короли моря, ни единого владения на земли не имея, всегда только на море владели. Об оных св. Ремберт в житии св. Аншария, стр. 57, 62.
Да и то не всегда с полной вольностию, потому что иногда другой власти подвержены были. Адам Бременский, стр. 56, пишет: «В Лугдуне в Сконии много есть золота, которое разбойническим хищением собирается, ибо и сами морские разбойники, которых они витингами (я думаю, что надобно читать викингами) называют, а наши аскоманнами, королю датскому подать платят, чтоб им вольно было от грубых народов добычу доставать. Не все же способны были к морскому разбойничеству, потому что весьма жестокой и бесчеловечной она былы. Эгил от брата из-за того от содружества разбойнического отставлен бывал, с тем расчетом, что он такое состояние ума имеет, которое у иностранных народов уважением не пользуется».
Тормод Торфей в Истории норвежской, в части 2, стр. 153: «Так что морские разбойники не только в свирепстве и насильстве упражнялись, но при случае и к купечеству ум употребляли, ибо что в одном месте в добычу от разбоев получали, то в другом продавали».
Не только на корабли нападали, но и, на берега вышедши, близлежащие поля и деревни разоряли, добычу Фрею богу в заслугу ставили, Фригисколд, то есть из кармана Фреева, именуя, как от знатного камня доказал Олай Верелий при Герворар саге, стр. 48. Были они подлинно набожные люди, которых служение и обряды на некотором острове Адам Бременский, стр. 56, припоминает, и в числе разбойников не только простые люди без всякой власти были, но и короли и дети королевские.
О Рудерове сыне в истории рунской Гиалмара, короля биармландского и тулемарского, издания Георгия Гикезия в тезауре языков в титуле II-м, стр. 128, говорится: «В разбойнические походы ездя, славу имени своего настолько умножил, что заслужил похвалу во всех летописцах, в которых достопамятные дела описываются». Потом сказывает, что, в Биармландию пятью кораблями прибывши, все огнем и мечом и до тех пор разорял и похищал, пока Вагмар против него не вышел, бывший в то время оных областей королем.
Когда по смерти некоторого короля сын наследство принимал, то обычай был, на торжественном пиру веселясь, мертвых поминали и обещание к предпринятию морского разбойнического похода полагали. Снорри в титуле I-м, стр. 245, присовокупил, стр. 46, 48: Ежели ж кто из простых к оным разбоям готовился, то около весны чрез клич вольницу собирал, как Гаральд и Гудрад, братья, у Снорри говорили, в титуле I-м, стр. 180, что они намерены с наступлением весны разбойнические походы в океан или в Балтийское море предпринять, как и прежде обыкновение имели. Потом выбирали между собою начальников на каждый корабль, именуя тех викингаваурдур, как на камне Иоанна Перингскиолда объявлено, стр. 489.
Они и внутри границ отечества не удерживались, и из-за того Гаральд Красивоволосый, король норвежский, указом запретил, чтобы никто в границах отечества не разорял, Снорри в титуле I-м, стр. 99. Однако ж Рольфо, славный разбойник, когда от пути или похода восточного возвращался, Викию разграбил. Гаральд король по сей причине на многонародном собрании приказал его в ссылку сослать.
При оном Гаральде многие, особенно в Норвегии, жалея о потерянной вольности, начали разбойничать. Однако ж некоторые склонились к защищению пристаней и купечества своего, построив корабли, разбойников только разбивая, безопасное море делали. Так Торстейн Беле и Агатир после боя, заключив между собою мир, против разбойников соединились. У Олая Верелия написано в Герворар саге, стр. 47: «В наступающую весну флот, из тридцати кораблей состоящий, приготовили и на море бои вели и кругом Швеции и около всех берегов восточных бились, воров и разбойников убивая, к жителям же и купцам не касаясь».
Я не ведаю, для чего Верелий главным образом изъясняет о Курландии и Пруссии, ибо хотя я не спорю, что и те берега защищаемы были, восточными берегами обычно назывались скорее Эстландские, на которых главное место всего купечества северного было, о чем я на ином месте покажу (27).
Многократно они, когда на какой-либо берег выходили, то на подходящем месте крепостцы строили, из которых, защищаясь, всю область набегами разоряли, так же как то в Оркадах, в Англии и во Франции случалось, иногда там селились и всем пределом овладевали. Многие находятся о сем достопамятном деле писатели тогдашних времен — саксонцы, французы, англичане.
По сей причине Торгнир, судья, на сейме упсальском к Олову королю, сыну Эрика короля, у Снорри в титуле I-м, стр. 484, об Эрике Емундовом сыне, короле, Олаевом прадеде, пишет, что, будучи здоров, к воинским походам превеликую охоту имел и, повсегодно далеко разъезжая, Финландию, Кириаландию, Эстландию и Курландию и прочих чрез Острогард (или Россию, либо более Эстландию внутреннюю) под свою власть привел (28), добродетели которого и поныне достопамятные находятся: древние замки и королевские крепости, основательно построенные. Так припоминал Торгнир, что ему дед его говаривал.
Когда ж писатели русские свидетельствуют, что в 859-м году после рождества Христова чуды, или чудь (либо естландцы и финляндцы), славяне и кривичи варягам подать платили с каждого человека по белой веверице, то оное как раз к этому относится. Многим неведомо, какая то была подать. Научил же меня знатный человек тому, что есть самая настоящая правда, ибо показывает, что русское слово утерялось, однако сохранилось в польском языке, в котором и поныне веверка называется белка. Белки же бывают иные белые, иные черные, иные бурые, и потому не дивно, что летописец русский прибавил белые.
Тот же летописец пишет, что в 862-м году после рождества Христова от славян варяги выгнаны и в подати им отказано. Потом же из-за внутренних мятежей просили от варягов себе князя, им стал Рюрик, который с братьями в Новгород прибыл.
Варяги в Греции
Сие может показаться уже чрезмерным, но меня оное имени значение не может удовлетворить, ибо имя варяг неведомо оным разбойникам было (29). Викингар, и каппар, и секонгар они назывались, как я выше объявил. Имя варги скорее поэтическое. Стихотворными именами животных и зверей услаждались и корабль называли дирбестия и барубестур, лошадь волн. И Эдды эстляндской другая часть, объявляя, вообще говорит, что все корабли лошадиными именами называли.
О солдатах Гаральда Красивоволосого Горнклоф говорит: премного имел ружья (т. е. оружия): лес (варга), волками наполненный. Снорри в титуле I-м, стр. 98, войско или галеры лесом, матросов же волками назвал.
Невероятно, чтобы древние руссы из стихов северных стихотворцев нечасто употребляемое мужественнейших людей имя приняли. Напротив же, вероятнее, что так их называли, как слышали от них самими себя называющих.
Также имеются примеры, что они как друзья и товарищи на войне, а также в чинах и достоинствах очень часто упоминаются. Также и царей своих от того ж рода призывают россияне. Свидетельство подлинно старинного автора о тех делах мы имеем, единовременного с варягами, с Владимиром Мономахом, или который от единовременного взял, Феодосия, игумена, (30) что в Библиотеке Радзивиловской в Королевне хранится, откуда список в Императорскую библиотеку прислан.
И поскольку свидетельство такое есть, то я говорю, что солдаты шведские, нормандские, датские, в русском войске служа, так самих себя называли, россияне же, приобвыкши к их имени, значение которого не ведали, всех северных людей, откуда бы они ни произошли, варягами называть стали. И хотя писали вараги, выговаривали это слово варяги.
Это название то же есть, которое у Снорри во многих местах находится, верингиар, как бы сказать защитители и оборонители, от слова вериа — защищать или более от слова варда, то есть беречь, хранить, как рассудил Верелий в реестре на Герранд сагу в слове гирдмен. Перингскиолд же ясно растолковал кавалергардами. На многих местах речь идет о тех, которые в Греции у константинопольских императоров были, и те были в столь великой древности хвалимые варанги. И как в Греции самих себя называли варангами, честным именем, то так же и в России, ибо из России в Грецию прибыли.
Впервые упоминаются варанги в делах Михаила Пафлагона, императора, у Кедрина после рождества Христова в 1034-м году, и тогда они еще не в великой чести были. Летописец российский объявляет, что от сотворения мира 6488-м, после рождества же Христова в 980-м году, после убиения Ярополка варяги (о которых прежде писал, что их Владимир из заморских мест к защищению права своего привел) новый мятеж умыслили, требуя за каждого обывателя по две гривны, из-за того что их промыслом город достали.
Владимир сначала упросил сроку на один месяц, пока домовых зайцев собрал (из лобков заячьих деньги делали), и когда после не имел чем платить, то требующим путешествия в Грецию для службы греческому императору идти позволил, а лучших из них по городам развел.
Дав им волю в Грецию идти, отправил наперед к императору послов с тем, что ежели хочет бунта их избежать, то если их примет на службу, чтобы их по разным городам развел и ни одному возвратится не позволял (31).
Я вижу, что с варангами это по совету Владимирову исполнилось, ибо Михаил Пафлагон, как свидетельствует Кедрин, в титуле 2, стр. 735, по Фракийской провинции расселенных имел варангов. Он же пишет в Константине Мономахе, в титуле 2-м, стр. 789, что Михаил Аколунт в Грузию послан, чтобы рассеянных по Халдеи и по Грузии варангов привести. Иоанн Курополат, стр. 808, во время оного Константина пишет: «Солдаты, которых простой народ варангами называет, до того верностию и делами дослужились, что в палату будучи приглашены, приняли караул покоев императорских».
Сцылич, стр. 864: «Никифору Ботониату императору весьма верны они были, когда Алексий Комнин Константинополь в осаде держал». Сего ради у Анны Комниной, Алексия императора дочери, стр. 62, советники царские (называются) варанги, которые через плечо топоры носят, будто бы от родителей залог и словно бы в наследство приняли верность к императорам и стражу тел их.
Верность, как бы один от другого переданную принявши, строго соблюдают и никакого упоминания об измене сносить не могут. Были потом Алексию Комнину императору на войне французской весьма потребны. Анна Комнина, стр. 115. Кодин, стр. 65, пишет, что они в должностях константинопольского двора, и при дверях спальных, и в столовой зале на карауле стояли, караул имели на форпостах. Зонара в томе 2, стр. 308 и сл.: «И сколько раз император в какой город ни входил, то ключи ворот того города в их руках были». Кантакузен в Истории константинопольской, кн. 2, гл. 13: «Весьма крепкий караул бдительных людей при варангах».
Векк Хартофилак у Георгия Пахимера, стр. 257, также и казну они императорскую караулили, из которых ни Палеологу, надзирателю Ласкара императора, ни великому князю вынесть что не позволили, разве с ведома и в присутствии прочих надзирателей. Пахимер в Михаиле Палеологе, стр. 41.
Думал Иаков Гретсер, к Кодину, что оные варанги франги (французы) называются, о чем потешно к Иоанну Курополату Иаков Гоар, стр. 58, что как бы порочит Гретсера. А что сам Гоар? Он вроде бы как очень небрежно симпатизирует грекам, и написал, что эти люди по происхождению англичане. Я допускаю, что они не были французами, ибо греки имели корпус данников французских, которых Анна Комнина немцами славянским словом назвала. Ежели в значение слова посмотреть, то значит, что люди иностранной речи и что не можно их разуметь. От французов же прилежно и часто варангов отделяли, как тех, которые при фельдмаршалах их в войске служили, Сцылич, стр. 823.
Иные, напротив того, не могу я спорить, что многие греки находятся, которые их к англичанам причисляют. Иоанн Циннам пишет, кн. I, стр. 4: «Народ есть аглинский, от многих времен римским императорам служащий». Так Бриенний цесарь, кн. I, гл. 20, так Никита Хониатский в Исакии Ангеле, стр. 267, так заслуживающий доверия Георгий Пахимер, гл. 41, стр. 257, то же в Андронике, стр. 45 (Эрик из англичан), который их почти кельтами называет; Кодин, стр. 90: «При столе императорском варанги многолетнего здравия желали своим языком, или аглинским, топорами своими стуча, шум делали».
Анна же Комнина, стр. 62, описывая, что варанги из Туле были, неизвестным оставила, про какую Туле она говорит, ибо древние неискушенно имя оного острова употребляли как ни попало, иногда у них вся Скандинавия так называется, иногда Норвегия только, у иных Англия или один остров из Оркадских. Однако ж я верю, что Комнина Англиею имела в виду. Вильгельм Малбесбургский, О делах английских, кн. 2, гл. 13, всё это доброхотно принял. Да еще ж показалось ему, что гоар слово в баронах аглинских сыскал, говоря баранагии, или варнагии, министров королевства Сенат и собрание, попросту Парламент, и от такого благородства служившие у греков англичане самолюбивым титулом, по греческому обыкновению поступая, имя себе варягов в Сенате константинопольском вымыслили и присвоили.
Однако ж мне они больше баронами нравятся, нежели у Грессера будто бы они французы гоаро. Генрик Спелманн думает, что от саксонского слова фариан, то есть клясть, проклинать (откуда варинге — проклятие) варанги прозваны. Однако ж никак он не мог к своему мнению об англичанах склонить Карла дю Френа, тот более согласен был Вилгардину, что варанги хотя из Англии (Британии) были, но более датчане, нежели саксонцы или англичане, и в этом мнении согласного имел Ордерика Витала. Место есть примечательное у Альберта Аахенского, кн. 4, стр. 253, об Алексии императоре: «Оный туркополов, пинценаров (пиценаков и пазинаков, печенигов), команцев, болгаров, обученных стрельбе из лука, и данаев (дунайцов), весьма искусных обоюдоострыми топориками биться, французов беглецов, а заодно и прочего различного народа в наемное войско собрал».
И Саксон Грамматик, стр. 227, о константинопольском походе Эрика Энегода короля пишет: «Между прочими, которые от города Константинополя жалованье получают, датского языка люди первую воинскую степень имеют, и их караулом царь здравие свое защищает. И когда он в Константинополь прибыл, то варанги от императора получили позволение к королю своему прийти, и Эрик их важною речью к верности, и к добродетели, и умеренному житию увещевать стал, что у греков вызвало великое удивление».
Я не спорю, что дачане тоже были варанги, но ежели мне кто позволит свое мнение высказать, то в том числе многие были и шведы, и норвежцы. Вильгельм Рубрик, когда в 1253-м году мимо Крымских пределов плыл, которые многими замками укреплены были, сказывает, что там было много готов, наречие которых есть немецкое. Такого от нас требует Снорри Стурлсон: ради почтения к нему и точности, которою Саксона во многих местах превосходит. Такого столь великие древности оного века, наконец, как самые камни требуют, на которые мы или из Буреанских листочков смотрели, или из дел Перингскиолдовых.
О топориках же варяжских память оная, что мы выше объявили, из рисунков старинной пергаментной книги Оддона монаха об Олаве Тригвониде, что Верелий издал. Олав в Тригвиасонс саге в Упсале 1665-го и от иных древностей скандинавских прилично объясниться может. Феодорик монах о походе иеросалимском и константинопольском норвежцев и датчан пишет, гл. 27: «Отправивши же все то, за чем путники наши прибыли, с честию отошли с провожанием благороднейших царских бояр, именуемых варингами».
Из Снорри я одно место приведу, в титуле 2-м, стр. 55 и следующие, когда он пишет, что Гаральд Сигурдов сын к Ярославу русскому царю приходил, от оного же царя с Эйлифом, Рогивалда ярла сыном, командиром над кавалергардами его поставлен, которые границы царства защищали. Оттуда Гаральд пошел в Константинополь и от варангов фельдмаршалом выбран.
Не хочу я здесь много примеров приводить из Снорри, в которых знатные дела находятся, написанные о Сигурде, Карлсгуфуде и об Олае Тригвониде, которые и у Вальдемара царя и у Аллогии царицы, то есть у святой Ольги, в великой милости были, ибо это некоторыми летописными неясностями запутано, которые я в иное время разрешу.
Чего ж еще ныне осталось, что бы в нашем разъяснении варяжского имени смущало, разве что верингур, нечто скандинавское; в произношении ничего другого сходного нет. Во-первых, скандинавцы и тогда не верингурами себя называли, греческое оное в произношении, и весьма крепких аргументов требует, чтоб мы с тем согласились, но оное Н с Г северные народы между выговоркою как правило отбрасывали. Оное мы в слове Ингар и Ингвар выше приметили. На камне, который при житии Феодорика короля Перингскиолд объявил, стр. 473, нахожу я Иггур, имя иное Одиново во второй части Эдды снорриевой. В книге серебреной Фиггр, Бриггар и подобные им примечены имена от Иоанна Георгия Вахтера в Мисцеллан (разнообразных) речах, Берлин. Коммент., ч. II, стр. 42, который полагает, что по греческому обыкновению Фингр и Бринген произносилось (в греческом γγ читается как нг).
Я не спорю, я согласен с тем, что те ж самые речи, которые преученый человек объявил, и автор оного перевода также оные речи выговаривал, что были они Фингр и Бринген. Верю же я и в то, что в его веке, отбросив Н, также говорилось Фигр вместо Фиггр и Бриген вместо Бригген. Да и греческое оное правило непостоянное было, что и самый Аристофанов ιο ίγξ (тиотигкс) показать может, разве тио тикс выговоришь, ничего в том слове к соловьиному голосу не было.
Затем, вместо Ингур северные люди также говорили Иггур и Игур, что мне более подходящим кажется, нежели Иоанна Шеффера о сем имени мнение, что Иггур есть Вигур, в Упсале, стр. 76. Так Ингердис в древности Галлеландской есть Игерда у Олая Вормия, стр. 509. Так есть Аггатир и Ангатир, Иггуе и Ингве, что Олав Рудбек в Атлантике, стр. 19, приметил. Так есть Ингибиарн на гробовых камнях и Иггибирн, Ингефаст и Иггифастр, Рагнвалд и Рагвалд. Таковым же образом варанги могли называться варягги и варяги. И это вполне подходит к особенностям языка русского народа, который и поныне НГ, чего прочие славянские народы употребляют, избегает, во многих случаях только Г выговаривает.
Примечания В.Н. Татищева
1. Владели древние варяги. Это подлинно, до пришествия варяг в сию страну, здесь были собственные руссов владетели или вместе с финнами и карелами под единою властью состояли. О том я ни в русской, ни в финской никакого известия не нахожу, равно и о славянских до Гостомысла Иоаким только число без имен положил. Но, наконец, варяги, победив отца Гостомыслова (не датчане или шведы, как Байер положил), русью и славянами обладали, что не могло далее 10 или 15-ти лет продолжиться, ибо Гостомысл вскоре после принятия престола в Гардорике власть варягов низвергнул.
2. Здесь ошибка. Некто Байеру неправильно вместо «русь» «прусь» перевел, ибо у Нестора точно написано от варягов-руссов, в чем, может, Байер и других обманул, якобы Рюрик от прусов взят. Он же, видимо, переводчиком и в курфюрсте обманут, чего в Синопсисе нет, хотя оных разных времен печатанных четыре имею.
3. Люблина древнее имя Юлин. Оное с чего взято, неизвестно. Польские писатели сами рассказывают, что их истории позже русских. Ни Нестор, ни его последователь до исхода 12 века никоего из сих имен не упоминают, хотя оное во владении русских червенских князей было.
Но явно оный во время Ярославля или его детей поляками построен, ибо внук Владимира Ярославича Володарь оного Люблина, а не Юлина, от поляков требовал и за то воевал. Что же он о бесстыдных лжах и баснях польских писателей Кадлубека, Претория и прочих упоминает, то подлинно, что и у Кромера, Длугоша и других тоже оных так много, что все обличать скука неимоверная. А самое главное, что германцы многие, оным поверив, в русских деяниях откровенную ложь за истину принимают, как и сей автор, гл. 17, н. 7, немало погрешил, чему причина недостаток русской истории на других языках.
4. Рюрик от рода Августа императора. Сию басню, думаю, первый князь Глинский, тесть царя Василия и дед по матери Иоанна IV-го из Литвы привнес, о чем, может, Герберштейн, слыша, дальше слух распространил, а Макарий митрополит, а также Иоанн IV, не рассмотрев польских гнилых доводов, за истину приняли, о чем я в гл. 46 кратко показал.
5. Вагры вандальские совершенно одного рода со славянами русскими были, и от них, т. е. из Вандалии, славяне придя, русью овладели. Но сие, конечно, к Рюрику отношения не имеет.
Что же Байер полагает, якобы славяне венды, или вандалы, поздно разбоями промышлять начали, оное, думаю, неправильно, ибо Страбон, Плиний и Птоломей народы там леты, лютибуры, придоны, вилчьи, госты и пр. полагают; сии же все имена образно значат разбойника, равно как варг, варгион и варяг. Следственно, у них так же стар сей промысл, как у нордманов, и особенно имя вагр, видно, из норманнского варг испорчено.
6. Рюрик от поколения древних русских владетелей. Сего в русских ни у Иоакима, ни у Нестора не упоминается. Однако ж можно двояко то за истину принять: 1) как выше показано, что финские князи некоторое время Русью владели и Рюрик от оных; 2) как Иоаким точно показывает его от дочери Гостомысла рожденного, следственно, от русских прежних государей произошел.
7. Рос у греков вместо руссы и Руссия выговаривалось. Каган же не имя, но знатность.
8. Имя народа русь прежде Рюрика. Это у Иоакима точно видимо, гл. 4, но у Нестора нечто сумятно сказано, что после писатели еще более смешали.
9. Послы по происхождению шведы были. Сии по летам во время Гостомыслово или Боривоя, когда уже варяги Русью не владели, но, может быть, что они самих руссов нордманами, т. е. северными или шведами, назвали, потому что руссы с ними частое сообщество имели и от греков к северу обитали.
Такое же смятение нередко у недостаточно сведущих писателей о разности именований находим, как у датских авторов вендов и шведов датчанами зовутся, наши шведов и датчан немцами, а в древности варягами, иностранные чуваш, черемис, мордву татарами именуют. Но могло и так быть, что их послы, на самом деле от финского короля, как владетеля Руси, прежде Гостомысла туда были отправлены и так там и остались.
10. Игорь у Иоакима точно Ингарь у Нестора; в древних списках Ингорь, Ингварь и Игорь писано.
11. Об именах Святослава, Владимира и пр. неправильно Байер думает, что оные варяжские, ибо все народы издревле собственные их языка имена давали, гл. 49, н. 4. Святослав же, хотя был по отцу от рода варягом, но мать Ольга была славянка, и оная первое ему, а потом и внукам имена славянские дала, как то: Ярополк и Владимир.
Что же греки и северные оные имена испортили Сфендослав и Свендослав, оное иноязычным испортить не диво. И нередко того у всех находим, что разные писатели одно имя по-разному выговаривают и пишут, так что и дознаться бывает трудно, как у нас вместо Иоан, Евдокия, Генрих, Карл называют Иван, Авдотья, Индрик или Андрей, Карп и пр.
Да не дивно то у древних и далеко отстоящих, более дивно у новых, как в Гибнеровых родословных табелях русских государей имена перепорчены. Значения же имен следует искать в собственном его языке, а не в другом.
12. Дивно, что Байер полагал, якобы слово «святой» язычникам было неведомое и не употребляемое, но, взирая в древнейшие истории, видим, что оное задолго до христианства, а может, и прежде еврейства у всех народов вещам или людям при почтении давалось, оно у Геродота и других уже известно было, а не христианами придумано.
13. Дир не есть имя человека, но дополнительное, тому же Оскольду принадлежащее, и в сарматском тирар значит пасынок.
14. Что хазары — турки, это сомнительно. Оскольд же был сын Рюрика и пасынок его княгини, из-за того дирар назван.
15. Лиутр, у других Блуд. Здесь имя Лиутр, в русских нигде не упоминаемое, положено, думаю, только для согласия с варяжскими или с северными. В русских оное трояко находится, как Блюд, Блюм и Блут, да сии писцами перепорчены, а Миллер в Древностях русских превратил в Пут.
16. Рохволд в Полоцке, Муроме и Торуне владел. Ошибка, что разные княжества смешаны. Оный Рохволд был только полотцкий, а в Муроме, Турове и Ростове были свои князи, имен которых не показано. В Турове, а не в Торуни, был князь Турый, но все сии от Полоцка Смоленским и другими пределами отделены.
17. О сем ранее упоминалось.
18. Имя Корелии от ярлов ли произошло или в корельском языке собственное значение имеет, следует уточнить со знающими достаточно их язык.
19. См. ранее.
20. В летописи Несторовой в 1024-м объявлен Якун князь варяжский.
21. Что каждый народ имена своего языка давал, о том выше, и оное в христианстве долго хранилось, но как далее в суеверия углубились, то уже никакое, кроме иноязычного и весьма странного, в значении неизвестного, не годилось.
Да и святые у попов не все той чести сподобляются; многих апостольских и знатных учителей имен вовсе не слышим, чтобы оные люди назывались.
22. Не произошла ли сия ошибка из двух подобных у русских употребляемых имен фряги и варяги, что иноязычный, не внятно выслушав, за равные сочтет. Ибо первым русские называли французов, а когда-то итальянцев, другим — всех северных финнов, шведов, датчан и норвегов. И так легко мог вместо варяги фряги, или французы, разуметь.
23. Абулгази Багадур хан, производя род свой от Иафета и внука его Татар хана, пишет, что от оного турки, русские и германе произошли, как выше показано, потому не дивно французов или всю Европу к турецкому роду причесть, но шведы это преимущество себе более всех присваивают.
24. Литвины руссов гудами зовут. Сего имени я ни в польских, ни в русских не нахожу, но Стрыковский рассказывает, что они русских зовут кревы, т. е. верховые, и это разумеет только область Смоленскую, из-за положения оной при верховьях главных в Руси рек Волги, Дины и Днепра, от чего и у русских сарматским кревы, по-славянски верховье, а славяне кревичи именованы.
25. Люитпранд изрядно имя Русь от цвета чермного, или темно-рыжего, изъяснил. Нордманами же от положения северного именованы, а не от владеющей финлянской фамилии, как Байер думает.
26. Раумдалия северная, думаю, у Иоакима и Нестора Урмания именована, гл. 4, о чем, надеюсь, в древней географии шведской есть.
27. В Эстландии, где бы в древние времена мог великий град и сильное купечество быть, я не нахожу, но думаю, что это о Гордорике разуметь должно.
28. Ерик Емундов сын Руссиею овладел. По Лексикону историческому, он был от 815 до 854-го при отце Гостомысла и Гостомысле, и хотя Нестор о владении варягов Русью рассказывает, но оное о королях финляндских, а сей разве только на финляндском море помогал.
29. Хотя имя варяг у русских испорчено, но у северных варг и варгионы довольно известноеи сам Байер выше многократно показал, и что оное есть образное или поэтическое и поносное, но в те времена похвальное, о том ни спорить, ни сомневаться невозможно, но во многих народах это имя в значении волки употребляемо.
30. Феодосия игумена. Миллер ранее ошибся, что оного вместо Нестора, черноризца Феодосиева Печерского монастыря, за автора принял, поскольку в Радзивиловском списке имя Нестора пропущено.
31. Что же написал, из лобков заячьих деньги делали, то ошибка, но кожи всех зверей, куниц, зайцы, белки за деньги счислялись, и для мелочи были лобки беличьи, которых несколько в Новгороде в хранилище я видел и помню, что в Москве вместо полушек, когда еще медных не было делано, ходили четвероугольные кожаные жеребьи, но оные не были казенные, их делали квасники и хлебники сами и никто не принужден был их брать, но недостаток в размене вынуждал.
Герхард Миллер
Происхождение народа и имени российского
(Выступление, приготовленное для торжественного заседания Академии наук по случаю тезоименитства императрицы Елизаветы Петровны, 6 сентября 1749 г.)
При праздновании ceго торжественного дня по Академическому регламенту и по введенному в ученых собраниях обыкновению ничего пристойнее быть не кажется, как чтобы объявить вкратце об имеющемся при сем деле намерении, предложить о такой материи, которая бы не только нынешнему торжеству и сему ученому собранию была прилична, но и ясным своим содержанием всякому могла служить к удовольствию, и согласовала бы как с общими всей Академии, так и с моими особливо трудами, а всем природным и чужестранным всякого звания чинам принесла бы настоящую пользу.
Сие по возможности исполняя, не сомневаюсь, почтеннейше всякого чина и достоинства слушатели, что вы по любви своей к нам и к честным наукам меня терпеливо выслушаете и в погрешностях говорящего на чужом языке благосклонно простить соизволите.
Августейшая Елизавета, императрица и самодержица всероссийская, по природному великодушию и неусыпному попечению о пользе своего народа, об умножении славы империи и о дальнейшем свободных наук, яко преизрядного божеского дара, в состоящих под ее державою народах распространении, между прочими своими неизреченными к Российскому государству благодеяниями высочайшую свою к оному милость и тем оказать всемилостивейше соизволила, что прежнее Академии цветущее состояние возобновила или паче умножила, что по необыкновенной в других государствах щедроте довольное на содержание оные иждивение пожаловала, что президента нам определила, какого рачительнее к поспешествованию наук не может желать Академия.

Герхард Фридрих Миллер (1705–1783) — русско-немецкий историк, естествоиспытатель и путешественник; действительный член Санкт-Петербургской Академии Наук
В 1749 году Миллер имел большую неприятность по поводу речи, приготовленной им для торжественного заседания Академии: «Происхождение народа и имени российского». Некоторые из академиков (Ломоносов, Крашенинников, Попов) нашли её «предосудительной России». Миллер обвинялся в том, что «во всей речи ни одного случая не показал к славе российского народа, но только упомянул о том больше, что к бесславию служить может, а именно: как их многократно разбивали в сражениях, где грабежом, огнём и мечом пустошили и у царей их сокровища грабили. А напоследок удивления достойно, с какой неосторожностью употребил экспрессию, что скандинавы победоносным своим оружием благополучно себе всю Россию покорили»
Сия Всеавгустейшею нашею монархинею подданным своим, а особливо Академии оказанная щедрота от нас требует, чтоб мы прославляли публично нашей покровительницы высочайшую милость; воспоминали благоговейно Петра Великого и великодушную Екатерину, мудрейших нашей Академии основателей; поздравляли Россию принесенными в оную блаженной памяти и вечной славы достойным государем императором науками, которые она, приняв с благодарением и все больше распространяя, да содержит во всегдашнем почтении; и чтоб мы, будучи определены к занятиям оными науками, крайнее старание прилагали о исполнении полезнейшего сего учреждения.
Должность Академии есть двоякая: учить честным наукам и приводить оные в большее совершенство. Первое исполняется, когда каждой из нас те науки, для которых он определен, предлагает публично, приуготовляя учащихся к показанию со временем отечеству полезных услуг и к исправлению тех же должностей, в которых мы сами находимся; а другое тем наблюдается, когда в приватных академических собраниях то, что в науках еще недостаточно, точно не исследовано и ясно не описано, дальнейшим исследованием, изъяснением и описанием истолковать стараемся; когда напечатав свои сочинения в Комментариях, оные всему свету сообщаем и притом попечение имеем о переводе книг, славнейшими иностранными авторами сочиненных, дабы россиянам в полезнейших учениях на природном их языке можно было упражняться.
Но о сих наших трудах едва кто вне Академии может быть известен. Чего ради еще и публичным быть собраниям по опробованному Ее Императорским Величеством академическому регламенту и по обыкновенно других Академий уставлено, в пользу вашу, блогосклоннейшие слушатели, дабы вы взирая на образец Петра Великого бессмертныя славы своего народа основателя и украшения всего человеческого рода, припомнили, сколь почитать должно науки; дабы вы надлежащее благодарение приносили премудрому провидению божию, которое августейшую Елизавету, родительских добродетелей наследницу, наипаче для сей, как нам кажется, причины на императорский наследный престол возвело, дабы она между прочими вечного прославления достойными родителя ее делами, также и положенное им о науках основание утверждала, умножая и возводя оные для поспешествования общия пользы на высочайший степень совершенства; наконец, дабы вы услышали наши сочинения о ученых делах, рассуждали о происходимой от наук отечеству пользе, содержали в большей любви науки и старанием вашим и подражанием поспешествовали премудрому намерению Петра Великого и высочайшему благоволению августейшей Елизаветы.
Во исполнение при нынешнем торжественном собрании положенной на меня должности, намерен я, почтеннейшие слушатели, вас вывесть на поле, где повседневно мои труды бывают, не на чужое, но на наше собственное, которое хотя по большой части еще не учреждено, однако цветов и плодов довольно произращает; а именно: я вознамерился представить вам обзор славных и великих дел российского народа. Но взирая на великое множество достопамятных приключений, которыми россияне во всем свете прославились, чем бы начать, сомневаюсь. Однако следуя порядку времени стану говорить о первых началах российской истории и покажу происхождение славнейшего российского народа. Объявлю наипаче о тех временах, о которых в наших летописях и в других российских исторических книгах или вовсе не упомянуто, или достоверных и подлинных известий не имеется, чего ради история оных времен и подлежит многим затруднениям.
Предложу, какие в России народы поселились, как один другого преодолел, и победители побежденными владели. Предъявлю, как от разных народов произошли ваши предки, которые потом столь тесными союзами соединились, что бывшого между ими прежнего различия никакого следу не осталось.
Изъясню подробно происхождение российского имени. Изъявлю о делах прежде россиян в России учинившихся, которые однако до российской истории свойственно принадлежат, потому что к доказанию происхождения российского народа немало служат. А для обстоятельнейшого их изъяснения не будет бесполезно из чужестранных соседственных народов книг объявить то, чего в домашних не находим.
Сверх сего намерение мое было еще предложить и о других делах, примечания весьма достойных, а именно о тех великих князьях, которые храбростию, благоговением, прозорливостью, благодеяниями, отечеству оказанными, и знатными делами пред другими прославились, об учиненном в разные времена обращении россиян в христианскую веру, о знаках царского достоинства из Греции в Россию перенесенных, о титуле Великого Князя в царской, царского в императорской переменившемся, а наконец желал было я вас, почтеннейшие слушатели, довести до наших времен и подать вам случай, чтоб единым взором узреть несчетные благодеяния бессмертной славы императором Петром Великим и дражайшею его дщерью, отеческих намерений подражательницею, августейшею Елизаветою России оказанные.
Однако к подробному изъявлению всего вышеописанного не хватило бы целого дня; того ради, почтеннейшие слушатели, прошу вас, чтобы соизволили принять за благо, сколько в сей случай вам предложить по определенному времени позволяется.
Происхождение народа и имени российского
Что касается до первых после потопа в России жителей, о том много рассуждено от авторов, о российских делах писавших. Некоторые по сходству званий от Мосоха, Афетова сына, производят Мосхов, бывший в древние времена народ азиатский, а от них имя города и реки Москвы: только они всеконечно в своем мнении ошиблись, ибо одного имен согласия без других подлиннейших свидетельств к доказательству о происхождении народов никак не довольно. Какие же они о мнимом ими переселении Мосхов из Азии в Европу приведут свидетельства из истории? В России о Мосхах следу нет, да и имя Москвы прежде создания города никогда в славе не было.
Иным показалось, будто они имя Рос нашли в Пророке Езекииле, единое с Мосохом и Тубалом, из чего заключают, что тем именем означивается праотец российского народа. Правда, перевод Библии сему мнению несколько согласует, потому что еврейское слово Росс, которое иные главою или владельцам толкуют, в оном переводе яко собственное имя оставлено. Бошарт слово Рос почитает за свойственное не мужу, но целому народу, жившему, по его мнению, в Мидии около реки Аракса, которая у географа нубийского Росс называется, и оная, соединившись с рекою Курой, впадает в Каспийское море.
Помянутой Бошарт ссылается на Иосифа Горгтшда, которой пишет, что россы живут у реки Куры, впадающей в Георгиянское, то есть Каспийское море. Из чего он заключает, что российской народ произошел от оных россов, только в таком сомнительном деле не можно утверждаться на мнении лживого из жидов новых времен автора, которой под именем Иосифа сочинил ложную об иудейском народе историю.
Я не спорю, что географ нубийский, на которого Бошарт ссылается, реку Аракса называет Россом; только по моему мнению сие звание есть испорченное слово от персидского имени Арас, которым оная река и поныне называется, и откуда греческое слово Аракс происходит.
Мне весьма невероятно кажется, чтоб за столько сот лет в земле у древних довольно знаемой жил народ, называемой россы, а из старинных историков никто об оном не упомянул; если же оное имя чрез многие веки пришло в забвение, то как может статься, чтоб после в народе учением и знанием истории неискусном, которой только воинством славу себе приобретать старался и не имел о своем происхождении письменных от предков свидетельств, в сем северном краю оное возобновилось?
Турки, персы и татары баснословят о Руссе некоем из Афетовых сыновей. Ссылаться ли нам на сие для того только, чтоб произвести начало российского народа от Афета?
Почти тоже рассуждать надлежит о происхождении россиян от роксолан, которое многими за бесспорное принято, и, по их мнению, якобы ясно доказано. Правда, что сходство между оными двумя именами велико, и не надобно привести народ из другой части света, потому что, по Страбонову свидетельству, роксолане жили в российских пределах между Доном и Днепром. Сверх того сие мнение несколько подтверждено покойным архиепископом Новгородским Феофаном в слове по кончине государя императора Петра Великого, отца отечества, говоренном, которое на латинском языке Лакриме Роксолане, то есть Роксоланские слезы он назвал.
Но к доказательству происхождения россиян от роксолан не довольно одного имен сходства, не довольно и того, что в первых после рождества Христова веках роксоланской народ в российских жил пределах; надлежит паче то показать, как роксоланское имя в российское переменилось; утверждать надлежит достоверными из истории свидетельствами переселение роксолан из южных мест к северу; и объявить, какой народ роксолане были и каким языком говорили.
Если же сие так подробно изъяснено не будет, чтоб из того подлинно видеть, что россияне происходят от сего народа, то меня в том никто порицать не может, ежели я, утверждаясь на своем мнении, постараюсь исследовать другие надежнейшие о происхождении россиян свидетельства. По объявлению Иорданову, роксолане в четвертом веке после рождества Христова подвластны были готам, с которыми чаятельно в один народ соединились, и потом от идущих для завоевания Паннонии гуннов вместе с ними были прогнаны и в странах западных рассеяны. Чего ради их имя более не употреблено ни от какого последующих времен писателя.
Не могу я преминуть, чтоб здесь не показать погрешности, по которой Агафемер, древний греческий автор, описывая реки, в Каспийское море впадающие, реку Волгу назвал Рос, на чем некоторой автор свое мнение о происхождении россиян от роксанов, как он их называет, или от роксоланов утверждает.
Некоторые на Геродота, по их мнению, Волгу Араксом назвавшего, ссылаются, дабы тем показать, что реке Волге имя Росс по справедливости приложить можно: только читающие Геродота со вниманием не найдут, чтоб он об Араксе что написал, чего бы о каждой великой и не довольно знаемой реке сказать не можно было. А ежели то правда, что он разумел под именем Аракса Волгу, то он сие имя употребил только для изъявления ее величины. Равномерным образом, как кажется, и Агафемер, услышав о Персидском слове Арас, которое может быть Рос выговаривали, и не ведая какой реке Аракс оное прилагается, без рассуждения Волгу так назвал. Птолемей справедливее наименовал Волгу Раа, ибо Мордва, живущий народ в близости сея реки, которой произошел от первых оной страны жителей, Волгу сим именем и ныне называют, как то я сам, будучи в тех странах, приметил.
Но опровергая объявленные мнения, принять ли нам сие, по которому происхождение россиян обыкновенно от скифов и сарматов производится? Греки а потом и римляне скифами называли всех им недовольно знаемых, диких, в невежестве и к северу живущих народов, так как мы обычно называем татарами всех народов восточных. А слово сарматы почти в таком же пространном разуме употребляется. Следовательно, сии слова больше за имена земель, нежели народов почитать надлежит, и производящие россиян от скифов и сарматов только то доказывают, что россияне живут в скифских и сарматских землях, что и без того ясно и не подлежит никаким сомнениям.
Так греческие о византийских делах писатели называют россиян на многих местах народом скифским, скифами, тавроскифами, таврянами, то есть таким народом, которой жилище имеет в Скифии около Таврийского полуострова, что ныне мы Крымом называем; а тем они ничего не объявляют о происхождении, но только о их жилищах. Ибо как россияне предприняли первые воинские походы под Царьград в девятом веку после Рождества Христова, то надлежало объявить, откуда пришел народ такой воинственной и сильной. Имя их грекам тогда уже было известно, прослышав об оном либо от болгаров, либо от самих россиян, но не задолго до того времени об них проведали; ибо подлинно доказать можно, что прежде девятого века о российском имени вовсе не знали.
Некоторые написали, что россияне названы тем именем от рассеяния, или от русых волос, или от сильного крика, которой от них в бою против неприятеля был слышан, но сии истолкования касаются до одних имен, которые принять было бы можно, ежели бы утверждались на исторических доказательствах.
Иные для произвождения россиян от одного рода с богемцами и поляками, чему и так никто не спорит, выдумали князя Руса, брата Чехова и Лехова. Иные производят россиян от города Старой Русы, но вероятнее, что оной город назван по россиянам, а не россияне по городу.
Но разве будем все только опровергать чужие мнения, своего не предлагая? Никак, почтеннейшие слушатели, еще не все от нас объявлено, что решению сего дела потребно. Наперед рассмотрим, какие народы в России поселились, и исследуем, что домашние писатели о происхождении россиян пишут, дабы наше о том мнение тем надежнее и основательнее предложить было можно.
Из древних российских летописцев, которых довольное число имеем, известно, что россияне в сих землях за пришельцев почитаемы быть должны. Чудъ — так по-российски называются все прежние всяких земель жители до пришествия россиян в оных находившиеся. Ибо мною примечено, не только в самой средине России и в местах северных, но и в пределах южных при Волге реке, при Тоболе при Иртыше, при Оби, при Енисее, при Селенге, да и на самых китайских границах, что ежели кто увидя старинное какое укрепление, достопамятные здания, могилы, палаты, статуи и другие сим подобные вещи, спросить, какого то народу? Россияне ли то соорудили? То везде отвечают: делали то чудь, в древнейшие времена в тех местах жившие. А когда упоминается в российских летописцах о чуди, которые прежде россиян жительство имели в северной части России, то особливо разуметь должно чухонцев, карелов и естландцов.
Ежели кто похочет назвать их первоначальными сих стран жителями, то я в том не спорю, ибо из истории доказать не можно, чтоб они когда-нибудь в других местах живали, или бы другой какой народ прежде их имел в сих землях жительство. Грекам они для великого расстояния земель знаемы не были, но римляне, покоряя под свою власть Германию, получили о них довольное известие, по свидетельству Тацита, которой так точно их описывает, что хотя бы он был сам в жилищах чухонских, то ничего подлиннее, и ничего яснее о них объявить не мог бы.
Но могло ли мне придти на ум, чтоб произвести россиян от столь неславного народа? Предки россиян от славных своих дел в древние времена славянами назывались, которых живших некогда у реки Дуная, по летописцам российским, выгнали волохи, то есть римляне, и сперва поселились у реки Днепра, и овладевши всею Польшею, построили во первых город Киев. Оттуда идучи вверх по реке Днепру для сыскания земель, далее к северу простирающихся, пришли на реки в Ильмень озеро впадающие, по которым плыть им в низ было способно.
Они в кратком времени и без великого труда могли принудить чухонцев к уступлению отчасу больше места и, следуя за ними по оставленным от побежденных землям яко победители, создали знаменитой в прежние времена Новгород, может быть и другие российские города, и Смоленск и Чернигов от сих пришельцев построены.
Когда сие учинилось, того подлинно определить не можно. Новгородскому летописцу, в котором написано, будто Новгород построен во времена Моисеева и израильской работы, никто поверить не может. Только из вышеобъявленного заключается, что Новгород построен после Киева. А Киев, по польским писателям, создан от князя Кия в лето четыреста тридцатое после рождества Христова; чего весьма довольно, поскольку те же те же самые писатели прародителя своего народа Ляха не полагают выше пятисот пятидесятого года, да и нет ни одного тех времен историка, которой бы прежде Юстиниана императора упоминал о народе славянском.
Упомянем здесь о Кие, основателе города Киева, то, что написал в Киевской летописи Киево-Печерского монастыря монах Нестор, которой у нас прежде сего ошибкою переводчика Феодосием назван. Он опровергает ложное некоторых своего века писателей мнение, якобы Кий будучи не знатного рода, питался перевозом на реке Днепре, и якобы то место, где Кий на Днепре перевозил, называлось сперва Киев перевоз, а в последующие уже времена по собравшемся там в великом множестве народе зачался город, которой потом пришел в такую славу.
Нестор же доказывает, что Кий ходил войною под Царьград, чего бы ему учинить было бы невозможно, ежели бы он не был князем. Потом объявляет он, что Кий, по заключении с греками мира, победил болгаров, живущих у реки Дуная, и увидя веселое тамошних мест положение, начал строить себе город, чтоб иметь в оном свое правительство, но будучи обеспокоен частыми набегами от соседственных народов, возвратился в Киев; о чем по объявлению Несторову в его времена, а именно в двенадцатом веке после рождества Христова, имелись еще ясные свидетельства тем, что развалины помянутого у реки Дуная Кием построенного города назывались Киевцем.
Все сие изрядно, только оное так истолковать надлежит, дабы тем у греческих писателей, живших прежде Нестора, не отнять достоверности.
Покойный профессор Байер Кия почел за готского царя Книву, о котором Иордан объявляет, что он, Паннонию завоевав, с римским цесарем Декием бой имел, только сие произведение князя Кия от готов летописцам нашим противно, которые единогласно его славянским князем называют. К тому же, и время царя Книвы от вышепоказанного времени князя Кия почти двумястами годов разнствует, и потому сие мнение ни на чем ином не утверждается, как только на малом имен сходстве, которое в таком деле за доказательство принять не прилично. Равным образом, или еще с большею вероятностью, можно бы было разуметь под именем Кия валъского князя Кияра, в древних стихах у Торфея упоминаемого. Ибо валами или валвами у германских и северных писателей вообще назывались все народы, которых языка они не знали, или о подлинных их именах не ведали, так то от Грубера многими примерами доказано.
Из вышеописанного явствует, что Кий жил во время греческого императора Феодосия Второго, при жизни которого, или и после, не находится, чтоб славяне к Царьграду приступали. Но тогда гунны, учинив нападение на дунайские страны, бились с греками, и при проходе их мимо Киева Кий, может быть, дал им добровольно или с принуждения в помощь некоторое число своего войска, и сам ходил с ними против греков.
Греки не упоминают о славянах, за тем что их против гуннов было мало. А россияне умолчали о гуннах, объявляя только о делах своего Кия, которой, по моему мнению, в гуннском войске находился полководцам.
Что о болгарах выше объявлено, никаким не подлежит затруднениям. Они с гуннами вместе из первых своих поволаских жилищ переселились в Паннонию; ибо до приходу гуннов нимало о болгарах не упоминается, а после гуннов спустя только сто лет они, по Иордановым словам, со славянами и антами соединившись, Римскую империю набегами обеспокоивали.
Представим себе, что Кий с гуннами и болгарами по окончании походу против греков остановился у Дуная; и как ему тамошние приятные места полюбились, которыми уже прадеды его владели, то предпочитая оныя занятым им на Днепре странам, по разделении между победителями мест создал град, которым по справедливости надеялся безопасно владеть для учиненной союзникам помощи. Не весьма ли то вероятно, что он увидя способной случай, больше охоты имел учредить себе владение в отечестве, нежели в чужих землях, где окружен был разными дикими и хищными народами? Не могло ли статься, что между им и гуннами, и болгарами произошла ненависть и вражда, чего ради он заблого рассудил возвратиться в созданной им город Киев?
Потом Кий, по объявлению летописцев, отправился против болгаров, на реках Волге и Каме живущих, которых победивши возвратился в Киев, где и скончался. Сии те болгары, от которых, по свидетельству всех писателей, произошли дунайские.
Старинного города болгарского остатки, где было главное сего народа жилище, находятся недалеко от реки Камы, около семидесяти верст от Казани, которые государь император Петр Великий, будучи в походе в 1722 году с войском против неспокойных персиян, соблаговолил сам осмотреть, и от того случая достались нам имеющиеся на старинном болгарском городище многие древние надгробные надписи на армянском и татарском языках, которые премудрый император для сохранения их повелел списать и перевести на российской язык. По сим надписям что надлежит рассуждать для изъяснения истории о болгарах, о том здесь упомянуть было бы излишним.
Напоследок, дабы приключения Кия к концу привести, то, по словам вышеупомянутого летописца, у Кия было два брата Щек и Хорев, да сестра Лыбед, которые все жизнь свою в Киеве скончали, а о потомках их не упоминается. Только объявлено, что род Киев и его братьев владычествовал долго над Польшею, что, по моему мнению, разуметь должно о той части Польши, которая под Киевским владением состояла. А что киевляне тогда всеми местами между Днепром и Вислою владели, сие бесспорно. Ибо произошедшие от Леха польские князья больше в западных от Вислы местах, нежели к востоку владение свое распространить старались. Нестор сверх того пишет, что иное было княжение киевское, иное древлян, иное дреговичей, иное славян новгородских, иное полотчан, иное кривичей.
Сии имена означают разные роды, на которые славянский народ, как пишут, в первые времена в России разделился. Древляне отличились от поляков тем, что сии на полях, а оные, как имя являет, в лесах жили. А леса здесь разумеются у реки Припета, где главной древлянской город был Коростень, которой великая княгиня Ольга разорила.
Прочие из объявленных народов жительство имели у вершины Днепра и у текущей недалеко оттуда реки Двины. Дреговичей по сходству имени почитаю я за жителей города Дорогобужа; кривичи, по летописям, жительство имели около города Смоленска, а полочане около города Полоцка у реки Полоты, в Двину впадающей.
Сие подлинно, что Полоцк, Смоленск и Дорогобуж весьма старинные города, и вероятно, что оные от первых славян построены. Профессор Байер, ссылаясь на некоторого российского летописца, объявляет, что кривичи город Полоцк построили: только я не помню, чтобы я о том где читал. Может быть, что кривичи по бывшему в те времена в Литве и в Пруссии идольскому жрецу Криве для их к нему почтения так названы.
Известной историк Адам Бременский пишет о Курляндии, что отовсюду для получения о предбудущих случаях ответу туда ходили, а наипаче из Испании и Греции. Сие разумеется о россиянах, ибо часто находим у историков, что они россиян греками называли. О том сомневаться не для чего, что северяне, живущие от Киева к северу у реки Десны, бужане у реки Буга, и волыняне в Волыни, по мнению Несторову, в рассуждении точного их с киевлянами союза от славян произошли. Тому только удивляться должно, как народ, в летописцах вятичи называемый, о котором пишут, что произошел он с радомичи от лехов, то есть поляков, между славянами считаться может; ибо киевляне упрямство оного насилу сломать и силою оружия себе их покорить могли.
Не почитать ли их за варварский народ, например за чувашей, которые на мордовском языку называются вядке, либо за вотяков, которые жили сперва у Оки (что объявляется о вятичах), а после избегая нападения от россиян, пошли далее к востоку, и по них дано имя реке Вятке.
Сего довольно о славянах. Объявим еще и о другом народе, от которого Россия не только жителями населена, но и царей и имя свое получила.
Оной народ, хотя в начале языком и житием от славян весьма разнствовал, но столь тесно потом с ними соединился, что уже тому много веков прошло, как их между собою различать не можно было. А именно как славяне Россиею владели, то от времени до времени приходили от севера Скандинавы, народ силою своего оружия на море и на сухом пути, также и торговым промыслом пред другими славной.
Они, выступя сперва на берега Курляндские, Лифляндские и Естляндские, жителей под свою власть покорили, и после пришед к новгородцам, дань с них взяли и царей им поставили, потом для купечества поехали в Киев, а оттуда в Грецию. И хотя их наконец из России выгнали, однако в таком почтении были, что новгородцы призвали их назад торжественным образом для принятия над ними и над соседственными народами владения.
Без сомнения, почтеннейшие слушатели, признаете вы по сему варягов ваших, о которых в летописях и во всех российских историях упоминается; и хотя известно, что тем именем никакой в Скандинавии народ особливо не назывался, однако сие можно подлинно доказать, что они ни из какой другой земли выехали как из Скандинавии. Варягами они назывались либо от искусства в мореплавании, в чем наибольше упражнялись, и для того, что морем в Россию пришли, либо от искусства воинского, от старинного слова Вар, что войну у скандинавов значило, каковое слово у англичан и поныне употребляется. Потому и служившие из Скандинавов в гвардии при дворе греческих императоров в Царьграде варанги назывались.
Можно нам здесь обойтись без пространнейшого о сем изъяснения, потому что профессор Байер издал о варягах особливую диссертацию, по примеру других его дел весьма остроумно сочиненную. Сие только прибавлю, что рассуждающие о варягах, будто они для чиненных ими по морю разбойнических поисков по скандинавскому слову варг, что значит волка, или от чухонского и естляндского вараг, что значит вора, то так называющие их в мнении своем тем наипаче погрешают, что, по-видимому, имя варягов произошло от варяг самих, а не от чужих. А хотя разбойничество по морю в тогдашнее время было в чести у скандинавов, однако нельзя думать, чтоб и другие от варягов завоеванные народы равное с ними мнение о таком промысле имели, и потому весьма не вероятно, чтоб они сами хотели прослыть у иностранных таким бесчестным именем; а ежели бы тогдашние жители в России сие имя в начале от других народов приняли, то варяги, утвердив в России свое владение, оное без сомнения уничтожили, потому что оно к поношению их касалось, и не допустили бы, чтоб такое название общим употреблением и в публичных письмах дошло до потомков.
Причисляющие варягов к славянам, по моему мнению, одним словом опровергнуты быть могут. В летописи киевской и во всех других достоверных российских историях не писано ничего о роде варягов. Откуда же сочинитель Синопсиса взять мог свои о том известия? Он догадками домышлялся, приписывая без основания предкам язык, которым ныне говорят потомки.
Для чего лучше не принял он в рассуждение варяжских имен великих князей и других начальников, которые в наших летописях упоминаются? Имеется ли в них какое сходство с славянским языком? И кто покажет нам переселение славян из Севера в Россию? Разве положить, что венеды, жившие прежде в южных местах Балтийского моря, будучи под владением датчан, иногда с ними в месте в Россию приходили, как Кранций пишет о некоем Вине, знатном между венедами муже, от которого винулы названы, что он с при державе Фротона Четвертого полководцем воевал против куретов, самбиан и семгаллов. И подлинно сделаться могло, что и после датчане и норвежцы чрез венедов или славян отправляли купечество со славянами новгородскими. Однако из того не следует, что венеды переселились в Россию, ни что варяги говорили языком венедским. Константин Багрянородный, император греческий, описывая днепровские пороги, названия мест славянские от российских старательно отличает. А тогдашней российской язык был варяжской, что ниже будет доказано, и что варяжские имена, сколько их в наших историях находится, почти все были скандинавские, в том всяк с нами согласится. По сему и те погрешают, которые варяг от багров, бывшего некогда славянского народа в Голштинии, производят.
Через упоминаемых мною скандинавов, как вам известно, благосклонные слушатели, разумеется народ, которой производя начало свое от готов, живших прежде сего около Черного моря, от римлян прогнан, и прошед чрез Сармацию и Германию в крайних северных местах основал три королевства: датское, норвежское и шведское, которые часто состояли под державою единого владетеля; а хотя ныне правления в них разные, однако жители одним языком, смотря на коренное происхождение, говорят и по сие время.
Сей народ в древние времена за бесчестие почитал, чтобы дома состариться, не оказав в чужих землях своей храбрости. Он, не довольствуясь местами под его владением бывшими, но желая всегда распространяться, нападал отовсюду на соседей; доходя водою и сухим путем вооруженною рукою до самых отдаленных народов, сверх имеющегося во владении всего южного берега Балтийского моря возводил из своего рода на престолы королей в Англии и в обеих Сицилиях, завладел немалою частью Франции, и наконец победоносным оружием благополучно покорил себе Россию, или лучше сказать Острогардию, Гардарикию, Голмгардию, Хунигардию, Гунниландию, которыми именами тогда наши земли от соседственных народов назывались, не зная еще тогда о Российском имени.
Можно бы было мне умолчать о том, что в датских и норвежских историях о древнейших российских делах пишут. Ибо кому неизвестно, что исчисление времен у сих народов многим подлежит затруднениям? И кто усомнится, что у них равномерно, как и у всех других народов, древнейшая история, за неимением тогдашних времен писателей, наполнена баснями и написана больше для своей похвалы, нежели для подлинного изъявления учинившихся тогда приключений?
А о том, что случилось по нашему исчислению прежде приходу славян в сии земли, рассуждать можно, что мало до нас касается, потому что оных всякой признает за первейших российского народа основателей. Однако из истории показать можно, что скандинавы всегда старались наипаче о приобретении себе славы российскими походами.
Саксон Грамматик, например, упоминает о сильном на море российском царе Транноне, которого король датский Фротон Первый по одержании победы над Дорноном, Куретским королем, преодолел не силою, но некою военною хитростью.
Когда сие сделалось, в том писатели не согласны, исправнее всех исчисление Торфеево, по которому сей Фротон жил во время рождества Христова. Траннон основал свою столицу в городе Ротале, и датчане, взявши оную, подступили под Палтиск, что, по моему мнению, больше о Лифляндии и Литве разуметь должно. Имя Палтиска или Пелтиска часто упоминается у историков северных стран; но по всем обстоятельствам явствует, что оным означивается город на устье реки Полоты к реке Двине, который мы ныне Полоцк называем.
Не видно, чего ради подлинное определение местоположения сего города так трудно показалось покойному профессору Байеру. Он рассуждает, взирая на одно сходство имен, что половцы, бывший в России народ, которой в XII веке после рождества Христова жил в степях между Доном и Днепром, в сих странах имел свое жилище. А о городе Рогале, взятом от Фротона прежде Полоцка, заключить можно, что оной где-нибудь в Лифляндии стоял у моря. Особливо для того, что тамошняя страна, лежащая против острова Езеля, по древнему Лифляндскому летописцу, Грубером изданному, называлась Роталия. Следовательно, Траннон был король Лифляндской, которого писатели ошибкою назвали царем российским, обманувшись сомнительным именем Австрии, то есть восточных стран, которым норвежцы называли без разбору Лифляндию, Естляндию и Россию.
Что о Веспазии, короле имевшем тогда столицу в Палтике, и о короле Андуане, далее к востоку державствовавшем, пишет Саксон, объявляя, что Фротон хитростью своею взял столицы обоих оных королей, а Андуану, по взятии дочери его себе в супружество, возвратил королевство; сие я бы причислял лучше к России, ежели бы свидетельства тогдашних времен не были толь сомнительны, что и сам Грамматик почитается за недостоверного писателя от Олая Bepeлия, которой его тем попрекает, что он все великолепное и дивное из древних историй приписал Фротону, дабы представить его не только королем, но и воином, древним героям и богам равным.
Голмгардиею называли скандинавы российскую столицу, а по ней и все около лежащие места Голмгардией же прозвали, через то мы разумеем Новгород. А хотя бы из того что Торфей при Голмгардии упоминает о некоем короле, в первом веке после рождества Христова державствовавшем, заключить было можно, что оной город прежде состоял, нежели как выше сего о Новгороде показано, однако от того не произойдет нам никакого затруднения. Ибо мы сами имя России употребляем о первейших временах, когда об оном еще не знали, не для того, чтоб кто заключал, что и тогда было уже оно в употреблении, но для лучшего вразумения, о каких землях мы говорим.
В шведских историях пишут о владевшем в те же времена короле Готеброде, Регнерове сыне, которой прославился войною против России, Естландии и Курляндии, начатою им по Саксонову свидетельству, не для какой другой причины, как только для одного распространения своего владения. А Иоганн Готф приводит сию причину, что Россияне отпустили к вышеупомянутому Фротону, королю датскому, когда он шел войною на Регнера, вспомогательное войско, и тем Готеброда огорчили. Я сомневаюсь, что сие к России применить можно, потому что Саксон, как древнейшей историк, которой сию войну описал, употребляет имя не России, но вообще Востока, через которое последующих времен писатели разумели Россию, Естландию и Курляндию, а древние Скандинавы называли тем именем и одну Естландию.
Немного после упоминается у шведов о российском царе Бое, воевавшем в отмщение смерти брата своего Балдера, славного у датчан героя, против шведского короля Готера, Готебродова сына, которого Бой, победив, убил, только и сам жестоко был ранен и от того на третий день скончался.
Не упоминаю о том, что пишет Саксон о рождении Боя, о котором якобы финской колдун по кончине Балдеровой наперед прорекал, что родит его Отин от Рынды, дщери российского царя, для отмщения смерти братней. Тело сего царя весьма великолепно и по тогдашнему обыкновению в провожании всего российского войска погребено, а над гробом его насыпали высокой бугор, дабы сего героя славные дела не пришли у потомствующих народов в забвение.
Что о делах другими шведскими королями тогдашних времен в России или вместе с россиянами предпринятых пишут, например, о Рорике, Готеровом сыне, имевшем войну с россиянами, отца его убившими; о Ботвилде, нерадением своим подавшем повод датчанам с западной стороны, а россиянам, датским союзникам, с восточной напасть на Швецию; о Линдроме, с которым россияне и естландцы воевали в собственных его землях; тому всему во втором веку после рождества Христова случиться надлежало. Ибо оное происходило прежде владения короля датского Фротона Третьего, которой по исчислению Торфееву жил в третьем веке. Об оном Фротоне здесь за тем наипаче объявить должно, что он как брачным сочетанием с Гаинундою, дщерью царя гуннского, так и войною против тестя прославился; а через гуннов здесь разуметь надлежит древних жителей северной части России, что явствует по положению мест, Саксоном описанному, и по флоту гуннов, с которым им нигде кроме как на Балтийском море ходить не можно было.
Впрочем, что рассуждает Торфей о положении Гуннской земли смежной с Ютландиею, оное до нас не касается. Ибо гунны в разные времена разными землями владели. Но чтоб они еще при владении сего датского короля Фротона доходили до Саксонии и Фрисландии, то весьма невероятно. Олай Bepeлий свидетельствует, что в Швеции имеются следы от Гуннов, которые, по моему рассуждению, от тех еще времен остались, когда Гунны владели частью России до самого Финского залива, почему им не трудно показаться могло учинить нападение на Швецию.
Кому сие мнение не полюбится, тот может себе представить, что датчане в старинных своих песнях, бывших во время Фротонова, северных России жителей несправедливо смешали с гуннами, в чем они легко могли ошибиться, для того что гунны, из южных российских стран вошед в западные, везде силою своего оружия прославлялись, и потому не дивно, что другие народы их возносили, приписывая им такие дела, кои до них и не касались.
Фротону с немалым трудом досталась сия невеста, которая долго на то не склонялась, чтобы, оставя отечество, с чужим государем сочетаться браком. В тогдашние времена при таких случаях обыкновенно употребляли приворотные питья, а когда оные не действовали, и силу оружия. Для того Вестмар, Фротонов посол, дабы требованию своему придать большие силы, вошел с вооруженною рукою в столицу гуннскую, и невестину отцу говорил: либо отдай дочь, либо к сражению готовься, мы намерены умереть, или желаемое получить. Между тем, также действовало приворотное питье от посланной Фротоном женщины Готвары составленное и невесте поднесенное. Ганунда вступила в брак с Фротоном, и отец отвел ее сам к жениху, только по прошествии нескольких лет Фротон с нею развелся.
За то произошла жестокая война между гуннами и датчанами. Гуннам помогал царь восточных стран Олимар, которой, по моему мнению, владел некоторою частью России. Он с шестью российскими князьями командовал флотом, а царь гуннский сухопутным войском. То весьма невероятно, что датские проведывальщики, как пишут, донесли своему королю о числе судов гуннских, однако великое оных число им не помогло, также и сухопутное войско отчасти за недостатком съестных припасов, отчасти же храбростью неприятелей, по убитии на бою самого царя гуннского, в конец было разорено.
Потом упоминается о трех российских царях Олимаре, Еневе и Даге, которые Фротоном в защищение приняты; первому из них дал он во владение Голмгардию, другому Коногардию, а третьему Естию, то есть Естландию.
О Голмгардии я выше объявил, что тем именем разумеется Новгород, и как без сомнения сей город в следующих веках так назывался, то особливо по объявленному побитию гуннов, владевших новгородскими землями прежде новгородцев, весьма вероятно кажется, что Олимар вступил во владение на место короля убитого. Рудбеково мнение было, что Голмгардия находилась у реки Двины, на том месте, где она в Белое море впадает. Утвердить сего ни на чем больше не можно, как на имени старинного города Холмогоры. Ибо там древние биармские цари имели свою столицу, которая ежели от островов по реке Двине к городу принадлежащих Голмгардиею названа, то оттуда явствует начало нынешнего имени Холмогор, что гораздо достовернее, нежели чтоб двояким одной вещи знаменованием толковать сие имя из языка российского.
Новгородцы после того может быть победили биармцев и их столицу разорили, о чем имеем некоторое свидетельство в старинном новгородском Софийском летописце, по которому новгородцы владение свое распространили до Ледовитого моря и до реки Выма и Печоры, только того утверждать не смею, что далее о распространении новгородской власти в оном же летописце объявлено, якобы они дошли и до реки Оби, и получали оттуда дорогие соболи, ходынки тогда называемые. Буде же вышеописанное подлинно так случилось, и город Холмогоры назывался в древние времена Голмгардиею, то по перенесении оттуда владения в Новгород, могло перенесено быть туда и имя от соседних народов.
Об имени Коногардии, которое иногда пишется Гунегард, Хунегард, Кенугард и Киенугард, многие писатели, утверждаясь на Гелмолде, рассуждают, что оно от гуннов происходит. А хотя сие происхождение имени для того, что гунны в древние времена в России жили, несколько вероятно, однако я имею о том другое мнение, по которому два города, одним именем названные, надлежащим образом различить, и происхождение их имен точно определить можно. Во-первых, примечать надлежит, что Кенугардия был город в северной части России и, по свидетельствам северных стран писателей, стоял между Голмгардиею и жилищами иотунгеимов, о которых все писатели согласуются, что жили около рек Еливогов, и ежели старинные имена употреблять, у Кронского или Гандвического залива, то есть около Белого моря, либо в Лапландии, либо в которой-нибудь части Биармии. И потому оная Кенугардия стояла к северу где-нибудь в Финляндии, где ныне Каяния, старинным, как кажется, именем названная.
Во-вторых, и Киев у северных писателей Кенугардиею был прозван; и тому может быть Гунны несколько причиною были. Только и то явно, что имя сие у Гелмолда, и у неизвестного славянской летописи сочинителя у Линденброга, Хиве у хронографа Саксонского, и у Адама Бременского, Китава и Куиева у Эггегарда Враггенского, также и употребляемые от восточных писателей имена Куяба и Куиа, конечно, из слова Киев испорчены.
Торфей, следуя Еймундовой истории, пишет, что Гардерихия между тремя Владимировыми сыновьями Яриславом, Буриславом и Вартиславом так была разделена; что Яриславу досталась Голмгардия, Буриславу Кенугардия, а Вартиславу Палтеския. Из чего явствует, что здесь говорится о разделении России великим князем Владимиром Святославичем, между сыновьями его учиненным, хотя не всех их имена и наследства означены. А что Ярослав по определению родительскому получил новгородское княжение, то бесспорно. Палтескию находим в Полоцке, над которым Владимир определил владетелем сына своего Изяслава. А как сей прежде отца скончался, то получил сие княжение Брячислав, внук Владимиров, которого Торфей почитал за сына Владимирова.
Нельзя себе представить, чтоб историк умолчал о Киеве, столичным городе всего царства. Следовательно, оной под именем Кеногардии разумеется; а когда норвежской писатель упоминает о Буриславе, которого наши летописцы Святополком именуют, то, по моему мнению, их согласить можно, полагая, что сей великий князь по примеру других российских великих князей имел два имени. Ибо в другом месте истории норвежской описывается война, которую имел Ярослав с Святополком о владении. Норвежцы обоим великим князьям служили. Святополка называли везде Буриславом: а как могло статься, чтоб не знали они подлинного его имени?
Я уповаю, что всякой со мною согласится, когда я рассуждаю, что писатели, объявляющие о делах северных народов, при Кенугардии разумеют Кенугардию, в Финляндии лежащую, а не Киев, на которой сим народам за великим расстоянием напасть не так способно было. В оной же Кенугардии владел храброй и сильной царь Сисар, которой в те же почти времена, или не много прежде, наступя войною на Швецию, убит от Старкадера, храброго мужа. О других российских царях, в Голмгардии или Кенугардии державствовавших, объявить едва можно, в которое время каждый из них владел. Довольно и того, чтоб вообще об них упомянуть, что они царствовали не много прежде, либо после короля датского Фротона Третьего.
Древние скандинавские истории, что саги называются, превозносят Сигурлама, гардарикского царя, с супругою Гейдою и с сыном Свафурламом, которой, по мнению Торфееву, жил в оные времена, а другие пишут, что он был Отинов сын и от отца возведен на царство; иные же, не упоминая о его роде, только объявляют, что владел Гардерикею. Без сомнения Герравда причислять должно к российским царям, которого дщерь Гейрриду взял себе в супружество Норвежец Авгмунд-Флок, которому по сему сродству досталась во владение немалая часть России.
Герравд, царь российской, как пишут, дщерь свою Силкизифу отдал в супружество за норвежца Одда, которая принесла ему царство в приданое. Одд, родивши от супруги своей двоих сыновей, Асмунда и Герравда, для любви своей к отечеству возвратился в Норвегию. Гумлий, царь гунландской, отошел от норвежца Гейдрик: а, морские поиски чинящего, во внутренние царства своего места и выдал за него дочь свою Сифку, от которой Гейдрик родил сына именем Главда.
Гроллавг был сильнейший изо всех гардарицких царей своих времен, не только в рассуждении пространного его владения, но и великого ради богатства; супруга его Герборг, сын Герлавг, дочь Гергерда все красотою славны. Гейдрик Норвежец, для утверждения своей у царя власти, увез с собою сына его Герлавга яко бы для воспитания, а с дочерью его Гергердою браком совокупился, с которою вприданое получил Виндландию, то есть Финляндию. Причем, шведской писатель Олай Bepeлий за примечания достойно находит, что в те времена Финляндия принадлежала к российскому государству.
В сии времена в первые упоминается о приморском городе Алдейгиабурсе с Россиею смежном и славную имевшем гавань, откуда в Голмгардию сухим путем идти можно было. По моему мнению, построен он в здешних странах от готов, что и по имени явствует, которой на их языке старую крепость или город значит. Жители онаго города, утвердившись властью и помощью своего народа, имели в начале собственных королей, в числе которых находился Ингвар, убитой от Стурлавга прозванием Трудолюбивого. Стурлавг дочь Ингварову именем Ингигерду, сочетав браком с Фрамаром, возвел его там в короли. Гергеир Алдейгиабурский же король во время осады того города королем Трандийским Еистеином в бою убит. Биартмар, граф Алдейгиабургский, в рассуждении силы своей многим королям не уступал.
А в следующие времена означенной город, как кажется, славы своей по большей части был лишен, потому что об оном до тех пор ничего не упоминается, пока по приведении оного под российскую державу во время Владимира Святославича королевич норвежской Ерик Гаквинов сын его не взял. Потом Ингигерда, шведская королева, сей город получила во владение от супруга своего великого князя Ярослава Владимировича и во оном наместником определила графа Рогнвалда, о учинившихся после в том месте приключениях никакого известия не имеем, да и подлинного его положения не знаем, хотя некоторые думали, что точно оное показали.
Во-первых, погрешил Олай Рудбек, полагавши Алдейгиабург у реки Волхова близ Ладожского озера, а для утверждения того назвал он сие озеро Алдеск, будто между именами Алдейгиабург и Алдеск имеется какое сходство. Байер, последуя может быть сему Рудбекову мнению, почел без основания старую Ладогу, город нами довольно известной, за Алдейгабург, утверждаясь на российских летописцах, по которым Ладога была первая столица великих князей российских. Петр Дикман, по свидетельству Страленберговух, признавает Алдейгиабург за главный и столичный город Голмгардии и Гардарики.
Но ученые сии люди не припамятовали, что по свидетельству всех историй, Алдейгиабург российскому скипетру подвержен был уже в последние времена незадолго до его разорения, и что он везде от Голмгардии и Гардарикии различается, следовательно, не можно тому статься, чтоб великие князья российские имели в нем свою столицу.
Сие бесспорно, что у Алдейгиабурга приставали корабли, и оттуда опять за море отпускались. Но оное Волхову реке и к старой Ладоге применить, по моему мнению, весьма не прилично. Хотя бы кто и объявил, что по обычаю тогдашних времен на малых судах в верх по Неве реке без труда ходить могли, и так они пришли в реку Волхов; хотя и положить, что имеющиеся в обеих сих реках пороги судовому ходу не препятствовали; но можно ли какую тому изыскать причину, для чего отправляющиеся в Голмгардию до того города водою не доходили? Для чего в Алдейгиабург до наступления зимы останавливались? Не явствует ли из сего, что Алдейгиабург далее отстоял от Голмгардии, нежели как старая Ладога от Новгорода?
Сверх того голмгардцы, отправляющиеся за море, сперва сухим путем ходили в Алдейгиабург и там корабли приготовляли, которое обстоятельство Старой Ладоге для того не пристойно, что сей город не больше Новгорода к строению судов и к хождению оттуда в море способен.
Байер и до него Bepeлий собирали свидетельства из писателей, по которым то, что здесь предложено, явствует. По всему видно, что Алдейгиабург стоял где-нибудь в Эстландии или в Ингерманландии на берегу Финского залива. И хотя Верелий в одном месте пишет, что из шведской провинции Смаландии ходили морем мимо Алдейгиабурга на Селандской остров Самсо, только оное разуметь можно о славном в прежних временах городе Алтенбурге в Багрим, дабы нашему мнению от того прекословия не было.
Впрочем, еще здесь упомянуть надлежит, что некоторые объявляют, будто в Санкт-Петербурге, на одном из здешних островов, и поныне видны следы города Алдейгиабурга, к чему они показывают на оном земляной вал, вышиною в пояс человеку, и обнадеживают, якобы также развалины каменного города прежде сего там имелись, и что оттуда брали камень на строение Санкт-Петербургской крепости.
Сие весьма бы прилично было верить, ежели бы теснота места, валом обнесенного, не препятствовала, чтоб оное за столицу бывших Алдейгиабургских королей признать, и притом бы положение острова к пристани кораблей было способное.
Другие помянутое объявление тем уничтожают, что о развалинах бывшего там каменного города, и о взятых оттуда к Санкт-Петербургскому крепостному строению камнях не только сомневаются, но и тому спорят и о земляном вале рассуждают, что он в новейших временах служил к обороне некоторому числу шведского войска на помянутом острове засевшему, чего ради здесь ничего о том подлинного не определяем, но точное изъяснение сего дела оставляем будущему от других исследованию.
По сем опять приходим к датскому королю Фротону Третьему, о делах которого, в России предпринятых, выше сего упомянуто. Оставил он по себе сына Фридлева, которой по историям России воспитан, и российскому царю, с которым он по матери был в родстве, на войне служил, а по свидетельству Кранциеву, он же и в России царствовал.
В оное время Швециею владел Голдан, сын Ерика Велеречивого, которой как Норвежцы на него учинили сильное нападение, либо сам уехал в Россию, либо к Фридлеву отправил посольство для испрошения себе против неприятелей помощи. Фридлев, слышав о смерти отца своего и о вступлении своем во владение не по наследству другого короля, легко склонил российского царя к отпуску обоим им вспомогательного войска, которым норвежцы из Швеции выгнаны, а Фридлев на отеческий престол возведен.
Потом готы, вышед из Швеции с многочисленным войском и завладевши Курляндскими и Эстландскими берегами, под предводительством их короля Вильмера Россию, состоящую тогда под державою царя Гервита, грабежом, огнем и мечом разорили.
Гервит по кровопролитной баталии чрез два дни продолжавшейся принужден был Нордиану, Вильмерову сыну, уступить государство: но как Нордиан при владении утвердиться не мог, Гервит, вознамерившись возвратить себе прежнее царское достоинство и собрав довольное войско, с таким устремлением на готов учинил нападение, что несмотря на храброе их сопротивление Гервит, воюя в отечестве своем и будучи всегда укреплен новым войском, сильного сего неприятеля из России выгнал. Часть оных под предводительством Нордиана чрез Литву и Польшу ушла во Фракию, а другая часть заблагорассудила возвратиться в свое отечество. Гервит, следуя за ним с победоносным своим войском, часть Швеции привел под свою державу и, при возвращении своем в Россию, оную во владение отдал своему сыну Гервиту же, которого шведы потом, лишивши престола, убили.
Старкадерово имя у северных народов храбрыми везде учинившимися делами весьма прославилось; только оное разные вожди носили, так что многие писатели не различают и их дела все одному приписывают, или одного за другого почитают. Повести об них можно применить к российским для одной только забавы вымышленным сказкам о древних воинах, которых мы татарским словом богатырями называем, и так об них рассуждаем, что более удивительного, нежели правдивого про них сказывают.
Того Старкадера, о котором здесь упомянем, как датчане так и шведы своим называют и повествуют, что он по учиненном на Россию нападении и по обращении в бег царя Флока сокровища его расхитил, биармским воинам, тогда пред другими славным, на войне помогал и на последок Визинна, знаменитого в России бойца, на поединке преодолел. Все сие, как пишут, учинилось при государствовании Фротона Четвертого, которой по исчислению Торфееву владел в четвертом веку после Рождества Христова.
От сего времени спустя больше ста лет о России ничего не упоминается, а потом о датском короле Кракге объявляют, что он на Россию наступил войною, но об оном походе никаких особливых обстоятельств не показано. Галдан Третий, король датский, по свидетельству Саксонову, услышав о произошедшей между шведским королем Алвером или Алариком и между Россиею войне, нимало не медля отправился Россиянам на вспомощение, которые его с отменным почтением и приняли.
Напротив того, Кранций объявляет, будто Галдан вместе с Алвером воевал против России и с братом своим Гилдигером, в российском войске тогда служившим, бился, а в другом месте, отменяя прежнее мнение пишет, что Галдан, сыскивая везде случая к приобретению себе славы и уведомившись о учиненном от шведов на Россию нападении, поехал туда, дабы помогать россиянам, и с братом своим Гилдигером, шведскую сторону державшим, сразился.
Шведский король Дагер, Алверов отец, сию войну зачал по причине учинившихся между им и российским царем несогласии и для усмирения Ретона, российского разбойника, которой в то время на море многие грабежи чинил; Алверу от отца поручена была главная над флотом команда, которую он должность в младых хотя летах, однако с такою храбростью и благоразумием отправлял, что в краткое время с войском своим по всем российским провинциям распространился. Скоро потом Дагер в Дании скончался. Алвер по принятии престола опять войною наступил на россиян; и тогда случилось, что Галдан из Дании утесненной России пришел на вспоможение.
О других от датских и шведских королей, а именно: от Ярмерика, Ингемара, Алготфа предпринятых в Россию походах здесь умолчу, потому что они только за набеги почитаемы быть должны и к изъяснению российских дел мало служат. Но имя Ивара Видфадмиа, как у Датчан для весьма обширного его владения по датским, шведским, саксонским и восточным землям до Гардарикии распространившегося в великой славе находится, так для нас имя дщери его пребогатой Авдуры, браком сочетавшейся с российским царем Радбарьдом или Рандбаром, особливо достопамятно.
Помянутая Авдура, овдовевши после первого супруга своего Рорика Слангенбаухия Глейтрийского в Дании короля, по повелению Иварову убитого, для избежания лютости родительской с малолетним сыном Гаралдом Гилдитаном в провожании многих знатных своего государства приехала в Россию. Отец ее огорчившись, что она без ведома его с Радбардом в брак вступила, по вооружении флота на оной посадил многочисленное войско, угрожая разорить огнем и мечем земли своего зятя; но в оном намерении не имел желаемого успеха.
По прибытии с флотом в Финской залив впал в глубокую печаль от случившегося ему сновидения, которое он почитал за предзнаменование великого злополучия; предохраняя себя от оного, не мог однако избегнуть смерти. Ибо бросившись в море волнами погрузился. Датский флот, оставшейся без предводителя, возвратился в свою землю. А Гаралд, Радбаров пасынок, которому тогда от рождения было пятнадцать лет, получив от отчима флот с войском и отправившись с оным в Данию, от всех единогласно королем был принят.
Рожденный российскому царю Радбарду от Авдуры сын Рандвер, мужеством своим славный, не довольствуясь владением по отце ему доставшемся, поехал в Норвегию, а оттуда с войском перешел в Англию, где в бою убит. Потомки его чрез многие лета государствовали в Швеции, Дании и Норвегии. Ибо сын его Сигурт, Рингом прозванный, завладевши сперва Швециею, по одержании знатной Бравальской победы получил и датскую корону.
Радбардов внук Регналд с приведенным из России к двоюродному своему брату Сигурду вспомогательным войском на помянутой же баталии воевал с отменною храбростию. Для показания, в которые времена вышеописанные приключения учинились, приведу я Торфеево исчисление, по которому Гаралд Гилдетан родился в 585 году после Рождества Христова, по смерти Ивара Видфадмия в 600 году принял датский престол и, дожив до самой глубокой старости, в 735 году на помянутой Бравальской баталии убит. Рандвер родился в 610 году, а в 680 году родился ему сын Cигурд, которой в 735 году на 55 году от рождения дядю своего Гаралда престола и живота лишил.
Торфей объявляет, что киры и квены при владении короля Сигурда на Швецию напали, и что король с ними дал баталию. Последуя мнению Рудбекову, он киров почитает за финнов: но что под сим именем должно разуметь карелов, доказать можно бы было свидетельствами многих северных писателей, Карелию называющих Кириаландиею, ежели бы то невидно было уже по сходству двух сих имен.
Мессений, кто квены были, изъясняет, объявляя, что оная страна, которую в последующие времена не прямо именовали Каянландиею, издревле называлась Квенланд, то есть Женскою землею. А что оная под именем Кенугардии до России принадлежала, оное, как выше показано, по местоположению явствует; да сверх того между словом Квения и Каяния имеется такое сходство, которого к изъяснению такового дела требовать можно.
Дошли мы ныне до славного многими победами датского короля Регнера Лотброка, которой во время римского императора Карла Великого владел и завоевал Ливонию, от Саксона Грамматика Геллеспонт называемою. Убитый на баталии тамошний король Диан оставил по себе двух сыновей, из которых один по отце Дианам, а другой Даксоном назывался, которые оба браком сочетались с российскими царевнами, и получив от тестя вспомогательное войско о отмщении отцовской смерти старались. Но Регнер, преодолев их, завоевал Россию, Финляндию и Биармию и отдал оныя земли во владение своему сыну Витзерку: однако государствование сего Витзерка краткое только время продолжалось; ибо, будучи полонен от Даксона, на срубе его сожгли, которой по собственному его желанию из человеческих черепов был составлен.
Из сего видно, почтеннейшие слушатели, в какой силе то разуметь должно, когда в наших летописях и степенных книгах объявляется, что новгородцы через несколько времени дань платили варягам, но ободрившись, вооруженною рукою выгнали их из своих пределов, и сами собой управлялись, пока напоследок по прошедших между ими разных внутренних и междоусобных несогласиях варягов для принятия над ними владения назад призвали. И хотя новгородцы, как выше объявлено, часто состояли под властью норвежцев и датчан, только, по моему мнению, в летописях означивается здесь особливо Регнера Лодброка владение, от которого они по смерти Витзерка легко могли освободиться.
Все ли тогда варяги из России прогнаны, то по летописцам не явствует. Ибо употребленные ими слова об одних только начальных людях разуметь можно, так что изгнание до подлого народа не касалось. Надлежит себе представить, что в такое долгое время, в которое варяги против России воевали, и оную действительно себе покорили, немалое их число, как для военной службы, так и для купечества в Россию приезжали.
Также и то вероятно, что варяжские владельцы, Россиею обладавшие, для удержания и подкрепления своей власти переведенцами из своего народа Россию населяли, которые состоявши в таком же подданстве как славяне, пред оными никакого преимущества не имели, чего ради несправедливо бы было, ежели бы с ними так жестоко поступали.
Когда же потом единогласным всего народа желанием княжение варягам поручено было, то число их в России паче прежнего умножилось. Ибо при великих князьях Рюрике, Игоре, Святославе, Владимире, Ярославе полки гвардии почти из одних варягов состояли; в знатнейшие придворные и гражданские чины варяги определялись; когда внутрь или вне России война происходила, то вспомогательное войско из варяг было призываемо. И потому выше сего не без причины объявлено, что некоторая часть Россиян произошла от варягов, которая хотя и не столь многочисленна, чтоб с произошедшей от славян могла сравн�
© Автор-составитель Е. Тростин
© ООО «Издательство Родина», 2024
Предисловие
Викинги (норманны, варяги) – общее название скандинавских народов, более всего известных своими морскими походами и набегами на европейские земли. Эти набеги начинаются в VIII веке н. э., достигают пика в IX веке, а в последующие два столетии постепенно прекращаются.
Причинами походов викингов были, с одной стороны, перенаселённость приморских районов Скандинавского полуострова, нехватка пригодных для обработки земель, а с другой, общее потепление в эту эпоху, в частности, освобождение ото льда норвежских фьордов, Северного моря и северной части Атлантического океана, что способствовало прогрессу кораблестроения у скандинавов.
Если на Севере викинги совершали плавания в поисках новых, пригодных для заселения земель (там они достигли Гренландии и Северной Америки), то на юго-западе и юго-востоке Европы целью походов вначале являлся грабёж, затем здесь начинают создаваться опорные пункты для торговли, позже возникают государства викингов.
Этот процесс наиболее активно идёт в IX веке: викинги вторгаются в германские земли, во Францию и Британию, в Испанию и Португалию, в Северную Африку и Италию. В Британии центром их экспансии и одновременно торговли стал город Йорк, где образовалась «область датского права», во Франции они захватили обширные земли на западе страны, где позже было образовано герцогство Нормандское, на юге Италии викинги также основали своё государство.
В X веке правители викингов породнились со многими европейскими правящими домами: так английская династия всё больше становилась скандинавской, и, в конце концов, полностью стала ею после битвы при Гастингсе 14 октября 1066 года, где нормандский герцог Вильгельм II Завоеватель разбил войско английского короля Гарольда Годвинсона и захватил Англию (следует отметить, что и Гарольд был скандинавом по происхождению).
Понятно, что викинги не оставляли своим вниманием и восток Европы: в землях пруссов они держали в своих руках торговые центры Кауп и Трусо, откуда начинался «янтарный путь» в Средиземноморье; в Финляндии следы их длительного присутствия обнаружены на берегах озера Ванаявеси; на будущих русских землях археологические свидетельства о присутствии скандинавов найдены в Старой Ладоге, Тимерёве, Гнёздове, Шестовице и в ранних городах – Новгороде, Пскове, Киеве, Чернигове.
Таким образом, к IX веку викинги на востоке Европы основали свои опорные пункты вдоль всего пути «из варяг в греки» и, так же как в западной Европе, влияние викингов на жизнь местных народов усиливалось. Нет ничего удивительного, что именно викинги-варяги основали государство у восточных славян, как об этом сообщает «Повесть временных лет». Призванные на княжение Рюрик и его братья Синеус и Трувор были типичными представителями скандинавской знати. По одной из версий, Рюрик являлся викингом Рориком Ютландским (или Фрисландским) из рода южнодатских правителей династии Скьёльдунгов.
Имя Рюрик происходит из прагерманского языка, который является прообразом скандинавских языков: оно базируется на германских корнях hrôþaz – «слава» и rîk – «воин-правитель». Имена его братьев – Синеус и Трувор – происходят от древнескандинавских Signjótr и Þórvar. Эти имена хорошо известны в рунических надписях.
Само название государства восточных славян «Русь» возводится к древнескандинавскому rôþr «гребец» или róþskarlar – «гребцы, мореходы». «Рѹсью» («Русью») восточные славяне первоначально называли викингов из шведского Рудена, с которым у славян имелись устойчивые связи, поэтому именно к «роусьи» эти племена обратились с просьбой прислать посредника в междоусобных спорах. После вокняжения династии Рюрика в Ладоге и Новгороде этническое название правителей было перенесено на подвластный им народ по распространенной в Средние века модели (так, например, произошло название восточно-балканских славян «болгаре» – от булгар, тюркских завоевателей; французы – по названию завоевателей-франков). Академик А. А. Зализняк считает, что слово «русь» вначале обозначало только норманнов, а затем с норманнской элиты перешло на славян, живущих вдоль всего пути из «варяг в греки».
Целый ряд имен и слов древнерусского языка имеет доказанное древнескандинавское происхождение: Глеб, Игорь, Олег, Ольга, Рюрик; варяги, вира, стяг, пуд, якорь, ябедник (старое значение – чиновник), кнут, голбец и другие.
В раннем средневековье норманское происхождение древнерусского государства и правящей династии не вызывало никаких споров. Родство с викингами королевских домов Европы было, как уже отмечалось, обычным явлением и нисколько не умаляло местных правителей. Положение изменилось после долгого монголо-татарского ига, когда Россия, собранная из осколков Древней Руси, пытается вновь войти на равных в число европейских стран и даже подчеркнуть своё особое положение. Не случайно в начале XVI века возникает теория «Москва – Третий Рим», а в середине этого же века первый русский царь Иван Грозный яростно спорил со шведским королём Юханом III, доказывая, что русская династия ведёт своё происхождение не от варягов, а от «Августа-кесаря».
Через полтора века после этого положение резко изменилось: Пётр I, «прорубив окно в Европу», напротив, был заинтересован в доказательстве древних связей России с европейскими династиями. Приглашённые им немецкие учёные (своих в России тогда не было), добросовестно изучив русские летописи, подтвердили норманскую теорию. Однако эти учёные – Байер, за ним Миллер и Шлёцер не помышляли о том, чтобы унизить россиян, да Пётр и не позволил бы этого сделать. Норманская теория удачно вписалась в общую идеологию этого времени – до тех пор, пока на престол в 1741 году не взошла Елизавета Петровна.
Она захватила власть в результате государственного переворота, свергнув последнего представителя другой ветви Романовых – малолетнего императора Ивана VI Антоновича. Как всякому узурпатору, Елизавете было крайне важно доказать, что совершённый ею переворот был благом для страны, а предыдущее правление представляло собой сплошной кошмар. Для доказательства этого использовался миф о немецком засилье в правление Анны Иоанновны (1730–1740), двоюродной бабушки Ивана Антоновича. Её фаворитом был курляндский герцог Бирон, отсюда этот период получил название «бироновщины»; при Елизавете «бироновщина» описывалась чёрными красками: утверждалось, что немцы обладали всей полной власти в России, творя страшные притеснения русским людям.
Между тем, верхушку власти при Анне Иоанновне составляли в основном те же лица, что были при Петре I – и русские, и немцы, – а политика её в целом была продолжением петровских реформ. Бирон, объявленный при Елизавете воплощением зла, действительно неважно отзывался о русских, но исключительно в частных беседах, а в общественной жизни неукоснительно соблюдал русские традиции и постоянно посещал православные церковные службы, пусть и принадлежал к лютеранству. Россия сделалась для него вторым Отчеством: вернувшись из двадцатилетней ссылки, Бирон верно служил российскому государству до конца жизни. Что же касается жестокости правления Анны Иоанновны, оно мало чем отличалось от петровского, даже было сравнительно мягче.
Тем не менее, Елизавета всячески подчёркивала, что в отличие от Анны Иоанновны и Бирона ведёт политику в русских интересах. Борьба за «русскость» была перенесена и в научные споры, её возглавил М.В. Ломоносов. Он выступил с яростной критикой норманской теории, применяя своеобразные аргументы: так, он утверждал, что Рюрик, Синеус и Трувор были славянами и имена их тоже славянские. Никаких серьёзных доказательств этому не существовало, но Ломоносов упорно громил немецких учёных, продолжавших придерживаться «норманизма»: порой дело доходило до настоящих драк, причём, Ломоносов каждый раз отделывался незначительными наказаниями за рукоприкладство, поскольку правительство поддерживало борьбу с «норманистами».
В XIX веке изучение норманской теории стало более спокойным: к концу девятнадцатого столетия большинство исследователей принимало её, не ставя, однако, под сомнение способность славян самостоятельно создать государство. Главным здесь было наличие экономических и социальных предпосылок к его созданию, а не национальность первых русских князей.
Положение снова изменилось в период «сталинской империи». Исключительность советско-российского государства опять приобрела довлеющее значение в противоборстве с Западом, и норманская теория была объявлена орудием враждебных России сил. Этому способствовало использование «норманизма», доведённого до абсурда – до отрицания способности славян к самоуправлению, – в идеологии нацистской Германии. Конечно, Гитлер, призывая немцев к зачистке «жизненного пространства» на востоке Европы для германской нации, опирался не столько на «норманизм», сколько на расовую теорию о неполноценности славян вообще и русского народа, в частности, но и «норманизм» сыграл определённую роль в захватнических планах нацистов.
В результате, норманская теория в СССР долго была под запретом: она вновь была введена в научный оборот лишь в позднесоветские времена. В современной России битвы между норманистами и антинорманистами возобновились, причём, первых считают чуть ли не русофобами, а вторых – защитниками традиционных российских ценностей.
Примечательно, что несмотря на сложные отношения с Западом и антироссийскую риторику определённых политических кругов на Западе, никто из западных политиков не пользуется норманской теорией для обоснования неполноценности россиян. Это было бы нелепым анахронизмом, – в представлении Запада норманнская теория давно отошла в область чисто научных споров.
Август Шлёцер
Начало Руси по русским летописям
(из книги «Нестор: русские летописи на древнеславянском языке»)
Нестор, первый русский летописатель
Киев на Днепре, в Украине или в Малой Руссии, следственно, еще в южной Европе, принадлежит к древнейшим городам нашей части земного шара, хотя никто не знает не только года, но и столетия, в которое он основан. Около 882 года был он уже главным и столичным городом нового русского государства, а спустя сто лет после сего принял он с остальной Русью христианскую веру.
Вскоре после крещения стали приходить в Русь из Византийского царства монахи и пустынники. Иларион, пресвитер на Берестове, оставив свою церковь, пошел на Днепр на холм, где теперь стоит старый Печерский монастырь, а тогда был большой лес. Здесь вырыл он себе пещеру в две сажени глубины, часто приходил в нее с Берестова и молился Богу втайне. А в 1050 году великий князь Ярослав сделал его первым русским митрополитом.
Вскоре после того вздумалось одному мирянину из города Любеча идти странствовать. Пришед на святую гору, обошел он тамошние монастыри, возлюбил монашеское житье, пострижен одним из игуменов и назван Антонием. Пришел он на холм, где Илларион вырыл себе пещеру, которая ему понравилась, и он в нее вселился. После он выкопал себе новую пещеру, где пребывал в трудах, молитвах и посте. Вскоре узнали о том добрые люди и стали приносить ему все нужное. Распространившаяся о нем слава возбудила некоторых просить его о приеме их в братство…
Август Людвиг Шлёцер (1735–1809) – немецкий историк, в 1761–1767 годах состоявший на русской службе в Санкт-Петербурге.
Шлёцер – один из авторов норманской теории возникновения русской государственности. Особенно резко выступил Шлёцер против искажения истории с патриотической целью. В этом отношении ему пришлось вынести большую борьбу с приверженцами противоположного взгляда.
Число братии все умножалось и построили они монастырь и церковь возле него; затем Феодосий, избранный Антонием, занял место его. Феодосий принимал всякого к нему приходящего – здесь начинается Несторова история.
В том, что бессмертный сей муж есть точно русский, в том никто не сомневается, но настоящее место его рождения неизвестно. Татищев думал, что отыскал оное на Белоозере, но он обманулся ложным или не так прочитанным разнословием, находящемся в одном только Радзивилловом сборнике.
Нестор оставил две книги: «Житие некоторых игуменов и других богобоязливых мужей Печерского монастыря», но несравненно важнее и дошедшее до нас сочинение его есть Временник, который доставил ему по превосходству почетное звание русского летописателя. Временник сей очень важен сам по себе, ибо без сего монашествующего брата что знали бы мы достоверного о всем верхнем севере до XI столетия?
Но каким образом человек сей образовался на Днепре, а особливо, как пришла ему в голову мысли написать временник о своей земле на своем языке? Кого брал он за образец? Из каких источников брал он свои известия и как поступал вообще при своем описании?
С 988 года было дружеское и редко прерываемое сношение между Киевом и Константинополем. Священники, монах, художники (архитекторы, живописцы и т. д.) отправлялись во вновь обращенную землю, а русские путешествовали в Грецию. Не удивительно, что весь временника Нестора сделан на византийский покрой, также подражал он византийским историкам и в хронологическом расположении.
А источники, из которых почерпнул он свои известия? О многом писал он как современник, ибо государству его не исполнилось и двух столетий; многое узнал он, как сам говорит, от одного своего товарища, монаха Яна, умершего в 1106 году 90 лет отроду, следовательно, родившегося в 1016 году, спустя всего год после смерти Владимира Великого.
Но не было ли у него еще каких-нибудь древнейших письменных известий? Верно не Иоакимовские бредни. Если бы существовала когда настоящая Иоакимовская летопись, то возможно ли, чтобы Нестор ее не знал и не привел ее в свидетельство? Особливо, если бы сие древнейшие известия, как в отрывке ложной Иоакимовской летописи, совершенно отличались от Несторовых.
Но об Олеговом и Игоревом мирных договорах с византийскими императорами говорит он пространно, по крайней мере, помещены они во многих списках, что составляет для меня загадку. Столь пространные памятники в прозе не могли никак сохранится славянскими преданием, но неужели тогда уже (в 907 и 945 годах) умели писать необразованные норманны? И византийцы ничего не говорят о сих двух важных договорах; Олега не знают даже по имени. Правда, сие происшествия случились в то время, когда сделался величайший промежуток в византийской истории (813–959).
А каково его изложение? Точно по-византийски начинает он космографией, баснословствует о разделении земли между Ноевыми сыновьями и доходит до Вавилонского столпотворения, которое, однако, скоро оставя, приступает к вступлению в историю своего отечества. Тут доставляет он очень полезные и совершенно новые известия о многих малых народах, обитавших тогда в Руси, прежде чем соединились они под одну державу. О переходах славян в древние времена говорит он много такого, чего нет ни в одном византийском историке, и что, однако, согласуется с прочими известными историями, или, по крайней мере, не противоречит оным.
Удивительно, с какой точностью отличает он славянские и финские племена; но то что он леттов (древних пруссов) мешает с финнами, а не со славянами, утверждает меня в моем старом, некоторыми людьми оспариваемом мнении, что летты составляют особенный, отличный от славян народ.
Также исчисляет смежные и отдаленные европейские народы, как тогда известны они были в Киеве.
После сего краткого вступления приступает он немедленно к своей истории. Повествование его о происхождении русской державы можно в настоящем смысле назвать всеобщим: как по странному, но понятному стечению вещей, три совершенно различных народа соединяются; как Рюрик, призванный только для того, чтобы быть простым предводителем, делается государем и т. д.
Но то что говорит он о путешествии апостола Андрея в Русь, есть благочестивое повествование, которого истину может оценить лишь тот, кто сведущ в церковной истории. Его Кий, Щек, Хорив, Лыбед, Радим, Вятко суть этимологические существа: перевозчик Кий мог быть и дать свое имя Киеву, но никогда не мог быть князем, которого уважали константинопольские императоры (однако последнее, может быть, вставлено позже).
Каким же был древний верхний север с 800 года, когда мало-помалу начал он открываться с многих сторон? Люди в нем уже были, но, верно, не в большом числе, ибо чем им питаться? Люди, разделенные на малые орды, предводительствуемые старейшинами или кациками, которых баснословы, следуя греческому обычаю, называли царями и князьями; люди, очень способные к образованию, которого, однако, сами себе дать не могли, а должны были ждать от внешнего побуждения; не имеющие политического постановления, сношений с иноплеменными, письма, искусства, религии, или только глупую религию.
Вот как изображает нам честный Нестор землю свою до Рюрика, т. е. до 860 года: как пустыню, в которой жили порознь небольшие народы, которых всех исчисляет он подробно и часто, с точностью определяет место их пребывания; которые жили, а не кочевали, жили в городах, не похожих на нынешние города, а на огороженные деревни. Русские летописи очень обстоятельно описывают, как мало-помалу в последующих только столетиях возникли настоящие города в Руси.
Первый шаг к образованию, сделанный новгородцами и соседственной чудью, состоял в том, что те и другие, хотя и против воли, поставили у себя государя; второй же шаг состоял в том, что первые около 1000 года, хотя и тоже против воли, крестились.
Прочие северные народы достигли своего образования по другим степеням. В последней четверти восьмого столетия голод, а потом мщение против франков погнали ютландских норманнов в Немецкое море и на юг; их набеги им удавались и этот пример, вместе с голодом, повлек за ними и прочих норманнов. В IX столетии с удивлением видим, что множество малых народов, вскоре один за другим и по большей частью неволей, соединяются и образуются в шесть правильных больших держав: Данию, Норвегию, Исландию, Швецию, Польшу и Руссию. Как это сделалось, знаем мы только про Норвегию, Исландию и Руссию.
Нестора можно и должно исправлять с помощью прочих исторических познаний; в коротких словах скажу, что произвело одно простое сличение его переписчиков.
I. Все показывают год, в который призваны варяги, в который они пришли, в который Рюрик сделался государем, и все это ложь, ибо в начале русской истории совсем нет верной хронологии и грубые противоречия ощутительны.
II. Начало Руси – не теперь отыскано, ибо слава этого принадлежит Байеру, – но выведено из всякого сомнения. Никто, кто только что-нибудь читал о норманнах, не может принять варягов ни за кого более, кроме норманнов; сам Болшев убедился бы, что Рюрик был немец, а не финн, а Варяжское море было Балтийское, а не Ладожское озеро.
III. Никто не может более печатать, что Русь, задолго до пришествия Рюрика, называлась уже Русью. До сего времени земля эта не имела никакого общего названия, а получила его только от некоторой особенной части варягов, называемых руссы, ибо это говорит сам Нестор, противоречить которому есть то же, что признавать ложную Иокимовскую летопись за истинную.
Что хотя многие считают весьма вероятным, что эти руссы означают шведов, то если они и обманываются, то не за что считать их государственными преступниками; а равно и тех, которые думают, что прародитель высокого Рюрикова племени упражнялись в (тогдашнем) почетном ремесле прародителей англо-саксонских королей.
IV. О древних городах Славянске и Русе Нестор столь же мало знает, как о сродстве Рюрика с императором Августом. Даже существование самого Гостомысла подвергается опасности от грубых противоречий и т. д.
В описаниях происшествий, бывших при последующих государях, а особливо при Ольге и Владимире Великом, представляются такие же вздорные басни и несообразности, принадлежащие как переписчикам, так и самому Нестору, и которые должна разобрать критика.
Неизвестно, до какого места писал Нестор, ибо временник его смешан без отделения с продолжателями оного. Татищев думал, что Нестор перестал писать в 1093 году, ибо здесь в некоторых списках на конце поставлено увещевание, оканчивающееся аминем.
Предлагаемое мною начертание истории
Первый закон в истории – не говорить ничего ложного. Очистить малообработанную историю от басен, ошибок и вздорных мнений, можно по справедливости назвать трудом, заслуживающим уважения, хотя часто и неблагодарным. Нелегко отстать от положений, которые долгое время вообще всеми принимались; оскорбляешься, если покажут тебе важную, а часто даже смешную ошибку; сердишься на того, кто смеет противоречить всем, кто только разрушает, вместо того чтобы созидать, и кто только из одной ученой дерзости возводит сомнения на доказанные истины.
Но сомнения и легковерие суть две крайности, которые подобно всем крайностям, ни к чему не годятся. Что я их знаю и от обеих остерегаюсь, тому служит одно место, напечатанное мною:
«Человек, находящий повсюду в истории сомнения, не как картезианец, но как раскольник, есть презрительное творение, заслуживающее ненависть или сожаление, смотря по тому, отчего происходит его сомнение: от простой ли охоты говорить что-нибудь новое, или от неспособности понимать основательные начала.
Но легковерный, верующий без основания, и суеверный, верующий против основания, походит на старую бабу, которая верит только тому, чему верят другие, которая не может рассматривать, не хочет исследовать, и только что бранится, если нарушат спокойную ее веру: разве мало наносят вреда истории сии оба рода людей?..».
Первый, кто изгнал из британской истории Приама, из французской Брута, из немецкой Сакса и Франка и т. д., верно от современников своих был почтен за неверующего и даже нажил врагов. Второе поколение само уже начало сомневаться, а третье совершенно примирилось с первым неверующим и даже сделалось ему благодарным.
Из сделанного мною исследования до самой Рюриковой смерти следует теория и вместе начертание, как можно и должно начатый мною труд продолжить и усовершенствовать более, нежели мог я это сделать в моем положении. Эти страницы относятся единственно к русским читателям, даже не к историкам, если только они ученые. В существе они содержат все то, что я напечатал за 35 лет, только сокращенно и гораздо определеннее. В Германии моя книга принесла пользу, как я вижу из всех учебных книг по европейской истории, но в России осталась совершенно без действия.
Тогда обнимал я всю древнюю русскую историю до Романовых. Взор на ужасную, но совершенно еще грубую громаду воодушевил меня и я написал:
«Какое ужасное понятие представляет русская древняя история! Я почти теряюсь от величия оного! История такой земли, которая составляет 9-ю часть обитаемого мира и в два раза больше Европы; история такой земли, которая в два раза обширнее земли Древнего Рима, хотя и называющегося обладателем Вселенной; история такого народа, который 900 уже лет играет важную роль на театре народов… история державы, соединяющей под своим скипетром славян, немцев, финнов, самоедов, калмыков, тунгузов и курильцев, народов совершенно различных языков и племени, и соседствующего со шведами, поляками, персами, бухарцами, китайцами, японцами и североамериканскими дикарями, – история России, сего настоящего рассадника народов, из южной части которого вышло столько народов, разрушивших и основавших целые царства.
Раскройте летописи всех времен и земель и покажите мне историю, которая превосходила бы или только равнялась с русской! Это история не какой-нибудь земли, а целой части света, не одного народа, а множества народов, которые различаясь между собой языком, религией, нравами и происхождением, соединены под одну державу завоеваниями, судьбой и счастьем.
Русская история есть вообще: I. бесконечно пространная по множеству или совсем не описанных, или недостаточно описанных народов, составляющих части сего великого целого, члены сего исполинского политического тела; II. чрезвычайно важна по непосредственному своему влиянию на всю прочую, как европейскую, так и азиатскую древнюю историю; III. очень верна по богатству своему в достоверных временниках и прочих исторических источниках».
В этом воспламенении делал я обширные начертания, соразмерные величию государства и богатству истории оного; начертания, долженствовавшие объять все, и для выполнения которых нужно было всемогущество Екатерины II; и действительно в самое то время, в царствование сей великой женщины заблистал и новый свет в русской словесности. Но все мои патриотические и космополитические желания подавлялись густым туманом, окружавшим тогда Академию…
В царствование Екатерины и самой ею удивительно много сделано в отношении познания отдаленных народов ее царства, но для отечественной истории – ничего. Даже небольшое число летописей издавалось не всегда надлежащим образом; простое же печатание наполненных ошибками временников, хотя и достойно благодарности, но нельзя назвать обрабатыванием истории.
Неисторик может меня спросить: предлагаемое мною начертание истории есть ли точно лучшее или даже единственно хорошее? Не говоря, что польза, даже необходимость оного очень ясно уже показаны в моем небольшом опыте, у меня готово еще другое доказательство, могущее скорее убедить многих. Это начертание принадлежит не мне, не я изобрел его, но научился от других и приноровил только к русской истории. Все упражняющиеся в истории народы, которые давно уже имеют достойную себя отечественную историю, так и делали и должны были так и делать.
А если и здесь не поверить моему слову, то должен защититься мнением людей известных, из которых привожу одно:
«Как должно обрабатывать и критически употреблять русские летописи, первый Шлецер показал настоящим образом, и его приложение испытанных и давно уже в южной европейской истории употребляемых критических правил к русской истории может, наконец, доставить сей истории достойное основание».
Второе свидетельство. Один геттингский ученый объявил о моей книге вскоре по напечатании оной, в тамошних ученых известиях (я был тогда русским профессором).
Рецензент не только извинил тогдашнее мое мечтание, но сам принял обширное мое начертание и даже распространил его. Он смотрел на это дело с новых сторон, мною не замеченных, и распространил великие идеи, которых я не смел иметь.
Сия прекрасная и, не для одного меня, но для всех полезная рецензия должна была бы подействовать более моей книги; но и та, и другая рецензия теперь верно забыты, по крайней мере, в России.
Фридрих Штрубе де Пирмонт
Древние россияне
(из книги «Рассуждения о древних россиянах»)
Первыми доказательствами о бытии древних россиян мы одолжены монахам Бертинского монастыря, что во Фландрии, отличившимся в подробном исследовании. Вот точные сих летописцев слова:
«В 839 году послал император Феофил (к императору Людовику Благочестивому) с ними (с посланниками) несколько из тех, которые утверждали, что они, то есть народ их, называется Рос, и что они от государя своего, по имени Хакана посланы к нему из дружества, прося при том, чтобы император дал и позволение и помощь пройти по всей его империи, поскольку путь, по которому они к нему в Константинополь пришли, лежал между варварскими и бесчеловечнейшими народами, и потому не велел по нему назад возвращаться.
Император, изыскивая причину их пришествия, познал, что они свейского или шведского поколения, и почитая их более шпионами восточной и западной империи, нежели просителями дружества, до тех пор задержать их у себя заблагорассудил, пока точно узнает, справедливая, или нет сказанная ими причина их пришествия».
Из сего повествования явствует: 1) что прежде 862 года, когда по свидетельствам летописцев руссы соединились с новгородскими и киевскими славянами, в северной стране жил народ, Рос называемый; 2) что посланные от начальника сего народа приходили в Константинополь из северной страны; что земли, населенные варварами, которым на мучение император Феофил не хотел отдать сих посланных при возвращении их, должны были лежать близ севера нашего полукружия, потому что путь, избранный ими для возвращения в свое отечество через всю немецкую землю, доказывает, что он лежал в какой-нибудь стороне, лежащей к северу от Германии и, следовательно, по ту сторону Балтийского моря; 3) что народ, к которому принадлежали руссы, должен быть один из северных народов, потому что их почитали шведами, взяв, может быть, наименование сие за общее имя, соответствующее имени норманнов, или что гораздо достовернее, основываясь только на том, что по приметам они говорили языком, весьма сходным с шведским, и что можно было от них самих узнать о пришествии их из северной страны и о желании туда опять возвратиться: а сие и заставляло думать, будто бы они хотели чужим именем назваться, называя свой народ Россом, хотя шведы никогда сим именем не назывались.
Возможный портрет Фридриха Генриха Штрубе де Пирмонта (1704–1790) – российского учёного немецкого происхождения, члена Санкт-Петербургской Академии Наук.
Фридрих де Пирмонт – один из авторов норманской теории. Он занимался вопросом о происхождении руссов, результатом чего был его труд: «Dissertation sur les anciens Russes» (S.-Petersb., 1785), который был переведён Львом Павловским и издан под заглавием «Рассуждение о древних россиянах» (СПб., 1791 г.). По оценкам историков, этот труд является наиболее ценным из всего научного наследия де Пирмонта; этим трудом впоследствии пользовались многие русские историки
Историки греческие, писавшие о древних россиянах спустя некоторое время после соединения их со славянами, которые и имя их приняли, имевши случай весьма коротко их знать по причине войны, которой сей народ шел против константинопольских императоров; по причине пленников, отведенных в сей город, и по причине принятого путешествия великой княгини Ольги с некоторыми ее сродственниками в царствование премудрого государя Константина Порфирородного (Багрянородного), которые и сам оставил нам некоторые слова их языка, – заслуживают неоспоримо великое внимание.
К сему объяснению надо еще присовокупить, что те же самые писатели говорили о народе, о котором мы говорим, явно отличая его от славян, с которыми он соединился, в именах, языке и нравах.
А есть ли ко всем сим доказательствам мы присоединим еще свидетельства самого древнейшего нашего летописца, которого на верность не можем не положиться, когда он ее почерпнул из чистых источников, говоря, что 1) руссы [русь] составляли один из тех народов, которых славяне называли варягами; 2) что около половины девятого столетия славяне новгородские вместе с некоторыми своими соседями отправили послов за море для избрания себе начальников между сими российскими варягами, и призвания их поселиться на их землях; 3) что после сего избрания оные начальники пришли туда с своим семейством и со всеми руссами; 4) что сие соединение было причиною, по которой назвали славян руссами, а прежде сим именем они не назывались, – то и явствует из прежде означенного мною происшествия, что россы-варяги особенно существовали.
Но поскольку древние писатели нам не дали довольного понятия о смысле, в каком они понимали слово варяг, а сие опущение принудило многих наших ученых делать на сие мнимые догадки и прибавления, то я и рассудил за нужное при сем случае нечто прибавить и приметить: 1) что греческие и скандинавские писатели нам дали знать, будто в древние времена из северных стран в Греческую империю приходило много военных людей, которые там вступали в работу и были употребляемы смотря по их роду и способностям; 2) что в отечестве их приписывали сим военным людям титло верингиара или ландварнара, что соответствует имени сторожа или хранителя государства; 3) что наименование варянги или варяги, которое греки и славяне им дали, поскольку оно ни греческое, ни славянское, то и могло произойти только от наречия сих военных людей, или от наречия северных народов, и что совершенное и чувствительное сходство сих титлов с титлом верингиаров само собою доказывает, что помянутые норманны сохранили его везде, где бы в службе ни находились; 4) таким образом уже известно, что греки и славяне прилагательное варяги приписывали только северным народам, куда военные люди, о которых здесь говорим, подлинно пришли; 5) пускай, наконец, иностранцы, писавшие о сем, называют их датчанами и англичанами, однако нет сомнения, что между ними заключались шведы и россияне, и что по сей только причине и наш летописец положил их также в числе варяжских народов.
Одно наименование варяг, которое наши летописцы дают древним руссам, и которое приличествует только северным народам, от которых произошли помянутые военные люди, известные под сим названием, довольно было бы, чтобы утвердить нас в истинном начале сего народа.
Теперь если сообразить слова Риси или Рисс (также Риса или Рисаландия), которые приводят скандинавские писатели, и положение сей страны в соседстве новгородского владения, которое причиною было соединения риссов со славянами; выгоду, каковую сии последние получили от соединения с народом военным и утесняемым теми же неприятелями, которые в девятом столетии принуждали сих славян платить себе дань, – дабы тем удачнее могли противиться сим врагам, коих хотя и прогнали за море, однако опасались их возвращения и наглости; удаление риссов в северные страны, где они были еще в 839 году, чего нет основательнее той причины, что они оставили древние свои жилища, и составили другой народ, что историки подтвердили молчанием о причинах сего происшествия и неправдоподобием других каких-либо сего причин; ежели, говорю, сообразить все сии наблюдения с тем, что самые древние наши летописцы говорят ясно о особенном существовании руссов, о пришествии их со своими начальниками с той стороны моря, о поселения их в новгородских и киевских пределах, и о основании нового российского владения в киевских пределах, все сие удобно может нас убедить в том, что сии варяги были те же, что и рисы, вышедшие из приморских Рисаландии пределов, и что мы должны первое и точное их жилище положить сей земле.
Молчание же самых древних наших летописцев обо всем том, что могло пролить некоторый свет относительно истории древних россиян, доказывает, что сии писатели или хотели ограничить себя, описывая только происшествия, случившиеся после соединения сего народа со славянам, сохранившими его наименование, или, будучи сами мало знающими, не осмелились дополнить недостаток вымыслами или романическими повествованиями, которые бы не могли иметь успеха в такое время.
Готлиб Байер
Варяги и Русь
Рюрик
От начала руссы владетелей варягов имели, – выгнавши же оных, Гостомысл, от славян происходящий, правил владением (1); и для междоусобных мятежей ослабления и от силы варяг утесненения, по его совету рутены дом владык от варягов опять возвратили, то есть Рюрика и братьев. Посему часто о варягах в русских летописях упоминаемо, но только как о друзьях и приятелях русского имени, и которые на жалованье в войске владетелей русских служили или воеводскую должность отправляли.
