Крушение богов бесплатное чтение
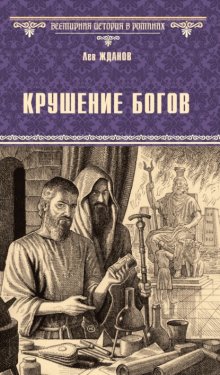
Крушение богов
Исторический роман-хроника из первых веков христианства
(389–415 гг.)
Часть I
ШТУРМ ОЛИМПА
(389–390 гг.)
Глава 1
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
(389 г.)
Второй день ревет уже, не умолкая, буря. Могучими порывами налетает с юго-запада бешеный ураган, хлещет тяжелыми бичами темную гладь моря, вздымая воду огромными полупрозрачными валами, с белой, летящей по ветру пеною на высоком хребте. Вперегонку с волнами клубятся, несутся на северо-восток тяжелые, темные тучи, проливаясь порою холодным, колючим дождем. Даже в полдень — сумрачно кругом. А на горизонте и различить трудно: где клубятся сизые тучи, где им навстречу вздымаются бешеные волны?
И ветер, и волны, как будто сговорившись, гонят вперед одинокую, двухъярусную галеру ромэйского типа, или дромон, как называют ее в Константинополе. При хороших предвещаниях вышла она из Пирея, из афинской великолепной гавани. Но боги порою так же лукавы, как и люди. Небеса потемнели, завыл тифон. И гонит буря галеру. От Эгейского моря, от Геллеспонта до Пропонтиды, где еще бурливее и опаснее бушующее море, чем у берегов Эллады.
Обломана задняя галерея дромона, плохо слушается судно руля. Гнется толстая мачта, хотя паруса все убраны и оставлен только верхний клочок паруса, чтобы меньше рыскало судно. Но даже подхваченная ветром галера то падает в клубящуюся бездну вод, то взлетает на гребне новой водяной горы, вырастающей из водоворота и пены и пыли водяной.
Напрягая последние силы, ударяют гребцы веслами по бешеным волнам, но чаще их удары разрезают лишь воздух, когда дромон взлетает на гребень волны. И, не встретив упора, совсем запрокидываются назад гребцы силой собственного порыва… Каждые три часа приходит новая смена, а старая, не дойдя до своих циновок, сваливается где попало, тяжело дыша. Мгновенно засыпают люди, истощенные непосильным трудом. Гудит буря, трещат снасти. Как щепку, кидает судно вверх и вниз ураганом. Гибель грозит каждый миг. Пускай! Ничего не слышат усталые гребцы. И слышать не хотят. Им дано три часа отдыха. Это — важнее всего!
А когда опять приходит очередь, — начальник гребцов сразу ударами тяжелой плети, без всяких слов подымает лежащих.
Медленно подымаются люди, еще не разнимая тяжелых век, видя обрывки снов наяву; качаясь, занимают свои места и, как оживленные машины, вздымают и опускают весла, издавая обычный припев:
— Гой-йо! Гой-йо!
И плеть начальника, так же размеренно, как чередованье звуков, как взлет и падение волн, придает бодрости и усердия гребцам, спина и руки которых деревенеют уже от устали.
Кроме задней галереи, бурею снесло и палатку на корме, где в хорошую погоду обычно помещался кормчий и пассажиры, едущие на дромоне. Под ветром и дождем стоит кормчий, кутаясь в толстый плащ, набухший, отяжелелый от влаги. Хмуря брови, пронизывает он мрак впереди, чтобы вовремя заметить опасные береговые скалы. Ночью, время от времени сквозь тяжелую пелену туч можно в просвете разглядеть узор созвездий и по ним определить, куда несется судно, где оно приблизительно находится в данный миг. А днем этим руководителем служит солнце, которое скорее угадывается, чем видится в кипящем сером просторе небес и бури.
Закрепив руль, стоит, налегая на него грудью, рулевой, ожидая приказаний от кормчего. Изредка, словно наугад, отдает приказ опытный старый моряк, эллин. Рычаг руля меняет несколько направление, снова укрепляется.
И несется судно вперед, по воле ветра и волн. Куда? Неизвестно.
Может быть — к цели, может быть — в Тартар, в бездну Небытия?..
Но и кормчий, и рулевой привыкли к мысли о гибели среди волн. И стоят, делают свое дело, как будто безучастные к разгулу бешеных стихий.
Солнце уже садилось за тучами, мрак быстро густел. Тяжелая покрышка, закрывающая спуск в кормовое помещение, медленно приподнялась. Из люка сперва показалась широкая, пухлая спина, седая голова на короткой жирной шее, потом, пятясь, выползла на палубу круглая фигура пассажира лет 50. Человек этот почти вынес на руках кверху свою дочь, девушку лет 15.
Бледное, измученное лицо девушки было правильно и прекрасно, как лицо Дианы. Полузакрытые глаза, окруженные синевою, все же сверкали огнем и волей из-под длинных, густых ресниц. И что-то особенное было в этих глазах, что заставляло забывать даже о прелести лица. Едва ступив на палубу, девушка выскользнула из рук отца, опустилась у основания мачты, ухватилась за свисающий конец каната и, колыхаясь в лад с размахами галеры, широко раскрывая рот, жадно глотала свежий воздух, закрытая от ударов ветра толстой мачтой. Глаза ее широко теперь раскрылись, как бы впивая всю грозную красоту бушующего моря.
Толстяк отец, запыхавшись от усилий при подъеме кверху дочери, бледный до синевы от приступов морской болезни, тоже тяжело опустился, лег почти ничком на сверток мокрого каната, старался отдышаться, испуганно водя кругом своими добрыми, воловьими, сейчас воспаленными, опухшими глазами.
Встретив немой взгляд кормчего, звучащий, как вопрос, толстяк прерывисто, хрипло проговорил:
— Гипатия, говорит, умирает. Душно ей там. Лучше на просторе умереть, чем в черном, тесном, вонючем брюхе этой шаткой коробки. Провалилась бы она к Аиду… только без нас!..
— Может и вместе с нами это случиться! — невозмутимо «успокоил» кормчий и снова стал сверлить взором тучи в небе, тяжелый мрак, все густеющий впереди и кругом.
Толстяк, после очередного спазма морской болезни, когда совершенно пустой желудок мог отдать только густую слюну и желчь, лежал, закрыв глаза, с волосами, слипшимися от пота, словно потерял сознание от муки.
Вдруг он почувствовал легкое, прохладное прикосновение детской руки к его лицу. Гипатия, ползком добравшись до отца, протянувшись рядом, одной рукой держась за край каната, другою старалась отереть старику лоб, снять слюну и пену, оставшуюся на его посинелых губах.
Нежный, еще детский голос зазвучал у самого уха, чтобы не мешала буря:
— Ты жив, отец? Потерпи немного… Видишь, тучи редеют… ветер стал сла…
Она не досказала. Новый удар ветра, налет волны… Дромон, как горячий конь, вздыбился на волне… Палуба накренилась так, что Гипатия должна была ухватить отца, уже покатившегося к борту. А кормчий удержал их обоих и, ничего не говоря, опутал концом снасти, чтобы волною не снесло совсем.
Но волна только окатила всю палубу, где нечего было унести больше. Все легкое было снесено. Когда влага схлынула, отец и дочь, мокрые дотла, все же были как будто освежены, укреплены этим душем. И снова спросила Гипатия:
— Отец, ты слышишь меня?.. Будь бодрее. Худшее прошло! Ветер, этот страшный ураган, — он нам все время попутный. Я уж делала вычисления. Мы скоро будем у цели. Крепись, мой старый, милый отец…
Молча раскрыл глаза старик, поглядел на девушку и с трудом проговорил:
— Ты у меня… я… знаю… бесстрашная… умная… А что… если… если… — гибель? Ты так молода. Тебя жаль больше, чем себя самого…
— Меня? Себя? А чего же жалеть?.. Мы — появились… видели, мыслили… жили… и — уйдем. А потом то, что жило в нас, — быть может, снова оживит другую грудь. Мы — часть мира. Мир — бессмертен. Значит, и мы — совсем не умрем. То, что теперь есть мы, — только примет новую форму. И все будет хорошо…
— Для тебя, пожалуй. Но я… если даже пойду в пищу рыбе и явлюсь в виде ее детеныша… Меня это не утешает нисколько. Я лучше люблю вкусную рыбу на шкаре есть сам, чем ее кормить своей особой. Ой! Проклятье этой буре… проклятье морю… ой! Да, постой. Не верю я тебе… Так и не жаль ничего в жизни? Не страшно умирать?
— Почти, отец. Разве, вот, одно. Я не жила почти. Я — девушка… я могу быть матерью… женою… Мне кажется, это такие великие радости! И вот меня не станет. И я как Гипатия не узнаю этих восторгов. Вот одно разве это!..
Сказала и умолкла. Тесно прижавшись друг к другу, молчали оба, вместе с галерой падая и взлетая без конца в пучину. Отец, совершенно истощенный, дремал и в то же время ловил слухом свист ветра в снастях, скрипение брусьев, крепких ребер корабельных, плеск и шипение волн, неустанно налетающих с кормы…
Дочь, широко раскрыв глаза, глядела вперед, во тьму, словно вопрошая кого-то о чем-то пытливым взглядом. Фонарь, зажженный на мачте, трепался там, как огненная птица, то вспыхивая, то почти угасая от ветра. Его лучи странно, неровно озаряли лицо девушки, выхватывая это белеющее пятно из окружающего мрака…
Слова, брошенные для успокоения измученному старику, оказались пророческими.
Еще не наступил рассвет, как буря стала затихать, пронеслась так же неожиданно и сразу, как налетела. Галера, очевидно, выбралась из полосы урагана. Задремавшая к концу ночи, Гипатия невольно раскрыла глаза, когда качка сразу уменьшилась… Оглянулась и вскрикнула от удивления и восторга. Буря, не хуже надежного кормчего, пригнала их к цели скорее, чем они даже могли ожидать. Вдали синел берег, знакомый давно отцу и дочери. Маяк Фаро бросал дрожащий луч в предрассветную темноту, одевающую море. Но восток уже бледнел, и над головою синело высокое небо, совершенно чистое от туч. Звезды на нем бледнели, гасли одна за другой. Вид берега воскресил силы гребцов. Весла мерно врезались в морскую влагу, еще не утихшую совсем, но уже ласковую, а не грозную, как несколько часов тому назад. Дромон быстро и ровно шел к раствору гавани.
— Отец, смотри… смотри!.. — стала будить Гипатия старика. — Гляди, как чудесно… Смотри, где мы!.. Видишь? Фаро! Видишь?.. Золотые Ворота! Видишь? Византия!
И, скорее угадывая, чем различая, она водила рукою по воздуху, словно касаясь издали и маяка, и старых крепостных ворот, и темной крепостной стены, опоясавшей град Константина.
Когда дромон входил в гавань Феодосия, солнце огромным багровым кругом показалось уже за гладью воды, далеко-далеко на горизонте.
Гипатия, воскресшая, сияющая и грустная в то же время, стояла на корме, глядя вперед, где быстро вырастали очертания серого мола, здания на берегу и роскошные царские дворцы за ипподромом.
Вдруг встречная триера привлекла внимание девушки. Мерно и сильно падали весла гребцов, свежих и не усталых еще; ровно и легко вздымались и снова падали в гладь воды. Триера быстро скользила вперед, покидая за собою берег. На ней заметна была еще суета, обычная при выходе из гавани. И, как бы отделившись от всех, кто был на судне, стоял на корме одинокий юноша.
Гипатию сразу поразило скорбное выражение смуглого, красивого лица. Из-под навеса ресниц черные, сверкающие глаза неотрывно смотрели на уходящий берег, как будто там юноша видел еще дорогих, надолго оставленных людей: мать, сестер или подругу любимую, кто знает? Правда, не больше 17 лет красавцу, похожему на божественного Антиноя; но Гипатия наблюдала в Афинах нравы эллинской и римской молодежи. Они рано отдают свое сердце любви.
Зоркие глаза девушки хорошо разглядели белый плащ, небрежно накинутый на широкие плечи, спадающий свободно вдоль гибкой худощавой фигуры юноши. Иссиня-черные, пышные кудри, не покрытые дорожным колпаком, по воле утреннего ветерка, как живые, колыхались, обрамляя красивой рамкой тонкий овал лица.
Юноша как будто почувствовал на себе взгляд Гипатии и, оторвавшись от берега, повернул к ней лицо загляделся сам на девушку.
Так стояли они, пока триера и дромон расходились в разные стороны, мерно колыхаясь на ленивой, прибрежной волне Пропонтиды.
Как раз теперь багровый, огромный диск солнца выкатился из-за линии туманного горизонта и готов был совсем оторваться нижним краем от морской глади, сверкающей под его косыми лучами, как вороненая сталь.
В этот миг огромная, стройная триера очутилась на линии между Гипатией и солнцем. Черным силуэтом четко обрисовался корабль на сверкающем диске со всеми снастями, реями, с узким вымпелом главной мачты, реющим по воздуху. Черными очертаниями туда и сюда двигались люди на палубе триеры, висели на снастях, подымая паруса.
Только юноша, озаренный сиянием, неподвижно вырезался на корме. Невольно подняла Гипатия руки туда, где стоял печальный красавец, где горело утреннее солнце, мимо которого успела уже проскользнуть триера.
Зазвучал ее голос, то трогательно-детский и звонкий, то глубокий, грудной, как у влюбленной женщины. Она запела старинный, давно ей знакомый, утренний гимн пифагорийцев:
Юноша не слышал, конечно, за расстоянием, гимна, но уловил жест, хотя и стоял словно очарованный видом Гипатии. И в ответ тоже поднял руку, сливая привет и прощание в одном ласковом движении кисти.
Поворот триеры вправо, дромона — влево… и они уже больше не видят друг друга. Не встретятся, быть может, никогда! Но девушка все стоит и смотрит на уходящий корабль.
Волнистые золотисто-рыжие волосы с густым отливом красной меди двумя тяжелыми косами змеятся до пояса вдоль стана вместе с намокшим плащом, выдавая нежные, упругие очертания высокой, девической груди. Южная эллинка, рожденная к тому же в знойном Египте, Гипатия в 15 лет казалась вполне сформированной, зрелой женщиной. Высокая, стройная, гибкая, она чаровала глаза законченной красотою тела в каждой его линии, от головы до ног.
Триеры не стало видно.
Гипатия закрыла глаза, в которых медленно таял милый образ, и ей показалось, что из глубины зрачков он проникает ей в грудь, до самых тайников наполняет ее существо, заставляя тело трепетать от наслаждения и сладкой боли… Сжав руки на груди, девушка как будто старалась глубже затаить, запрятать в себе милый образ. И без конца хотелось ей трепетать этой мучительно-отрадной дрожью.
Рано подымается народ в Константинополе, в шумной, пышной столице Восточной Римской империи, в сердце царства Ромэйского, как зовется теперь Византия со всеми подвластными ей народами и странами.
Восемь долгих веков ютилась Бизанция, скромная, торговая колония эллинов из Мегары, на берегу великолепного Золотого Рога, или залива Хризокератос, как звали его греки. Расстилалась вокруг мягкая прелесть зеленых берегов и холмов Боспора, вечно плескало синее море с чарующею далью Вифинских гор. И выгодно промышляли морским торгом, а порою и пиратством смышленые мегарийцы; но жили незаметно, скромно. Еще не оживились эти края, не докатилась сюда волна мирового торга и обмена. Наконец, час пробил!
В 330 году варвары особенно сильно стали теснить римлян на западе, отнимая подвластные Риму земли, нанося цезаризму удар за ударом в самой Италии. Тогда именно Константин основал новую столицу Восточной Римской империи на полуострове между Золотым Рогом и Мраморным морем, где Боспорский пролив так удачно соединяет Средиземное море с Понтом Эвксинским, как называли греки Черное море.
А ведь здесь именно и шел великий главный путь от запада и севера неугомонной Европы на восток и на юг мечтательного, но богатого лучшими дарами природы азиатского материка.
Кроме торговых выгод, новая столица являлась прекрасным стратегическим исходным пунктом для защиты и нападения, лучше которого не было нигде во все средние века.
И вот, спустя всего 60 лет, широко раскинулся Константинополь, вмещая в стенах своих полмиллиона коренных жителей, не считая прилива и отлива многих десятков тысяч торговцев и моряков буквально изо всех краев земли.
Город-рынок и порт — в то же время был городом-крепостью.
На западе, купая подножие в волнах Мраморного моря, на 15 метров ввысь вздымается мощная первая стена, толщиною в 5 шагов, 5000 метров длиною, вдоль которой темнеют 120 крепких башен, вдвое выше, чем стены.
Дальше, на севере, до Золотого Рога, тянется такая же каменная ограда, темнеют башни, вьется ров, со стороны стены укрепленный зубцами каменных бойниц: так называемый эскарп крепостной.
Со стороны Золотого Рога тоже возведены крепкие стены. Неприступен царь-град Константинополь для врагов ни с суши, ни с моря. День и ночь стоит стража на высоких башнях, смотрит, не запылают ли огни сигнальных вышек, растянутых от границ империи до самой столицы. Покажется враг на самой дальней окраине, — и быстро запылает цепь огней; стража даст знак — ярче вспыхнет пламя маяка Фаро и по тревоге соберутся бесчисленные легионы, готовые для зашиты столицы, для нападения на врага. Крепкие, тяжелые цепи протягиваются у входа, поперек Золотого Рога. И ни одно судно не может пройти туда.
Но сейчас сравнительно спокоен новый град Константина.
Император Феодосий, опытный и смелый полководец в былые годы, и теперь не одряхлел, не изнежился под пурпуром и царскою повязкой, которую заменил тяжелый боевой шлем полководца. Сейчас он в Италии, явился на защиту Западной Империи, где алламаны, маркоманы, франки и квадды, — воинственные, дикие почти народы — вытеснили римские гарнизоны из Галлии, где умный, порывистый честолюбец Максим, префект, наместник Британии, успел не только овладеть Галлией, но двинулся в Италию, после того как сторонники Максима убили в Лионе Грациана, западного императора, заставили его сына Валентиниана бежать в Фессалоники, просить помощи у Феодосия.
С помощью лучших вождей своих — Промотия, Рихомэта и галла Арбогаста — Феодосий быстро разбил Максима, взял его в плен и казнил. Юношу Валентиниана кесарь восстановил как императора Западной империи. А для охраны и помощи оставил ему Арбогаста, смелого воина и хитрого дельца.
Это было еще год назад. Но и сейчас сидит в Милане Феодосий со своими легионами и вождями, стараясь упорядочить дела расшатанной Западной империи. Он понимает, что разлад на западе отзовется тяжело и на спокойствии Восточной империи. Вот почему не спешит домой Феодосий, хотя не все благополучно в царстве и даже в самой столице Ромэйской.
При всей отваге и уме, суеверен и фанатичен Феодосий в делах веры. Поддаваясь внушениям епископов, особенно патриарха александрийского Феофила, он полагает, что только вера христианская помогает ему в его делах, хотя сотни тысяч сарацин, египтян, язычников и всяких варваров служат верно в его легионах. Но, централизатор по духу, цезарь и веру решил сделать орудием своей империалистической политики, как давно он делает это, с помощью войск захватив мировой торг в свои руки.
По его приказу, по эдикту 385 года, христианство объявлено государственной религией, единственно терпимой в империях запада и востока. Запрещено публичное поклонение прежним богам, идолам, как их называют христиане, в языческих храмах и в общественных местах. Кары, вплоть до изгнания и смерти, грозят виновным, ослушникам закона и воли кесаря.
Из сената позорно убрана статуя Победы, Никэ, святыня Рима в течение долгих веков. Знатнейшие римские патриции пробовали возразить. Но Феодосий, сдвинув густые брови кровного испанца, заявил:
— Почтенные сенаторы! В моем декрете не сказано, что кто-нибудь смеет противиться воле императора и кесаря безнаказанно. Помните это!
И римляне, выродившиеся за последние века разрухи мировой, удалились в молчаньи… Погасла древняя римская доблесть. Брошена Никэ в мусор где-то на заднем дворе.
Римские боги, созданные народами Лациума, погибли вместе с мощью и отвагою древних римлян, ковавших собственное счастье и величие за счет угнетенных, слабейших народов, живущих кругом.
Но этого мало Феодосию, мало епископам и попам, захватившим в свои руки власть не только над душами слабых темных людей, но и над всеми благами мира, какие дают успех и власть.
В это ясное, но холодное январское утро 389 года, несмотря на ранний час, важное совещание происходит во дворце, в ризнице храма св. Дафны, где после заутрени остался юноша Аркадий, старший сын кесаря. Четыре года назад он объявлен августом, т. е. наследником-соправителем Восточной, Ромэйской империи. С ним за столом, в глубоком кресле, зарывшись в мягкие подушки, сидит дряхлый старец с румяными щечками, кругленький, пухленький Нектарий, патриарх константинопольский, первый между владыками восточной церкви, согласно апостольскому преданию.
Далее, по старшинству, сидит, напряженный, подобравшийся, словно готовый к схватке, Феофил, патриарх александрийский — широкоплечий, дюжий грек с черной, уже седеющей клочковатой бородою, с маленькими сверлящими глазками и красным, расплющенным носом над толстыми, крепко сжатыми губами властолюбца.
Кинегий, префект, наместник Восточной империи, фактически управляющий царством в отсутствие Феодосия, старый, преданный солдат, с выхоленным, красивым, но холодным и неподвижным лицом, — слушает, что говорит Феофил, порою кивая утвердительно Аркадию, переглядываясь сочувственно с двумя епископами: с племянником патриарха Кириллом Египтянином {Святой Кирилл, патриарх Александрийский. Память его празднуется 18 января.} и с Исидором, которых патриарх привел с собою на это закрытое собрание.
Отрывисто, сильно, как метательные снаряды из баллисты, вылетают слова у Феофила:
— Все же это понять трудно. Вот уже четыре года издан строжайший декрет. Единую лишь христианскую веру должны все исповедовать, как учат апостолы и святая наша церковь. В ней единой спасение душам и телам людским. И что видим? Запрещены жертвы идольские в храмах. Рушить велено самые капища нечистые, либо обращать в храмы бога истинного. А капища стоят. Жертвы творятся, если не явно, то тайно. Я писал императору-августу. Богатства несметные в руках языческих жрецов, волхвов окаянных, служителей диавола! Можно ли это? Где усердие, где ревность христианская? Горе кругом. Ереси растут, как морские волны, хлещут, стараясь повалить крест честной. Манихеи, оригениты, ариане, семя диавольское… Безбожники всякие, лжетолкователи, лжепророки, слуги адовы умаляют власть церкви, отбивают доходы скудные наши. Доколе терпеть будем? Восстанем ли всею силою на врагов церкви внешних и внутренних? Оле, горе нам!! Лишаем себя спасения сами.
Сказал, умолк, тяжело дыша от неподдельного волнения. Себя сливая со всею церковью христианской, Феофил действительно страдал при мысли о том мнимом уровне, какой терпело христианство, сейчас, на деле, забравшее всю власть и силу в свои руки, в лице пастырей церкви, воинственной, угнетающей, а не просвещающей наставлениями, как это когда-то делали первые апостолы.
Аркадий, к которому был внешне обращен вопрос, молчал, потупясь. Юноша старался скрыть скуку, подавить зевоту, вызванную знакомыми, надоевшими выпадами патриарха. Разве так уж плохо живется старику или самому Аркадию на свете, что надо еще заботиться, кто и как молится у себя в дому?.. Но слушать надо. Говорит один из старейших и важнейших князей церкви. И Аркадий, не подымая глаз, кивает головой, словно одобряя рвение Феофила, но не решаясь подать голос по юности своей.
Нектарий, жуя беззубыми деснами, перебирая четки, склонив головку набок, умиленно, сочувственно вздыхал. Другого он ничего не делал уже много лет, особенно когда заходила речь о вопросах, слишком трудных для решения дряхлому старцу, любившему сладко поесть и хорошо поспать в мягкой постели. Он исполняет все требы, как это полагается патриарху. Чего же еще хочет от него этот беспокойный бородач, александрийский владыко? Нет ему угомону!
Так думает Нектарий, а головка часто кивает в такт порывистой речи Феофила, кивает, когда тот уже замолчал. А старческая дрема все больше заливает чем-то липким мутные глазки вселенского патриарха.
Заговорил Кинегий, мягко, но четко; почтительно, но с неуловимым оттенком пренебрежения, с каким воины всех религий говорят со священниками и жрецами, служителями культа. Самый суеверный солдат, считая, что обряды спасают от опасностей боя, что между богом и людьми необходим посредник-молитвенник, — самого жреца почитает дармоедом, шарлатаном, получающим за легкую, безопасную и почетную работу много больше, чем ему следует; особенно если сравнить с ничтожным пайком воина.
Чуткий Феофил уловил эту нотку пренебрежения, когда Кинегий, с преувеличенным наружным почтением, обратился к нему:
— Преосвященный отец, начальник над старейшими, высокоученый Феофил, дозволит ли темному воину-мирянину задать вопрос?
Насторожившись, бросив искоса пытливый взгляд на непроницаемо-спокойное, застывшее лицо воина и придворного, каким он знал префекта, Феофил только молча кивнул головой. Кинегий, поблагодарив за разрешение поклоном, заговорил так же почтительно, но еще тверже прежнего:
— Декрет об упразднении капищ языческих касается не только Рима и Византии. Он издан и для Египта, и для всей Ромэйской империи. А все ли храмы в диоцезе, в уделе преосвященного Феофила: в Египте, в Ливии, в Пентаполисе, — все ли капища закрыты, уничтожены или обращены в церкви? Я слыхал, что и доселе почти явно творятся обряды в величайшем храме Александрии, в капище Сираписа. Верно ли это, отец? И почему это так?
Стрела попала в цель. Феофил сразу побагровел, заерзал в кресле, в кулаки сжимая руки, лежащие на поручнях, и злобно забормотал:
— Неразумно пытаешь, чадо мое. Неуместные вопросы задаешь! Сам знать должен: перед отбытием август-император преподал мне указание, чтобы полегче в Египте. Пока сам божественный там с мятежниками не расправится. Сильны еще язычники в Египте, в этом краю неверных. Иудеи к тому же одолевают! Весь торг почти у них в руках. Третья часть Александрии ими заселена. Другая треть — эллины, староверы, да египтяне, идолопоклонники закоснелые. Наши, сыны верные церкви христовой, — больше по обителям, в пустынях живут. Им до мира дела мало. Грехи свои отмаливают. Чего ж ты вопрос задал, ехидный и неразумный вместе? Должен сам бы знать!
— Простить меня прошу преосвященного главу старейших. Но я слышал, да и сам читал, что с меньшими силами вера побеждала язычников. Если сплотить христиан… А тут еще и воинская сила есть в Александрии для помощи. Почему же?
— Что заладил: «му» да «му», как теленок, мычишь! Или опять не знаешь? Ереси потрясают святую нашу церковь, как давно не бывало… Сейчас я вам говорил. Тут их еще менее, чем в моем уделе, в диоцезе Африканском. Пресвитеры, епископы, настоятели, иноки смиренные, чистейшей жизни люди, как где сошлись — так и споры, разногласие о вере. Како веровати надо? Чье толкование праведнее и вернее? Два естества? Одно естество у Христа? Бога родила дева или человека, после богом ставшего? Не собрать мне сразу это стадо великое. Разные козлы да бараны в разные стороны ведут его; а сами — лбами стукаются, чуть не до смерти. В бороды, во власы вцепляются. Анафемствуют один другого. Самому приходилось многих смирять, до анафемы до самой… до извержения из сана иноческого, из лона церкви! Да ничего не поделаешь. Вот и терплю, жду времени. Делаю, что можно пока.
Запыхавшись от горячей, необычно долгой речи, патриарх тяжело дышал, с хрипом, как запаленная лошадь.
С довольной улыбкой, с новым почтительным поклоном заговорил Кинегий:
— Вот, вот! Господь глаголет устами служителей своих верных и мудрых. Что я хотел смиренно сказать владыке, он сам изрек первый. Сразу — и овцу не зарежешь! В Египте у высокопреосвященного не все ладится, на иное — сил не хватает. То же самое и здесь, в Ромэйской империи и в самом граде нашем царственном. Враги чужие и свои бунтовщики в самом сердце всемирного царства, в Риме, в Италии наносят удары. Войска с кесарем-августом туда ушли. Мало легионов в Ромэйской земле осталось. Ереси и у нас сильны, как сказал святой отец. Старая вера еще крепка в людях. Если нажать слишком сильно, — бунт запылает. Пожары и так часты у нас, а тогда, пожалуй, и до прекрасных стен нашего дворца доберутся огни восстания. Чернь набалована, буйна в столице. И не без оружия…
— С жиру бесятся! — не сдержавшись, стукнул кулаком Феофил.
— Одни — с жиру, другие — с голоду. Всего бывает! — спокойно продолжал невозмутимый Кинегий. — А я берегу святыню империи, семью августа; я храню самое священное: власть кесаря над бесчисленными народами и землями. Тут надо полегче колесницу поворачивать порою, как и на ипподроме бывает. На повороте пустишь вперед тех, кто погорячее. Они спутаются в клубок, переломают колеса друг другу. А ты их, не спеша, и объезжай тогда, кати к заветной черте. Вот моя мысль, святейший владыко над старейшими. Вернется блаженный август, увенчанный победою. Мы тогда со всеми местными делами и делишками скоро справимся, и, главное, легко, без урона и потерь.
— Хитрый ты воин, Кинегий. Речист, не хуже моих епископов. Тебе бы клириком, не мирянином быть, — не то довольный, не то обиженный уронил Феофил. — Ну что же, потерпим. Да ты, я вижу, не кончил еще.
— Не кончил, святейший отец. Напомнить хочу. Кое-что делается все-таки, не ожидая возвращения цезаря. Где можно, упраздняем храмы, отбираем стяжание неправое у поклонников дьявольских. В твоем диоцезе войска получили немало из сумм, взятых в казне языческих храмов. А наши легионы и войско августа-кесаря в Италии наполовину содержатся из тех же средств. Да вот оглянуться прошу владыку. Половина ризницы уставлена золотыми, серебряными сосудами, ковчегами, всякой всячиною из сокровищ, взятых в разных храмах языческих. И еще возьмем… придет время…
— Да, да, возьмем! Придет время! — вставая, взявши посох, кивнул Феофил, и жадный огонек загорелся в его сверлящих глазах. — Ну что же? Договорились — и добро! Потерпим. Благослови, святой отче…
Он почтительно склонился перед Нектарием, ожидая знака.
Старец, разогретый в своих мягких подушках, совсем было задремал, но сразу проснулся, замахал привычным жестом правой рукою, благословляя патриарха и, в свою очередь, принимая от него благословение. Все поднялись, чтобы разойтись. В эту минуту в дверь ризницы трижды постучали. Вошел диакон и после поклона доложил:
— Его милость, логофет-дром, просит разрешения предстать пред очи святейшего царского величества.
Аркадий дал знак. Диакон распахнул дверь, впуская логофета, исполняющего обязанности министра иностранных дел и путей сообщения при Ромэйском дворе. Все заняли прежние места, удивленные, даже встревоженные неожиданным появлением верховного сановника. Очевидно, слишком важная причина привела его сюда в такое необычное время. Добрые или дурные вести несет он?
Аркадий, трусливый, слабонервный, изнеженный до болезненности, даже побледнел. Колени его слегка дрожали, но «августейший» сумел скрыть волнение и ответил обычным величавым поклоном на почтительнейший привет и земной поклон вошедшего сановника.
— Какие вести приносит мне твоя честь, — говори! — задал вопрос Аркадий, приглашая логофета приблизиться. В то же время юноша заметил у порога рослого воина, покрытого пылью и грязью, державшего что-то большое, вроде чемодана или кожаного мешка.
Не дав начать логофету, Аркадий живо спросил:
— Гонец от его царского величества? Пусть войдет скорее.
И юноша едва сдержал невольный порыв: встать навстречу гонцу, что совсем не подобает августу.
Гонец уже лежал ниц у ног его, опустив рядом ношу. По знаку Аркадия он поднялся, проговорил:
— От могущественнейшего и святейшего царственного величества, императора Феодосия тебе, государь и повелитель, в собственные руки.
Исполняя обычай, Аркадий коснулся пальцами печати кесаря, висящей на завязках мешка.
Воин, отдав последний земной поклон, удалился, пятясь спиною к двери.
Диакон уже подал логофету-дрому золотые ножницы, которыми тот снял наружную печать, раскрыл кожаный мешок, из него достал второй, бархатный, тоже за печатью, а оттуда добыл еще третий, из пурпурного шелка, за тремя печатями. Этот сравнительно небольшой мешочек логофет положил перед Аркадием. Юноша своею рукою срезал три знакомых печати, висящие на толстых золотых шнурках, и слегка передвинул мешок к логофету.
Из шелковой оболочки сановник достал четыре свитка за печатями Феодосия, как скреплялись только особенно важные бумаги. На первом свитке стояло: «Сыну моему, Аркадию». Этот свиток вскрыл юноша, быстро развернул, пробежал, снова свернул и, довольный, повеселевший, объявил:
— Закончены главнейшие заботы о Западной империи у божественного августа. Передовые победоносные легионы уже возвращаются к нам. Рассеяны последние враги закона и порядка в мировой империи нашей. Из Медиолана августейший морем прибудет скоро домой. Готовьте встречу. Привет тебе шлет кесарь, преосвященнейший патриарх Нектарий. И тебе, преосвященный Феофил. Декрет, составленный тобою об исповедании, — одобрен, подписан. Он здесь. Остальные два — о новых налогах и о монете — логофет внесет в наш совет и опубликует. Декрет о вере можно огласить немедля. Слушайте, отцы почтенные.
Логофет, уже успевший вскрыть три остальных свертка, взял один из них и громко прочел:
— «В 389 году от рождения Господа нашего Иисуса Христа, месяца януария день первый. Всем народам и странам Восточной, Ромэйской и Западной римской империи император-август, Феодосий Первый, император-август Валентиниан сим оглашаем наше божественное повеление.
Подобно Господу Богу, который равно о всех печется и для всех имеет одинаковые весы, цари должны наблюдать полную справедливость и равенство в отношении ко всем подданным и о всех одинаково заботиться. Цари — первые защитники закона, дарующие равное благо всем людям.
А так ли есть теперь? И в земной и в загробной жизни люди, исповедующие истинную веру в пределах наших земель и царств, имеют выгоду и преимущество перед темными, заблудшими душами язычников, чтущих мертвые идолы, а не единого бога живого, и сына, и духа святого, слитных с отцом.
Нам придется отвечать перед престолом судии предвечного за эти погибшие души. И мы решили открыть путь спасения для всех, кто подвластен нам, кого пасем мы жезлом Моисея и крестом честным иерусалимским благословляем. А посему надлежит, чтобы было едино стадо и единый пастырь. Отнять надо силу у хитрых жрецов идольских, соблазняющих темных, доверчивых людей не ради веры, но ради мерзкого стяжания.
Надо устрашить злых и лукавых, ободрить колеблемых и сомневающихся. Вырвать мы порешили души людские из когтей диавола, открыть для них дорогу к вере на земле, к райским сеням на небесах.
А посему повелеваем отныне прекратить всякое почитание идолов, не только явное, но и тайное, в домах и у очагов своих. Люди, объявляющие себя. жрецами идольскими, — караются сурово, вплоть до смертной казни. Исповедующие язычество, творящие жертвы, хотя бы и тайные, — подлежат заточению и ссылке, подвергаются принудительным работам, как гласит закон о лицах, нарушающих божественную волю нашу. Все имущество у них отбирается.
Знаем, многие скорби возникнуть могут на первое время от сего нашего повеления. Но сам Христос сказал, что Царствие Божие восхищается лишь большими усилиями и достигается многими скорбями. Зато награда потерпевшим будет велика. Они, хотя бы против воли и насильно, озарятся светом веры истинной, приобщатся жизни вечной, ибо все должны принять крещение святое, стать равными среди равных.
Но, растворяя человеколюбием суровую строгость точного соблюдения закона и воли нашей, повелеваем: все имущества, отнятые у лиц, преступивших настоящий декрет, не обращать на пользу казны нашей, ни на расходы по войску. Половина идет на церкви новые, какие будут открыты для новой паствы христовой, на обители, где спасаются вдали от мира иноки-отшельники святые. А половина идет в награду верным, которые будут указывать на тайных язычников, нарушителей воли нашей, тем, кто охотнее и раньше прочих добровольно примет истинную веру, равно как и судьям, магистрам, пресвитерам и всем иным лицам, способствующим торжеству веры христовой, выполняющим то, чего мы требуем в священном этом приказе от подданных наших. Победив врагов внешних и внутренних, надеемся одолеть и врага Господня с его слугами, жрецами Ваала. Аминь.
Дано в Медиолане, в царствования нашего год десятый. Феодосий, кесарь.
В царствования нашего год второй. Валентиниан, кесарь».
Две подписи стояли рядом. Твердая, как сильная воля старого диктатора, подпись Феодосия. Тонкая, неуверенная, не то детская, не то женская — Валентиниана кончалась завитушками, такими же претенциозными и нелепыми, каким был юный император римский.
— Прекрасно изложено! — прошамкал елейным голосом Нектарий, давно знакомый с текстом декрета.
— Сильно и убедительно! Воля кесаря ясна и будет исполнена мною и всеми, кому надлежит, — подтвердил Кинегий, принимая свиток и целуя его почтительно там, где была собственноручная подпись цезарей.
— Весьма вразумительно и вдохновенно даже писано! — похвалил умный царедворец, логофет, забирая мешок с остальными свитками.
Склоняясь почтительно перед Аркадием, оба епископа присоединили свой голос к общему хору, восхваляя лицемерный декрет, полный словами любви и милосердия, несущий гибель, смерть десяткам тысяч людей. Молчал один Феофил; но лицо его сияло авторской гордостью. Все знали, что им написан проект декрета и послан Феодосию. Но хвалить прямо автора при сыне кесаря нельзя было.
Это еще успеется…
Снова заговорил Аркадий, когда смолкли похвалы.
— Декрет можно огласить в это воскресенье, когда большой торг идет в столице. Сразу местные и пришлые люди узнают волю божественного кесаря. А во все провинции — разослать, как обычно.
Кинегий молча склонился. Феофил, обращаясь к Аркадию, объявил:
— Если твое величество дозволит… Я еду в Александрию через три дня и повезу списки декрета с собою.
— Делай, как хочешь, отец патриарх, — соизволил юный государь, приняв еще более надменный, величественный вид, словно озаренный удачею и мощью отца. И медленно удалился из ризницы, сопровождаемый логофетом и Кинегием.
Нектарий последовал за ним, поддерживаемый двумя молодыми диаконами, ожидавшими для этого за дверью.
Феофил дал знак. Исидор и Кирилл прошли вперед. Патриарх задержался немного и, поманив главного диакона этой дворцовой церкви, быстро, негромко кинул:
— Нынче приходи, после вечерень!
И вышел за всеми, провожаемый поклонами диакона.
Глава 2
ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ
Целыми месяцами и не один раз в год патриарх александрийский живет в столице, покидая свой диоцез. Особый дом снял он для себя поэтому, недалеко от дворца, просторный, удобный, с виноградником и садом, с полуоткрытой террасою на восток, откуда видна чудная картина Золотого Рога, дальних гор и пролива Боспорского.
Солнце уже садилось. Длинные тени легли, сливая очертания и краски, навевая смутные желания, неясные думы, легкую грусть у каждого, кто заглядится в эту пору на широкую панораму царственного города, чудной природы, обрамляющей дворцы и последние лачуги Константинополя.
Но природа ничего не говорит, ничем не привлекает взоров Феофила и двух епископов, Исидора и Кирилла, беседующих на террасе, благо, вечер какой-то, словно весенний, выдался нынче.
Четвертый был тут еще собеседник, очень пожилой, но бодрый инок, с прямым, сухим станом аскета, красивый, не глядя на годы, с выпуклым, высоким лбом поэта-мыслителя. Седая грива волос пышно выбивалась из-под скуфьи, причудливо обрамляя вдохновенное лицо человека, способного переживать видения наяву и загадочные, мистические восторги. Но болезненного или неуверенного ничего не было ни в лице, ни в движениях инока. Только какая-то напряженная, постоянная мысль горела в больших, серых глазах, упорная воля читалась в складке его красиво очерченных, плотно сжатых губ.
Стоя у балюстрады террасы, инок что-то горячо, почти властно говорил, обращаясь исключительно к Феофилу, слушающему очень внимательно. И вдруг косой луч заката, упавший слева из-за дома на вершины кипарисов, привлек его внимание. Следя за лучом, инок перевел взгляд направо, на картину берега и Золотого Рога. Сразу, оборвав речь, он залюбовался, замолк, устремив глаза вдаль, весь застывший, с посинелым лицом. Левая рука задергалась, задрожала как-то, словно в легком припадке эпилепсии.
Собеседники, очевидно зная хорошо инока, молчали и ждали. Через несколько мгновений, легким движением головы словно сбрасывая с себя что-то, инок обернулся к Феофилу и продолжал с того самого слова, на котором остановился. Лицо приняло прежний вид, рука спокойно повисла вдоль тела.
— …это самое главное, самое важное. Начать надо с этого, прежде всего! — чеканил инок, как будто желая врубить каждое слово в грудь слушателям. — В пепел надо обратить, от первого до последнего, самые лучшие, прекрасные и вдохновенные вымыслы язычников-поэтов, мыслителей, риторов и, особенно, философов, хитро сбивающих с истинного пути умы и души людские. В пепел все обратить и пепел тот развеять по ветру! Чтобы из пепла кто не вытащил старых заблуждений, чтобы не зашелестели оттуда лукавые соблазны, чарующие образы, хитрые измышления диавола, врага мира.
— А… лечебные трактаты?! И, скажем, научные труды, хотя бы Аристотеля, столь много знавшего? — осторожно спросил Феофил, пользуясь передышкою инока.
— Все в огонь! — почти выкрикнул инок, властно протянув руку к патриарху, властному князю церкви. — Кого врачевали по этим трактатам? Какая сила открывала жрецам врачующим их тайны? Владык пресыщенных облегчали врачи. А жалкие рабы, такие же люди, гнили и гибли без помощи! Кровью людскою, взятою у бесправных рабов, египетские и эллинские врачи нередко лечили недуги господ. Потому что не Бог, а враг Господа и темные силы учили тех врачей. В огонь все это! Господь даст новое знание детям своим, истинно верующим в него. Разве не слюною и пылью придорожною возвращал зрение слепым Назареянин? Не простым наложением рук, словом единым подымал с одра болезней и даже со смертного ложа?! Что перед силой Господа Бога жалкое познание людское? Вера — вот главное. Гордыня в ученьи земном. В ком воплотился Господь, как то предназначено от века? Не в царском виде, не в образе вождя-победителя. В сыне плотника из Назарета, из последнего города земли, воссияло откровение Божие во плоти и в слове. Славный ученый — Павел-Савл из Тарса, — разве превосходит он силою веры и чудес своих простого рыбаря Петра? Нет. Петр — превыше! К чему же ложная наука, диавольская?.. А все эти творения, именуемые бессмертными? «Илиада», «Одиссея», трагедии Еврипидовы, поэмы, описание Александровых подвигов. Языческие тайны жрецов-египтян, которые полагают, что могут творить вещи так же, как силы природы, Богом управляемой? Золото учат творить химики мемфисские. Соблазн и грех. Без того много зла творится во имя злата презренного. Все в огонь! Не будет соблазна — и люди станут читать Писание. Поймут красу и значение новой вести благой, святого Евангелия. А то… подумать мерзко! Знаете писание карфагенца Апулея, под названием «Осел Золотой», всему миру сейчас известное?
— Знаем, брат Аполлинарий, конечно, знаем! — сдержанно улыбаясь, ответил Феофил. — Хорошо составлено. Образно и весело. Хотя немножко и того… соблазнительно порою изложено.
— Мерзость и пакость! А ты его знаешь, авва, ты читал? И все знают, все читают! Там игры бесовские. Позорные деяния юношей и девиц, старых мужей и жен, как и лиц зрелого возраста. Таинства храмовые поганые описаны так, что влечет людей приобщиться и творить сладкий грех невозбранно… Змий искуситель не напрасно первую гибель первых людей устроил при помощи этой скверны. И Каин, плод греха, родил убийство и грех в мире. С корнем вырвать, сжечь надо такие писания. Все в огонь! Тогда дадим иную пищу умам и душам. Вот я уже почти все Евангелие и Старый Завет изложил в тех же прекрасных формах. Стихами полнозвучными… И трагедии есть, и комедии… и поэмы о царях, о патриархах. О грехопадении и великом искуплении греха кровью Спасителя Христа. Больше 60 сочинений. А эти божественные книги мои мало кто читает. Влечет юных и старых к прелести языческой. В огонь все, тогда оздоровится мир и процветет христианство!
Пророческим, победоносным вызовом закончил горячую речь Аполлинарий, ученый епископ лаодикейский, и умолк, ожидая с горящими глазами, что скажет патриарх.
Феофил молчал. Хотя он очень сочувственно слушал инока, но вопрос слишком важен. Сразу решить нельзя. Только после значительного молчания патриарх заговорил:
— Сжечь Александрийскую библиотеку? Ты прав. Это — не только удар по религии языческой, по жреческим обманам. Это — крушение всего древнего просвещенного мира эллинского и римского, вместе с египетской мудростью. Храмы разрушенные можно снова отстроить. Задавленный культ — можно восстановить. Дело немудреное. Нашлось бы немного умных, хитрых людей и побольше дураков. Но порушить то, что собиралось веками? Чего повторить нельзя? Это значит — загасить навсегда огонь, пылавший тысячи лет в умах и душах лучших людей своего времени. Об этом надо подумать. Откровение — откровением. Но немало полезного, истинного было и есть в науке языческой, не говоря там о вымыслах поэтического творчества…
— Как? Ты, авва, за них, за поклонников Ваала? Ты?!
— Погоди. Я слушал. Слушай меня. Я только обсуждаю, не решаю. И не совсем согласен я с твоим словом о чудесах, об исцелениях. Ты не жил в Египте, не видал индийских магов. Но я видел. Многое делают они внушением, что очень на чудо походит. Да вспомни то же состязание Моисея со жрецами египетскими. В книгах наших священных написано. Значит, чудо — чудом, внушение — внушением. А наука — наукою.
— Значит, ты хочешь, авва, оставить научные писания?
— Ничего я не хочу! Я размышляю. Слушай. Были рабы и господа. Рабов было много. Благ земных они не имели. И врачи лечили господ, получая выгоды от этого. А раб умирал — другой становился на смену. В Спарте просто охотились на илотов, когда те размножились слишком. Чего же их было лечить? Теперь — иное. Христос заповедал любить рабов. Даже говорил об их освобождении не только на небе, но и на земле. Пока выполнить высокий завет Назареянина нельзя. Рабов крепостных — и то немного. Их не хватает. Ими дорожить, их лечить надо. Значит, даже языческое врачевание тут нам пригодиться может…
— Ты, значит, за идолов вступаешься?.. Значит, ты…
— Стой, я не кончил! Если бы можно было спокойно выбрать из того моря свитков и хартий, из папирусов и пергаментов, какие хранятся в библиотеке Александрии?.. Но где же там! Догадаются жрецы, уберут и остальное. Да и не мы будем жечь. Кинется народ. Сокрушит все: храмы, алтари, идолов! Не будет пощады и писаниям, таким драгоценным для язычников. Воля Божия! И тогда уж! Вот здесь ты прав. Когда не будет выбора, многие примутся изучать наши вдохновенные божественные книги Ветхого и Нового Завета. А твои прекрасные гекзаметры будут тогда нарасхват. Ни одного книгохранилища не окажется без них. Мысль верная и полезная для истинной веры…
— Так, значит?..
— Ничего не значит, — уклонился от немедленного прямого ответа Феофил. — Все будет, как пожелает Господь. А ты, брат Аполлинарий, поезжай в Лаодикею, в свою епископию и жди спокойно. Бог наставит и просветит рабов своих…
— Он просветит, я верю… и мраком окутается языческая скверна, заразу вносившая в души многие века. И воссияет свет Христов отныне и навеки. Аминь.
Тройной «аминь» служил ему ответом.
Облобызавшись со всеми, Аполлинарий надел свой клобук, мантию, сброшенную на кресло, и прошел к выходу через приемные покои. Исидор, по знаку хозяина, провожал почетного гостя.
Сейчас, освобожденный от думы, с какою изувер шел к патриарху, Аполлинарий в первый раз заметил восточную сказочную роскошь, с какою убраны все обширные покои жилища Феофила. Золотые и серебряные сосуды, украшенные самоцветами; дорогие ткани, подушки, расшитые золотом, ковры, в которых тонула нога, — все это напоминало, скорее, гинекей ромэйской императрицы, чем кельи патриарха, монаха по чину своему.
Стены и потолки, затянутые дорогими тканями, ласкали глаз. Фонтан журчал в одном покое. Райские птицы в золоченой клетке порхали в другом, более обширном зале. Двери из эбена и других редких пород дерева были украшены мозаикой, висели на чеканных, узорчатых петлях из бронзы и серебра.
«Роскошь и прелесть эллинская!» — брезгливо подумал строгий аскет. И даже усумнился в обещании, данном ему патриархом.
«А что, если сумеют язычники подкупить владыку всеми прелестями и дарами мира? И предаст он веру? Не сожжет храма… и писаний лукавых?»
Эта мысль до того ясно вырезалась в уме, что он даже хотел поделиться ею с Исидором. Но тот шел с таким смиренным видом; был известен как один из вернейших пособников и креатур патриарха. Что мог он сказать?
Молча идет дальше Аполлинарий. А мысль работает, как будто читает скрытые письмена. И думает он снова:
«Нет, не обманет, не предаст! Власть любит Феофил больше, чем блага земные и радости жизни. Исполнит, что обещал!»
И, облегченно вздохнув, приветливо простился фанатик-аскет с приниженно-ласковым, сладеньким Исидором, которого терпеть не мог всегда.
Вернувшись на террасу, Исидор сел скромно поодаль и слушал теперь, что говорил патриарх своему племяннику и воспитаннику, Кириллу, рослому, лет 26, благообразному человеку, с вьющейся густою бородой цвета спелого колоса. Чувственные губы и толстый мясистый нос выдавали грубую любострастную природу молодого епископа. Но он умел, когда считал нужным, принять строгий вид, подобающий наставнику чистой веры.
Сейчас, скрестив по-монашески руки на груди, склонив слегка голову вперед, умный лицемер ловил на лету, казалось, слова патриарха, которые тот отрывисто кидал, одно за другим.
— Ты слышал, я еду в день Солнца {Dies Solis — воскресенье.}. Тебя оставляю здесь вместо себя. Будешь видеться с Нектарием и другими, с кем надо. Я скажу, оставлю тебе список. К тебе тут будут приходить… знаешь уж, кто и откуда? Записывай все, что услышишь и узнаешь. И каждую неделю шли мне гонца. Или передавай с корабельщиками. Они часто гонят суда в Александрию отсюда. От меня получать будешь послания… и суммы разные… и дары, большие, малые… Смотря как. Что — сам передашь, за чем иным — к тебе люди явятся, чтобы поскромнее было. Помни, левая ведать не должна, что творит правая рука. Да ты уж не первый раз остаешься тут. А в епископию твою Пентполийскую я уж сам буду заглядывать почаще без тебя, чтобы порядок был… чтобы пресвитеры не ленились очень… чтобы стадо не разбрелось без пастыря. А, вот он! — патриарх кивнул на Исидора. — Он должен тоже разнюхивать, что в патриарших палатах творится. И тебе сообщать… Так я, даже не живя в столице, буду знать, какие ветры здесь дуют.
— Не премину, святой отец. Все исполню.
— Знаю, ты надежный друг… и опасен можешь быть врагам своим. Ну да что поделаешь? Еще не достигли мы на земле Царствия Божия. Пока — в империи живем в Ромэйской. Не мимо говорится: в мире жить — мирское творить.
— Есть иные, уходят от мира… спасаются в пустыне, в лишениях, в нищете…
— Это кто же? Не фиваидские ли иноки, анахореты обнаглевшие, которые так кичатся своей ненужной святостью, что и власти над собой никакой не признают? Епископство отрицают! По-ихнему, они ближе всех к Богу стоят. Еретики прокаженные. Особенно «Четыре Брата Долгих», как называют они своих главарей строптивых… Беда, что нужны они мне еще будут… вскорости. А то бы с них и начать, с гнезда еретического. Ни обрядов, ни благолепия. Дикая вера, полу языческая. Не церковники они. Своеверы заблудшие.
— Не спорю, святой отец. Но и то помнить надо, скитники эти много душ привлекли к истинной вере христовой. Раньше только при храме идола Сираписа были такие отшельники, вроде индийских самомучеников. И лились приношения в капище поганое. А как появились христианские схимники, аскеты, молчальники, сразу и повалил народ к нам. Святость явная влечет сердца простые. Польза и выгода великая есть для церкви от фиваидских, нитрийских и от иных отшельников!
— Да я и не спорю. И они нужны были, когда только собиралась, строилась новая церковь, накопляла силу для борьбы со старым миром. Когда ждать надо было каждую лепту, каждый жалкий обол от доброхотного даятеля. А теперь? Или не слышал нынче? Не знаешь? Наша вера единая, правая во всей мировой империи… наша воля и власть! Только по нашей вере и жить, и умереть можно, и душу спасти, уберечь тело от пыток и огня. Забыл, какой декрет через три дня огласится в столице и повсюду? Его я с собою повезу в наши края. Владычною, хозяйскою рукою могу теперь черпать везде, где есть что зачерпнуть. На что ж мне эти строптивые бормотальщики молитвы Господней? Эти изуверы, иноки фиваидские? Только лишний беспорядок творят, нарушают церковное благолепие сим диким видом и воплями! Иерархов не признают! Пускай вот они мне работку одну тут выполнят грязную. А там я их живо уберу, увидишь!
— Аминь! Да сбудется! Ты лучше нас знаешь, что нужно для укрепления и прославления церкви христовой, отец патриарх.
— Ну, так молчи и слушай, что тебе говорят. Не умничай слишком. Перемудрить можешь. А тут и до греха недалеко. Смирение — высшая добродетель христиан простых и пастырей, пока их Господь не вознесет и не поставит иерархами над тысячами и тьмами душ людских, яко пастырей добрых. Будешь патриархом — тогда умствуй, как хочешь. Твоя воля. А пока — повинуйся тем, кто выше тебя. Ну ступайте с Богом. Мне молиться пора.
Епископы ушли, но не в молельню свою прошел патриарх. Во внутреннем дворе дома был спуск в обширные, глубокие подвалы, где раньше хранились запасы вина, где устроены были кладовые и даже тайники на случай разбойничьего нападения или бунта черни, как это нередко случалось в столице.
Сюда могли скрыться хозяева дома и взять с собою все самое ценное, пока не утихнет мятеж или отражены будут враги.
Странный вид имел один из таких тайников, куда спустился Феофил, тщательно закрывая за собою проходы, явные и замаскированные, которые вели в этот высокий, со сводами, обширный подвал без окон.
По стенам шли темные тяжелые полки, уставленные колбами, медными и стеклянными сосудами, какие употреблялись только для алхимических опытов уже с давних времен. Стояли амфоры, кувшины и флаконы с разноцветными жидкостями, ящики и ларцы с минералами, кусками руды и порошками. В углу, в высоком шкапу, стояли особого вида широкие, низкие большие кадушки, наполненные свитками из папируса и пергамента; древние фолианты в досках из дерева и металла лежали тут же на длинном столе и свалены были в беспорядке просто на полу.
Целый скелет скалил зубы в неглубокой нише в стене. Чучело крокодила, свисая с потолка, вместе с чучелом филина дополняли обстановку этой тайной лаборатории. В дальнем углу против входа пылала большая печь, труба которой, подымаясь по стене, соединялась наверху с дымоходом кухонной печи, давая сильную тягу. Два тигля были вмазаны в печь. Перегонный куб блестел тут же своею начищенною медью. Реторты, фильтры, ступки, стеклянные чаши стояли на простом дубовом столе. Весы большие темнели тут же. Несколько малых весов лежало среди остальной утвари на столе.
На особом высоком табурете, вроде аналоя, лежала огромная книга. Покрытые загадочными изображениями, цифрами, выкладками, отрывочными наставлениями на греческом языке, пожелтелые листы пергамента с одной стороны были скреплены и покрывались двумя деревянными досками, украшенными резьбою. Пятиконечная звезда, «Печать Соломона», выделялась посреди верхней доски. Кругом шли символические изображения 12 знаков зодиака. Сверху — солнце спускало лучи на все, изображенное внизу. А под средним изображением — змея, укусившая свой хвост, символ вечности, завершала чародейный рисунок.
Между солнцем и средним рисунком четко было вырезано название волшебной книги — «Tabula Smaragdina» («Смарагдовые, т. е. изумрудные, таблицы»). И тут же затейливыми завитками выведено было имя составителя: Hermes Trismegistos — Гермес Трижды величайший.
Эта книга, хранящая, как думали, секрет создания золота из простых металлов, была составлена 200 лет назад ученым пресвитером Германом, успевшим выведать от египетских жрецов их великую тайну.
Инок лет 60, Мина из Пентаполиса, с юности преданный тайным наукам, уже больше 10 лет при помощи Феофила неустанно старался разгадать скрытый смысл чертежей и формул «Изумрудных таблиц», при помощи которых можно не только делать золото, но и получить философский камень, раствор которого дает вечную молодость и здоровье.
Своим здоровьем и молодостью заплатил упорный искатель за долгие годы бесплодных трудов. Сгорбился высокий стан, дрожали тонкие ноги, тряслись руки, обожженные разными кислотами. Пожелтелое, обрюзглое лицо, носящее следы бессонных ночей и дней, проведенных без солнечного света и чистого воздуха, — вот все, чего достиг своими поисками легковерный инок. Но он любил свою работу. Ему приятно было сознавать, что даже такие властные, ученые, практически-умные люди, как Феофил, смотрят на него с особым уважением, ждут великих открытий, богатых прибылей.
Феофил берег, холил своего алхимика, хотя порою нетерпение одолевало жадного человека и он жгучими сарказмами осыпал Мину. Но он быстро овладевал досадою и особым вниманием старался загладить злую вспышку.
— Ну? Много наварил нынче золота? — приветливо кивая в ответ на поклоны Мины, иронически, но не резко кинул вопрос патриарх, всего час назад громивший языческие нечестивые затеи.
— Не нынче… не нынче, авва! День не наступил. Послезавтра, в новорождение предвесенней луны… самое время для решительных действий. Все почти готово. Малости не хватает…
— Чего? Денег? Пару золотых солидесов тебе на кутеж? А? Эх ты, кудесник…
— Мне денег не надо. Всего достаточно в доме господина и отца моего. А золота нужно, ты угадал. Немного, но особенного… Такое есть золото, самородное, что в нем ни атома примеси нет. Ни серебра, никаких иных тел. Его я по цвету и запаху отличить могу. И достать такое золото можно только в храмах египетских. Особенно которые построены в честь О-Сириса либо его подобия, Сираписа Фивского.
— Что же? Если надо, мы и такое золото поищем. Может, найдем. А… на что именно тебе такое понадобилось? Немало у тебя и в кусках, и в растворе моего золота. Я не жалею. Такое — на что?
— Скажу… скажу… Высокий сан твой заменяет посвящение в маги. Открою тебе тайну. Еще великие наставники древности, Левкипп, Лукреций, особенно Демокрит, тысячу лет назад учили, что форма и вещество — только кажущееся нам нечто. А суть — едина и несложна. Атом — имя начала всех начал в мире телесном. О Боге не говорят мудрецы эти. Еще не были просвещены откровением они. И сам несравненный, никем не превзойденный мудрец, испытатель природы и мысли человеческой, Аристотелес, тебе известный, близкий всем людям высокого ума и духа… И он учит, что все сложное произошло из простого. Суть природы, — едина. Но в течение бесчисленных годов изменялись образы, естественным путем рождались новые виды… и людей, и зверей, и металлов! Золото — высшая форма. Вот берут кусок руды, кидают в пламя. И если есть в руде надлежащее начало, первичный атом золота — руда становится золотом при помощи огня {Так думали ученые в средние века.}. Такой рождающий, каталитический атом, скажем, «закваска золотая», имеется в чистом, рожденном землею золоте, не извлеченном из руды; как Христос, Спаситель наш, был рожден нерастленной девой и без пятна греха первородного на себе. Если найти такое золото… я тебе, авва, пуды его извлеку из старых ободьев колесничных… из чего хочешь!
— Да? Не врешь, лысый выдумщик… баснословец закоренелый?.. Много ты мне сказок говорил. Послушаем еще эту… Пойдем… Погляди, не найдется ли у меня то, что тебе нужно?.. Хоть и ересь злую говоришь ты о творении всего мира. Да уж добро. Пойдем!
Сила убеждения, звучавшая в словах Мины, захватила патриарха; жадность рисовала в глазах груды золота, добытые из черного котла, стоящего на очаге в этом подвале. И он быстро пошел из лаборатории. Старик едва мог поспевать за Феофилом.
Через несколько минут они стояли в другом отделении того же подвала, куда проникли через крепкую, окованную толстым железом дверь, запертую несколькими хитро устроенными замками.
Большая масляная лампа, висящая со свода, довольно хорошо озаряла стены помещения, вдоль которых тоже шли широкие полки. На полках лежали грудами разные священные принадлежности, взятые из древних языческих храмов Египта, разграбленных до этого времени Феофилом. Тут же стояли священные изображения греческих, римских и египетских богов, как и сосуды, тирсы, жезлы и чаши, отлитые из золота, серебра, украшенные самоцветами.
Под полками стояли ларцы и большие сундуки, тоже наполненные чеканными и литыми сосудами, блюдами, жертвенными ножами, все сверкающие белым и желтым отливом дорогих металлов. Старинные золотые сикели, персидские, арабские томаны, греческие монеты, чуть ли не аргивской эпохи… новые сравнительно золотые римские и византийские солиды… все это блестело в кожаных мешках или просто было насыпано в прочные ларцы.
Даже у Мины загорелись усталые, но еще зоркие глаза.
— Авва! Такое царское достояние. Казна великая! На что тебе еще мои услуги?.. Неужели не довольна душа твоя?
— Глупец старый… слепой крот. Душа моя?.. душа моя? Что ты можешь понимать в моей душе? Зачем поминаешь о ней, где не надо? Душу я надеюсь Господу предать, когда час настанет. А пока — жить надо. Видел, как я здесь живу, и того пышнее — в Александрии. Не ради себя, чтобы людям понятие дать о величии Господа, коего последние слуги так пышно жить могут. А потом… знаешь, чего мне стоит жить в миру да в ладу со здешними византийскими пиявками? Все тут, от привратника-адмиссионала до родни кесаря, только в руки и глядят, когда во дворец явишься, о чем-либо просишь… Эти продажные души хватают и поглощают груды золота быстрей и жаднее, чем свиньи пожирают извержения человеческие… Не надолго хватит мне этого запаса, если не подбавлять почаще. А ты, глупец, спрашиваешь. Ищи, что тебе тут надо. Да поскорее! Мне время уже. Гостей я жду высоких нынче. Вечерни отошли, всенощное бдение скоро. Мне пора. Ищи скорее.
Но Мина уже и так рылся на полках, пересыпал в руках золотые монеты, глядел на свет, нюхал. И вдруг, ухватив небольшую статуэтку египетского Горуса, бога света, отлитую из какого-то особенного, красновато-желтого, очень мягкого золота, даже весь задрожал от волнения.
— Вот, вот оно, первозданное, самородное золото! Не плавленное в горне, не очищенное никем, кроме самой природы. Вот, сомненья быть не может!
— Ну, нашел, так и бери, неси… делай, что надо! Поживее только. Знаю, ты меня обмануть не думаешь. Вижу, веришь ты в свою кухню бесовскую. Да самого тебя не путает ли лукавый? Не сбирается ли осмеять тебя, да и меня заодно?
— Что ты, отче и господине? Откуда мысли такие затемняют твой светлый разум? Первый ли раз варю я золото? И выходило ведь. Вспомни!
— Помню. Вышло нечто сходное. А как предложил я слитки персидским да арабским купцам за благовония — они смеяться стали. Говорят: «Похоже на золото, да не совсем!» И вес легче, и серебра больше, чем надо, при испытании нашли они в твоем слитке. Ненастоящее, выходит. Пришлось отдать сюда, на монетный двор; мне и начеканили солидесов да номизм… Ничего, сошли за настоящие. Александрийские, свои купцы не посмели не принять, хоть и качали головою.
И Феофил, при воспоминании о том, с каким видом купцы принимали фальшивые золотые, даже расхохотался. Но сразу сдержался, властно кивнул Мине:
— Идем скорее! Там, гляди, уже ждут меня.
И Феофил пропустил вперед алхимика. Как любимое дитя, прижав к груди статуэтку, поспешил Мина в свою тайную мастерскую.
Патриарх не ошибся. Во внутреннем дворе, у двери, ведущей в подвалы, стоял диакон, секретарь Феофила, и доложил, едва тот появился:
— Ее царская милость, августейшая кирия Евдоксия, изволила пожаловать только что и ждет святейшего отца патриарха.
— Иду, иду. А ты не забыл, что я приказал на этот случай?
— Все исполнено, святейший отец патриарх.
С непривычной поспешностью, звонко постукивая железом своего посоха по каменным плитам двора и коридоров, зашагал Феофил в дом.
Немолодая, но еще красивая Евдоксия, племянница императора, славилась в столице набожностью, усердием и обрядами, молитвенным пылом, с каким посещала не только дворцовые храмы, но и самые отдаленные святыни города и окрестностей. Правда, при дворе, и в народе особенно, злые языки отмечали, что чаще всего бывает принцесса там, где покрасивее священник или водитель клира. Что не брезгает она и мирянами, какие приглянутся снисходительной августейшей богомолке во время службы в храме.
Но сама Евдоксия слишком пренебрегала тем, что о ней говорят. А на осторожные намеки дяди-императора и семейных обычно отвечала, подняв глаза к небу:
— И Христос, Спаситель наш, был оклеветан перед глазами царя… Что же мне уж обижаться? Стерплю уж. Карайте, хулите! Потерпевший здесь вознагражден будет на небесах. О ком не плетут всяких небылиц, особенно про семью кесаря? Мой Бог — Бог милосердия и любви, и я служу ему.
После этого укоры умолкали на время, пока новые скандальные слухи не переполняли терпения императорской семьи. Но Феодосий, сам далеко не безгрешный, не думал по-настоящему карать принцессу или даже указать ей, что только с ее именем связаны всякие позорящие слухи. И, пользуясь почти полной свободой, Евдоксия по-прежнему служила своему Богу милосердия и любви, как только могла.
В уютном покое с плещущим фонтаном, утопая в подушках широкого восточного дивана, поджав полные ноги, полулежала Евдоксия в ожидании хозяина, из прозрачной чашечки китайского фарфора прихлебывая ароматный кофе. Низкий, инкрустированный перламутром и золотом столик перед софою был уставлен шербетами, вареньем, изысканными сладостями, плодами свежими и обсахаренными. Хрустальный графин с ледяной водой на старинном чеканном блюде чудной работы особенно украшал стол, отражая разноцветными искрами свет ламп на своих затейливых гранях.
— Мой привет и благословение во имя отца, и сына, и духа блаженнейшей кирие Евдоксии! Прости, что не у порога жилища моего встречаю высокую гостью.
И, благословляя принцессу, патриарх дал ей коснуться губами апостольского перстня на большом пальце правой руки, сам касаясь поцелуем ее волос.
— Мне ждать почти не пришлось, святой отец, — грудным, почти мужским голосом ответила ему гостья, привставая для принятия благословения, и снова опустилась в подушки.
Пожилая дворцовая прислужница, сопровождающая постоянно принцессу, как требует закон двора, стояла у дверей и скрылась совершенно, как только вошел Феофил. Но Евдоксия и ждать не стала, властно протянула руки, привлекла, усадила рядом с собою патриарха, быстро заговорила:
— Через три дня уезжаешь? И мне ничего раньше не сказал?..
— Если душа души моей знает о моем отъезде, ей должны были сказать и причину.
— Декрет? Вздор. Не опоздают твои язычники отдать свои сокровища и принять, на выбор, христианство или смерть. Не уезжай так скоро.
— Душа души моей! Если о декрете узнают в Александрии раньше, чем я там появлюсь, — и десятой доли сокровищ не найду я в тайниках языческих. Все успеют убрать жрецы подальше… если уже не пронюхали обо всем!.. Как и у меня, у них тоже есть глаза и уши здесь, в столице, и в Медиолане, в ставке императора, в свите его. Мало ли явных и тайных друзей веры идольской еще существует у нас? Я должен спешить. Но я скоро вернусь.
— Должен? Ну что же. Вернешься?.. Только поскорее. А пока…
Долгим, истомным поцелуем закончила речь свою перезрелая, но не уставшая от жизни красавица.
Прошло больше часа. Через сад, через террасу появилась и теперь тем же путем должна отбыть высокая гостья, чтобы меньше толков было в квартале, где стоит дом Феофила. Несколько дюжих эфиопов-рабов с факелами стояло у богатых носилок. Тут же, позванивая серебряными колокольчиками, стоят два мула в богатой сбруе, навьюченные каждый двумя ящиками, обтянутыми кожей буйвола.
Готовясь ступить на спину лежащего на земле раба, чтобы войти в носилки, Евдоксия заметила мулов и с удивлением спросила у провожающего ее патриарха:
— Это что за прибавление к моей свите?
— Пустое дело, блаженнейшая кирия. Ты же едешь на всенощное бдение ко влахернской богородице, везешь свои дары. А это — мой дар тебе, августейшая, и пречистой богоматери. Сама уж подели, как пожелаешь. Я буду в отлучке, пусть дары скудные поминают тебе о богомольце неустанном за твое здоровье, за благополучие святейшей семьи кесаря. А ты уж не забудь, о чем я просил.
— Где уж забыть такого щедрого и умного просителя?! Все будет, как говорил святейший отец. Кирилл твой станет получать от меня вести, когда надо. Будь счастлив. Доброго пути. Мы, надеюсь, увидимся еще?
— Конечно. Я буду во дворце завтра же, дщерь моя возлюбленная во Христе!
И в последний раз он осенил благословением свою «дщерь», которой успел перед этим доказать всю свою пламенную «отеческую» любовь.
К полуночи близилось время, а Феофил еще не ложился, хотя завтра с рассветом придется ему встать для обычного выезда во дворец, к Аркадию.
Мерно, тяжело шагая по мягкому ковру опочивальни, он прислушивался, словно ожидал кого-то. Едва раздался осторожный стук в дверь, как патриарх, обернувшись, крикнул:
— Входи! Зови! Впусти скорее!
Темная фигура прислужника мелькнула за дверью, и он, без обычного доклада, впустил в спальню позднего гостя, девтэра, евнуха Виринея, одного из важнейших сановников византийского двора.
Выше его стоял только паппий дворцовый, тоже евнух, Синезий. Он, как и его помощник, или девтэр, был главным ключарем дворцовым, раскрывал все двери утром и закрывал их на ночь. Оба имели право доступа в гинекеи, на женскую половину царицы. И только евнухи могли занимать эти высокие посты. Власть их была почти одинакова, они чередовались по дням. И девтэр, т. е. второй ключарь, ни пышным одеянием, ни почетом не отличался от первого, паппия, как его называли. Если умирал паппий, или бывал сослан, казнен, — его место занимал девтэр, с именем паппия, принимая себе на помощь нового девтэра.
Вся дворцовая челядь была в их распоряжении — чесальщики и чесальщицы, банщики и банщицы. И, понятно, что эти тысячи острых, зорких глаз, замечающих малейшую тучку, легчайшую тень и свет на дворцовом горизонте, все свои вести, правдивые и вымышленные, верные и клеветнические порою, — несли паппию и девтэру. А эти оба умели хорошо пользоваться таким богатым грузом. Не брезгали они за хорошую цену часть своих сведений передавать тем, кому это было необходимо.
Вот почему с таким нетерпением ждал патриарх александрийский своего давнишнего друга, евнуха, девтэра Ромэйской империи.
— Не гневись, авва святейший, раньше не мог, — после обычного благословения и приветов извинился Вириней. — Нынче мой черед запирать запоры во дворце, проверять ночные посты служителей. Освободился и поспешил на зов владыки. Готов служить.
— Благодарю, почтен такою ласкою первейшего слуги и хранителя тайн кесаря. Но раньше вот сядем. Ты, конечно, не успел потрапезовать на ночь? А я тебя ждал. Прошу, отведай моего скромного хлеба-соли, высокопочитаемый.
Они уселись посреди покоя, за круглым столом, уставленным блюдами, чашами, амфорами и стеклянными флягами с хиосским, кипрским, фалернским и испанским лучшим вином. Сосуды, очевидно, много десятков лет хранились в глубоких погребах и с них умышленно не сняли налета веков, подавая на этот роскошно убранный, изобильно уставленный редкими яствами, «скромный» стол Феофила.
Дружно, весело беседуя о новостях дворцовых, оба больше пили, чем ели.
— На сон грядущий вредно обременять желудок! — внушительно заметил Вириней, отклоняя угощение радушного хозяина. — Но влага, особенно такая приятная, дарит глубокий, отрадный сон. А потому…
Он подставил кубок, и густая, рубиновая влага, благоухая, полилась тонкой струей туда, а потом — в горло евнуху. И часто повторялось это, пока приятели хохотали, перебирая сплетни, перемывая косточки всем великим мира, вплоть до самого императора, любившего вино и женщин, как только может их любить старый испанский солдат.
— Да, судьба. Фортуна! Недаром в женском виде ее мыслят люди. Из простых наемников-воинов отец нашего августа достиг высоких степеней, пока не был казнен!.. А сын казненного — и вовсе взлетел над целым миром вместе с орлами Ромэйской империи. Конечно, и при удаче нужен ум. Но — больше удачи, чем ума! — смеясь, язвил заглазно своего господина завистливый холоп и евнух, Вириней.
— Верно. Особенно если помянем блаженного патриарха Нектария. В его птичьей головке ум и не ночевал. Там для мозгов и места нет! А вот… глава восточной церкви! Столько лет. И еще сколько просидит?!
— Ну, судя по годам и его дряхлости, не думаю, чтобы долго, — постарался сказать приятное тонкий царедворец, хитрый скопец. — И тогда… у нас будет патриарх, какого лучше не было. А? Правда?
— Это — я, хочешь сказать, высокочтимый? Нет, ошибся. Не о себе я хочу потолковать с тобою нынче. Там, в Александрии, я не только патриарх. С тобой таиться нечего. Вместе дела вершим! Префекты Египта мною ставятся, меня боятся, мне покорны. И церковники и миряне в моей власти! Не напрасно враги зовут меня «христианским фараоном». Враги всегда лучше друзей знают и ценят человека.
Вириней расхохотался визгливо, по-бабьи.
— Хи-хи-хи! Враги, верно, знают лучше! Они всегда умнее, чем друзья. Хи-хи!
— Так зачем же мне менять черепаху на ящерицу, если даже не на виперу, несущую смерть? Знаешь, ближе к огню, ближе к обжогу. Где много царской милости, там и гнев владыки. А с ним — смерть. Сам ты припомнил: отец нашего августа, военачальник прославленный, озаренный победами, лучший слуга кесарей, — кончил позорной казнью свои дни. Мне хорошо у себя дома. И здесь, в Константинополе, мне тоже хорошо, пока я у вас гостем только…
— Знаю, знаю! Августейшие хозяева навещают дорогого гостя, а хозяйки… те — особенно! Хи-хи-хи! Сегодня тоже была, наверно, августейшая Евдоксия. Проездом на богомолье?.. Хи-хи-хи! Впрочем, молчу, слушаю. Так сам не желаешь занять здесь патриарший престол? Кого же посадить думаешь?.. Тебе, блаженнейший, надо такого, чтобы был в твоих руках как воск перед лучами солнца. Понимаю! Тогда ты — истинный глава церкви восточной, как папа в Риме. А патриарх Константинова града будет для тебя каштаны таскать из огня… да шишки получать, какие валятся часто с высоты кесарского трона? Так ведь?..
— Мудрый друг и брат души моей. От тебя ли укроется самая тайная мысль человеческая?!
— Да! — самодовольно захихикал снова евнух, потирая свой отвислый, жирный подбородок, где торчали редкие, жидкие волоски, не выдерганные в этот день. — Кое-чему научился, 30 лет живя в стенах дворца ромэйского. Так кого же будем ставить в патриархи после Нектария?.. Говори…
— Сам не наметишь ли подходящего, Вириней почтенный? Скажи. Я подтвержу, если угадал.
Скопец вонзился взглядом в глаза приятеля, как бы желая там прочесть затаенную мысль. И вдруг снова раскатился противным, мерзким смешком своим.
— Хи-хи! Да неужели?.. Вот была бы штука. Слизняка этого?.. Тогда верно: его глупая рожа, а твоя власть на патриаршем престоле. Неужели — Исидор?
— Он самый. Угадал, мудрейший из мудрейших. Лучше не найти. На вид — осанист. Благословлять умеет. Глуп, как истукан скифский. И послушен, как овца; не упрямый дурак, как иные бывают.
— Верно! Только… Все знают хорошо это сокровище и светило церкви. Кто за него голос подаст?
— Я… Ты… все те, кто за тебя и за меня. Император согласится. Собор не посмеет спорить. Только помогай. А уж я…
— Знаю, знаю. Всемерно похлопочу! И всех настрою, кто меня слушает. Попробуем. Только жаль, приходится немного подождать, пока эти мощи живые, Нектарием именуемые…
— Придется! И притом еще довольно долгое время. Он на вид только такой. А проживет еще немало, я уж пригляделся. Я знаю, кто скоро умереть может, кто нет. Ну да подождем. Мне пока терпится. За здравие августейшего цезаря и его семью! За твое здравие…
— И за успение блаженное патриарха Нектария! — хихикая, прозвенел рвущийся фальцет евнуха. — Пьем! За августейшую богомолицу Евдоксию особенно…
Медленно, ровно пересыпался золотистый песок в часах, стоящих на особом консоле. Кубки наполнялись, осушались. Евнух, совсем опьянелый, лепетал Феофилу:
— А признайся, отец, хороша богомолица? Я про нее много знаю. Не за молитвою же только ездит она к тебе… да по вечерам… Есть грех, а? Ты, святейший отец, ведом мне как великий муж на дела такие. Слухи есть верные. Скажи, утешь! Я не выдам, знаешь…
— Чего меня выдавать или прятать? Я — не конь краденый. Патриарх вселенский один только и выше меня зовется. А грехи мои? Не потаю, много грешу… А потом духовнику отношу. Всю груду, разом. Мне опять легко. А он пускай нянчится с ними… если своих нет…
И Феофил тоже расхохотался, раскатился своим властным густым басом, довольный удачным вечером, возбужденный хорошим вином.
Лицо евнуха, еще молодое, красивое, но обрюзглое, слишком ожирелое, с дряблою, пожелтелой кожею, приняло задорно-таинственный вид. Он зашептал:
— Ты не думай, авва. Мы, скопцы, уж тоже не совсем лишены радостей мира… Ты слушай. К своим иереям боюсь на исповедь. Предадут меня врагам, продажные души. Раньше, чем до Бога, — до кесаря донесут мои грехи. А покаяться охота. Знаешь, авва, и мы уже не совсем страстей лишены. А женщинам забавно изведать, как ласкают такие… получеловеки, вот как я… Особенно когда наскучит им обычная любовь мужская. Они тогда сами приманить нас готовы. Ну и грешишь.
— Ты… любить умеешь… по-человечески?.. Чудное дело! И женщины?!
— Да какие еще, авва! Я даже имел счастие… касаться священнейших прелестей самой неизреченно-милосердной…
Он не досказал, шепот оборвался тревожно, пугливо, как будто Вириней увидел кого. Потом опять зашептал:
— Да отпустит мне Господь тяжкую вину мою! Дашь ли разрешение, святой авва, в грехе столь великом?
— Во имя отца, и сына, и духа святого отпускаются тебе все грехи твои вольные и невольные… как с чистым духом приносишь свое покаяние, — захлебываясь от чувственного восторга, пробормотал Феофил. Он словно видел перед собою соблазнительную картину, на которую намекнул кастрат. Она, священнейшая в империи вселенской особа, — и рядом этот отброс человечества! Хохот снова вырвался из могучей груди патриарха. Сквозь смех он спросил:
— Только скажи… не хвастаешь?.. Как это ты грешить можешь, если… Непонятно мне.
— Могу, владыко. Со сладостью и мукою вместе. Сознаю, что не полную радость даю… не полное счастье получаю. Кляну и презираю себя. Но грешу… а сам думаю: не для смеху ли лукавая допустила до себя? Я трепещу тут, а она смеется над жалким уродом телесным, надо мною. И убить готов ее тут же за эти мои мысли. И ласкаю еще безумнее! Отпускаешь ли, авва? — склоняя совсем побледневшее, измученное тоскою лицо, пропищал кастрат.
— Отпускаю. И грехи твои. И тебя самого! Скоро заутрени. Тебе отдых на целый день. А мне часа через три и во дворец пора… на работу. Иди с Богом. А на прощанье… вот… захвати… если не тяжело будет.
Объемистый кожаный кошель, полный монетами, взял хозяин из-под подушки и подал гостю, провожая его к выходу.
— Благодарствую, святой владыко. Дотащу, не бойся! Ого! Золото! — позванивая над ухом мешком, осклабился широко евнух. — Ты умеешь одарить. Только скажи, это не из тех «волшебных» золотых, какие отливает тебе чудодей инок Мина? А? Хи-хи-хи!
— Нет, нет! Не строй кислой мины. Это полновесные золотые мины {Мина — старинная золотая монета в Элладе.}, не хуже староэллинских! — незамысловатым каламбуром ответил Феофил на грубоватую шутку гостя.
Весело смеясь, они простились, как старые приятели, хорошо знающие друг друга…
Глава 3
ОЛИМП РУХНУЛ — ГОЛГОФА КОЛЫШЕТСЯ
Воскресенье, «день солнца», ярким солнечным днем развернулось над столицей империи ромэев, над Боспором, Золотым Рогом и Пропонтидою, над всем великолепием холмов, полей и лесов, окружающих огромный, шумный град Константина.
По случаю праздничного, торгового дня город, раскинутый на холмистом пространстве в 30 квадратных километров, — кипел толпами людей. Общее движение в этот день было особенно сильно. Это последний большой торг перед долгим, строгим постом весенним, которому предшествует веселая, разгульная неделя, проходящая под знаком: «Carne, vale!», т. е. «Прощай, мясо!»
В эту «карнавальную» неделю каждый, даже последний бедняк, старался пожить привольнее, веселее; сытнее поесть, напиться допьяна. Языческий предвесенний праздник «возрождения солнца», поворота его на путях от одного полюса земли к другому, праздник древний, как само человечество, — не мог быть искоренен самыми строгими запретами новых христианских вероучителей-изуверов. Простор веселью, разгул всем чувствам после зимнего, подавленного состояния природы и людей!
Стараясь как-нибудь связать это стихийное ликованье, облегчить переход к обязательному сорокадневному посту, новая церковь разрешила «заговенье»… И христиане вместе с язычниками широко пользуются поблажкой, какую суровая власть делает древнему обычаю.
Бедняки особенно ревниво справляют дни «карнавала», эти сырные, масленичные дни. Если богачам каждый день — праздник и масленица, то бедняк и в праздник больше воображением дополняет те скудные радости, тот жалкий стол, каким может побаловать себя в эти дни.
А сейчас особенно много бедного люду в пышной столице ромэйской. Долгая война — хотя и там, за гранями Византии, — унесла много живой силы, несметное количество запасов и ценностей, золота и серебра.
Хлеб все дорожает, работы меньше и меньше. Закрываются лавки в торговых рядах, пустеют целые базары порою. Крестьяне прячут свои запасы, перестали сеять больше, чем надо им самим для жизни.
Замирать как будто начинает жизнь столицы, хотя что ни день приходят все новые вести о новых успехах и победах кесаря там, где-то в Италийской земле, в счастливой некогда Авзонии, теперь тоже покрытой трупами, залитой кровью.
А кровь и трупы несут заразу… Мор гуляет по Римской земле. И даже в пределах Ромэйской империи, здесь и там, где народ живет поголоднее, тоже повально гибнут люди от недугов, обессиленные нуждою.
Но в этот солнечный, праздничный, торговый день забыла древняя Бизанция обо всем. Не смущают ее пустые рынки, запертые растворы лавок, растущие цены на хлеб, на сыр, на оливки. Последнее тратит каждый, как будто последний в жизни день приходится дожить с этим веселым карнавалом…
Самый красивый и веселый торг кипит на Средней улице, которая тянется с юго-запада от Золотых Ворот, мимо гавани Феодосия, мимо Миллиума {На площади Августа, против входа во дворец, под особой аркой стоял столб, Millium, от которого считались мили, шедшие во все стороны по путям от Константинополя.} и Большого дворца до Porta Cerea (Церейских врат), как настоящее торговое сердце города. Но не каждый торговец имеет право открыть здесь лавку.
На Средней улице, по уставу, могли открывать свои мастерские только ювелиры и торговцы платьем из шелка. Торговцы шелком-сырцом, восточными благовониями и пряностями, ткачи-шелкопряды и менялы также имели здесь мастерские и лавки.
Тут же, на площади Августа, против Миллиума, возвышается Халки, роскошный закрытый портик, ведущий в Большой дворец. Бронзовая крыша портика, густо вызолоченная, сверкает, горит под лучами южного солнца.
И по воскресеньям цветочницы и торговцы благовониями здесь, против ворот Халки, должны расставлять свои товары, чтобы смешанные ароматы долетали до дворов и палат царских.
На окраине города, на площади Тавра висел в воздухе визг свиных табунов, сгоняемых сюда для продажи. Здесь же продавали ягнят окрестные селяне от страстной недели до троицына дня. Крупный скот, овцы и бараны сгонялись из окрестностей только на площадь перед храмом Стратегия, а конский огромный рынок был на Амастрианской площади. Весь скот клеймился, записывался, и с головы вносилась хозяином плата в казну города. Затем сюда являлись мясники, покупали товар и уводили в свои лавки. Но там снова от каждой туши взимался новый побор. Во все время великого поста ни одной штуки убойного скота нельзя было найти нигде на рынке или в лавке. За нарушение правила грозил тяжелый штраф и наказание палками как продавцу, так и покупателю.
Вот почему в этот последний перед постом воскресный большой торг весь город высыпал на улицы, толпы чернели на рынках, пестрели женские наряды. Каждый торопился запастись тем, что ему нужно и на праздник карнавала, и на весь долгий пост, если позволяла собственная казна делать запасы.
Говор крикливой южной толпы, женские звонкие голоса, зазывания торговцев, бубны и систры уличных акробатов и фокусников, мычанье и блеянье скота, визг свиней, которых волокли с рынка, праздничный звон колоколов, — все это на площадях и на улицах сливалось в один нестройный гул, несущийся вширь и вверх, навстречу потокам света, проливаемого ярким солнцем на всю оживленную, пеструю картину.
Неожиданно шум и говор, стоящий над площадью Августа, вблизи дворца, прорезали новые, властные звуки, голоса военных труб, как всегда бывает перед выступлением глашатаев эпарха, желающего оповестить население о новом декрете кесаря или о своем личном распоряжении по городу.
Четыре всадника-глашатая в своем блестящем уборе, протрубив призывный сигнал, стали по четырем сторонам обширной площади, из бархатных мешков достали свертки и громко огласили декрет Феодосия, который три дня назад доставлен был Аркадию.
Затем глашатаи прочли приказ эпарха. В нем говорилось, что победоносные легионы и сам кесарь возвращаются в город. Должна быть встреча. И новый, особый взнос налагается для этой цели на жителей.
Окончив, каждый глашатай протрубил еще раз, передал копию декрета полицейскому служителю, и пока тот наклеивал листы на стене соседнего здания, — все четыре съехались снова и по Средней улице пустились дальше, в объезд по городу.
В молчании слушала тысячеголовая толпа чтение декрета. Изредка лишь, в особенно сильных и важных местах подавленный рокот голосов перекатывался по всей площади, быстро замирая.
Когда же прозвучал короткий и властный приказ эпарха, когда запахло новым налогом, — все всколыхнулось; стена людей заколебалась, закружился целый водоворот негодующих криков, злобных голосов, бранных речей. Люди мятутся туда и сюда, машут руками, потрясают палками, свертками, всем, что в эту минуту держит каждый…
— Новый налог! Мало старых?.. Демоны и ларвы!
— Опять гонение на людей за то, что они молятся божеству по-своему! Не так, как там, во дворце?!
— Мы и так разорены! А уедут, убегут из города богатые язычники, — совсем не будет торга и работы. Пресвитеры и начальники-христиане не больно тороваты. Не динариями — палками часто расплачиваются за все, что у нас берут! Живодеры дворцовые!
— Там, где-то, над кем-то победы! А нам — голод и беды. Довольно с нас таких побед и славы. Хлеба нам надо! Хлеба не хватает! Все забирают в магазины эпарха: товары и хлеб… А нам продают в десять раз дороже. Довольно с нас!
— Да, — запричитал какой-то тощий, видимо изголодавшийся, горожанин, — бывало, за два фолла принесешь домой лепешку, так со всею семьей и в три дня не съешь. А теперь купишь за миллиарисий хлебец, и на день его не хватит.
— Долой, к черту, в Аид эти декреты!.. Вспомним, граждане, прежние годы! Мы — свободные византийцы… не псы дворовые пришлых господ! Неужели рабская религия отречения и вас сделала рабами до конца? Мы — должны смиряться, а им, господам, все позволено? Их распятый бог дал им какие-то особые права, что ли? Рождены они иначе, чем мы? Едят не так, как все? Тем же ртом. Но у них есть, чем набивать брюхо. Есть время писать указы. Есть волки-воины, чтобы грабить нас, сдирать у нас шкуру вместе с налогами и поборами! А у нас — животы пусты! Мы надрываемся в труде, не зная отдыха. Так крикнем же, чтобы потряслися купола золотые и мраморные стены их дворцов: долой насилие! Насильников долой! Прочь жестокие и неразумные декреты! Хлеба и воли народу державной Византии!
Молодой, здоровый эллин, по одеянию — жрец какого-то языческого культа, кончил свою горячую речь, сорвал со стены декрет и замахал им, как флагом, над головою.
— Долой!.. Хлеба!.. Воли!.. — всплеснулся тысячеголовый, слитный, но все же внятный клик. — Веди нас! Мы пойдем! Мы скажем!..
Толпа скипелась вокруг оратора. Задние, не разбирая хорошо, в чем дело, напирали на передних. Женщины старались увести мужей, слишком горячо рвавшихся в опасную свалку; уводили детей. Старики, сгрудясь под портиком, идущим по западной стороне Средней улицы, наблюдали за сценой, перебрасываясь отрывистыми замечаниями.
Такие же картины развертывались на соседней площади Константина и на всех перекрестках и площадях, где звучали трубы глашатаев, где читался декрет и приказ эпарха… На огромном ипподроме, южнее дворца, собралась многотысячная толпа. Здесь и там поднимались ораторы, взбираясь на цоколи колонн, на трибуну судей, забираясь в ложу кесаря и магистратов. Звучали скорбные и негодующие речи: «Слишком тяжело жить! Через меру гнетет всем шею пята императорской власти!»
Тут же составлялись группы, делегации ремесленников, купцов, мелких торговцев, которые должны идти к эпарху требовать отмены новых поборов. Просить о снисхождении язычникам. Иначе, боясь преследований, богатые люди уедут. Еще больше голодных, безработных окажется в столице.
От одиннадцати ремесленных крупных союзов, от ювелиров, шелкопрядов, портных, ткачей полотна, свечников, мыловаров, булочников, кожевников, от мясников, трактирщиков, менял и мелочных торговцев, — кроме их обычных старшин, — были тут же избраны еще представители. Маляры, художники, каменщики и плотники, не объединенные в союзы, присоединили своих выборных к общей делегации, которая перед эпархом должна изложить требования населения столицы.
Пока шли выборы, тянулись переговоры, споры, солнце поднялось высоко. Под тенью стен ипподрома собрались более зажиточные, обеспеченные жители взволнованного города, слушали: что говорит бушующая толпа? Гадали: чем кончится все это?..
Особенно горячились селяне, пришедшие из окрестностей.
Одетый в бараний тулуп, широкоплечий, седой, но мощный старик говорил:
— Вам плохо? А нам — хуже всех! Вы голодаете, да хоть по своей воле живете. А мы, селяне? И свободные, периэйки, они на словах только свободны. Арендуют землю у господина либо у казны. Входят в долги и на весь век прикованы этим долгом к земле, крепче, чем цепями!.. А мы… мы, бесправные?! Колоны, поселенцы — еще хоть свое что-нибудь могут иметь: плуг, вола, коня плохого… А мы, адскриптиции, рабы-селяне?! Хуже скота мы для господ наших. Нет своего угла… нет своего серпа! Все От господина. И самая жизнь наша — ему принадлежит! Монастыри, церкви, куда мы приписаны или подарены порою, — они еще тяжелее иго накладывают на шеи наши. Говорят о милосердии Бога, о долге братолюбия. А у нас забирают последнюю горсть пшена, все плоды трудов наших. И так мы живем. Пойдите скажите, что и мы люди! Пусть и о нас подумает великий август.
Скорбью звучат речи селянина-раба. Но горожане плохо слушают старика. Свои у них заботы. Совещаются выборные. Готовы пойти к эпарху. Намечают кому и о чем говорить.
А на ипподроме кипит людской прибой, приливают, отливают толпы народа, вздымаясь здесь и там, как волны в бурю.
Гипатия с отцом тоже здесь. Как истые эллины, они вышли с утра подышать общим воздухом со всею шумливой, говорливой и веселой толпой горожан. Потом, охваченные волнением, каким заражали друг друга народные толпы, — они попали на ипподром, взобрались на одну из верхних скамей, слушали и смотрели, что творится внизу.
Чужие городу, они чувствовали себя близкими этой возмущенной, крикливой от наплыва злобы, стонущей от прорвавшейся скорби, тысячеголовой гидре людской. Рядом стоит и хозяин их, приютивший друзей в чужом городе, философ и ритор Плотин, основатель особой школы в Александрийской Академии.
Небольшого роста, но крепкий, кряжистый старик, он особенно гордится сходством своего черепа с головою божественного Сократа; даже, для большего сходства, удаляет волосы на голове, увеличивает лысину, еще не достигшую сократовских размеров. И часто хмурит густые брови, чтобы ярче выступали «сократовские» надбровия и складки на широком мясистом лбу.
— Неужели серьезное народное возмущение мы видим перед собою? — задал вопрос Феон. — Я совсем не знаю византийцев. А ты тут бывал довольно часто. Неужели совесть народная здесь так чутка к вопросам веры, хотя бы и чужой, мало понятной для этой черни?
— Ошибаешься, друг! — слегка махнув рукою, Плотин улыбнулся даже. — Не будь этой ошибки эпарха, не огласи он нового налога вместе с новой несправедливостью религиозной… все бы обошлось без шуму! Да и весь шум — не надолго… Гляди!..
Плотин показал на арку, ведущую к ипподрому. Через нее в толще народа пробивался отряд конных воинов, за которыми шли тесным строем с тяжелыми плетьми в руках полицейские стражники эпарха.
Толпа сразу шарахнулась во все стороны, давая дорогу силе. Одни старались пробиться к выходу, где сразу началась давка. Другие взбирались повыше, надеясь, что здесь будут в безопасности. Конные разделяли толпу, вытесняя ее, кусок за куском, из ипподрома. Пешие с плетьми, полосуя кого и куда попало, придавали прыти колеблющимся, сгоняли вниз тех, кто ушел на верхние скамьи амфитеатра.
Гипатия, Феон и Плотин стояли и ждали. Идти в давку слишком опасно. Оттуда уже неслись дикие вопли, падали мертвые тела, их топтали ногами убегающие люди. Отстранив Гипатию к колонне, ее спутники прикрыли собою девушку и ждали. Миг скоро наступил.
Огромный галл, полицейский служитель, очутился перед ними, высоко подняв плеть над головою Феона.
— Чего застряли? Прочь, бунтовщики поганые!
Плеть готова была опуститься. Но Гипатия рванулась вперед, грудью прикрыла отца, подставляя свою спину под удар; руками охватила седую голову, всем телом стараясь прикрыть Феона. Голову она повернула к палачу, сверкающими глазами глядя ему в лицо, как бы желая видеть, когда и куда он опустит тяжелый бич…
И рука гиганта задержалась в воздухе; он опустил плеть, но провел ее мимо старика и девушки, хлопнув по камню скамьи так, что отдалось эхо; отрывисто кинул:
— Ну, проваливайте! Если вы не бунтуете… зачем попали в толпу этой черни? Вон!..
И, оставив их, он пошел дальше, полосуя и сгоняя вниз напуганных, бессильных двинуться с места женщин, стариков и детей…
Когда Феон и Плотин с Гипатией вышли на площадь, они увидели толпы, которые разбегались во все стороны. А с разных концов площади появлялись небольшие конные отряды в сопровождении пеших полицейских и быстро очищали пространство.
Начальник одного такого отряда, проезжая мимо ипподрома, узнал и окликнул Плотина:
— Наставник, ты? Вот попал не вовремя!.. и не туда, куда надо. Идем за нами. Я провожу тебя до дому… Нам как раз в ту часть города!..
Стараясь поспеть за свободным шагом коней, пошли все трое, печальные, подавленные, стараясь не видеть по сторонам расправы солдат и полиции с остатками толпы, еще не успевшей рассеяться по домам.
Только поздно вечером успокоилась Гипатия от пережитого волнения. Молодой месяц проглядывал из-за тучек, набежавших еще днем. Девушка, ее отец и Плотин сидели на террасе сада при доме, где жил философ. Продолжая начатую речь, Плотин внушительно, округляя фразы, с плавными жестами, говорил:
— Ты видел, что произошло? Кинегий, оказывается, умнее, чем я о нем думал. Он провел свой налог под флагом декрета. Плут-подстрекатель заранее знал, как толпа отзовется. Приготовил отряды. Быстро восстановил порядок в «бунтующем» народе и, конечно, получит за это новую награду от мальчишки Аркадия и от самого кесаря, когда тот вернется. А он вернется скоро. Народ это знает. Потому и не было открытого сопротивления сегодня. Звуки военных труб уже долетают в стены города.
— Значит, этим бесчеловечным, позорным избиением все и закончится? — с безнадежной тоскою прозвучал негодующий голос Гипатии.
— Нет, не совсем. Я знаю ромэйцев. Да вот, смотрите!
И Плотин показал рукою вниз, на заснувший город.
Усадьба, занимаемая философом, стояла на вершине холма, позволяя видеть все части города, лежащие ниже, до самого берега. И там, где был хлебный рынок и тянулись длинные темные склады для зерна, где ютились казенные здания и жилища небогатых людей, там стало разливаться какое-то красное сияние… все больше, шире! Скоро можно было видеть, как большой пожар запылал в этой части столицы, раздуваемый ветром, который все крепчал.
Видно даже было, как люди, мелькая черными обликами, силуэтами, метались сюда и туда, спасая что-то из пламени, заливая, где могли, огонь! Но красные факелы огня вырывались все чаще из багрового дыма. Взлетали целые снопы искр. Тучи, проплывая над местом пожара, багровели, словно и в небе пылал скрытый огонь, там, за тучами.
— Но… ведь вместе с казенными кладовыми сгорят и жилища бедняков. Сгорит зерно, которое так нужно людям!.. — негромко заметил Феон.
— Нет! Зерно успеют расхватать… если уже не выбрали его до пожара те смельчаки, которые зажгли этот факел. Там их не ждали. Там стражи нет. Они налетают, делают свое дело… и исчезают. И уже в другом месте. Гляди!
Плотин указал на квартал, соседний с дворцом, где он сближался с узкими улицами столицы. Там вспыхнул второй пожар. Немного спустя — третий. И скоро больше десятка багровых гигантских факелов пылало в разных концах города, как бы правя тризну по искалеченным и убитым сегодня мирным гражданам столицы…
В молчании глядели все трое. Слезы сверкали на глазах у девушки. Она так живо видела всю утреннюю сцену. Видела, как много горя и слез принесет и эта ночная жгучая месть.
Плотин снова заговорил:
— Что же, почтеннейший Феон? Теперь ты видишь, как опасно оставаться тебе, нехристианину, в этом огромном городе с дочерью? Ты думаешь, в Афинах можно спокойно заниматься наукой? Ошибаешься. Это слишком близко от Константинополя. Я знаю, что в этом году разрешены в последний раз Олимпийские игры. В Элладе будет все как и здесь! Ко мне, в Александрию, едем, друг. Там найдется тебе работа. Там проживешь спокойнее.
— Там? Где всевластен этот… Феофил? Знаю хорошо его.
— И я его знаю недурно, поверь. Это — опасное существо. Но — он жаден, как пиявка, пьющая чужую кровь, пока сама не лопнет! Золотом можно у него добиться многого. Закупив совесть патриарха, можно получить спокойствие для своей собственной. Можно получить свободу не верить или верить во что и как тебе угодно! Так размысли, друг! И соглашайся. Завтра триера отплывает прямо в Александрию. Едем?
— Не знаю… подумать бы… да некогда. Вот как она, Гипатия. Ей хотелось еще прослушать многое, поучиться в Академии в Афинах…
— О чем говорить? Вместе с указом об Олимпийских играх готовится запрещение преподавать в Академии Афинской что-либо, кроме христианской морали. Науки своей еще не создали священники и мудрецы, принявшие новое учение. О чем же думать, Феон?
— Не знаю… Как скажешь, дочка… ехать?
— Что же? Иначе некуда. Поедем, отец.
— Хорошо. Мы едем, почтеннейший Плотин!
— Ну вот и хорошо. А теперь пора и отдохнуть. Отплытие завтра в полдень. Доброй ночи.
Старики разошлись. А девушка еще долго, почти до зари, сидела на террасе. Угасли, побледнели огни пожаров. Затих огромный город. Совсем затихло все кругом. Только загадочно шелестели кипарисы, колеблемые ветром. Собачий звонкий лай порою доносился издалека. Перекликались петухи. Гипатия ничего не слышала, погруженная в думы. Перед ней проносились тяжелые картины минувшего дня. Но потом все чаще и чаще из путаницы образов и лиц стало выплывать лицо юноши на триере.
В Александрию едет она с отцом. На Александрию держала путь триера. Что, если встретит она там этого прекрасного, печального юношу?.. Он ее узнает ли?..
Предрассветная свежесть пахнула в лицо Гипатии, росою увлажнило ей волосы, плечи. Пожавшись, она встала и медленно пошла в дом.
Плаванье прошло удачно при попутном ветре. Но все же только на седьмой день после отплытия из Константинополя корабль вошел в обширную Старую, или Восточную, гавань великолепной Александрии.
Важнейший торговый центр, лучший порт всего тогдашнего мира, не только Средиземноморья, кроме трехсот тысяч свободных жителей и двойного количества рабов, наемников, вольноотпущенных людей, этот город вмещал еще в себе постоянно до ста тысяч приезжих торговцев, моряков, путешественников из ближних и дальних стран, ученых и учащейся молодежи, стекавшейся сюда, чтобы пройти школу философии, грамматики, т. е. литературы, математики, астрономии и медицины. Словом, всех дисциплин, которые уже больше семи веков так хорошо и полно разрабатывались в Александрийской Академии лучшими умами древнего мира и учеными последних веков.
В семи стадиях, т. е. в двух с лишним километрах, от длинной и довольно широкой Меотийской косы, на которой, главным образом, расположен город, в прозрачных волнах Средиземного моря купается небольшой остров, Фарос, связанный с северным краем косы могучим широким молом из огромных гранитных глыб — Септастадионом, т. е. Семимерным {Стадион — мера пути, около трети километра.}.
На дальней, северной части острова подымается беломраморная, стройная и нерушимая в то же время башня маяка Фаросского, высоко врезаясь своими смелыми очертаниями в синеющее небо Африки. В число семи чудес света, созданных природой и культурою древнего мира, было вписано имя Фаросского маяка. С вершины этой башни открывался широкий вид вокруг.
От города на восток медленно катит свои желтые волны многоводный отец Нил, сотнями могучих рукавов сливаясь с ласковой волной Средиземного моря, на большое пространство окрашивая его лазурь мутью пресных вод своих. От крайнего рукава этой широкой дельты Нила, сверкая на солнце, вьется более узкий, искусственный канал, соединяющий реку с южным краем озера Мареотис, обращенного во внутреннюю гавань, Болотную, как ее называют, пестреющую фелуками, парусными плоскодонками и другими судами, приходящими с Нила. На юго-запад от города устроена еще искусственная гавань, Киботос.
Мол, упираясь в северный берег косы, служит разделом между двумя прекрасными морскими гаванями. Восточная, самая обширная, называется Новою гаванью, Portus novus maximus. Западная гавань, такая же надежная, глубокая, только поменьше — это Эйносто. И тесно бывает порою в этих двух гаванях, куда сходятся корабли изо всех стран, где только живут и торгуют более или менее просвещенные народы.
Северная часть высокой песчаной косы на 13 метров выше уровня моря, зеленеет садами, покрыта богатыми жилищами еврейской торговой и храмовой знати, облюбовавшей этот край. Две пятых города занимает еврейский квартал, вмещая больше 200000 жителей. Две прямые, как стрела, в 30 метров шириною улицы, начинаясь отсюда, тянутся без конца до самых городских стен, опоясавших город с юга. Множество поперечных улиц под прямым углом пересекают эти две главных артерии города.
Лучшая, богатейшая часть города, Брухейон, стоит лицом к Большой восточной гавани. Роскошные дворцы царской династии Птоломеев, окруженные парками, садами, сейчас стоят в развалинах. А раньше они гордо подымали свои колоннады и высокие стены, стараясь заглянуть в зеркало вод, окружающих город. Но и сейчас прекрасны запущенные немного сады и парки. Развалины придают им какую-то особую, печально-тревожную прелесть.
Нетронутым осталось строгое, величавое сооружение, Сома, гробница Александра Македонского, умевшего так хорошо угадать место, где надо основать новый центр для многолюдной нильской земли, богатой хлебом и торгом. Не тронут и Большой театр, Collosseum, вмещающий до 50000 зрителей. Храм Посейдона, бога морей, подымается своими колоннадами над Эмпорионом, торговой обширной площадью, сбегающей к берегу моря и к Септастадиону. Торговые склады, глубокие подвалы и раскрытые лавки, торговые помещения всякого рода окаймляют площадь, всегда переполненную народом, мулами, верблюдами, вьючными ослами и черными рабами-носильщиками, навьюченными больше, чем мулы и ослы. Рыбачьи лодки, скользя и шныряя между высокими, стройными триремами, дромонами и галерами, идущими пришвартоваться у мола, стараются в более удобном местечке ткнуться носом в берег, откуда набегают люди и разбирают весь улов этого дня. Тунцы, макрели серебрятся чешуей, грудами лежа на дне лодок. Осьминоги, судорожно дергаясь, меняя цвета кожи, лежат в лужах воды тут же. Широкие плоские огромные камбалы и небольшие жирные глоси, угри и щуки морские… все это разбирается, как и целые груды ракушек; но ракушки, «мидии» — пища бедного люда. Тут же на месте поедаются эти устрицевидные моллюски. И целые холмы раковинок накопились на берегу всех гаваней, где грузчики, носильщики, рабы лакомятся моллюском, отбрасывая его скорлупку, этот твердый, острый по краям покров.
Гимназия для физических упражнений, окруженная величественной колоннадой, здание суда, много прекрасных храмов и богатых частных зданий украшают этот квартал, не считая портиков, колоннад, бесчисленного количества статуй и герм {Герма — бюст Гермеса-Меркурия на каменной колонке.}, художественно устроенных водоемов — все это собрано в пределах Брухейона. Вода для водоемов наверху приходит из обширнейших подземных водосборных галерей, высеченных под городом в толще известняка, из которого состоит коса.
Здесь постоянно собирается ключевая вода и дождевая влага, насосами потом подаваемая во все концы города.
Сады и парки Тимониума, построенного еще триумвиром Марком Антонием, возлюбленным хитрой Клеопатры, террасы Цезареума сбегают до самой воды, шелестя зелеными вершинами над лазурной, прозрачной, призрачно-изменчивой волною Адриатики.
Тут же, в зелени садов, белея высокими колоннадами и мрамором дивных статуй, шелестя фонтанами, красуется лучшее сокровище Александрии, ее Музей, с единственной во всем тогдашнем мире богатейшей Библиотекой Птоломеев. Почти в одно время с городом был основан и Музей. Библиотека его тогда же была пополнена всеми лучшими сочинениями, какие существовали по разным отраслям мысли и знания, литературы и науки. Но еще больше потом, в течение 6–7 веков стекалось сюда папирусов, свитков, хартий на пергаменте, таблиц на дереве и камне. И в конце четвертого века, о котором идет у нас речь, — свыше 200 тысяч самостоятельных сочинений вмещали стены этого книгохранилища. Но каждая рукопись-книга, попадая сюда даже без копии, в единственном списке, — поступала немедленно к особым переписчикам, и они изготовляли две-три точнейших копии, чтобы подлинник меньше ходил по рукам и не трепался. Одна копия передавалась почти всегда в другое запасное книгохранилище, при храме Сираписа.
Считая такие дублеты и отдельные, небольшие трактаты, отрывки древних сочинений, затерянных с веками, — около 700 тысяч томов на главнейших языках того времени собрано было в этом книгохранилище, по праву также состоявшем в числе семи чудес света.
Неудивительно, что такой центр умственной жизни привлекал в Александрию, кроме эллинов и римлян, — ученых египтян, евреев, персов, арабов, ассирийцев, всех, кто искал света и знания. И эта тяга собирала здесь почти столько же людей, сколько и мировой торг богатого приморского города, лежащего на перекрестке путей, идущих из Европы в Азию, в Африку, во все концы земли, какие были известны уже тогда людям.
На южном берегу Старой гавани лежит более скученный и бедный городской квартал, Ракотис. Но и здесь возвышался древний храм Сираписа, сверкая мраморами, чаруя взор мозаикой, резьбою по камню и множеством статуй дивной работы. Не очень обширный, но богато украшенный, храм внутри казался гораздо величественней, чем снаружи, потому что часть его шла ниже уровня земли. В этой нижней части, с нависающими потолками на каменных перехватах, на круглых столбах, как в египетских криптах, царил мрак, слабо разгоняемый мерцанием многочисленных лампад и жертвенных свечей, горящих целыми пучками, вроде воскового факела. Здесь было безотрадное царство тьмы и смерти. Изображение Сэта, духа зла, владыки ада, выделялось в нижней части храма, среди изображений других богов и богинь Египта и греко-римского Олимпа.
Второй ярус храма был гораздо отраднее, пропускал больше света в прорезы больших окон, где стекла были окрашены в разные цвета. Здесь главным божеством являлась Изида, мать-сестра-жена Горуса, бога солнца и света; она — символ земли, которая теряет «умирающее» солнце каждую осень и встречает его возрожденным, воскресающим каждую весну!
В третьем, самом верхнем ярусе, залитом светом, полном красоты, воздушных, легких линий в архитектуре, заставленном десятками прекрасных, застывших в мраморе богинь и богов, — царил надо всеми Сирапис, главное божество той смешанной религии, где символика Египта, Эллады и Рима слилась с загадочно-неясными, мистическими учениями единобожной Иудеи, семитической кровожадной Финикии, Вавилона с мечтательной мудростью созерцателей — йогов, браминов Индии и персидских магов-звездочетов.
— Сирапис — О-Сирис-Апис — единый Зевс над богами! — так учили разноязычные жрецы этой новой, смешанной религии, где слово «бог» звучало, скорее, как символ, чем в виде чистого понятия о каком-либо реально-сущем божестве, способном проявить себя лично или выразить волю свою.
Бык Апис издревле в Египте представлял образ О-Сириса на земле. И оба начала, — божественный, мыслимый, непознаваемый О-Сирис — «суть света, начало жизни, бог-солнце» — сливался с своим символом, быком Аписом, именно в том божестве, какое теперь чтили все язычники вообще, а египетские в особенности, под именем Сираписа. О-Сирис-Апис — оба эти имени слились в одно. И в особой нише, в адитоне, в святая святых храма, — залитое потоками света сверху, через круглый пролет в куполе здания, — стояло огромное, прекрасно изваянное изображение этого Сираписа, 700 лет назад привезенное сюда из Синопа.
С головой, похожей на голову Зевса эллинского, эта статуя отличалась от Зевса только прической. Волосы спадают на глаза, на волосах — египетская повязка и цветок лотоса сбоку, символ плодородия. Борода кудрявится, но лежит на груди в большем беспорядке, чем у Юпитера-Зевса. В руке у него золотой скипетр, украшенный огромным рубином наверху и усеянный весь крупными изумрудами, рубинами, жемчугом. А у него скалит зубы плоскоголовый, кровавоглазый Цербер, стерегущий вход в царство тьмы и смерти.
Этот пес, обычный спутник эллинского Плутона, владыки Аида, как бы сливает облик бога света с богом тьмы, двойственным символом чего является сам Сирапис Александрийский.
Одуряющие ароматы курятся на алтарях перед божеством. Драгоценная утварь жертвенная, сверкающая самоцветами лежит кругом. Стены адитона горят позолотой и блеском яшмы, оникса, малахита; сияют узорами аметистов, бирюзы, перламутра, которыми разубраны сверху донизу.
Копии главной статуи, поменьше, стоят и в других частях храма, куда открыт доступ непосвященным. Сюда же, кроме жрецов и важнейших лиц языческой колонии, никто не имеет доступа. Отсюда доносятся порою к молящимся раскаты грома, блеск молний, какими Сирапис выражает свою волю жрецам для передачи народу. Иногда, в редкие дни, раскрываются двери сокровенного адитона, и люди издали могут видеть все великолепие своего божества. Это воодушевляет их. Горячее тогда мольбы, щедрее приношения и дары, какими оплачивает легковерная толпа труды жрецов, посредников между смертными и богами.
При храме целый ряд зданий служит жилищем жрецов, помещением для священного быка Аписа. Затем идут кладовые, хранилища неисчислимых запасов и богатств, собранных в храме за долгие века его существования; кельи аскетов-самоистязателей, живущих при Сирапеуме; людские службы, помещения для жертвенных животных, для мулов и коней. Словом, целый городок окружает храм, укрытый в зелени обширных садов.
И самое лучшее здание, соединенное колоннадой с храмом, — это вторая Александрийская, Птоломеевская библиотека. Здесь хранятся преимущественно священные редчайшие папирусы древнего Египта, исчерченные гиероглифами, гиератическим и демотическим, обычным письмом. И все другие религиозно-научные, теологически-философские писания иудеев, эллинов, римлян, персов, индусских и китайских мудрецов. Вместе с копиями главнейших научных сочинений, передаваемых сюда из Книгохранилища при Музее, — здесь тоже насчитывается свыше 200 тысяч томов-свитков.
Несколько жрецов, обладающих широким запасом знания, исключительно заняты заботами о пополнении и сохранности сокровищ письменных, собранных при Сирапеуме.
На южном краю города, начиная от западного берега озера Мереотис, до Киботоса, где море омывает уже открытый берег материка, там на 12 километров протянулась высокая крепостная стена. Этой преграды достаточно, чтобы обезопасить Александрию от всякого нападения с суши. А с моря она почти неуязвима. Ее торговый флот превосходит все другие. А военные триеры по числу и силе не уступают тем, какие могут выставить обе империи, Ромэйская — Восточная и Западная — Римская. Весь город, вытянутый к северу, окруженный водою, как Венеция, только здесь, на юге, каменной стеною, как тяжелой пятой, вонзился в твердую землю Африки.
И кипит торгом, изобилием и весельем Александрия, признанная владычица Средиземного моря. Нет города богаче и значительнее не только в обеих империях, но и в целом мире. Это признает даже царственный Град Константина, такой кичливый, напыщенный своим имперским великолепием и властью.
День и ночь обычно кипит работа, не затихает жизнь во всех гаванях Александрии, внешних и внутренних. При свете факелов идет нагрузка, выгрузка. В самые темные ночи, как бабочки на огонь, тянутся большие и мелкие суда со всех сторон на свет Фаросского маяка, проходят в широкие портовые ворота, отмеченные сигнальными огнями разных цветов, и до утра становятся на рейде, чтобы утром вплотную подойти и занять свое место у мола или у набережной, идущей вдоль Мереотийской косы, по обеим ее сторонам.
Но совсем необычную картину увидели пассажиры константинопольской триеры, когда, миновав створы Новой гавани, — она кинула якорь и ошвартовалась у мола, против самого Эмпориона.
Рыночная площадь кипела народом, но это не было обычное, трудовое, планомерное, хотя и бурливое оживление, когда люди сталкиваются, расходятся, приносят что-то, и каждый при этом, видимо, стремится к какой-то цели.
На Эмпорионе толпы взволнованных, возбужденных людей ничего не делали определенного. Двери складов и лавок заперты. Не видно навьюченных верблюдов, мулов и ослов. Не скрипят блоки и подъемные краны на кораблях. Груды неубранных грузов темнеют на молу, на прибрежной пристани.
Даже рыбаки, сидя на сетях, в лодках, не выкидывают на берег свой живой, отливающий серебром, перламутром и радугою товар в лукошки покупателям…
Феон с Гипатией и Плотином, уже сойдя с триеры, в ожидании, пока рабы, приехавшие с ними, сложат на носилки весь багаж, — с удивлением осматривали пристань, принявшую такой непривычный вид.
— Знаешь, отец, — сказала Гипатия, — то, что мы видим, напоминает мне утро возмущения в Константинополе.
— Да, пожалуй, дорогая.
— Ты не ошиблась, Гипатия. Это — волнение народное, — подтвердил Плотин. — Смуты здесь бывают гораздо чаще, чем в ромэйской столице. Только оканчиваются иначе. Тут больше разноплеменных, различно верующих жителей, чем в старом Бизанциуме. Племенная, расовая вражда — острее… в массах черни, конечно, не в кругу мыслящих людей, приезжающих сюда для познания истины. Нередко легкая ссора между египтянином и римлянином, между поклонником Назарея и почитателем Изиды или Юпитера приводит к большим народным побоищам. Сверкают ножи, льется кровь ручьями.
— Какая дикость! И никто не может остановить, образумить, помешать?.. Жалкие, нищие, полунагие, полуголодные… и еще сами режут друг друга!
Голос Гипатии оборвался.
— Их удержать? Как?.. Подойти? Вмешаться?.. Значит, самому попасть под удар остервенелого грузчика или пьяного корабельного гребца. Но сегодня здесь совсем другое, как видишь. Нет буйства или пьяной драки. Это так называемая молчаливая борьба.
— Молчаливая?.. Ого, друг Плотин. Звон у меня в ушах от криков и проклятий кругом… Что же бывает у вас при борьбе «не молчаливой»?..
— Я уж говорил. Тогда не слышно таких безобидных криков. С глухим ревом, с отрывистыми возгласами люди режут друг друга! А сейчас я вижу: грузчики, самый беспокойный у нас народ, — заспорили с хозяевами кораблей, требуют лучшей платы… бросили работу, разошлись. И вернутся только тогда, когда их условия будут приняты.
— Ты думаешь, богатые, сильные взаимной поддержкой корабельщики могут пойти на уступки? Это здесь бывает?
— Бывает, хотя не часто. Особенно перед осенними и весенними непогодами. Каждый старается скорее выгрузиться и нагрузиться, чтобы вовремя достичь очередной гавани. Дорог каждый час, не только день. Вот и теперь как раз такая пора. Грузчики, портовые рабочие не хуже звездочетов Академии разбираются в вопросах хорошей и дурной поры для мореплавания. Я думаю, стачка им удастся на этот раз.
— А власти? Разве они не на стороне корабельщиков? Префект не вмешается? Не принудит чернь уступить?..
— Префект Египта? О, у нас он не похож на Кинегия. Он — ставленник Феофила. А патриарх не любит рядом с собою решительной и сильной власти. Он здесь один «христианский фараон», тиран, не менее жестокий, самовластный и гордый, чем древние Псаметтихи и Амазисы. Да и сам Кинегий тут подумал бы раньше, чем пустить в ход своих воинов. Больше полумириады черни в городе {Мириада — миллион.}. Им не дорога их жалкая жизнь. Кровь кипит в темных телах, согретых, обожженных солнцем Африки. Они надвинутся, как саранча. Первые — падут. По их телам пойдут новые сотни и тысячи! Раздавят, разметут и стражу и воинов. Разрушат все кругом, сожгут город. Опасна чернь в Александрии. Поэтому власть не мешает грызться им между собой. И остерегается направить ярость дикой стаи против себя.
— Это же хуже, чем там, у ромэев. А ты говорил, Плотин…
— Хуже, но не для нас с тобою, Феон. Мы не вмешиваемся в хозяйственную или политическую жизнь города. Наша Академия — наш мир! В стенах Музея — наше царство, мирное и безмятежное. Но и чернь знает, что мы творим нечто, полезное миру, значит, полезное и ей… хотя бы не теперь, а в будущем. И, я полагаю, даже без строгих запретов императора и префекта — никто не потревожил бы нас в Академии, пока мы не враждебны этой жалкой черни.
— Но… ведь вы, академики, я вижу, сейчас и… не полезны этим несчастным. Вы синклит мудрых, ученых. Должна же уважать вас просвещенная власть города! И вы могли бы пойти, сказать. Помочь угнетенным беднякам! Ведь я же вижу: на их стороне твое сочувствие. Значит, и все другие не могут мыслить иначе в Академии. А вы!..
— Что мы, Гипатия?.. Молчим! Не спешим вмешаться в частичные, мелкие раздоры?.. Ты хочешь напомнить, что мы мечтаем и учим о наступлении царства всеобщей любви, о приходе золотого века на земле. А на деле — терпим зло. Пожалуй, ты права! Терпим! Потому, что мы — более умудренные жизнью, чем умная, но юная твоя головка, девушка с темно-золотистыми волосами…
— Значит, вы пока — бессильны, так я понимаю, наставник?
— Пока — да! Сегодня мы придем на помощь, эти работники будут облегчены, их труд будет лучше оплачиваться в Александрии. Но селяне-рабы изнывают и долго еще будут изнывать от лишений в нашей и в других странах, в пределах империи вселенской, в целом мире. Рабы и работники ромэйские, римские, всякие другие — останутся в своем ярме.
— До каких же пор, наставник? До каких же пор… если мы их не научим?
— До тех пор, пока они сами постепенно все поймут. А мы — тоже придем на помощь… но прежде мы сами должны многое узнать, разобраться во многом!
— Значит, еще десятки и сотни лет… И ждать?..
— Тебе не придется так долго ждать, девушка с горячим сердцем. Раньше остынет, успокоится оно, много раньше. А мир униженных и рабов? Он не замечает времени рабства. Он слишком занят работою и страданиями своими. Он только воскреснет в миг освобождения!
— Но он придет, наставник. Придет этот миг?.. Скажи скорее!
— Думаю, что придет… Верю, что должен прийти! Но, гляди… Александрия встречает своего «христианского фараона». Красивое зрелище, нельзя не сознаться.
Все трое обратили внимание на блестящую процессию, идущую от города к триере. Колыхались хоругви, блестели золотые оклады темных икон. Парчовые одеяния священников, белые фелони клира — сверкали на солнце. Архиепископ тийский, заменяющий Феофила в его отсутствие, с целой свитою важных духовных лиц, богатые, знатнейшие миряне, префект Александрии, Тирезий, с конвоем блестящей конницы, — явились встретить патриарха почти так же торжественно, как встречают кесаря-августа, когда он является в Александрию…
Гудение металлических досок, заменяющих колокола в христианских храмах, неслось со всех концов города, покрывая шум толпы и громкое пение церковного клира, собранного из всех церквей для торжественной встречи этой. Толпы на Эмпорионе и в соседних улицах стояли, пораженные, умолкнув. Только христиане, бывшие среди народа, сразу поняли, в чем дело, и увеличили собою блестящую толпу, идущую встречать Феофила.
Яркие крупные звезды в темно-синем небе прозрачное сияние льют на спящую, истомленную дневным зноем, землю. Роса упала. Жадно пьют ее ночные цветы, бесстыдно раскрываясь до самой тайной глубины, откуда, как зовы страсти, льются одуряющие ароматы весенних первенцев земли: каприфолий, жасмина и фиалок.
Наливаются почки огромных белоснежных и желтых кувшинок водяных, словно вылитых из воска ненюфар. Распускаются магнолии, цветут миндальные, померанцевые и апельсинные рощи. Розовыми букетами стоят абрикосовые и персиковые деревья, опушенные нежным, ароматным цветом… От воды, от моря сильнее тянет прохладою, пряным запахом тины, рыбы и водорослей.
До поздней ночи не спит Александрия. В собственных садах, в парках, открытых для народа, — говор, смех, мелькают пары, ходят дружной, веселой толпою люди. Ничего, что завтра рано придется встать и приниматься за обычный труд. Молодежь черпает новые силы, отдавая душу и жар сердечный этой ночи, своим радостям, которые, обессиливая, возрождают. Пожилые просто отдыхают в ночной ароматной прохладе, чтобы лучше потом заснуть до утра.
Не спит и патриарх Феофил. Дневной зной не утомил его, укрытого под навесом корабельного шатра, где попутный ветер только ласково сдувал усталь и жар с лица и тела. Сейчас, полулежа в глубоком кресле, он слушает доклад архиепископа ливийского обо всем более важном, что произошло в диоцезе во время отсутствия патриарха.
— Постоянные распри! Надоело мне это. Я решил ввести в единое, истинное русло все течения великого христианского потока, который должен, как можно скорее, напоить благодатью все народы земли… Ереси — вырву с корнем. Ересиархов, как лозу иссохшую, в огонь буду ввергать здесь на земле, чтобы избавить души христианские от мук огня вечного! Но… это потом, брат Авива. Теперь язычники, наши извечные враги, на череду. С них начнем. Завтра же разошли гонцов по всем скитам. Особенно в Фиваиде. Там они самые лютые ревнители веры… хотя и еретики тоже безмерные. Если узнать пожелают, зачем зову, — собираю собор поместный для утверждения веры и уточнения канонов. Для примирения споров, несущих соблазн мирянам и вражду сеющих между служителями Господа нашего, Иисуса из Назарета. Так надо сказать. На это — всего охотнее соберутся отцы-отшельники. Споры о вере им милее святого причастия. На третьей неделе поста сбор окончательный. Медлить нельзя. Я думаю, жрецы капища идольского уже проведали кое-что. Их главный иерофант, Фтамезис, уже присылал ко мне нынче… просил неотложно свидания. Ты ступай, брат Авива. Он должен скоро быть. В ночное время никто не увидит, что патриарх церкви христовой принимает жреца идольского. Меньше толков будет. Будь благословен во имя… ца, сы… ду!..
Пробормотав невнятно привычную формулу, с привычным движением благословляющей руки патриарх отпустил архиепископа.
Еще не замолкли звуки шагов Авива по плитам открытого внутреннего дворика, где принял его Феофил, как из дому вышел молодой, стройный диакон, заменяющий секретаря патриарху, подошел с поклоном и негромко доложил:
— Святейший владыко, там Ликий.
— Да… знаю… я звал. Зови!..
Диакон скрылся, и через минуту в просвете двери обрисовалась совершенно темная фигура — женская, а не мужская, старухи, судя по наряду. Наброшенный на голову край плаща совсем затенял лицо, лишенное растительности.
— Подойди поближе, Ликий. Можешь открыться, тут нет никого! — снисходительно, но властно пригласил хозяин.
Фигура приблизилась, открыв свою голову кастрата, одного из младших жрецов при храме Сираписа, Ликия.
Десятилетним мальчиком продал его отец во храм, спасая себя и ребенка от голодной смерти. Жрецы оскопили Ликия, несмотря на его отчаянное сопротивление. Мальчик уже понимал, во что хотят обратить его эти упитанные, с каменными лицами люди, по знаку которых прислужник-оператор навеки изуродовал молодое, прекрасное тело.
Ликий затаил в себе обиду и злобу, еще больше распаленную поруганиями, какие проделали над красивым мальчиком извращенные жрецы. Больше 15 лет служит он уже Сирапису и его жрецам. И не угасла эта ненависть, росла жажда мести у потерявшего пол, искалеченного юноши. Но он сумел скрыть ненависть под личиною самой горячей преданности божеству и служителям его, пользовался их особым доверием и выжидал минуту.
Случай столкнул Ликия с Феофилом, умеющим находить клевретов в самом лагере врагов. Золото патриарха, роняемое щедрою рукою, вытеснило у храмовника всякое угрызение совести, последнее колебание. Осторожно, хитро и беспощадно предавал он врагу своего культа жрецов храма, своих личных врагов.
Как раньше Авива, теперь Ликий повел рассказ обо всем, что происходило в Сирапеуме за время отъезда Феофила… И тот слушал предателя гораздо внимательнее, чем своего сопрестольника, архиепископа ливийского.
В это самое время Фтамэзис, главный жрец Сирапеума, почти столетний старец, но с ясными, еще блестящими глазами, сидел в своей лаборатории, устроенной в одном из верхних приделов храма, куда допускались только посвященные. Прохлада ночи, вместе с лучами ярких звезд и ароматами сада, лилась в широкое окно покоя. Но старику нужно было тепло. Большая, широкая жаровня на низких ножках, художественной работы, полная углей, стояла за креслом, в котором покоился жрец, и разливала приятную теплоту. Но этого недостаточно для холодеющего тела.
И две храмовницы — плясуньи из Сирии, вполне развитые телом, несмотря на свои 12–13 лет, — горячей грудью прижавшись к ногам старца, оживляли и грели их, застыв неподвижно, как две прекрасные статуи из золотистой бронзы, изваянные творческою рукою художника-природы.
Против жреца сидел Мина, алхимик Феофила, ярко озаренный бронзовым светильником, стоящим на высокой, фигурно отчеканенной ножке за креслом жреца.
С огорчением инок объяснял старику:
— Понимаешь, наставник… Я был уверен… Все выполнено, как сказано вот здесь…
Мина указал на великолепный том того же загадочного творения, Tabula Smaragdina, каким пользовался монах для своих опытов; только этот, в художественном, литом из золота переплете, лежал на особом столе из слоновой кости, украшенном узорами из аметистов вперемежку с изумрудами…
— Все я выполнил… и… все-таки не вышло!.. Чего-то мне не хватает, отец. Не скажешь ли чего?
— Ума!..
— Наставник…
— Да, да, ума! Да еще осторожности. Пускаешь непосвященного в свою кухню. Пускай он сто раз ваш главный иерей!.. Ты у себя — выше кесаря… равен богам, ибо можешь сотворить то, что им лишь было раньше доступно… И твой лютый начальник достаточно жаден, чтобы покориться приказу, если ты пояснишь, что его вмешательство губит дело… Ничье постороннее дыхание не должно проноситься в тайной мастерской, где варится золото. Так и сказал бы ему. А затем — ты открываешь профану свои неудачи. Не смеешь этого делать! Позоришь магию… унижаешь себя. Чужим не надо знать наших ошибок и промахов…
— Но как же? Что мне было?
— Рака! Глупец! Есть же у тебя запасы настоящего золота, какое дает этот ненасытный человек для опытов?
— Есть его немало! Но что я могу, если?..
— Не понял? Трижды глупец! — дрябло брюзжал старец. — Переплавляй ему это золото… с надбавкой чего-нибудь, чтобы изменить вес и цвет. И он будет доволен. Когда же пойдешь по верному пути… достигнешь цели… Тогда ты возместишь все, что брал у жадного тирана! Засыплешь его золотом, добытым из простых металлов. И прославится наша великая наука, тайна жрецов и магов. Возвеличится твое имя! Только… не уменьшится жадность и… кровожадность Феофила. Ты, конечно, знаешь, с чем он приехал сюда? И не сказал мне даже, сын мой?! Хотя и зовешь меня наставником и отцом. Не ожидал я…
— Ты говоришь о декрете, наставник? Я не успел… я собирался… Но мысль о неудаче угнетала меня. И я сперва об этом… повел речь… А декрет… я могу тебе сказать подробно. Хотя, как видно, ты уже слыхал?.. Знаешь?!
— Все отлично знаю, раньше, чем ваш корабль распустил свои ветрила в столице надменного Феодосия. И скажу тебе… А ты, пожалуй, можешь передать своему владыке… Только не назовешь меня. Скажи! Впрочем, нет! Я сам!
— Ты, наставник? Ты будешь беседовать с патриархом? Да может ли это быть? Где? Как?.. Ведь срок близко. Когда же ты?..
— А тебе что за дело? Ты смеешь задавать мне вопросы? Знай свои тигли, старый, глупый ихневмон. Я пояснил тебе все, чего ты не уразумел в «Таблицах». Иди… кипяти свое варево! Мне пора на отдых.
Перстень со священным скарабеем на пальце протянул старец для поцелуя ученику своему, и Мина, отдав низкий поклон, ушел.
Не ради отдыха отослал жрец своего неудачника-ученика.
Едва только Ликий, приняв от патриарха необходимые наставления и увесистый кошель серебра, выскользнул из задних дверей дворца и садами, сгорбившись по старушечьи, заковылял домой, как диакон Феофила, предупрежденный заранее, впустил к владыке нового гостя.
В своей тихой опочивальне принял властный грек дряхлого на вид, но сознающего свою власть и значение первосвященника языческого культа.
Друг против друга сидят оба и беседуют так мирно на вид, любезно поздоровавшись сначала, как старые, добрые приятели.
Выждав, пока молодой жрец, спутник старца, окутает ему пуховым покровом стынущие ноги и уйдет, — Феофил заговорил первый.
— Жду с нетерпением услышать, что желает великий иерарх Египта сказать мне. О чем поведет речь учитель учителей и наставников наставник?
— Об одном сне, который посетил меня минувшею ночью, почтеннейший владыка над старейшими иереями во всех храмах Египта, Пентаполиса и знойной Ливии.
Феофил с трудом удержал улыбку, прозмеившуюся по губам.
— И великий жрец О-Сириса-Аписа, ветхий деньми, чтимый далеко за пределами африканских земель, — архиерей Фтамэзис нарушил свой ночной покой только ради того, чтобы мне в полуночную пору сказать о сонной грезе своей? Конечно, и наше Писание знает вещие, чудесные сны. Видели их ваши фараоны. Разгадывали их патриархи израильские. Верю, что мог чудесный, пророческий сон посетить тебя, почтенный старец. Но… я не Иосиф-арамеец. Не одарен от Господа уменьем разгадывать пророческие сны.
— Не спеши, владыко христиан. Ты не так уж молод, чтобы судить о деле, не узнав его!.. Я не так уж дряхл и слаб разумом, чтобы для забавы тревожить своих… друзей. Выслушай мой сон. Тогда поговорим.
— Прости, если сказал не так, как надо. Говори. Слушаю!.. — проглотив тонкое наставление, сухо предложил хозяин.
Гость заговорил не сразу. Раскрыл хрустальный небольшой флакон, на золотой цепочке висящий на груди. Сразу комната наполнилась каким-то свежим, тонко-пряным и острым ароматом.
Образованный, умный, но суеверный, как все люди того времени, Феофил сразу насторожился, зорко следя за каждым движением жреца. Не колдовать ли задумал тот? Не отуманит ли ум и покорит его волю силою бесовских снадобий и чар?
Но Фтамэзис, улыбаясь теперь в свою очередь, разгадал тревогу грека, медленно поднял флакон к бледным, тонким губам, каплю влаги пролил оттуда на свой язык и снова закупорил склянку. На глазах Феофила совершилось что-то похожее на чудо. Восковое, прозрачное лицо жреца слегка порозовело, словно помолодело на много лет. Стан выпрямился, голова, слегка дрожавшая раньше на исхудалой, жилистой шее, — твердо откинулась слегка назад. Губы словно налились жизнью и кровью, а глаза, блестящие и раньше, — загорелись совсем новым, юным блеском. Ясным, молодым голосом заговорил гость, словно не замечая удивления хозяина:
— Мне снилась палата, в которой сидел великий наш август-кесарь, непобедимый Феодосий. За спиною его стояла мраморная Фемида, богиня справедливости. Он взял у нее из руки весы и бросил на одну чашку все древние храмы — Эллады, Рима, Египта, Сирии. И — всех богов Олимпа, всех до единого! А на другую чашу кинул крест голгофский, хранимый христианами в Граде Константина. И — перевесил крест! Напрасно мириады людей, еще живущих верою в старых богов, — мириадами рук уцепились за края своей чаши и тянули ее вниз. Властный сапог воина-победителя и сандалия христианского жреца, наступив на чашу с крестом, не давали ей подняться. И мраморная Фемида отвернулась, подняла край тяжелого плаща, закрыла свое лицо, чтобы мир не видел ее слез!..
— За-ни-ма-тель-ный сон! — протянул Феофил.
— Погоди. Он еще не кончен. От чаши весов, стоящей высоко, я опустил глаза и увидел! Сапог воина — был на ноге кесаря-августа. Сандалия иерея — на твоей ноге. Голос Судьбы зазвучал: «Вот кто решает участь старой веры. Вот кто осудил на гибель древних богов. В его руках если не спасение, так хотя бы отсрочка. Иначе, смотри!» И я увидел наш храм Сираписа, все храмы Египта — разрушенными, поруганными. Видел падение богов, крушение храмов в Элладе, во всей Восточной, ромэйской, и в Римской империи, в Европе, в Азии… повсюду… Пылало пламя. Лилась кровь. Вставали борцы на защиту веры и богов. Но ваших воинов было больше… Они, хорошо вооруженные, гибли меньше. И победа осталась за вами!
Тяжело дыша, старик помолчал. Потом заговорил медленнее и тише.
— И снова прозвучал голос: «Иди к нему! Скажи, что нет выгод ни для него, ни для его веры, ни для империи, если на поток будут отданы древние святилища, если рухнут они в пламени. Если собранное веками будет разграблено ликующими легионерами, озверелой толпою черни. Скажи ему, что лучшие сокровища твоего храма, вьюк десятка верблюдов получит он лично для себя. И два десятка вьюков — для своих храмов во имя распятого иудея. Но пусть задержит удар. Не вызывает междоусобной распри! С храмом Сираписа и другими святынями Египта может рухнуть и столица Птоломеев. Города и царства имеют сроки жизни, как и люди. Зачем же сокращать жизнь такой прекрасной столице мира, как Александрия? Скажи ему: тайну продления жизни, живую воду, дающую силы столетним старцам, — получит он от О-Сириса-Аписа… если не тронет жилища его, не повергнет в прах изображение великого бога, столько веков в славе и блеске стоящее во святая святых. Вот что сказал мне голос. Вот что я пришел сказать тебе, великий иерей веры распятого иудея, которого вы зовете сыном Божиим…
Настало глубокое молчание. Старец ждал, не сводя глаз с Феофила, словно гипнотизируя его взором. Феофил был взволнован. Побагровелое лицо, порывистое дыхание, вздымавшаяся грудь — выдавали сдержанного, лицемерного грека. Наконец, он заговорил:
— И все? Ну так слушай. Сон — за сон. Я расскажу тебе, что мне снилось… тоже прошлой ночью… Та же ставка священнейшего императора-августа. Он подписал декрет о вере. Послал его сыну-августу, в Град Константина. А друг богов языческих, один из сановников, копию декрета с быстрейшим гонцом направил сюда, в Александрию. И едва жрецы храма прочли решение августа, они приняли свое решение. Стали прятать все самое ценное и редкое в тайниках, которыми богат и самый храм, и двор, и сады его. Стали готовить какие-то запасы, чтобы уничтожить свою святыню в последний миг с теми из наших воинов и народа, кто войдет в осажденный Сирапеум. Когда не будет больше надежды отстоять его! И разослали они гонцов, сзывая поклонников О-Сириса и Зевса с Изидою и Герой на защиту старой веры. Вот что я видел во сне. Но ты сам подумай, как я, один человек, могу остановить стихию, когда два водоворота, два урагана должны столкнуться? И один из них — должен победить, другой — погибнуть? Скажи, Фтамэзис.
— Ты можешь! Ты — вызвал ураган. Ты — в силах утушить пламя, пока оно не разгорелось.
— Ты думаешь?.. И если я попробую?..
— Все, что я сказал, — ты все получишь завтра же. Только попробуй. Чтобы сберечь веру — мы отдадим все золото! Слышишь, все! Оно опять придет, если будет вера. Оно вернется храму и богу. Мы ничего не пожалеем…
— Это ты верно сказал. Будет вера — будут новые горы золота. Люди — глупы. А мы? Мы должны уметь пользоваться их глупостью. Хорошо. Я обещаю. Только… не думай обмануть меня… выиграть время для того, чтобы скрыть сокровища поважнее куда-нибудь подальше. Знай, не одна… двадцать пар глаз следят за каждым вашим шагом в самых сокровенных тайниках вашего храма и жилищ ваших.
— Знаю, знаю! — оскалив беззубые крепко сжатые десны, пробормотал жрец.
— И принимаете меры, я слышал! Распухший труп жреца Каллимаха всплыл на озере недавно. Но — вы ошиблись. С ним — я не имел никаких сношений, крест порукою! Слышишь?
— Слышу. Поищем лучше. Приятно видеть лицо друзей. Но еще приятнее знать в лицо тайного врага своего… Но… думаю, и не придется искать. Мы с тобою хотим заключить честный мир. Ты — обещал. Ты попытаешься! А мы — все сделаем, чтобы…
— Чтобы еще продлить существование свое? Понимаю. И не понимаю одного.
— Скажи.
— Отчего так упорно держитесь вы за свою старую веру? Чем плоха наша, новая? Особенно для вас, для жрецов? Мы — победили. Мы — хозяева мира! Крест, как ты сам признал, — перевесил весь Олимп с его мнимыми богами. Почему же бы вам?..
— Не предать нашей веры, наших богов, хочешь ты сказать, — живо отозвался старец, снова начинающий принимать свой обычный, усталый вид. — Скажу. Или нет, задам только вопрос: что нового в вашей „новой“, великой вере? Что прекрасного, великого в учении ее?.. Скажи? Ваши иконы — символы, как вы учите, — не те же ли статуи-символы, как учим мы? Вы понимаете то же, что чернь без четких образов не умеет мыслить, воспринимать что бы то ни было. Особенно если это выходит за пределы еды, труда, размножения и торговых обманов. Толпе — необходимы образы. Они у вас есть, менее прекрасные, чем наши мраморные боги. Наш О-Сирис и Бакх — рождены без нетления девой, как и ваш назареянин. Его смерть, его воскресение мнимое — это же только неумелое повторение наших, созвучных с природой и духом людей, красивых преданий о смерти и воскресении Горуса, Адониса и других им подобных символов — богов; тех, которые означают солнце для посвященных. Солнце, почти угасающее зимою. Воскресающее с вешними днями! Причастие кровью — оно было у нас…
— Оно и есть у вас, у жрецов, я знаю!
— Оно и есть у нас, не скрою! Великая, страшная тайна! Кровь невинной жертвы обновляет тело и дух. И в этой целящей воде есть капля жертвенной, чистой крови! — указал на флакон жрец. — И ты будешь принимать ее. А у вас, у новой веры? Что осталось от древнего, страшного обряда Арамеи? Кровь сына готов был пролить Авраам… ваш основоположник. Кровь сына позволил позорно пролить ваш нелепый старик бог для вашего спасения… А вы, вы — убоялись этой кровавой тайны. Хлебом сухим и жидким вином заменили предвечное причащение, единение Человека с Природой. Творения — с тем, что сотворило его, влив красную кровь в бледные жилы. На что же нам эта новая вера, которая старее самой старой… по ее бессилию и нерешимости?.. Но прости! Я пришел к тебе не затем, чтобы вести спор о вере. Я пришел как проситель. Мы уговорились. Я доволен. Скоро рассвет. Я ухожу. Пусть хранит тебя наша священная троица: творящий О-Сирис, рождающая Изида и Гор, бог света, бог мирового Разума!
— Да вразумит тебя, мудрый старец, триединый наш бог отец, и сын, и дух святой! — с улыбкою поднял руку в знак прощального привета гостю Феофил.
С улыбкой тем же ответил ему Фтамэзис, опираясь на руку подошедшего спутника и поднимаясь с места.
Но едва он повернулся спиною к патриарху, — злобой и сдержанной яростью исказилось старческое лицо, в ладонь впились ногти свободной руки, пока другою он тяжело опирался на своего поводыря.
Глава 4
ЗОЛОТО И ВЕРА
Рассвет зарождался. Небо только слегка розовело на востоке. Звезды быстро гасли. Свежестью веяло от моря, от Нила, от озера Мереотис. Опаляющее дыхание ливийской необозримой пустыни, жар Сахары не заливал прямых, широких улиц Александрии, пустынных и тихих пока. А город уже просыпается, особенно там, где базарные площади собирают шумную толпу покупателей и продавцов. Но уже к одиннадцати часам нестерпимый зной наполняет воздух. Нечем дышать. И весь город тогда спешит укрыться в тень, предаться покою. Замирает жизнь, пока не свалит жара, пока лучи солнца не пронижут насквозь, с запада на восток, прозрачный фонарь Фаросского маяка. И поэтому рано начинается деловая, рабочая, торговая жизнь.
Спешат использовать прохладные, утренние часы и жители той небольшой, но имеющей мировое значение республики, какую представляет из себя академический городок Александрии. Не встало солнце, а люди уже встали тут и жизнь кипит.
В тени лавровишневых вековых деревьев, среди магнолий и лавровых порослей белеет мраморный фонтан в виде грота, где сидит нимфа и держит кувшин, откуда журча льется прозрачная струя воды, наполняя обширный водоем, вокруг которого стоят мраморные скамьи. Вблизи от водоема стоит прекрасная древняя герма, поседелая от времени, особенно у основания, где влага земли, поливаемой водою из водоема, темнит белизну мрамора, рождает на ней зеленоватые узоры, налеты какой-то нежной, мелкой поросли.
Десятка два обнаженных мужских тел плещется в прозрачном водоеме, достаточно глубоком и обширном, назначенном для обычных частых омовений, какие необходимы в этом знойном климате, где зима разнится от лета только потоками бурных, затопляющих землю дождей.
Сильные, стройные, с округленными от упражнений мускулами, тела темнокожих нубийцев, золотисто-смуглых иранцев, тяжелых римлян и гибких, проворных эллинов блестели от воды и совсем не походили на хилые фигуры средневековых келейников-ученых, книжников-гробокопателей, которые пришли на смену в следующий, христианский период европейской жизни.
Вполне умея насладиться всеми радостями жизни, заботясь о красоте, здоровье и силе своего тела, — одаренные от природы, люди легко постигали в то же время все тонкости познания, все сложные вопросы философии и этики, какие только успел в то время выработать человеческий пытливый ум.
И не только постигали старое, — много нового на пользу векам грядущим создавали эти, такие простые, беззаботные на вид люди, пожилые и средних лет.
Правда, нет среди них таких, как основатели и продолжатели академической славы. Имена Платона, Ксенократа, Эратосфена, Зенона Эфесского, Феокрита, Аполлония Родосского… Архезилая, Эвклида… Потом — Филон из Иудеи, бессмертный Аристофан, Архимед-механик, Птоломей. И даже христианские мыслители первых веков, — богословы, как Климент Александрийский, еретик Ориген, могучий диалектик… Эти имена остались непревзойденными. Но и позднейшие корифеи, столпы Академии, Аммоний Саккос, Плотин, его ученик, Корнеадес, Амфилох. Они тоже оставили богатое наследство, которое сначала, в эпоху гонений, какие христианство воздвигало против свободной мысли, было погребено под спудом. Но потом оно возродилось и, вместе с великим учением всеобъемлющего Аристотеля, — это наследие дало ту богатую жатву, которую человечество сбирает и до сих пор.
И эти люди, сошедшиеся в Академию со всех концов земли, движимые жаждой знания, несущие свои силы и гений в общую кошницу, — они сейчас так просто и беззаботно освежают свои тела купаньем, борются, как юноши в Палестре, бегают, нагие, взапуски. Только важный, немолодой уже индус — поэт и мыслитель Джагор Мачавара — успел омыться, сотворил свою сутру, сидит, размышляя о загадке мира, о тщетности жизни людской.
Отдуваясь, быстро шагая, почти бегом появился тучный перс, ученый. Аль-Габи из Багдада. Проспав обычный час вставанья, он торопится снять одежду, совершить указанное религией погружение в воду. Затем, разостлав платок на траве, сел с поджатыми ногами, лицом туда, откуда сейчас появится солнце, и нараспев завел свой торжественный гимн, хвалу Агура-мазде, зиждителю мира, и солнцу, жизни подателю.
Окончив утреннее омовенье, академисты расселись на скамьях, иные — лежат на траве, еще не успевшей пожелтеть под налетами мертвящего самцма. Юркий египтянин-кафеджи, устроивший свою переносную жаровню недалеко от водоема, разнес ароматный кофе желающим. И прихлебывают крепительную влагу люди, освеженные купаньем, движеньем; оживленно беседуют о событиях вчерашнего дня, о своих работах, о том, что предстоит сделать сегодня.
Общая братская трапеза для одиноких под навесами портиков и колоннад Академии сближает еще больше всех, как бы каждый ни отличался от другого кровью, верой, складом характера и ума, направлением своих мыслей. Семейным отводится помещение, небольшое, но удобное. И там они ведут свое хозяйство, так как женщин обычно нет за столом академистов.
Местные жители, наставники и учащиеся, — если у них даже есть свой дом или наемная квартира, — большую часть дня проводят здесь, в Библиотеке, в садах Музея, где, среди зелени и красивых статуй, легче воспринимается глубокая мудрость, быстрее разрешаются философские, научные и житейские даже задачи, какие ставят порою наставники перед учениками своими. Помня заветы несравненных Платона и Аристотеля, на ходу учат и учатся здесь люди всему, что их влечет, что может пригодиться в жизни им самим и окружающему миру.
В помещении Библиотеки каждый имел свой угол, где мог работать, когда и как хотел, от открытия до закрытия дверей книгохранилища. Консерваторы, хранители Библиотеки, заведующие каждый особым отделом, — хорошо знали, какие сокровища здесь хранятся. Люди высокоученые, они охотно приходили на помощь молодежи и тем из наставников, которые еще сами не умели найти в море познания, в сотне тысяч свитков, здесь хранимых, то, что им было нужно для текущей работы.
Отдохнув, группы академистов уже поднялись, чтобы разойтись по своим местам, когда общее внимание привлек спор, затеянный угрюмым Артемоном, христианским пресвитером, и Полибием, много лет посвятившим изучению Платона. Третий участник, важный, тучный, рыжебородый израэлит, Хилон, главный сборщик податей со своих единоверцев, «аль-абрэх» Египта, как его называли, ученый философ и библейский начетчик вместе, — не столько возражал обоим, сколько старался примирить их взгляды, совершенно непримиримые по существу.
Понемногу почти все остальные, наставники Академии и приезжие ученые с несколькими учениками, подошедшими сюда раньше других товарищей, — кто стоя, кто сидя, — расположились вокруг спорящих, стали слушать, готовые каждую минуту принять участие в беседе, которая становилась все горячей и горячей.
— Надо быть логичным, последовательным, друг Артемон, если желаешь что-либо доказать, а не навязать свое мнение. Это обязательно даже для вас, христиан, когда вы говорите не с темными, забитыми рабами, носильщиками и водоносами, а с людьми, по праву сидящими в стенах этой Академии, первой в мире. Ты толкуешь о чуде? Это я понимаю! Если у человека нет более серьезных доказательств правоты своей веры, — он нелепостью чуда покрывает свое легковерие и слабое познание природы вещей. Чудо это, или самообман, или фокус, устроенный для обмана других. Но ты смешиваешь два понятия. Твой бог, твой искупитель, — Христос, — сын предвечного какого-то бога. И послан отцом на казнь, чтобы преступных, скверных людей избавить от заслуженного ими наказания. Нелепость — жестокая, слишком явная.
— Для такого бездушного язычника, как ты, Полибий!
— Еще один перл нелепости. Если я живу — у меня есть душа. Ты хотел меня в чем-то укорить, — но неудачно. Не злись. Дай сказать. Потом — опровергай. Итак, чудесным образом твой второй бог, вечный и всеблагий, как ты говоришь, родился от первого, тоже вечного и всеблагого, при помощи девы; но она осталась невинной. Врачи наши скажут, что ты солгал! Ты ответишь: «Это чудо!» О чем тут спорить? Глупые тебе могут поверить; умные — тебя не поймут. Но ты же, Артемон, говоришь: «Мой Спаситель в его телесном образе — такой же человек, как я сам. А только духом он бог». Как это понять? Значит, духом ты сам можешь быть богом? И я… и тот раб, что набирает воды из водоема? Допускаю, что бог может сойти к смертным, приняв только их вид. Это — тоже сказки нашего старого мира. Но — допускаю! А чтобы ваш искупитель в одно время был и бог… и человек во плоти? Это дико! Это недопустимо, Артемон! Другие христиане совсем иное говорят. Их сказка сложена более складно, чем твоя.
— Что мне за дело до других. Я не мудрствую лукаво. Нигде в учении Спасителя, в книге благой вести, не сказано, что Христос был бог. Он сам себя называет сыном человеческим. И я так признаю его. Он говорит: «Мои заповеди — воля Господа моего!» И я в это верю. Просто и ясно. Я прямо исповедую то, что исповедую, без разных мудреных толкований. Они лишь затемняют Евангелие, благую весть из Назарета.
— Прямо?.. Это еще не самый короткий путь, — прямо, друг Артемон. Прямо летают только гуси, да иные глупые птицы, — прямо в силки к охотнику. А мудрая сова, быстрая касатка, — они хорошо видят все кругом… и часто бросаются туда, сюда. Ищут свободнее путь, повкуснее добычу…
— И слепой нетопырь тоже мечется во все стороны, не видя света, Полибий. А я вижу мой свет нетленный, завет Спасителя моего. Бог единый все создал! И по его воле пришел сын человеческий по плоти и сын Божий по духу. И спас мир! А твои языческие бредни… я их знать не хочу!..
— Лаконично, но… нелогично. И потому — недоказательно, Артемон. Языческие бредни? И это ты говоришь мне, изучившему всю глубину мудрости божественного воистину Платона, «идеи» которого во сто раз божественнее, разумнее и лучше, чем твои чудеса и рождение незаконного сына Божия от законной жены старика плотника из Аримафеи…
— Ты смеешь?..
— Смею, Артемон! Вся мораль вашего Евангелия, «благой вести», как ты называешь, кроется в учении Платона о добродетели и красоте жизни. Твой Бог-Вседержитель — не что иное, как Разум, Гармония мировая, о которой говорит Платон. А ваша секта смешала в одно бредни старых иудейских сновидцев и мечтания индусских созерцателей пупка своего. И дала религию нового пугала, бога-искупителя, не искупившего никого. Бога рабов, оставившего этих рабов в цепях. Тогда как учение Платона, увлекая дух к высшей мысли, к совершенству, — одно только и может освободить мир от печали и зла.
— Ну! — вмешался Хилон, не давая Артемону бросить те жгучие слова, какие, видимо, дрожали на губах иерея. — Ну, если уж говорить спокойно и справедливо, — и Платон не совсем открыл нам истину!.. Он назвал — Идеи. А что такое — Идеи? Добро? Красота? А что такое — Добро и Красота? Тоже слова, как наш, израильский Иегова, как ихний Саваоф — Христос — дух святой. Но и в Идеях Платона, и в нашем Иегове, и в ихнем Спасителе — есть доля истины. Если новое учение, вышедшее из нашего израильского народа, — немножко пользуется образами, символами? Кому это мешает? Лишь бы конец был хороший! Лишь бы люди стали получше, помягче. И я полагаю, что мы, люди науки, мысль которых стремится к познанию мира и людей, мы не должны спорить из-за слов. Идея? Бог? Христос? Не все ли равно?..
— Нет, не все равно! — вмешался в спор римлянин, плотный, с надменной осанкою Саллюстий Карус. — Хотя бы потому, что все эти понятия, какие ты перечислил, — совершенные бредни. И странно их слышать после того, о чем учил Аристотель. О чем еще до этого великого познавателя мира говорил бессмертный Демокрит. Помнишь ли, Полибий? И вы оба?
— О чем это ты, Саллюстий? Опять завел о своих богах. Мы знаем.
— А если знаете, как же вы не поймете?.. К Демокриту пришел ученик и говорит: «Наставник, можешь ли ты открыть мне всю мудрость мира… все учение твое, пока я стою на одной ноге?» Мудрец сказал: «Слушай. Я начинаю!» И вот что сказал Демокрит юноше: «Из ничего — ничто произойти не может. Что существует — не может быть уничтожено никогда и никем. Ничто не случайно в мире явлений. На все есть причина и необходимость. Нет в основе вещей ничего, кроме тончайших атомов и пустоты между ними. Все остальное — есть только суждение человека, а не существующее нечто в мире. Атомы, бесконечные по числу и по форме своей, — вечным движением, столкновением и возникающим из этого круговращением образуют видимый наш мир. Различие предметов и явлений зависит лишь от числа, формы и порядка атомов, из которых образованы предметы. Качественного различия в атомах нет; они действуют друг на друга ударами, как всякая сила. Огонь состоит из наиболее легко подвижных, всюду легко проникающих, атомов, и движение их составляет явление жизни. Дух и разум — это форма „общей жизни“. Вот что сказал Демокрит. И после этого еще неученые люди могут говорить о каком-то едином строителе всего мира!
— А мысль, а познание? А понятие божества? Откуда это, Саллюстий? Все из атомов? Их кто создал, а? Кто дал нам понятие и мысли? Наш Разум? Мертвые атомы? — спросил Хилон.
— А ты читал Аристотеля, Хилон? Ты называешь себя ученым. Что сказал мудрец? Он признал истины Демокрита. Подтвердил, что мир состоит из четырех стихий. Эти quatuor essentiae Демокрита такие: огонь, т. е. теплое начало. Воздух — холодное. Земля — сухое. Вода — влажное. И есть еще пятое начало, quint'essentia: мировой эфир, тончайшее Нечто, наполняющее бесконечность пространства. Эфир не входит в состав атома, но он проникает во внутрь его; он есть и вокруг каждого атома, как бы тот мал ни был. Силой эфира приведен в равновесие мир… Этот эфир — не есть пустота или Ничто. Он — Нечто, еще не постижимое для ума нашего! Это — истинный Демиург, творец мира, но не имеющий сознания ни о себе, ни о творении своем! Он — наполняет пустоту вселенной, потому что Природа страшится пустоты. Пустота породила бы хаос.
— Это мы знаем, Саллюстий. Читали, как и ты читал. Но откуда узнал это Демокрит! И твой прозорливец — Аристотель? Если Демиург, творец, не имеет сознания, откуда оно явилось у творения? — снова мягко, но едко прозвучал вопрос Хилона.
— Отвечу тебе, поклонник единого бога „истинного“, Хилон арамеец. Аристотель поясняет: „Есть ли в мире вещество? Этого доказывать не надо. Оно очевидно и ощутимо для всех. Мировой эфир — это то, что может быть заполняемо. Это — пространство и сила. Материя, вещество — это простые, бесформенные атомы. Это Начало, наполняющее мировую беспредельность эфира. Они имеют вес и меру. В этой материи все возможности бытия, и только в ней одной! Но для атомов нужны формы. И эти формы, постоянные, вечные, — выявляются, как только атомы приходят в соприкосновение друг с другом. Значит, сперва — атом, материя, потом — явление, вещи. И вещи эти выявляются как осуществление предуказанных, вечных, незыблемых и неподвижных форм. Формы — это высший Разум мира. Но выявление этой высшей формы, этого мирового Разума совершается не сразу, а постепенно. Потому что Идея, форма — всеобъемлюща и неподвижна. А материя, атомы — дробны и в вечном движении, в вечном взаимном борении. И уходит время на эту игру сил, на совершенствование отдельных явлений, вещей и самого Разума людского, который есть часть божественного Разума, как атом — часть мирового вещества. Ясно ли тебе, Хилон? И тебе, Артемон? Или станешь еще доказывать своего бога, мир творящего по воле своей?
— Стану, Саллюстий. Но раньше… Гляди!
Артемон указал на большой каменный глобус с начертанными на нем странами мира, какие были в то время уже известны древним ученым. Глобус этот на прочном основании покоился у водоема, поставленный еще по распоряжению Аристотеля, когда он помогал Александру Македонцу создать в Александрии Академию.
Артемон двинулся ближе к глобусу. Все пошли за ним.
Плотин и Феон с дочерью давно подошли сюда. Стоя вдали, оба философа прислушивались к спору. А Гипатия, сев на край водоема, плела венок из гвоздик и жасмина, которые нарвала по пути сюда.
Теперь группа спорящих очутилась совсем близко от Плотина с Феоном, и задние даже расступились, включая наставников в свое кольцо.
Артемон между тем, указывая на глобус, говорил:
— Плоскую землю видят глаза наши. И глаза орла, парящего выше снеговых вершин, видят плоскую землю. Но разум человека учел то, что рыбаки видят на море; что видят корабельщики, встречаясь друг с другом, подплывая к пристани с домами и башнями. Верхи мачт, как из-за холма, видят прежде всего люди, встречая корабль, на море плывущий. Верхи башен и крыш видят моряки, приближаясь к городу, который, как бы из-за горы, появляется перед ними. И поняли люди, что живут на шаре, который во все стороны кругл. Поняли еще потому, что и в Азии, лежащей на другой половине земли, ночь, когда у нас день. Поняли, что и там не сразу видят плывущие и идущие люди издали все то, что лежит перед ними, потому что выпукла земля, горбится она равномерно повсюду, как это может быть только с шаром. И на шаре нанесен чертеж земли, всех стран, какие мы знаем ныне. Есть ли у кого, из здесь стоящих, сомнение, что не кругла наша земля?
— Что за нелепый вопрос, Артемон? Мы — не темные люди, не чернь Александрии. Да и те, многие, знают уж, какую форму имеет земля.
— Приятно! А спрошу опять: кто из нас видел круглую землю всю, в целом? Никто. Но — нет сомнений в истине этой. Земля кругла! По частным приметам мы познали общее. И вся мудрость, все познание истины — идет от частного к общему. И вера моя идет так же. Из явлений мира я познал о том, что есть создатель мира. Если бы его не было, — не явилась бы у меня и мысль о боге. В творениях познаю я творца. Господа моего. Что скажешь на это, Саллюстий?
— Что тут можно сказать? Если сам ты не вникаешь! Прежде всего, сравнение не всегда источник истины. А затем… Глобус этот — изображение земли видимой, осязаемой, обитаемой нами. Мы сами являемся из земли и возвращаемся в нее по смерти. И правда, что касается земли, тут частные явления дают точное понятие о целом. Это так же неоспоримо, как законы сложения чисел. Один и один — есть два вместе. Но они не есть два сами по себе. А твой бог? Где и в чем выявляет он себя так же ясно, как округлость земли выявляется для моряка и путника на суше? Нигде, ни в чем! Откуда в уме, в душе твоей явилась идея о боге? И на это дают ответ учителя наши. От древности и до этих дней.
— Послушаю, что скажешь… — улыбаясь, кинул Артемон.
Группа теснее сплотилась вокруг спорящих. Саллюстий, собравшись с мыслями, заговорил раздумчиво, внятно:
— Сперва — эфир и атомы. Потом — материя, явления, вещи, предметы и люди. Завершает все — форма, идея, Разум. Так идет миротворчество. Так создан мир, познаваемый нами. А другого я не знаю, как и все люди. Но и вещество, и творческая форма — неразрывно связаны друг с другом. Где происходит образование вещества, там выявление гармоничной, божественной формы неизбежно, хотя бы и не сразу. И только сознание человеческое, такое же несовершенное, как и все вещи, не сразу постигает эту связь. Понятно! Самый одаренный ребенок, из которого потом выйдет великий Платон, Пифагор, Аристотель… он сперва умеет только одно: ловить губами сосцы груди, его кормящей. Все приходит постепенно в сознание. И сознание растет не сразу. Но растет неуклонно! Оно видит, что вещество неизбежно складывается в формы, все более и более совершенные, до божественности разумные, прекрасные. И это божественное совершенство ум человека сначала принимает за нечто, отдельное от материи. И творит себе богов, гремящих на горе Синайской, или богов, истекающих кровью на позорном, голгофском кресте. Разум не сразу просветляется. Вот почему он творит богов там, где только мерцают первые проблески его с
© ООО «Издательство «Вече», 2023
Об авторе
Будущий классик российской исторической прозы родился 8 (20) мая 1854 года в Киеве. Настоящее его имя – Леон Германович Гельман. Семья была прочно связана с театром, поэтому сын поначалу пошел по стопам родителей и уже в 6 лет играл на сцене. Тогда же проявились первые признаки литературного дарования. Мальчик сочинял стихи, а с 17 лет начал сотрудничать с различными журналами, публикуя там стихи и прозу.
В 1881 году, тоже в 17 лет, поступил на профессиональную сцену, в итоге исколесив весь юг и центр России. Успел побыть и актером, и режиссером в провинциальных труппах, однако в московский Малый театр удалось устроиться только суфлером. В 1896 году в Москве автор опубликовал свой первый сборник «Стихотворения», куда также вошли поэмы «Ипатия» и «Мирра». Тогда и появляется псевдоним Лев Жданов.
В 1890-х годах автор становится известен прежде всего как автор пьес. В общей сложности сочинил около тридцати таких произведений. Начинал с одноактных комедий, «летних сценок», затем обратился к более серьезным жанрам – драмам, темой которых являлись судьбы людей, захваченных денежной лихорадкой.
В 1898 году окончательно забросил театральную карьеру, обосновался в Москве и решил зарабатывать литературным трудом, но не только как драматург. В 1899 году опубликованы первые прозаические опыты – сборник рассказов «Женские тени», представляющий собой галерею психологических женских портретов (кроткая, женщина-убийца, старая дева и т. д.).
И всё же основу творчества Льва Жданова по-прежнему составляли пьесы. Критика отзывалась о нем благосклонно. Например, В. В. Розанов в рецензии на драму «Под колесом» отметил «содержательность, серьезность и нравственный элемент».
В 1905 году Жданов предпринимает попытку отразить в пьесах современную политическую повестку, но критика, прежде благосклонная, обвинила его в спекуляции на «модных темах». После скандальной истории с запрещением пьесы «В борьбе», когда спектакль отменили прямо в день премьеры (2 апреля 1905 года), один из критиков заметил: «Не создают ли такие запрещения рекламу ничтожным произведениям и не поощряют ли они бездарных авторов на “опасные драмы”?»
В тот же период автор обращается к исторической прозе, где опять же поднимает такие темы, которые нашли отражение в современной политической повестке. В 1904 году опубликован первый исторический роман Льва Жданова «Царь Иоанн Грозный». Начиная с этого времени почти ежегодно выходят новые исторические произведения: роман «Закат» (1905), повесть «Венчанные затворницы» (1907), роман «Русь на переломе» о последних годах царствования Алексея Михайловича (1908), роман «Отрок-властелин» о Петре Великом (1909), роман «Царь и опричники» (1911), роман «В стенах Варшавы» (1912), исторический роман времен Екатерины II «В сетях интриги» (1912), повесть «Во дни Смуты» (1913), роман «Наследие Грозного» о царевиче Дмитрии и Борисе Годунове (1913), роман о Екатерине II и Зубове «Последний фаворит» (1914), роман «Петр и Софья» (1915), роман «Под властью фаворита» о временах Анны Иоанновны и Бирона (1916) и т. д.
Об исторических произведениях Жданова отзывы критиков были в основном отрицательные. Автора обвиняли в исторических несуразностях, злоупотреблении пересказом хорошо известных событий, интересе к скандальным темам. И. А. Бунин в рецензии на «Исторические поэмы» Жданова, представленные на соискание премии им. А. С. Пушкина в Академии наук, оценил автора как литератора, «совершенно лишенного художественного дарования и оригинальности, набившего руку фабриковать якобы исторические драмы и повести для Никольского рынка».
Несмотря на это, автор пользовался широкой популярностью у читателей, особенно среди нового поколения, которое ценило Жданова за живость и занимательность изложения.
Одной из последних известных работ автора является роман «Николай Романов – последний царь», изданный в мае 1917 года. Роман был написан на основе исторических документов и является едва ли не первой монографией (именно так определял автор свою книгу) о Николае II.
При большевиках Жданов печатался мало. Если до революции 1917 года критика обвиняла автора в симпатии к революционным идеям и погоне за скандалом, то после революции его упрекали в недостаточной идейности. В 1920-х годах Жданов выпустил всего два исторических романа: «Во власти золота (Ленская бойня)», а также «Крушение богов», в котором использовал сюжет своей давней поэмы «Ипатия». После этого никаких крупных публикаций не было.
Умер Лев Жданов в 1951 году в Сочи.
Часть I. Штурм Олимпа (389–390 гг.)
Глава 1. Первая встреча (389 г.)
Второй день ревет уже, не умолкая, буря. Могучими порывами налетает с юго-запада бешеный ураган, хлещет тяжелыми бичами темную гладь моря, вздымая воду огромными полупрозрачными валами, с белой, летящей по ветру пеною на высоком хребте. Вперегонку с волнами клубятся, несутся на северо-восток тяжелые, темные тучи, проливаясь порою холодным, колючим дождем. Даже в полдень – сумрачно кругом. А на горизонте и различить трудно: где клубятся сизые тучи, где им навстречу вздымаются бешеные волны?
И ветер, и волны, как будто сговорившись, гонят вперед одинокую двухъярусную галеру ромэйского[1] типа, или дромон, как называют ее в Константинополе. При хороших предвещаниях вышла она из Пирея, из афинской великолепной гавани. Но боги порою так же лукавы, как и люди. Небеса потемнели, завыл Тифон. И гонит буря галеру. От Эгейского моря, от Геллеспонта до Пропонтиды, где еще бурливее и опаснее бушующее море, чем у берегов Эллады.
Обломана задняя галерея дромона, плохо слушается судно руля. Гнется толстая мачта, хотя паруса все убраны и оставлен только верхний клочок паруса, чтобы меньше рыскало судно. Но даже подхваченная ветром галера то падает в клубящуюся бездну вод, то взлетает на гребне новой водяной горы, вырастающей из водоворота и пены и пыли водяной.
Напрягая последние силы, ударяют гребцы веслами по бешеным волнам, но чаще их удары разрезают лишь воздух, когда дромон взлетает на гребень волны. И, не встретив упора, совсем запрокидываются назад гребцы силой собственного порыва… Каждые три часа приходит новая смена, а старая, не дойдя до своих циновок, сваливается где попало, тяжело дыша. Мгновенно засыпают люди, истощенные непосильным трудом. Гудит буря, трещат снасти. Как щепку, кидает судно вверх и вниз ураганом. Гибель грозит каждый миг. Пускай! Ничего не слышат усталые гребцы. И слышать не хотят. Им дано три часа отдыха. Это – важнее всего!
А когда опять приходит очередь, начальник гребцов сразу ударами тяжелой плети, без всяких слов подымает лежащих.
Медленно подымаются люди, еще не разнимая тяжелых век, видя обрывки снов наяву; качаясь, занимают свои места и, как оживленные машины, вздымают и опускают весла, издавая обычный припев:
– Гой-йо! Гой-йо!
И плеть начальника, так же размеренно, как чередование звуков, как взлет и падение волн, придает бодрости и усердия гребцам, спина и руки которых деревенеют уже от устали.
Кроме задней галереи, бурею снесло и палатку на корме, где в хорошую погоду обычно помещался кормчий и пассажиры, едущие на дромоне. Под ветром и дождем стоит кормчий, кутаясь в толстый плащ, набухший, отяжелелый от влаги. Хмуря брови, пронизывает он мрак впереди, чтобы вовремя заметить опасные береговые скалы. Ночью время от времени сквозь тяжелую пелену туч можно в просвете разглядеть узор созвездий и по ним определить, куда несется судно, где оно приблизительно находится в данный миг. А днем этим руководителем служит солнце, которое скорее угадывается, чем видится в кипящем сером просторе небес и бури.
Закрепив руль, стоит, налегая на него грудью, рулевой, ожидая приказаний от кормчего. Изредка, словно наугад, отдает приказ опытный старый моряк, эллин. Рычаг руля меняет несколько направление, снова укрепляется.
И несется судно вперед, по воле ветра и волн. Куда? Неизвестно.
Может быть – к цели, может быть – в Тартар, в бездну небытия?..
Но и кормчий, и рулевой привыкли к мысли о гибели среди волн. И стоят, делают свое дело, как будто безучастные к разгулу бешеных стихий.
Солнце уже садилось за тучами, мрак быстро густел. Тяжелая покрышка, закрывающая спуск в кормовое помещение, медленно приподнялась. Из люка сперва показалась широкая, пухлая спина, седая голова на короткой жирной шее, потом, пятясь, выползла на палубу круглая фигура пассажира лет пятидесяти. Человек этот почти вынес на руках кверху свою дочь, девушку лет пятнадцати.
Бледное, измученное лицо девушки было правильно и прекрасно, как лицо Дианы. Полузакрытые глаза, окруженные синевою, все же сверкали огнем и волей из-под длинных, густых ресниц. И что-то особенное было в этих глазах, что заставляло забывать даже о прелести лица. Едва ступив на палубу, девушка выскользнула из рук отца, опустилась у основания мачты, ухватилась за свисающий конец каната и, колыхаясь в лад с размахами галеры, широко раскрывая рот, жадно глотала свежий воздух, закрытая от ударов ветра толстой мачтой. Глаза ее широко теперь раскрылись, как бы впивая всю грозную красоту бушующего моря.
Толстяк отец, запыхавшись от усилий при подъеме кверху дочери, бледный до синевы от приступов морской болезни, тоже тяжело опустился, лег почти ничком на сверток мокрого каната, старался отдышаться, испуганно водя кругом своими добрыми, воловьими, сейчас воспаленными, опухшими глазами.
Встретив немой взгляд кормчего, звучащий как вопрос, толстяк прерывисто, хрипло проговорил:
– Гипатия, говорит, умирает. Душно ей там. Лучше на просторе умереть, чем в черном, тесном, вонючем брюхе этой шаткой коробки. Провалилась бы она к Аиду… только без нас!..
– Может и вместе с нами это случиться! – невозмутимо «успокоил» кормчий и снова стал сверлить взором тучи в небе, тяжелый мрак, все густеющий впереди и кругом.
Толстяк, после очередного спазма морской болезни, когда совершенно пустой желудок мог отдать только густую слюну и желчь, лежал, закрыв глаза, с волосами, слипшимися от пота, словно потерял сознание от муки.
Вдруг он почувствовал легкое, прохладное прикосновение детской руки к его лицу. Гипатия, ползком добравшись до отца, протянувшись рядом, одной рукой держась за край каната, другою старалась отереть старику лоб, снять слюну и пену, оставшуюся на его посинелых губах.
Нежный, еще детский голос зазвучал у самого уха, чтобы не мешала буря:
– Ты жив, отец? Потерпи немного… Видишь, тучи редеют… ветер стал сла…
Она не досказала. Новый удар ветра, налет волны… Дромон, как горячий конь, вздыбился на волне… Палуба накренилась так, что Гипатия должна была ухватить отца, уже покатившегося к борту. А кормчий удержал их обоих и, ничего не говоря, опутал концом снасти, чтобы волною не снесло совсем.
Но волна только окатила всю палубу, где нечего было унести больше. Все легкое было снесено. Когда влага схлынула, отец и дочь, мокрые дотла, все же были как будто освежены, укреплены этим душем. И снова спросила Гипатия:
– Отец, ты слышишь меня?.. Будь бодрее. Худшее прошло! Ветер, этот страшный ураган, – он нам все время попутный. Я уж делала вычисления. Мы скоро будем у цели. Крепись, мой старый, милый отец…
Молча раскрыл глаза старик, поглядел на девушку и с трудом проговорил:
– Ты у меня… я… знаю… бесстрашная… умная… А что… если… если… – гибель? Ты так молода. Тебя жаль больше, чем себя самого…
– Меня? Себя? А чего же жалеть?.. Мы – появились… видели, мыслили… жили… и – уйдем. А потом то, что жило в нас, – быть может, снова оживит другую грудь. Мы – часть мира. Мир – бессмертен. Значит, и мы – совсем не умрем. То, что теперь есть мы, только примет новую форму. И все будет хорошо…
– Для тебя – пожалуй. Но я… если даже пойду в пищу рыбе и явлюсь в виде ее детеныша… Меня это не утешает нисколько. Я лучше люблю вкусную рыбу на шкаре есть сам, чем ее кормить своей особой. Ой! Проклятье этой буре… проклятье морю… ой! Да, постой. Не верю я тебе… Так и не жаль ничего в жизни? Не страшно умирать?
– Почти, отец. Разве вот одно. Я не жила почти. Я – девушка… я могу быть матерью… женою… Мне кажется, это такие великие радости! И вот меня не станет. И я как Гипатия не узнаю этих восторгов. Вот одно разве это!..
Сказала и умолкла. Тесно прижавшись друг к другу, молчали оба, вместе с галерой падая и взлетая без конца в пучину. Отец, совершенно истощенный, дремал и в то же время ловил слухом свист ветра в снастях, скрипение брусьев, крепких ребер корабельных, плеск и шипение волн, неустанно налетающих с кормы…
Дочь, широко раскрыв глаза, глядела вперед, во тьму, словно вопрошая кого-то о чем-то пытливым взглядом. Фонарь, зажженный на мачте, трепался там, как огненная птица, то вспыхивая, то почти угасая от ветра. Его лучи странно, неровно озаряли лицо девушки, выхватывая это белеющее пятно из окружающего мрака…
Слова, брошенные для успокоения измученному старику, оказались пророческими.
Еще не наступил рассвет, как буря стала затихать, пронеслась так же неожиданно и сразу, как налетела. Галера, очевидно, выбралась из полосы урагана. Задремавшая к концу ночи, Гипатия невольно раскрыла глаза, когда качка сразу уменьшилась… Оглянулась и вскрикнула от удивления и восторга. Буря, не хуже надежного кормчего, пригнала их к цели скорее, чем они даже могли ожидать. Вдали синел берег, знакомый давно отцу и дочери. Маяк Фаро бросал дрожащий луч в предрассветную темноту, одевающую море. Но восток уже бледнел, и над головою синело высокое небо, совершенно чистое от туч. Звезды на нем бледнели, гасли одна за другой. Вид берега воскресил силы гребцов. Весла мерно врезались в морскую влагу, еще не утихшую совсем, но уже ласковую, а не грозную, как несколько часов тому назад. Дромон быстро и ровно шел к раствору гавани.
– Отец, смотри… смотри!.. – стала будить Гипатия старика. – Гляди, как чудесно… Смотри, где мы!.. Видишь? Фаро! Видишь?.. Золотые ворота! Видишь? Византия!
И, скорее угадывая, чем различая, она водила рукою по воздуху, словно касаясь издали и маяка, и старых крепостных ворот, и темной крепостной стены, опоясавшей град Константина.
Когда дромон входил в гавань Феодосия, солнце огромным багровым кругом показалось уже за гладью воды, далеко-далеко на горизонте.
Гипатия, воскресшая, сияющая и грустная в то же время, стояла на корме, глядя вперед, где быстро вырастали очертания серого мола, здания на берегу и роскошные царские дворцы за ипподромом.
Вдруг встречная триера привлекла внимание девушки. Мерно и сильно падали весла гребцов, свежих и не усталых еще; ровно и легко вздымались и снова падали в гладь воды. Триера быстро скользила вперед, покидая за собою берег. На ней заметна была еще суета, обычная при выходе из гавани. И, как бы отделившись от всех, кто был на судне, стоял на корме одинокий юноша.
Гипатию сразу поразило скорбное выражение смуглого, красивого лица. Из-под навеса ресниц черные, сверкающие глаза неотрывно смотрели на уходящий берег, как будто там юноша видел еще дорогих, надолго оставленных людей: мать, сестер или подругу любимую, кто знает? Правда, не больше 17 лет красавцу, похожему на божественного Антиноя; но Гипатия наблюдала в Афинах нравы эллинской и римской молодежи. Они рано отдают свое сердце любви.
Зоркие глаза девушки хорошо разглядели белый плащ, небрежно накинутый на широкие плечи, спадающий свободно вдоль гибкой худощавой фигуры юноши. Иссиня-черные, пышные кудри, не покрытые дорожным колпаком, по воле утреннего ветерка, как живые, колыхались, обрамляя красивой рамкой тонкий овал лица.
Юноша как будто почувствовал на себе взгляд Гипатии и, оторвавшись от берега, повернул к ней лицо, загляделся сам на девушку.
Так стояли они, пока триера и дромон расходились в разные стороны, мерно колыхаясь на ленивой, прибрежной волне Пропонтиды.
Как раз теперь багровый, огромный диск солнца выкатился из-за линии туманного горизонта и готов был совсем оторваться нижним краем от морской глади, сверкающей под его косыми лучами, как вороненая сталь.
В этот миг огромная, стройная триера очутилась на линии между Гипатией и солнцем. Черным силуэтом четко обрисовался корабль на сверкающем диске со всеми снастями, реями, с узким вымпелом главной мачты, реющим по воздуху. Черными очертаниями туда и сюда двигались люди на палубе триеры, висели на снастях, подымая паруса.
Только юноша, озаренный сиянием, неподвижно вырезался на корме. Невольно подняла Гипатия руки туда, где стоял печальный красавец, где горело утреннее солнце, мимо которого успела уже проскользнуть триера.
Зазвучал ее голос, то трогательно-детский и звонкий, то глубокий, грудной, как у влюбленной женщины. Она запела старинный, давно ей знакомый, утренний гимн пифагорейцев:
- О Солнце, источник, жизнь подающий всему,
- что мы постигаем под именем мира!
- Ты озаряешь Предвечную Ночь
- и огнями лучей своих жизнь зарождаешь
- во влажном тумане Первичного Хаоса.
- Тобою и груди людские согреты,
- и думы прекрасные все в них рождены…
- И лучшие думы, лучшие песни
- тебе посылаем, о Солнце,
- жизнь подающее, свет нам несущее вечно.
- Слава тебе!
Юноша не слышал, конечно, за расстоянием, гимна, но уловил жест, хотя и стоял словно очарованный видом Гипатии. И в ответ тоже поднял руку, сливая привет и прощание в одном ласковом движении кисти.
Поворот триеры вправо, дромона – влево… и они уже больше не видят друг друга. Не встретятся, быть может, никогда! Но девушка все стоит и смотрит на уходящий корабль.
Волнистые золотисто-рыжие волосы с густым отливом красной меди двумя тяжелыми косами змеятся до пояса вдоль стана вместе с намокшим плащом, выдавая нежные, упругие очертания высокой, девической груди. Южная эллинка, рожденная к тому же в знойном Египте, Гипатия в 15 лет казалась вполне сформированной, зрелой женщиной. Высокая, стройная, гибкая, она чаровала глаза законченной красотою тела в каждой его линии, от головы до ног.
Триеры не стало видно.
Гипатия закрыла глаза, в которых медленно таял милый образ, и ей показалось, что из глубины зрачков он проникает ей в грудь, до самых тайников наполняет ее существо, заставляя тело трепетать от наслаждения и сладкой боли… Сжав руки на груди, девушка как будто старалась глубже затаить, запрятать в себе милый образ. И без конца хотелось ей трепетать этой мучительно-отрадной дрожью.
Рано подымается народ в Константинополе, в шумной, пышной столице Восточной Римской империи, в сердце царства Ромэйского, как зовется теперь Византия со всеми подвластными ей народами и странами.
Восемь долгих веков ютилась Бизанция, скромная торговая колония эллинов из Мегары, на берегу великолепного Золотого Рога, или залива Хризокератос, как звали его греки. Расстилалась вокруг мягкая прелесть зеленых берегов и холмов Боспора, вечно плескало синее море с чарующею далью Вифинских гор. И выгодно промышляли морским торгом, а порою и пиратством смышленые мегарийцы; но жили незаметно, скромно. Еще не оживились эти края, не докатилась сюда волна мирового торга и обмена. Наконец час пробил!
В 330 году варвары особенно сильно стали теснить римлян на западе, отнимая подвластные Риму земли, нанося цезаризму удар за ударом в самой Италии. Тогда именно Константин основал новую столицу Восточной Римской империи на полуострове между Золотым Рогом и Мраморным морем, где Боспорский пролив так удачно соединяет Средиземное море с Понтом Эвксинским, как называли греки Черное море.
А ведь здесь именно и шел великий главный путь от запада и севера неугомонной Европы на восток и на юг мечтательного, но богатого лучшими дарами природы азиатского материка.
Кроме торговых выгод, новая столица являлась прекрасным стратегическим исходным пунктом для защиты и нападения, лучше которого не было нигде во все Средние века.
И вот спустя всего 60 лет широко раскинулся Константинополь, вмещая в стенах своих полмиллиона коренных жителей, не считая прилива и отлива многих десятков тысяч торговцев и моряков буквально изо всех краев земли.
Город-рынок и порт – в то же время был городом-крепостью.
На западе, купая подножие в волнах Мраморного моря, на 15 метров ввысь вздымается мощная первая стена толщиною в 5 шагов, 5000 метров длиною, вдоль которой темнеют 120 крепких башен, вдвое выше, чем стены.
Дальше, на севере, до Золотого Рога, тянется такая же каменная ограда, темнеют башни, вьется ров, со стороны стены укрепленный зубцами каменных бойниц, – так называемый эскарп крепостной.
Со стороны Золотого Рога тоже возведены крепкие стены. Неприступен царь-град Константинополь для врагов ни с суши, ни с моря. День и ночь стоит стража на высоких башнях, смотрит, не запылают ли огни сигнальных вышек, растянутых от границ империи до самой столицы. Покажется враг на самой дальней окраине – и быстро запылает цепь огней; стража даст знак – ярче вспыхнет пламя маяка Фаро и по тревоге соберутся бесчисленные легионы, готовые для зашиты столицы, для нападения на врага. Крепкие, тяжелые цепи протягиваются у входа, поперек Золотого Рога. И ни одно судно не может пройти туда.
Но сейчас сравнительно спокоен новый град Константина.
Император Феодосий, опытный и смелый полководец в былые годы, и теперь не одряхлел, не изнежился под пурпуром и царскою повязкой, которую заменил тяжелый боевой шлем полководца. Сейчас он в Италии, явился на защиту Западной империи, где аламанны, маркоманы, франки и квады – воинственные, дикие почти народы – вытеснили римские гарнизоны из Галлии, где умный, порывистый честолюбец Максим, префект, наместник Британии, успел не только овладеть Галлией, но двинулся в Италию, после того как сторонники Максима убили в Лионе Грациана, западного императора, заставили его сына Валентиниана бежать в Фессалоники, просить помощи у Феодосия.
С помощью лучших вождей своих – Промотия, Рихомэта и галла Арбогаста – Феодосий быстро разбил Максима, взял его в плен и казнил. Юношу Валентиниана кесарь восстановил как императора Западной империи. А для охраны и помощи оставил ему Арбогаста, смелого воина и хитрого дельца.
Это было еще год назад. Но и сейчас сидит в Милане Феодосий со своими легионами и вождями, стараясь упорядочить дела расшатанной Западной империи. Он понимает, что разлад на западе отзовется тяжело и на спокойствии Восточной империи. Вот почему не спешит домой Феодосий, хотя не все благополучно в царстве и даже в самой столице ромэйской.
При всей отваге и уме суеверен и фанатичен Феодосий в делах веры. Поддаваясь внушениям епископов, особенно патриарха Александрийского Феофила, он полагает, что только вера христианская помогает ему в его делах, хотя сотни тысяч сарацин, египтян, язычников и всяких варваров служат верно в его легионах. Но, централизатор по духу, цезарь и веру решил сделать орудием своей империалистической политики, как давно он делает это, с помощью войск захватив мировой торг в свои руки.
По его приказу, по эдикту 385 года, христианство объявлено государственной религией, единственно терпимой в империях запада и востока. Запрещено публичное поклонение прежним богам, идолам, как их называют христиане, в языческих храмах и в общественных местах. Кары, вплоть до изгнания и смерти, грозят виновным, ослушникам закона и воли кесаря.
Из сената позорно убрана статуя победы, Ника, святыня Рима в течение долгих веков. Знатнейшие римские патриции пробовали возразить. Но Феодосий, сдвинув густые брови кровного испанца, заявил:
– Почтенные сенаторы! В моем декрете не сказано, что кто-нибудь смеет противиться воле императора и кесаря безнаказанно. Помните это!
И римляне, выродившиеся за последние века разрухи мировой, удалились в молчании… Погасла древняя римская доблесть. Брошена Ника в мусор где-то на заднем дворе.
Римские боги, созданные народами Лациума, погибли вместе с мощью и отвагою древних римлян, ковавших собственное счастье и величие за счет угнетенных, слабейших народов, живущих кругом.
Но этого мало Феодосию, мало епископам и попам, захватившим в свои руки власть не только над душами слабых темных людей, но и над всеми благами мира, какие дают успех и власть.
В это ясное, но холодное январское утро 389 года, несмотря на ранний час, важное совещание происходит во дворце, в ризнице храма св. Дафны, где после заутрени остался юноша Аркадий, старший сын кесаря. Четыре года назад он объявлен августом, т. е. наследником-соправителем Восточной, Ромэйской империи. С ним за столом, в глубоком кресле, зарывшись в мягкие подушки, сидит дряхлый старец с румяными щечками, кругленький, пухленький Нектарий, патриарх Константинопольский, первый между владыками восточной церкви, согласно апостольскому преданию.
Далее, по старшинству, сидит, напряженный, подобравшийся, словно готовый к схватке, Феофил, патриарх Александрийский – широкоплечий, дюжий грек с черной, уже седеющей клочковатой бородою, с маленькими сверлящими глазками и красным, расплющенным носом над толстыми, крепко сжатыми губами властолюбца.
Кинегий, префект, наместник Восточной империи, фактически управляющий царством в отсутствие Феодосия, старый, преданный солдат, с выхоленным, красивым, но холодным и неподвижным лицом, – слушает, что говорит Феофил, порою кивая утвердительно Аркадию, переглядываясь сочувственно с двумя епископами: с племянником патриарха Кириллом Египтянином[2] и с Исидором, которых патриарх привел с собою на это закрытое собрание.
Отрывисто, сильно, как метательные снаряды из баллисты, вылетают слова у Феофила:
– Все же это понять трудно. Вот уже четыре года издан строжайший декрет. Единую лишь христианскую веру должны все исповедовать, как учат апостолы и святая наша церковь. В ней единой спасение душам и телам людским. И что видим? Запрещены жертвы идольские в храмах. Рушить велено самые капища нечистые либо обращать в храмы Бога истинного. А капища стоят. Жертвы творятся, если не явно, то тайно. Я писал императору-августу. Богатства несметные в руках языческих жрецов, волхвов окаянных, служителей диавола! Можно ли это? Где усердие, где ревность христианская? Горе кругом. Ереси растут, как морские волны, хлещут, стараясь повалить крест честной. Манихеи, оригениты, ариане, семя диавольское… Безбожники всякие, лжетолкователи, лжепророки, слуги адовы умаляют власть церкви, отбивают доходы скудные наши. Доколе терпеть будем? Восстанем ли всею силою на врагов церкви внешних и внутренних? Оле, горе нам! Лишаем себя спасения сами.
Сказал, умолк, тяжело дыша от неподдельного волнения. Себя сливая со всею церковью христианской, Феофил действительно страдал при мысли о том мнимом уровне, какой терпело христианство, сейчас, на деле, забравшее всю власть и силу в свои руки, в лице пастырей церкви, воинственной, угнетающей, а не просвещающей наставлениями, как это когда-то делали первые апостолы.
Аркадий, к которому был внешне обращен вопрос, молчал, потупясь. Юноша старался скрыть скуку, подавить зевоту, вызванную знакомыми, надоевшими выпадами патриарха. Разве так уж плохо живется старику или самому Аркадию на свете, что надо еще заботиться, кто и как молится у себя в дому?.. Но слушать надо. Говорит один из старейших и важнейших князей церкви. И Аркадий, не подымая глаз, кивает головой, словно одобряя рвение Феофила, но не решаясь подать голос по юности своей.
Нектарий, жуя беззубыми деснами, перебирая четки, склонив головку набок, умиленно, сочувственно вздыхал. Другого он ничего не делал уже много лет, особенно когда заходила речь о вопросах, слишком трудных для решения дряхлому старцу, любившему сладко поесть и хорошо поспать в мягкой постели. Он исполняет все требы, как это полагается патриарху. Чего же еще хочет от него этот беспокойный бородач, александрийский владыка? Нет ему угомону!
Так думает Нектарий, а головка часто кивает в такт порывистой речи Феофила, кивает, когда тот уже замолчал. А старческая дрема все больше заливает чем-то липким мутные глазки Вселенского патриарха.
Заговорил Кинегий, мягко, но четко; почтительно, но с неуловимым оттенком пренебрежения, с каким воины всех религий говорят со священниками и жрецами, служителями культа. Самый суеверный солдат, считая, что обряды спасают от опасностей боя, что между Богом и людьми необходим посредник-молитвенник, – самого жреца почитает дармоедом, шарлатаном, получающим за легкую, безопасную и почетную работу много больше, чем ему следует; особенно если сравнить с ничтожным пайком воина.
Чуткий Феофил уловил эту нотку пренебрежения, когда Кинегий с преувеличенным наружным почтением обратился к нему:
– Преосвященный отец, начальник над старейшими, высокоученый Феофил дозволит ли темному воину-мирянину задать вопрос?
Насторожившись, бросив искоса пытливый взгляд на непроницаемо-спокойное, застывшее лицо воина и придворного, каким он знал префекта, Феофил только молча кивнул головой. Кинегий, поблагодарив за разрешение поклоном, заговорил так же почтительно, но еще тверже прежнего:
– Декрет об упразднении капищ языческих касается не только Рима и Византии. Он издан и для Египта, и для всей Ромэйской империи. А все ли храмы в диоцезе, в уделе преосвященного Феофила: в Египте, в Ливии, в Пентаполисе, – все ли капища закрыты, уничтожены или обращены в церкви? Я слыхал, что и доселе почти явно творятся обряды в величайшем храме Александрии, в капище Сираписа. Верно ли это, отец? И почему это так?
Стрела попала в цель. Феофил сразу побагровел, заерзал в кресле, в кулаки сжимая руки, лежащие на поручнях, и злобно забормотал:
– Неразумно пытаешь, чадо мое. Неуместные вопросы задаешь! Сам знать должен: перед отбытием август-император преподал мне указание, чтобы полегче в Египте. Пока сам божественный там с мятежниками не расправится. Сильны еще язычники в Египте, в этом краю неверных.
Иудеи к тому же одолевают! Весь торг почти у них в руках. Третья часть Александрии ими заселена. Другая треть – эллины, староверы да египтяне, идолопоклонники закоснелые. Наши, сыны верные церкви Христовой, – больше по обителям, в пустынях живут. Им до мира дела мало. Грехи свои отмаливают. Чего ж ты вопрос задал, ехидный и неразумный вместе? Должен сам бы знать!
– Простить меня прошу преосвященного главу старейших. Но я слышал, да и сам читал, что с меньшими силами вера побеждала язычников. Если сплотить христиан… А тут еще и воинская сила есть в Александрии для помощи. Почему же?
– Что заладил: «му» да «му», как теленок, мычишь! Или опять не знаешь? Ереси потрясают святую нашу церковь, как давно не бывало… Сейчас я вам говорил. Тут их еще менее, чем в моем уделе, в диоцезе Африканском. Пресвитеры, епископы, настоятели, иноки смиренные, чистейшей жизни люди, как где сошлись – так и споры, разногласие о вере. Како веровати надо? Чье толкование праведнее и вернее? Два естества? Одно естество у Христа? Бога родила Дева или человека, после Богом ставшего? Не собрать мне сразу это стадо великое. Разные козлы да бараны в разные стороны ведут его; а сами – лбами стукаются чуть не до смерти. В бороды, во власы вцепляются. Анафемствуют один другого. Самому приходилось многих смирять, до анафемы до самой… до извержения из сана иноческого, из лона церкви! Да ничего не поделаешь. Вот и терплю, жду времени. Делаю, что можно пока.
Запыхавшись от горячей, необычно долгой речи, патриарх тяжело дышал, с хрипом, как запаленная лошадь.
С довольной улыбкой, с новым почтительным поклоном заговорил Кинегий:
– Вот, вот! Господь глаголет устами служителей своих верных и мудрых. Что я хотел смиренно сказать владыке, он сам изрек первый. Сразу – и овцу не зарежешь! В Египте у высокопреосвященного не все ладится, на иное – сил не хватает. То же самое и здесь, в Ромэйской империи и в самом граде нашем царственном. Враги чужие и свои бунтовщики в самом сердце всемирного царства, в Риме, в Италии, наносят удары. Войска с кесарем-августом туда ушли. Мало легионов в Ромэйской земле осталось. Ереси и у нас сильны, как сказал святой отец. Старая вера еще крепка в людях. Если нажать слишком сильно – бунт запылает. Пожары и так часты у нас, а тогда, пожалуй, и до прекрасных стен нашего дворца доберутся огни восстания. Чернь набалована, буйна в столице. И не без оружия…
– С жиру бесятся! – не сдержавшись, стукнул кулаком Феофил.
– Одни – с жиру, другие – с голоду. Всего бывает! – спокойно продолжал невозмутимый Кинегий. – А я берегу святыню империи, семью августа; я храню самое священное: власть кесаря над бесчисленными народами и землями. Тут надо полегче колесницу поворачивать порою, как и на ипподроме бывает. На повороте пустишь вперед тех, кто погорячее. Они спутаются в клубок, переломают колеса друг другу. А ты их не спеша и объезжай тогда, кати к заветной черте. Вот моя мысль, святейший владыко над старейшими. Вернется блаженный август, увенчанный победою. Мы тогда со всеми местными делами и делишками скоро справимся, и, главное, легко, без урона и потерь.
– Хитрый ты воин, Кинегий. Речист, не хуже моих епископов. Тебе бы клириком, не мирянином быть, – не то довольный, не то обиженный, уронил Феофил. – Ну что же, потерпим. Да ты, я вижу, не кончил еще.
– Не кончил, святейший отец. Напомнить хочу. Кое-что делается все-таки, не ожидая возвращения цезаря. Где можно, упраздняем храмы, отбираем стяжание неправое у поклонников дьявольских. В твоем диоцезе войска получили немало из сумм, взятых в казне языческих храмов. А наши легионы и войско августа-кесаря в Италии наполовину содержатся из тех же средств. Да вот оглянуться прошу владыку. Половина ризницы уставлена золотыми, серебряными сосудами, ковчегами, всякой всячиною из сокровищ, взятых в разных храмах языческих. И еще возьмем… придет время…
– Да, да, возьмем! Придет время! – вставая, взявши посох, кивнул Феофил, и жадный огонек загорелся в его сверлящих глазах. – Ну что же? Договорились – и добро! Потерпим. Благослови, святой отче…
Он почтительно склонился перед Нектарием, ожидая знака.
Старец, разогретый в своих мягких подушках, совсем было задремал, но сразу проснулся, замахал привычным жестом правой рукою, благословляя патриарха и, в свою очередь, принимая от него благословение. Все поднялись, чтобы разойтись. В эту минуту в дверь ризницы трижды постучали. Вошел диакон и после поклона доложил:
– Его милость логофет-дром просит разрешения предстать пред очи святейшего царского величества.
Аркадий дал знак. Диакон распахнул дверь, впуская логофета, исполняющего обязанности министра иностранных дел и путей сообщения при ромэйском дворе. Все заняли прежние места, удивленные, даже встревоженные неожиданным появлением верховного сановника. Очевидно, слишком важная причина привела его сюда в такое необычное время. Добрые или дурные вести несет он?
Аркадий, трусливый, слабонервный, изнеженный до болезненности, даже побледнел. Колени его слегка дрожали, но августейший сумел скрыть волнение и ответил обычным величавым поклоном на почтительнейший привет и земной поклон вошедшего сановника.
– Какие вести приносит мне твоя честь, – говори! – задал вопрос Аркадий, приглашая логофета приблизиться. В то же время юноша заметил у порога рослого воина, покрытого пылью и грязью, державшего что-то большое, вроде чемодана или кожаного мешка.
Не дав начать логофету, Аркадий живо спросил:
– Гонец от его царского величества? Пусть войдет скорее.
И юноша едва сдержал невольный порыв: встать навстречу гонцу, что совсем не подобает августу.
Гонец уже лежал ниц у ног его, опустив рядом ношу. По знаку Аркадия он поднялся, проговорил:
– От могущественнейшего и святейшего царственного величества – императора Феодосия тебе, государь и повелитель, в собственные руки.
Исполняя обычай, Аркадий коснулся пальцами печати кесаря, висящей на завязках мешка.
Воин, отдав последний земной поклон, удалился, пятясь спиною к двери.
Диакон уже подал логофету-дрому золотые ножницы, которыми тот снял наружную печать, раскрыл кожаный мешок, из него достал второй, бархатный, тоже за печатью, а оттуда добыл еще третий, из пурпурного шелка, за тремя печатями. Этот сравнительно небольшой мешочек логофет положил перед Аркадием. Юноша своею рукою срезал три знакомые печати, висящие на толстых золотых шнурках, и слегка передвинул мешок к логофету.
Из шелковой оболочки сановник достал четыре свитка за печатями Феодосия, как скреплялись только особенно важные бумаги. На первом свитке стояло: «Сыну моему, Аркадию». Этот свиток вскрыл юноша, быстро развернул, пробежал, снова свернул и, довольный, повеселевший, объявил:
– Закончены главнейшие заботы о Западной империи у божественного августа. Передовые победоносные легионы уже возвращаются к нам. Рассеяны последние враги закона и порядка в мировой империи нашей. Из Медиолана августейший морем прибудет скоро домой. Готовьте встречу. Привет тебе шлет кесарь, преосвященнейший патриарх Нектарий. И тебе, преосвященный Феофил. Декрет, составленный тобою об исповедании, – одобрен, подписан. Он здесь. Остальные два – о новых налогах и о монете – логофет внесет в наш совет и опубликует. Декрет о вере можно огласить немедля. Слушайте, отцы почтенные.
Логофет, уже успевший вскрыть три остальных свертка, взял один из них и громко прочел:
– «В 389 году от рождения Господа нашего Иисуса Христа, месяца януария день первый. Всем народам и странам Восточной, Ромэйской, и Западной Римской империи император-август Феодосий Первый, император-август Валентиниан сим оглашаем наше божественное повеление.
Подобно Господу Богу, который равно о всех печется и для всех имеет одинаковые весы, цари должны наблюдать полную справедливость и равенство в отношении ко всем подданным и о всех одинаково заботиться. Цари – первые защитники закона, дарующие равное благо всем людям.
А так ли есть теперь? И в земной, и в загробной жизни люди, исповедующие истинную веру в пределах наших земель и царств, имеют выгоду и преимущество перед темными, заблудшими душами язычников, чтущих мертвые идолы, а не единого Бога Живого, и Сына, и Духа Святого, слитных с Отцом.
Нам придется отвечать перед Престолом Судии Предвечного за эти погибшие души. И мы решили открыть путь спасения для всех, кто подвластен нам, кого пасем мы жезлом Моисея и Крестом Честным иерусалимским благословляем. А посему надлежит, чтобы было едино стадо и единый Пастырь. Отнять надо силу у хитрых жрецов идольских, соблазняющих темных, доверчивых людей не ради веры, но ради мерзкого стяжания.
Надо устрашить злых и лукавых, ободрить колеблемых и сомневающихся. Вырвать мы порешили души людские из когтей диавола, открыть для них дорогу к вере на земле, к райским сеням на небесах.
А посему повелеваем отныне прекратить всякое почитание идолов, не только явное, но и тайное, в домах и у очагов своих. Люди, объявляющие себя жрецами идольскими, караются сурово, вплоть до смертной казни. Исповедующие язычество, творящие жертвы, хотя бы и тайные, – подлежат заточению и ссылке, подвергаются принудительным работам, как гласит закон о лицах, нарушающих божественную волю нашу. Все имущество у них отбирается.
Знаем, многие скорби возникнуть могут на первое время от сего нашего повеления. Но сам Христос сказал, что Царствие Божие восхищается лишь большими усилиями и достигается многими скорбями. Зато награда потерпевшим будет велика. Они, хотя бы против воли и насильно, озарятся светом веры истинной, приобщатся жизни вечной, ибо все должны принять крещение святое, стать равными среди равных.
Но, растворяя человеколюбием суровую строгость точного соблюдения закона и воли нашей, повелеваем: все имущества, отнятые у лиц, преступивших настоящий декрет, не обращать на пользу казны нашей, ни на расходы по войску. Половина идет на церкви новые, какие будут открыты для новой паствы Христовой, на обители, где спасаются вдали от мира иноки-отшельники святые. А половина идет в награду верным, которые будут указывать на тайных язычников, нарушителей воли нашей, тем, кто охотнее и раньше прочих добровольно примет истинную веру, равно как и судьям, магистрам, пресвитерам и всем иным лицам, способствующим торжеству веры Христовой, выполняющим то, чего мы требуем в священном этом приказе от подданных наших. Победив врагов внешних и внутренних, надеемся одолеть и врага Господня с его слугами, жрецами Ваала. Аминь.
Дано в Медиолане, в царствования нашего год десятый. Феодосий, кесарь.
В царствования нашего год второй. Валентиниан, кесарь».
Две подписи стояли рядом. Твердая, как сильная воля старого диктатора, подпись Феодосия. Тонкая, неуверенная, не то детская, не то женская – Валентиниана кончалась завитушками, такими же претенциозными и нелепыми, каким был юный император римский.
– Прекрасно изложено! – прошамкал елейным голосом Нектарий, давно знакомый с текстом декрета.
– Сильно и убедительно! Воля кесаря ясна и будет исполнена мною и всеми, кому надлежит, – подтвердил Кинегий, принимая свиток и целуя его почтительно там, где была собственноручная подпись цезарей.
– Весьма вразумительно и вдохновенно даже писано! – похвалил умный царедворец, логофет, забирая мешок с остальными свитками.
Склоняясь почтительно перед Аркадием, оба епископа присоединили свой голос к общему хору, восхваляя лицемерный декрет, полный словами любви и милосердия, несущий гибель, смерть десяткам тысяч людей. Молчал один Феофил, но лицо его сияло авторской гордостью. Все знали, что им написан проект декрета и послан Феодосию. Но хвалить прямо автора при сыне кесаря нельзя было.
Это еще успеется…
Снова заговорил Аркадий, когда смолкли похвалы:
– Декрет можно огласить в это воскресенье, когда большой торг идет в столице. Сразу местные и пришлые люди узнают волю божественного кесаря. А во все провинции – разослать, как обычно.
Кинегий молча склонился. Феофил, обращаясь к Аркадию, объявил:
– Если твое величество дозволит… Я еду в Александрию через три дня и повезу списки декрета с собою.
– Делай как хочешь, отец патриарх, – соизволил юный государь, приняв еще более надменный, величественный вид, словно озаренный удачею и мощью отца. И медленно удалился из ризницы, сопровождаемый логофетом и Кинегием.
Нектарий последовал за ним, поддерживаемый двумя молодыми диаконами, ожидавшими для этого за дверью.
Феофил дал знак. Исидор и Кирилл прошли вперед. Патриарх задержался немного и, поманив главного диакона этой дворцовой церкви, быстро, негромко кинул:
– Нынче приходи, после вечерен!
И вышел за всеми, провожаемый поклонами диакона.
Глава 2. Пастырь добрый
Целыми месяцами и не один раз в год патриарх Александрийский живет в столице, покидая свой диоцез. Особый дом снял он для себя поэтому, недалеко от дворца, просторный, удобный, с виноградником и садом, с полуоткрытой террасою на восток, откуда видна чудная картина Золотого Рога, дальних гор и пролива Боспорского.
Солнце уже садилось. Длинные тени легли, сливая очертания и краски, навевая смутные желания, неясные думы, легкую грусть у каждого, кто заглядится в эту пору на широкую панораму царственного города, чудной природы, обрамляющей дворцы и последние лачуги Константинополя.
Но природа ничего не говорит, ничем не привлекает взоров Феофила и двух епископов, Исидора и Кирилла, беседующих на террасе, благо вечер какой-то словно весенний выдался нынче.
Четвертый был тут еще собеседник, очень пожилой, но бодрый инок, с прямым, сухим станом аскета, красивый, не глядя на годы, с выпуклым, высоким лбом поэта-мыслителя. Седая грива волос пышно выбивалась из-под скуфьи, причудливо обрамляя вдохновенное лицо человека, способного переживать видения наяву и загадочные, мистические восторги. Но болезненного или неуверенного ничего не было ни в лице, ни в движениях инока. Только какая-то напряженная, постоянная мысль горела в больших серых глазах, упорная воля читалась в складке его красиво очерченных, плотно сжатых губ.
Стоя у балюстрады террасы, инок что-то горячо, почти властно говорил, обращаясь исключительно к Феофилу, слушающему очень внимательно. И вдруг косой луч заката, упавший слева из-за дома на вершины кипарисов, привлек его внимание. Следя за лучом, инок перевел взгляд направо, на картину берега и Золотого Рога. Сразу, оборвав речь, он залюбовался, замолк, устремив глаза вдаль, весь застывший, с посинелым лицом. Левая рука задергалась, задрожала как-то, словно в легком припадке эпилепсии.
Собеседники, очевидно зная хорошо инока, молчали и ждали. Через несколько мгновений, легким движением головы словно сбрасывая с себя что-то, инок обернулся к Феофилу и продолжал с того самого слова, на котором остановился. Лицо приняло прежний вид, рука спокойно повисла вдоль тела.
– …это самое главное, самое важное. Начать надо с этого, прежде всего! – чеканил инок, как будто желая врубить каждое слово в грудь слушателям. – В пепел надо обратить, от первого до последнего, самые лучшие, прекрасные и вдохновенные вымыслы язычников-поэтов, мыслителей, риторов и особенно философов, хитро сбивающих с истинного пути умы и души людские. В пепел все обратить и пепел тот развеять по ветру! Чтобы из пепла кто не вытащил старых заблуждений, чтобы не зашелестели оттуда лукавые соблазны, чарующие образы, хитрые измышления диавола, врага мира.
– А… лечебные трактаты?! И, скажем, научные труды – хотя бы Аристотеля, столь много знавшего? – осторожно спросил Феофил, пользуясь передышкою инока.
– Все в огонь! – почти выкрикнул инок, властно протянув руку к патриарху, властному князю церкви. – Кого врачевали по этим трактатам? Какая сила открывала жрецам врачующим их тайны? Владык пресыщенных облегчали врачи. А жалкие рабы, такие же люди, гнили и гибли без помощи! Кровью людскою, взятою у бесправных рабов, египетские и эллинские врачи нередко лечили недуги господ. Потому что не Бог, а враг Господа и темные силы учили тех врачей. В огонь все это! Господь даст новое знание детям своим, истинно верующим в него. Разве не слюною и пылью придорожною возвращал зрение слепым Назареянин? Не простым наложением рук, словом единым подымал с одра болезней и даже со смертного ложа?! Что перед силой Господа Бога жалкое познание людское? Вера – вот главное. Гордыня в учении земном. В ком воплотился Господь, как то предназначено от века? Не в царском виде, не в образе вождя-победителя. В сыне плотника из Назарета, из последнего города земли, воссияло Откровение Божие во плоти и в слове. Славный ученый – Павел-Савл из Тарса, – разве превосходит он силою веры и чудес своих простого рыбаря Петра? Нет. Петр – превыше! К чему же ложная наука, диавольская?.. А все эти творения, именуемые бессмертными? «Илиада», «Одиссея», трагедии Еврипидовы, поэмы, описание Александровых подвигов. Языческие тайны жрецов-египтян, которые полагают, что могут творить вещи так же, как силы природы, Богом управляемой? Золото учат творить химики мемфисские. Соблазн и грех. Без того много зла творится во имя злата презренного. Все в огонь! Не будет соблазна – и люди станут читать Писание. Поймут красу и значение новой вести благой, святого Евангелия. А то… подумать мерзко! Знаете писание карфагенца Апулея, под названием «Осел Золотой», всему миру сейчас известное?
– Знаем, брат Аполлинарий, конечно, знаем! – сдержанно улыбаясь, ответил Феофил. – Хорошо составлено. Образно и весело. Хотя немножко и того… соблазнительно порою изложено.
– Мерзость и пакость! А ты его знаешь, авва, ты читал? И все знают, все читают! Там игры бесовские. Позорные деяния юношей и девиц, старых мужей и жен, как и лиц зрелого возраста. Таинства храмовые поганые описаны так, что влечет людей приобщиться и творить сладкий грех невозбранно… Змий-искуситель не напрасно первую гибель первых людей устроил при помощи этой скверны. И Каин, плод греха, родил убийство и грех в мире. С корнем вырвать, сжечь надо такие писания. Все в огонь! Тогда дадим иную пищу умам и душам. Вот я уже почти все Евангелие и Старый Завет изложил в тех же прекрасных формах. Стихами полнозвучными… И трагедии есть, и комедии… и поэмы о царях, о патриархах. О грехопадении и великом искуплении греха кровью Спасителя Христа. Больше 60 сочинений. А эти божественные книги мои мало кто читает. Влечет юных и старых к прелести языческой. В огонь все, тогда оздоровится мир и процветет христианство!
Пророческим, победоносным вызовом закончил горячую речь Аполлинарий, ученый епископ Лаодикийский, и умолк, ожидая с горящими глазами, что скажет патриарх.
Феофил молчал. Хотя он очень сочувственно слушал инока, но вопрос слишком важен. Сразу решить нельзя. Только после значительного молчания патриарх заговорил:
– Сжечь Александрийскую библиотеку? Ты прав. Это – не только удар по религии языческой, по жреческим обманам. Это – крушение всего древнего просвещенного мира эллинского и римского, вместе с египетской мудростью. Храмы разрушенные можно снова отстроить. Задавленный культ – можно восстановить. Дело немудреное. Нашлось бы немного умных, хитрых людей и побольше дураков. Но порушить то, что собиралось веками? Чего повторить нельзя? Это значит – загасить навсегда огонь, пылавший тысячи лет в умах и душах лучших людей своего времени. Об этом надо подумать. Откровение – откровением. Но немало полезного, истинного было и есть в науке языческой, не говоря там о вымыслах поэтического творчества…
– Как? Ты, авва, за них, за поклонников Ваала? Ты?!
– Погоди. Я слушал. Слушай меня. Я только обсуждаю, не решаю. И не совсем согласен я с твоим словом о чудесах, об исцелениях. Ты не жил в Египте, не видал индийских магов. Но я видел. Многое делают они внушением, что очень на чудо походит. Да вспомни то же состязание Моисея со жрецами египетскими. В книгах наших священных написано. Значит, чудо – чудом, внушение – внушением. А наука – наукою.
– Значит, ты хочешь, авва, оставить научные писания?
– Ничего я не хочу! Я размышляю. Слушай. Были рабы и господа. Рабов было много. Благ земных они не имели. И врачи лечили господ, получая выгоды от этого. А раб умирал – другой становился на смену. В Спарте просто охотились на илотов, когда те размножились слишком. Чего же их было лечить? Теперь – иное. Христос заповедал любить рабов. Даже говорил об их освобождении не только на небе, но и на земле. Пока выполнить высокий завет Назареянина нельзя. Рабов крепостных – и то немного. Их не хватает. Ими дорожить, их лечить надо. Значит, даже языческое врачевание тут нам пригодиться может…
– Ты, значит, за идолов вступаешься?.. Значит, ты…
– Стой, я не кончил! Если бы можно было спокойно выбрать из того моря свитков и хартий, из папирусов и пергаментов, какие хранятся в библиотеке Александрии?.. Но где же там! Догадаются жрецы, уберут и остальное. Да и не мы будем жечь. Кинется народ. Сокрушит все: храмы, алтари, идолов! Не будет пощады и писаниям, таким драгоценным для язычников. Воля Божия! И тогда уж!.. Вот здесь ты прав. Когда не будет выбора, многие примутся изучать наши вдохновенные Божественные книги Ветхого и Нового Завета. А твои прекрасные гекзаметры будут тогда нарасхват. Ни одного книгохранилища не окажется без них. Мысль верная и полезная для истинной веры…
– Так, значит?..
– Ничего не значит, – уклонился от немедленного прямого ответа Феофил. – Все будет, как пожелает Господь. А ты, брат Аполлинарий, поезжай в Лаодикию, в свою епископию, и жди спокойно. Бог наставит и просветит рабов Своих…
– Он просветит, я верю… и мраком окутается языческая скверна, заразу вносившая в души многие века. И воссияет свет Христов отныне и навеки. Аминь.
Тройной «аминь» служил ему ответом.
Облобызавшись со всеми, Аполлинарий надел свой клобук, мантию, сброшенную на кресло, и прошел к выходу через приемные покои. Исидор, по знаку хозяина, провожал почетного гостя.
Сейчас, освобожденный от думы, с какою изувер шел к патриарху, Аполлинарий в первый раз заметил восточную сказочную роскошь, с какою убраны все обширные покои жилища Феофила. Золотые и серебряные сосуды, украшенные самоцветами; дорогие ткани, подушки, расшитые золотом, ковры, в которых тонула нога, – все это напоминало скорее гинекей ромэйской императрицы, чем кельи патриарха, монаха по чину своему.
Стены и потолки, затянутые дорогими тканями, ласкали глаз. Фонтан журчал в одном покое. Райские птицы в золоченой клетке порхали в другом, более обширном зале. Двери из эбена и других редких пород дерева были украшены мозаикой, висели на чеканных, узорчатых петлях из бронзы и серебра.
«Роскошь и прелесть эллинская!» – брезгливо подумал строгий аскет. И даже усумнился в обещании, данном ему патриархом.
«А что, если сумеют язычники подкупить владыку всеми прелестями и дарами мира? И предаст он веру? Не сожжет храма… и писаний лукавых?»
Эта мысль до того ясно вырезалась в уме, что он даже хотел поделиться ею с Исидором. Но тот шел с таким смиренным видом; был известен как один из вернейших пособников и креатур патриарха. Что мог он сказать?
Молча идет дальше Аполлинарий. А мысль работает, как будто читает скрытые письмена. И думает он снова:
«Нет, не обманет, не предаст! Власть любит Феофил больше, чем блага земные и радости жизни. Исполнит, что обещал!»
И, облегченно вздохнув, приветливо простился фанатик-аскет с приниженно-ласковым, сладеньким Исидором, которого терпеть не мог всегда.
Вернувшись на террасу, Исидор сел скромно поодаль и слушал теперь, что говорил патриарх своему племяннику и воспитаннику, Кириллу, рослому, лет 26, благообразному человеку, с вьющейся густою бородой цвета спелого колоса. Чувственные губы и толстый мясистый нос выдавали грубую любострастную природу молодого епископа. Но он умел, когда считал нужным, принять строгий вид, подобающий наставнику чистой веры.
Сейчас, скрестив по-монашески руки на груди, склонив слегка голову вперед, умный лицемер ловил на лету, казалось, слова патриарха, которые тот отрывисто кидал, одно за другим:
– Ты слышал, я еду в день солнца[3]. Тебя оставляю здесь вместо себя. Будешь видеться с Нектарием и другими, с кем надо. Я скажу, оставлю тебе список. К тебе тут будут приходить… знаешь уж, кто и откуда? Записывай все, что услышишь и узнаешь. И каждую неделю шли мне гонца. Или передавай с корабельщиками. Они часто гонят суда в Александрию отсюда. От меня получать будешь послания… и суммы разные… и дары, большие, малые… Смотря как. Что – сам передашь, за чем иным – к тебе люди явятся, чтобы поскромнее было. Помни, левая ведать не должна, что творит правая рука. Да ты уж не первый раз остаешься тут. А в епископию твою Пентполийскую я уж сам буду заглядывать почаще без тебя, чтобы порядок был… чтобы пресвитеры не ленились очень… чтобы стадо не разбрелось без пастыря. А, вот он! – патриарх кивнул на Исидора. – Он должен тоже разнюхивать, что в патриарших палатах творится. И тебе сообщать… Так я, даже не живя в столице, буду знать, какие ветры здесь дуют.
– Не премину, святой отец. Все исполню.
– Знаю, ты надежный друг… и опасен можешь быть врагам своим. Ну да что поделаешь? Еще не достигли мы на земле Царствия Божия. Пока – в империи живем в Ромэйской. Не мимо говорится: в мире жить – мирское творить.
– Есть иные, уходят от мира… спасаются в пустыне, в лишениях, в нищете…
– Это кто же? Не фиваидские ли иноки, анахореты обнаглевшие, которые так кичатся своей ненужной святостью, что и власти над собой никакой не признают? Епископство отрицают! По-ихнему, они ближе всех к Богу стоят. Еретики прокаженные. Особенно Четыре Брата Долгих, как называют они своих главарей строптивых… Беда, что нужны они мне еще будут… вскорости. А то бы с них и начать, с гнезда еретического. Ни обрядов, ни благолепия. Дикая вера, полуязыческая. Не церковники они. Своеверы заблудшие.
– Не спорю, святой отец. Но и то помнить надо, скитники эти много душ привлекли к истинной вере Христовой. Раньше только при храме идола Сираписа были такие отшельники, вроде индийских самомучеников. И лились приношения в капище поганое. А как появились христианские схимники, аскеты, молчальники, сразу и повалил народ к нам. Святость явная влечет сердца простые. Польза и выгода великая есть для церкви от фиваидских, нитрийских и от иных отшельников!
– Да я и не спорю. И они нужны были, когда только собиралась, строилась новая церковь, накопляла силу для борьбы со старым миром. Когда ждать надо было каждую лепту, каждый жалкий обол от доброхотного даятеля. А теперь? Или не слышал нынче? Не знаешь? Наша вера единая, правая во всей мировой империи… наша воля и власть! Только по нашей вере и жить, и умереть можно, и душу спасти, уберечь тело от пыток и огня. Забыл, какой декрет через три дня огласится в столице и повсюду? Его я с собою повезу в наши края. Владычною, хозяйскою рукою могу теперь черпать везде, где есть что зачерпнуть. На что ж мне эти строптивые бормотальщики молитвы Господней? Эти изуверы, иноки фиваидские? Только лишний беспорядок творят, нарушают церковное благолепие сим диким видом и воплями! Иерархов не признают! Пускай вот они мне работку одну тут выполнят грязную. А там я их живо уберу, увидишь!
– Аминь! Да сбудется! Ты лучше нас знаешь, что нужно для укрепления и прославления церкви Христовой, отец патриарх.
– Ну так молчи и слушай, что тебе говорят. Не умничай слишком. Перемудрить можешь. А тут и до греха недалеко. Смирение – высшая добродетель христиан простых и пастырей, пока их Господь не вознесет и не поставит иерархами над тысячами и тьмами душ людских, яко пастырей добрых. Будешь патриархом – тогда умствуй, как хочешь. Твоя воля. А пока – повинуйся тем, кто выше тебя. Ну, ступайте с Богом. Мне молиться пора.
Епископы ушли, но не в молельню свою прошел патриарх. Во внутреннем дворе дома был спуск в обширные, глубокие подвалы, где раньше хранились запасы вина, где устроены были кладовые и даже тайники на случай разбойничьего нападения или бунта черни, как это нередко случалось в столице.
Сюда могли скрыться хозяева дома и взять с собою все самое ценное, пока не утихнет мятеж или отражены будут враги.
Странный вид имел один из таких тайников, куда спустился Феофил, тщательно закрывая за собою проходы, явные и замаскированные, которые вели в этот высокий, со сводами, обширный подвал без окон.
По стенам шли темные тяжелые полки, уставленные колбами, медными и стеклянными сосудами, какие употреблялись только для алхимических опытов уже с давних времен. Стояли амфоры, кувшины и флаконы с разноцветными жидкостями, ящики и ларцы с минералами, кусками руды и порошками. В углу, в высоком шкапу, стояли особого вида широкие, низкие большие кадушки, наполненные свитками из папируса и пергамента; древние фолианты в досках из дерева и металла лежали тут же на длинном столе и свалены были в беспорядке просто на полу.
Целый скелет скалил зубы в неглубокой нише в стене. Чучело крокодила, свисая с потолка, вместе с чучелом филина дополняли обстановку этой тайной лаборатории. В дальнем углу против входа пылала большая печь, труба которой, подымаясь по стене, соединялась наверху с дымоходом кухонной печи, давая сильную тягу. Два тигля были вмазаны в печь. Перегонный куб блестел тут же своею начищенною медью. Реторты, фильтры, ступки, стеклянные чаши стояли на простом дубовом столе. Весы большие темнели тут же. Несколько малых весов лежало среди остальной утвари на столе.
На особом высоком табурете, вроде аналоя, лежала огромная книга. Покрытые загадочными изображениями, цифрами, выкладками, отрывочными наставлениями на греческом языке, пожелтелые листы пергамента с одной стороны были скреплены и покрывались двумя деревянными досками, украшенными резьбою. Пятиконечная звезда, печать Соломона, выделялась посреди верхней доски. Кругом шли символические изображения 12 знаков зодиака. Сверху – солнце спускало лучи на все, изображенное внизу. А под средним изображением – змея, укусившая свой хвост, символ вечности, завершала чародейный рисунок.
Между солнцем и средним рисунком четко было вырезано название волшебной книги – Tabula Smaragdina (смарагдовые, т. е. изумрудные, таблицы). И тут же затейливыми завитками выведено было имя составителя: Hermes Trismegistos – Гермес Трижды величайший.
Эта книга, хранящая, как думали, секрет создания золота из простых металлов, была составлена 200 лет назад ученым пресвитером Германом, успевшим выведать от египетских жрецов их великую тайну.
Инок лет 60, Мина из Пентаполиса, с юности преданный тайным наукам, уже больше 10 лет при помощи Феофила неустанно старался разгадать скрытый смысл чертежей и формул «Изумрудных таблиц», при помощи которых можно не только делать золото, но и получить философский камень, раствор которого дает вечную молодость и здоровье.
Своим здоровьем и молодостью заплатил упорный искатель за долгие годы бесплодных трудов. Сгорбился высокий стан, дрожали тонкие ноги, тряслись руки, обожженные разными кислотами. Пожелтелое, обрюзглое лицо, носящее следы бессонных ночей и дней, проведенных без солнечного света и чистого воздуха, – вот все, чего достиг своими поисками легковерный инок. Но он любил свою работу. Ему приятно было сознавать, что даже такие властные, ученые, практически-умные люди, как Феофил, смотрят на него с особым уважением, ждут великих открытий, богатых прибылей.
Феофил берег, холил своего алхимика, хотя порою нетерпение одолевало жадного человека и он жгучими сарказмами осыпал Мину. Но он быстро овладевал досадою и особым вниманием старался загладить злую вспышку.
– Ну? Много наварил нынче золота? – приветливо кивая в ответ на поклоны Мины, иронически, но не резко кинул вопрос патриарх, всего час назад громивший языческие нечестивые затеи.
– Не нынче… не нынче, авва! День не наступил. Послезавтра, в новорождение предвесенней луны… самое время для решительных действий. Все почти готово. Малости не хватает…
– Чего? Денег? Пару золотых солидесов тебе на кутеж? А? Эх ты, кудесник…
– Мне денег не надо. Всего достаточно в доме господина и отца моего. А золота нужно, ты угадал. Немного, но особенного… Такое есть золото, самородное, что в нем ни атома примеси нет. Ни серебра, никаких иных тел. Его я по цвету и запаху отличить могу. И достать такое золото можно только в храмах египетских. Особенно которые построены в честь О-Сириса либо его подобия, Сираписа Фивского.
– Что же? Если надо, мы и такое золото поищем. Может, найдем. А… на что именно тебе такое понадобилось? Немало у тебя и в кусках, и в растворе моего золота. Я не жалею. Такое – на что?
– Скажу… скажу… Высокий сан твой заменяет посвящение в маги. Открою тебе тайну. Еще великие наставники древности, Левкипп, Лукреций, особенно Демокрит, тысячу лет назад учили, что форма и вещество – только кажущееся нам нечто. А суть – едина и несложна. Атом – имя начала всех начал в мире телесном. О Боге не говорят мудрецы эти. Еще не были просвещены откровением они. И сам несравненный, никем не превзойденный мудрец, испытатель природы и мысли человеческой, Аристотелес, тебе известный, близкий всем людям высокого ума и духа… И он учит, что все сложное произошло из простого. Суть природы – едина. Но в течение бесчисленных годов изменялись образы, естественным путем рождались новые виды… и людей, и зверей, и металлов! Золото – высшая форма. Вот берут кусок руды, кидают в пламя. И если есть в руде надлежащее начало, первичный атом золота – руда становится золотом при помощи огня[4]. Такой рождающий, каталитический атом, скажем, «закваска золотая», имеется в чистом, рожденном землею золоте, не извлеченном из руды; как Христос, Спаситель наш, был рожден нерастленной Девой и без пятна греха первородного на Себе. Если найти такое золото… я тебе, авва, пуды его извлеку из старых ободьев колесничных… из чего хочешь!
– Да? Не врешь, лысый выдумщик… баснословец закоренелый?.. Много ты мне сказок говорил. Послушаем еще эту… Пойдем… Погляди, не найдется ли у меня то, что тебе нужно?.. Хоть и ересь злую говоришь ты о творении всего мира. Да уж добро. Пойдем!
Сила убеждения, звучавшая в словах Мины, захватила патриарха; жадность рисовала в глазах груды золота, добытые из черного котла, стоящего на очаге в этом подвале. И он быстро пошел из лаборатории. Старик едва мог поспевать за Феофилом.
Через несколько минут они стояли в другом отделении того же подвала, куда проникли через крепкую, окованную толстым железом дверь, запертую несколькими хитро устроенными замками.
Большая масляная лампа, висящая со свода, довольно хорошо озаряла стены помещения, вдоль которых тоже шли широкие полки. На полках лежали грудами разные священные принадлежности, взятые из древних языческих храмов Египта, разграбленных до этого времени Феофилом. Тут же стояли священные изображения греческих, римских и египетских богов, как и сосуды, тирсы, жезлы и чаши, отлитые из золота, серебра, украшенные самоцветами.
Под полками стояли ларцы и большие сундуки, тоже наполненные чеканными и литыми сосудами, блюдами, жертвенными ножами, все сверкающие белым и желтым отливом дорогих металлов. Старинные золотые сикели, персидские, арабские томаны, греческие монеты чуть ли не аргивской эпохи… новые сравнительно золотые римские и византийские солиды… все это блестело в кожаных мешках или просто было насыпано в прочные ларцы.
Даже у Мины загорелись усталые, но еще зоркие глаза.
– Авва! Такое царское достояние! Казна великая! На что тебе еще мои услуги?.. Неужели не довольна душа твоя?
– Глупец старый… слепой крот. Душа моя?.. душа моя? Что ты можешь понимать в моей душе? Зачем поминаешь о ней, где не надо? Душу я надеюсь Господу предать, когда час настанет. А пока – жить надо. Видел, как я здесь живу, и того пышнее – в Александрии. Не ради себя, чтобы людям понятие дать о величии Господа, коего последние слуги так пышно жить могут. А потом… знаешь, чего мне стоит жить в миру да в ладу со здешними византийскими пиявками? Все тут, от привратника-адмиссионала до родни кесаря, только в руки и глядят, когда во дворец явишься, о чем-либо просишь… Эти продажные души хватают и поглощают груды золота быстрей и жаднее, чем свиньи пожирают извержения человеческие… Не надолго хватит мне этого запаса, если не подбавлять почаще. А ты, глупец, спрашиваешь. Ищи, что тебе тут надо. Да поскорее! Мне время уже. Гостей я жду высоких нынче. Вечерни отошли, всенощное бдение скоро. Мне пора. Ищи скорее.
Но Мина уже и так рылся на полках, пересыпал в руках золотые монеты, глядел на свет, нюхал. И вдруг, ухватив небольшую статуэтку египетского Горуса, бога света, отлитую из какого-то особенного, красновато-желтого, очень мягкого золота, даже весь задрожал от волнения:
– Вот, вот оно, первозданное, самородное золото! Не плавленное в горне, не очищенное никем, кроме самой природы. Вот, сомненья быть не может!
– Ну, нашел, так и бери, неси… делай, что надо! Поживее только. Знаю, ты меня обмануть не думаешь. Вижу, веришь ты в свою кухню бесовскую. Да самого тебя не путает ли лукавый? Не сбирается ли осмеять тебя, да и меня заодно?
– Что ты, отче и господине? Откуда мысли такие затемняют твой светлый разум? Первый ли раз варю я золото? И выходило ведь. Вспомни!
– Помню. Вышло нечто сходное. А как предложил я слитки персидским да арабским купцам за благовония – они смеяться стали. Говорят: «Похоже на золото, да не совсем!» И вес легче, и серебра больше, чем надо, при испытании нашли они в твоем слитке. Ненастоящее, выходит. Пришлось отдать сюда, на монетный двор; мне и начеканили солидесов да номизм… Ничего, сошли за настоящие. Александрийские, свои купцы не посмели не принять, хоть и качали головою.
И Феофил при воспоминании о том, с каким видом купцы принимали фальшивые золотые, даже расхохотался. Но сразу сдержался, властно кивнул Мине:
– Идем скорее! Там, гляди, уже ждут меня.
И Феофил пропустил вперед алхимика. Как любимое дитя, прижав к груди статуэтку, поспешил Мина в свою тайную мастерскую.
Патриарх не ошибся. Во внутреннем дворе, у двери, ведущей в подвалы, стоял диакон, секретарь Феофила, и доложил, едва тот появился:
– Ее царская милость, августейшая кирия Евдоксия изволила пожаловать только что и ждет святейшего отца патриарха.
– Иду, иду. А ты не забыл, что я приказал на этот случай?
– Все исполнено, святейший отец патриарх.
С непривычной поспешностью, звонко постукивая железом своего посоха по каменным плитам двора и коридоров, зашагал Феофил в дом.
Немолодая, но еще красивая Евдоксия, племянница императора, славилась в столице набожностью, усердием и обрядами, молитвенным пылом, с каким посещала не только дворцовые храмы, но и самые отдаленные святыни города и окрестностей. Правда, при дворе, и в народе особенно, злые языки отмечали, что чаще всего бывает принцесса там, где покрасивее священник или водитель клира. Что не брезгает она и мирянами, какие приглянутся снисходительной августейшей богомолке во время службы в храме.
Но сама Евдоксия слишком пренебрегала тем, что о ней говорят. А на осторожные намеки дяди-императора и семейных обычно отвечала, подняв глаза к небу:
– И Христос, Спаситель наш, был оклеветан перед глазами царя… Что же мне уж обижаться? Стерплю уж. Карайте, хулите! Потерпевший здесь вознагражден будет на небесах. О ком не плетут всяких небылиц, особенно про семью кесаря? Мой Бог – Бог милосердия и любви, и я служу Ему.
После этого укоры умолкали на время, пока новые скандальные слухи не переполняли терпения императорской семьи. Но Феодосий, сам далеко не безгрешный, не думал по-настоящему карать принцессу или даже указать ей, что только с ее именем связаны всякие позорящие слухи. И, пользуясь почти полной свободой, Евдоксия по-прежнему служила своему Богу милосердия и любви, как только могла.
В уютном покое с плещущим фонтаном, утопая в подушках широкого восточного дивана, поджав полные ноги, полулежала Евдоксия в ожидании хозяина, из прозрачной чашечки китайского фарфора прихлебывая ароматный кофе. Низкий, инкрустированный перламутром и золотом столик перед софою был уставлен шербетами, вареньем, изысканными сладостями, плодами свежими и обсахаренными. Хрустальный графин с ледяной водой на старинном чеканном блюде чудной работы особенно украшал стол, отражая разноцветными искрами свет ламп на своих затейливых гранях.
– Мой привет и благословение во имя Отца и Сына и Духа блаженнейшей кирие Евдоксии! Прости, что не у порога жилища моего встречаю высокую гостью.
И, благословляя принцессу, патриарх дал ей коснуться губами апостольского перстня на большом пальце правой руки, сам касаясь поцелуем ее волос.
– Мне ждать почти не пришлось, святой отец, – грудным, почти мужским голосом ответила ему гостья, привставая для принятия благословения, и снова опустилась в подушки.
Пожилая дворцовая прислужница, сопровождающая постоянно принцессу, как требует закон двора, стояла у дверей и скрылась совершенно, как только вошел Феофил. Но Евдоксия и ждать не стала, властно протянула руки, привлекла, усадила рядом с собою патриарха, быстро заговорила:
– Через три дня уезжаешь? И мне ничего раньше не сказал?..
– Если душа души моей знает о моем отъезде, ей должны были сказать и причину.
– Декрет? Вздор. Не опоздают твои язычники отдать свои сокровища и принять, на выбор, христианство или смерть. Не уезжай так скоро.
– Душа души моей! Если о декрете узнают в Александрии раньше, чем я там появлюсь, – и десятой доли сокровищ не найду я в тайниках языческих. Все успеют убрать жрецы подальше… если уже не пронюхали обо всем!.. Как и у меня, у них тоже есть глаза и уши здесь, в столице, и в Медиолане, в ставке императора, в свите его. Мало ли явных и тайных друзей веры идольской еще существует у нас? Я должен спешить. Но я скоро вернусь.
– Должен? Ну что же. Вернешься?.. Только поскорее. А пока…
Долгим, истомным поцелуем закончила речь свою перезрелая, но не уставшая от жизни красавица.
Прошло больше часа. Через сад, через террасу появилась и теперь тем же путем должна отбыть высокая гостья, чтобы меньше толков было в квартале, где стоит дом Феофила. Несколько дюжих эфиопов-рабов с факелами стояло у богатых носилок. Тут же, позванивая серебряными колокольчиками, стоят два мула в богатой сбруе, навьюченные каждый двумя ящиками, обтянутыми кожей буйвола.
Готовясь ступить на спину лежащего на земле раба, чтобы войти в носилки, Евдоксия заметила мулов и с удивлением спросила у провожающего ее патриарха:
– Это что за прибавление к моей свите?
– Пустое дело, блаженнейшая кирия. Ты же едешь на всенощное бдение ко Влахернской Богородице, везешь свои дары. А это – мой дар тебе, августейшая, и Пречистой Богоматери. Сама уж подели, как пожелаешь. Я буду в отлучке, пусть дары скудные поминают тебе о богомольце неустанном за твое здоровье, за благополучие святейшей семьи кесаря. А ты уж не забудь, о чем я просил.
– Где уж забыть такого щедрого и умного просителя?! Все будет, как говорил святейший отец. Кирилл твой станет получать от меня вести, когда надо. Будь счастлив. Доброго пути. Мы, надеюсь, увидимся еще?
– Конечно. Я буду во дворце завтра же, дщерь моя возлюбленная во Христе!
И в последний раз он осенил благословением свою «дщерь», которой успел перед этим доказать всю свою пламенную «отеческую» любовь.
К полуночи близилось время, а Феофил еще не ложился, хотя завтра с рассветом придется ему встать для обычного выезда во дворец, к Аркадию.
Мерно, тяжело шагая по мягкому ковру опочивальни, он прислушивался, словно ожидал кого-то. Едва раздался осторожный стук в дверь, как патриарх, обернувшись, крикнул:
– Входи! Зови! Впусти скорее!
Темная фигура прислужника мелькнула за дверью, и он, без обычного доклада, впустил в спальню позднего гостя, девтэра, евнуха Виринея, одного из важнейших сановников византийского двора.
Выше его стоял только паппий дворцовый, тоже евнух, Синезий. Он, как и его помощник, или девтэр, был главным ключарем дворцовым, раскрывал все двери утром и закрывал их на ночь. Оба имели право доступа в гинекеи, на женскую половину царицы. И только евнухи могли занимать эти высокие посты. Власть их была почти одинакова, они чередовались по дням. И девтэр, т. е. второй ключарь, ни пышным одеянием, ни почетом не отличался от первого, паппия, как его называли. Если умирал паппий или бывал сослан, казнен – его место занимал девтэр с именем паппия, принимая себе на помощь нового девтэра.
Вся дворцовая челядь была в их распоряжении – чесальщики и чесальщицы, банщики и банщицы. И понятно, что эти тысячи острых, зорких глаз, замечающих малейшую тучку, легчайшую тень и свет на дворцовом горизонте, все свои вести, правдивые и вымышленные, верные и клеветнические порою, несли паппию и девтэру. А эти оба умели хорошо пользоваться таким богатым грузом. Не брезгали они за хорошую цену часть своих сведений передавать тем, кому это было необходимо.
Вот почему с таким нетерпением ждал патриарх Александрийский своего давнишнего друга, евнуха, девтэра Ромэйской империи.
– Не гневись, авва святейший, раньше не мог, – после обычного благословения и приветов извинился Вириней. – Нынче мой черед запирать запоры во дворце, проверять ночные посты служителей. Освободился и поспешил на зов владыки. Готов служить.
– Благодарю, почтен такою ласкою первейшего слуги и хранителя тайн кесаря. Но раньше вот сядем. Ты, конечно, не успел потрапезовать на ночь? А я тебя ждал. Прошу, отведай моего скромного хлеба-соли, высокопочитаемый.
Они уселись посреди покоя, за круглым столом, уставленным блюдами, чашами, амфорами и стеклянными флягами с хиосским, кипрским, фалернским и испанским лучшим вином. Сосуды, очевидно, много десятков лет хранились в глубоких погребах, и с них умышленно не сняли налета веков, подавая на этот роскошно убранный, изобильно уставленный редкими яствами, «скромный» стол Феофила.
Дружно, весело беседуя о новостях дворцовых, оба больше пили, чем ели.
– На сон грядущий вредно обременять желудок! – внушительно заметил Вириней, отклоняя угощение радушного хозяина. – Но влага, особенно такая приятная, дарит глубокий, отрадный сон. А потому…
Он подставил кубок, и густая, рубиновая влага, благоухая, полилась тонкой струей туда, а потом – в горло евнуху. И часто повторялось это, пока приятели хохотали, перебирая сплетни, перемывая косточки всем великим мира, вплоть до самого императора, любившего вино и женщин, как только может их любить старый испанский солдат.
– Да, судьба. Фортуна! Недаром в женском виде ее мыслят люди. Из простых наемников-воинов отец нашего августа достиг высоких степеней, пока не был казнен!.. А сын казненного – и вовсе взлетел над целым миром вместе с орлами Ромэйской империи. Конечно, и при удаче нужен ум. Но – больше удачи, чем ума! – смеясь, язвил заглазно своего господина завистливый холоп и евнух Вириней.
– Верно. Особенно если помянем блаженного патриарха Нектария. В его птичьей головке ум и не ночевал. Там для мозгов и места нет! А вот… глава восточной церкви! Столько лет. И еще сколько просидит?!
– Ну, судя по годам и его дряхлости, не думаю, чтобы долго, – постарался сказать приятное тонкий царедворец, хитрый скопец. – И тогда… у нас будет патриарх, какого лучше не было. А? Правда?
– Это – я, хочешь сказать, высокочтимый? Нет, ошибся. Не о себе я хочу потолковать с тобою нынче. Там, в Александрии, я не только патриарх. С тобой таиться нечего. Вместе дела вершим! Префекты Египта мною ставятся, меня боятся, мне покорны. И церковники, и миряне в моей власти! Не напрасно враги зовут меня «христианским фараоном». Враги всегда лучше друзей знают и ценят человека.
Вириней расхохотался визгливо, по-бабьи.
– Хи-хи-хи! Враги, верно, знают лучше! Они всегда умнее, чем друзья. Хи-хи!
– Так зачем же мне менять черепаху на ящерицу, если даже не на виперу, несущую смерть? Знаешь, ближе к огню – ближе к обжогу. Где много царской милости, там и гнев владыки. А с ним – смерть. Сам ты припомнил: отец нашего августа, военачальник прославленный, озаренный победами, лучший слуга кесарей, – кончил позорной казнью свои дни. Мне хорошо у себя дома. И здесь, в Константинополе, мне тоже хорошо, пока я у вас гостем только…
– Знаю, знаю! Августейшие хозяева навещают дорогого гостя, а хозяйки… те – особенно! Хи-хи-хи! Сегодня тоже была, наверно, августейшая Евдоксия. Проездом на богомолье?.. Хи-хи-хи! Впрочем, молчу, слушаю. Так сам не желаешь занять здесь патриарший престол? Кого же посадить думаешь?.. Тебе, блаженнейший, надо такого, чтобы был в твоих руках как воск перед лучами солнца. Понимаю! Тогда ты – истинный глава церкви восточной, как папа в Риме. А патриарх Константинова града будет для тебя каштаны таскать из огня… да шишки получать, какие валятся часто с высоты кесарского трона? Так ведь?..
– Мудрый друг и брат души моей. От тебя ли укроется самая тайная мысль человеческая?!
– Да! – самодовольно захихикал снова евнух, потирая свой отвислый, жирный подбородок, где торчали редкие, жидкие волоски, не выдерганные в этот день. – Кое-чему научился, 30 лет живя в стенах дворца ромэйского. Так кого же будем ставить в патриархи после Нектария?.. Говори…
– Сам не наметишь ли подходящего, Вириней почтенный? Скажи. Я подтвержу, если угадал.
Скопец вонзился взглядом в глаза приятеля, как бы желая там прочесть затаенную мысль. И вдруг снова раскатился противным, мерзким смешком своим:
– Хи-хи! Да неужели?.. Вот была бы штука. Слизняка этого?.. Тогда верно: его глупая рожа, а твоя власть на патриаршем престоле. Неужели – Исидор?
– Он самый. Угадал, мудрейший из мудрейших. Лучше не найти. На вид – осанист. Благословлять умеет. Глуп, как истукан скифский. И послушен, как овца; не упрямый дурак, как иные бывают.
– Верно! Только… Все знают хорошо это сокровище и светило церкви. Кто за него голос подаст?
– Я… Ты… все те, кто за тебя и за меня. Император согласится. Собор не посмеет спорить. Только помогай. А уж я…
– Знаю, знаю. Всемерно похлопочу! И всех настрою, кто меня слушает. Попробуем. Только жаль, приходится немного подождать, пока эти мощи живые, Нектарием именуемые…
– Придется! И притом еще довольно долгое время. Он на вид только такой. А проживет еще немало, я уж пригляделся. Я знаю, кто скоро умереть может, кто нет. Ну да подождем. Мне пока терпится. За здравие августейшего цезаря и его семью! За твое здравие…
– И за успение блаженное патриарха Нектария! – хихикая, прозвенел рвущийся фальцет евнуха. – Пьем! За августейшую богомолицу Евдоксию особенно…
Медленно, ровно пересыпался золотистый песок в часах, стоящих на особой консоли. Кубки наполнялись, осушались. Евнух, совсем опьянелый, лепетал Феофилу:
– А признайся, отец, хороша богомолица? Я про нее много знаю. Не за молитвою же только ездит она к тебе… да по вечерам… Есть грех, а? Ты, святейший отец, ведом мне как великий муж на дела такие. Слухи есть верные. Скажи, утешь! Я не выдам, знаешь…
– Чего меня выдавать или прятать? Я – не конь краденый. Патриарх Вселенский один только и выше меня зовется. А грехи мои? Не потаю, много грешу… А потом духовнику отношу. Всю груду, разом. Мне опять легко. А он пускай нянчится с ними… если своих нет…
И Феофил тоже расхохотался, раскатился своим властным густым басом, довольный удачным вечером, возбужденный хорошим вином.
Лицо евнуха, еще молодое, красивое, но обрюзглое, слишком ожирелое, с дряблою, пожелтелой кожею, приняло задорно-таинственный вид. Он зашептал:
– Ты не думай, авва. Мы, скопцы, уж тоже не совсем лишены радостей мира… Ты слушай. К своим иереям боюсь на исповедь. Предадут меня врагам, продажные души. Раньше, чем до Бога, – до кесаря донесут мои грехи. А покаяться охота. Знаешь, авва, и мы уже не совсем страстей лишены. А женщинам забавно изведать, как ласкают такие… получеловеки, вот как я… Особенно когда наскучит им обычная любовь мужская. Они тогда сами приманить нас готовы. Ну и грешишь.
– Ты… любить умеешь… по-человечески?.. Чудное дело! И женщины?!
– Да какие еще, авва! Я даже имел счастие… касаться священнейших прелестей самой неизреченно-милосердной…
Он не досказал, шепот оборвался тревожно, пугливо, как будто Вириней увидел кого. Потом опять зашептал:
– Да отпустит мне Господь тяжкую вину мою! Дашь ли разрешение, святой авва, в грехе столь великом?
– Во имя Отца и Сына и Духа Святого отпускаются тебе все грехи твои вольные и невольные… как с чистым духом приносишь свое покаяние, – захлебываясь от чувственного восторга, пробормотал Феофил. Он словно видел перед собою соблазнительную картину, на которую намекнул кастрат. Она, священнейшая в империи вселенской особа, – и рядом этот отброс человечества! Хохот снова вырвался из могучей груди патриарха. Сквозь смех он спросил:
– Только скажи… не хвастаешь?.. Как это ты грешить можешь, если… Непонятно мне.
– Могу, владыко. Со сладостью и мукою вместе. Сознаю, что не полную радость даю… не полное счастье получаю. Кляну и презираю себя. Но грешу… а сам думаю: не для смеху ли лукавая допустила до себя? Я трепещу тут, а она смеется над жалким уродом телесным, надо мною. И убить готов ее тут же за эти мои мысли. И ласкаю еще безумнее! Отпускаешь ли, авва? – склоняя совсем побледневшее, измученное тоскою лицо, пропищал кастрат.
– Отпускаю. И грехи твои. И тебя самого! Скоро заутрени. Тебе отдых на целый день. А мне часа через три и во дворец пора… на работу. Иди с Богом. А на прощанье… вот… захвати… если не тяжело будет.
Объемистый кожаный кошель, полный монетами, взял хозяин из-под подушки и подал гостю, провожая его к выходу.
– Благодарствую, святой владыко. Дотащу, не бойся! Ого! Золото! – позванивая над ухом мешком, осклабился широко евнух. – Ты умеешь одарить. Только скажи, это не из тех «волшебных» золотых, какие отливает тебе чудодей инок Мина? А? Хи-хи-хи!
– Нет, нет! Не строй кислой мины. Это полновесные золотые мины[5], не хуже староэллинских! – незамысловатым каламбуром ответил Феофил на грубоватую шутку гостя.
Весело смеясь, они простились, как старые приятели, хорошо знающие друг друга…
Глава 3. Олимп рухнул – Голгофа колышется
Воскресенье, день солнца, ярким солнечным днем развернулось над столицей империи ромэев, над Боспором, Золотым Рогом и Пропонтидою, над всем великолепием холмов, полей и лесов, окружающих огромный, шумный град Константина.
По случаю праздничного, торгового дня город, раскинутый на холмистом пространстве в 30 квадратных километров, – кипел толпами людей. Общее движение в этот день было особенно сильно. Это последний большой торг перед долгим, строгим постом весенним, которому предшествует веселая, разгульная неделя, проходящая под знаком: «Carne, vale!», т. е. «Прощай, мясо!»
В эту «карнавальную» неделю каждый, даже последний бедняк, старался пожить привольнее, веселее: сытнее поесть, напиться допьяна. Языческий предвесенний праздник «возрождения солнца», поворота его на путях от одного полюса земли к другому, праздник древний, как само человечество, – не мог быть искоренен самыми строгими запретами новых христианских вероучителей-изуверов. Простор веселью, разгул всем чувствам после зимнего, подавленного состояния природы и людей!
Стараясь как-нибудь связать это стихийное ликованье, облегчить переход к обязательному сорокадневному посту, новая церковь разрешила «заговенье»… И христиане вместе с язычниками широко пользуются поблажкой, какую суровая власть делает древнему обычаю.
Бедняки особенно ревниво справляют дни «карнавала», эти сырные, масленичные дни. Если богачам каждый день – праздник и масленица, то бедняк и в праздник больше воображением дополняет те скудные радости, тот жалкий стол, каким может побаловать себя в эти дни.
А сейчас особенно много бедного люду в пышной столице ромэйской. Долгая война – хотя и там, за гранями Византии, – унесла много живой силы, несметное количество запасов и ценностей, золота и серебра.
Хлеб все дорожает, работы меньше и меньше. Закрываются лавки в торговых рядах, пустеют целые базары порою. Крестьяне прячут свои запасы, перестали сеять больше, чем надо им самим для жизни.
Замирать как будто начинает жизнь столицы, хотя что ни день приходят все новые вести о новых успехах и победах кесаря там, где-то в Италийской земле, в счастливой некогда Авзонии, теперь тоже покрытой трупами, залитой кровью.
А кровь и трупы несут заразу… Мор гуляет по Римской земле. И даже в пределах Ромэйской империи, здесь и там, где народ живет поголоднее, тоже повально гибнут люди от недугов, обессиленные нуждою.
Но в этот солнечный, праздничный, торговый день забыла древняя Бизанция обо всем. Не смущают ее пустые рынки, запертые растворы лавок, растущие цены на хлеб, на сыр, на оливки. Последнее тратит каждый, как будто последний в жизни день приходится дожить с этим веселым карнавалом…
Самый красивый и веселый торг кипит на Средней улице, которая тянется с юго-запада от Золотых Ворот, мимо гавани Феодосия, мимо Миллиума[6] и Большого дворца до Porta Cerea (Церейских врат), как настоящее торговое сердце города. Но не каждый торговец имеет право открыть здесь лавку.
На Средней улице, по уставу, могли открывать свои мастерские только ювелиры и торговцы платьем из шелка. Торговцы шелком-сырцом, восточными благовониями и пряностями, ткачи-шелкопряды и менялы также имели здесь мастерские и лавки.
Тут же, на площади Августа, против Миллиума, возвышается Халки, роскошный закрытый портик, ведущий в Большой дворец. Бронзовая крыша портика, густо вызолоченная, сверкает, горит под лучами южного солнца.
И по воскресеньям цветочницы и торговцы благовониями здесь, против ворот Халки, должны расставлять свои товары, чтобы смешанные ароматы долетали до дворов и палат царских.
На окраине города, на площади Тавра, висел в воздухе визг свиных табунов, сгоняемых сюда для продажи. Здесь же продавали ягнят окрестные селяне от Страстной недели до Троицына дня. Крупный скот, овцы и бараны, сгонялись из окрестностей только на площадь перед храмом Стратегия, а конский огромный рынок был на Амастрианской площади. Весь скот клеймился, записывался, и с головы вносилась хозяином плата в казну города. Затем сюда являлись мясники, покупали товар и уводили в свои лавки. Но там снова от каждой туши взимался новый побор. Во все время Великого поста ни одной штуки убойного скота нельзя было найти нигде на рынке или в лавке. За нарушение правила грозил тяжелый штраф и наказание палками как продавцу, так и покупателю.
Вот почему в этот последний перед постом воскресный большой торг весь город высыпал на улицы, толпы чернели на рынках, пестрели женские наряды. Каждый торопился запастись тем, что ему нужно и на праздник карнавала, и на весь долгий пост, если позволяла собственная казна делать запасы.
Говор крикливой южной толпы, женские звонкие голоса, зазывания торговцев, бубны и систры уличных акробатов и фокусников, мычанье и блеянье скота, визг свиней, которых волокли с рынка, праздничный звон колоколов – все это на площадях и на улицах сливалось в один нестройный гул, несущийся вширь и вверх, навстречу потокам света, проливаемого ярким солнцем на всю оживленную, пеструю картину.
Неожиданно шум и говор, стоящий над площадью Августа, вблизи дворца, прорезали новые, властные звуки, голоса военных труб, как всегда бывает перед выступлением глашатаев эпарха, желающего оповестить население о новом декрете кесаря или о своем личном распоряжении по городу.
Четыре всадника-глашатая в своем блестящем уборе, протрубив призывный сигнал, стали по четырем сторонам обширной площади, из бархатных мешков достали свертки и громко огласили декрет Феодосия, который три дня назад доставлен был Аркадию.
Затем глашатаи прочли приказ эпарха. В нем говорилось, что победоносные легионы и сам кесарь возвращаются в город. Должна быть встреча. И новый, особый взнос налагается для этой цели на жителей.
Окончив, каждый глашатай протрубил еще раз, передал копию декрета полицейскому служителю, и, пока тот наклеивал листы на стене соседнего здания, все четыре съехались снова и по Средней улице пустились дальше, в объезд по городу.
В молчании слушала тысячеголовая толпа чтение декрета. Изредка лишь, в особенно сильных и важных местах подавленный рокот голосов перекатывался по всей площади, быстро замирая.
Когда же прозвучал короткий и властный приказ эпарха, когда запахло новым налогом – все всколыхнулось; стена людей заколебалась, закружился целый водоворот негодующих криков, злобных голосов, бранных речей. Люди мятутся туда и сюда, машут руками, потрясают палками, свертками, всем, что в эту минуту держит каждый…
– Новый налог! Мало старых?.. Демоны и ларвы!
– Опять гонение на людей за то, что они молятся божеству по-своему! Не так, как там, во дворце?!
– Мы и так разорены! А уедут, убегут из города богатые язычники – совсем не будет торга и работы. Пресвитеры и начальники-христиане не больно тороваты. Не динариями – палками часто расплачиваются за все, что у нас берут! Живодеры дворцовые!
– Там, где-то, над кем-то победы! А нам – голод и беды. Довольно с нас таких побед и славы. Хлеба нам надо! Хлеба не хватает! Все забирают в магазины эпарха: товары и хлеб… А нам продают в десять раз дороже. Довольно с нас!
– Да, – запричитал какой-то тощий, видимо изголодавшийся, горожанин, – бывало, за два фолла принесешь домой лепешку, так со всею семьей и в три дня не съешь. А теперь купишь за милиарисий хлебец, и на день его не хватит.
– Долой, к черту, в Аид эти декреты!.. Вспомним, граждане, прежние годы! Мы – свободные византийцы… не псы дворовые пришлых господ! Неужели рабская религия отречения и вас сделала рабами до конца? Мы – должны смиряться, а им, господам, все позволено? Их распятый Бог дал им какие-то особые права, что ли? Рождены они иначе, чем мы? Едят не так, как все? Тем же ртом. Но у них есть чем набивать брюхо. Есть время писать указы. Есть волки-воины, чтобы грабить нас, сдирать у нас шкуру вместе с налогами и поборами! А у нас – животы пусты! Мы надрываемся в труде, не зная отдыха. Так крикнем же, чтобы потряслися купола золотые и мраморные стены их дворцов: долой насилие! Насильников долой! Прочь жестокие и неразумные декреты! Хлеба и воли народу державной Византии!
Молодой, здоровый эллин, по одеянию – жрец какого-то языческого культа, кончил свою горячую речь, сорвал со стены декрет и замахал им, как флагом, над головою.
– Долой!.. Хлеба!.. Воли!.. – всплеснулся тысячеголовый, слитный, но все же внятный клик. – Веди нас! Мы пойдем! Мы скажем!..
Толпа скипелась вокруг оратора. Задние, не разбирая хорошо, в чем дело, напирали на передних. Женщины старались увести мужей, слишком горячо рвавшихся в опасную свалку; уводили детей. Старики, сгрудясь под портиком, идущим по западной стороне Средней улицы, наблюдали за сценой, перебрасываясь отрывистыми замечаниями.
Такие же картины развертывались на соседней площади Константина и на всех перекрестках и площадях, где звучали трубы глашатаев, где читался декрет и приказ эпарха… На огромном ипподроме, южнее дворца, собралась многотысячная толпа. Здесь и там поднимались ораторы, взбираясь на цоколи колонн, на трибуну судей, забираясь в ложу кесаря и магистратов. Звучали скорбные и негодующие речи: «Слишком тяжело жить! Через меру гнетет всем шею пята императорской власти!»
Тут же составлялись группы, делегации ремесленников, купцов, мелких торговцев, которые должны идти к эпарху требовать отмены новых поборов. Просить о снисхождении язычникам. Иначе, боясь преследований, богатые люди уедут. Еще больше голодных, безработных окажется в столице.
От одиннадцати ремесленных крупных союзов, от ювелиров, шелкопрядов, портных, ткачей полотна, свечников, мыловаров, булочников, кожевников, от мясников, трактирщиков, менял и мелочных торговцев, – кроме их обычных старшин, – были тут же избраны еще представители. Маляры, художники, каменщики и плотники, не объединенные в союзы, присоединили своих выборных к общей делегации, которая перед эпархом должна изложить требования населения столицы.
Пока шли выборы, тянулись переговоры, споры, солнце поднялось высоко. Под тенью стен ипподрома собрались более зажиточные, обеспеченные жители взволнованного города, слушали: что говорит бушующая толпа? Гадали: чем кончится все это?..
Особенно горячились селяне, пришедшие из окрестностей.
Одетый в бараний тулуп, широкоплечий, седой, но мощный старик говорил:
– Вам плохо? А нам – хуже всех! Вы голодаете, да хоть по своей воле живете. А мы, селяне? И свободные, периэйки, они на словах только свободны. Арендуют землю у господина либо у казны. Входят в долги и на весь век прикованы этим долгом к земле, крепче, чем цепями!.. А мы… мы, бесправные?! Колоны, поселенцы – еще хоть свое что-нибудь могут иметь: плуг, вола, коня плохого… А мы, адскриптиции, рабы-селяне?! Хуже скота мы для господ наших. Нет своего угла… нет своего серпа! Все от господина. И самая жизнь наша – ему принадлежит! Монастыри, церкви, куда мы приписаны или подарены порою, – они еще тяжелее иго накладывают на шеи наши. Говорят о милосердии Бога, о долге братолюбия. А у нас забирают последнюю горсть пшена, все плоды трудов наших. И так мы живем. Пойдите скажите, что и мы люди! Пусть и о нас подумает великий август.
Скорбью звучат речи селянина-раба. Но горожане плохо слушают старика. Свои у них заботы. Совещаются выборные. Готовы пойти к эпарху. Намечают, кому и о чем говорить.
А на ипподроме кипит людской прибой, приливают, отливают толпы народа, вздымаясь здесь и там, как волны в бурю.
Гипатия с отцом тоже здесь. Как истые эллины, они вышли с утра подышать общим воздухом со всею шумливой, говорливой и веселой толпой горожан. Потом, охваченные волнением, каким заражали друг друга народные толпы, – они попали на ипподром, взобрались на одну из верхних скамей, слушали и смотрели, что творится внизу.
Чужие городу, они чувствовали себя близкими этой возмущенной, крикливой от наплыва злобы, стонущей от прорвавшейся скорби, тысячеголовой гидре людской. Рядом стоит и хозяин их, приютивший друзей в чужом городе, философ и ритор Плотин, основатель особой школы в Александрийской Академии.
Небольшого роста, но крепкий, кряжистый старик, он особенно гордится сходством своего черепа с головою божественного Сократа; даже, для большего сходства, удаляет волосы на голове, увеличивает лысину, еще не достигшую сократовских размеров. И часто хмурит густые брови, чтобы ярче выступали «сократовские» надбровия и складки на широком мясистом лбу.
– Неужели серьезное народное возмущение мы видим перед собою? – задал вопрос Феон. – Я совсем не знаю византийцев. А ты тут бывал довольно часто. Неужели совесть народная здесь так чутка к вопросам веры, хотя бы и чужой, малопонятной для этой черни?
– Ошибаешься, друг! – слегка махнув рукою, Плотин улыбнулся даже. – Не будь этой ошибки эпарха, не огласи он нового налога вместе с новой несправедливостью религиозной… все бы обошлось без шуму! Да и весь шум – не надолго… Гляди!..
Плотин показал на арку, ведущую к ипподрому. Через нее в толще народа пробивался отряд конных воинов, за которыми шли тесным строем с тяжелыми плетьми в руках полицейские стражники эпарха.
Толпа сразу шарахнулась во все стороны, давая дорогу силе. Одни старались пробиться к выходу, где сразу началась давка. Другие взбирались повыше, надеясь, что здесь будут в безопасности. Конные разделяли толпу, вытесняя ее, кусок за куском, из ипподрома. Пешие с плетьми, полосуя кого и куда попало, придавали прыти колеблющимся, сгоняли вниз тех, кто ушел на верхние скамьи амфитеатра.
Гипатия, Феон и Плотин стояли и ждали. Идти в давку слишком опасно. Оттуда уже неслись дикие вопли, падали мертвые тела, их топтали ногами убегающие люди. Отстранив Гипатию к колонне, ее спутники прикрыли собою девушку и ждали. Миг скоро наступил.
Огромный галл, полицейский служитель, очутился перед ними, высоко подняв плеть над головою Феона.
– Чего застряли? Прочь, бунтовщики поганые!
Плеть готова была опуститься. Но Гипатия рванулась вперед, грудью прикрыла отца, подставляя свою спину под удар; руками охватила седую голову, всем телом стараясь прикрыть Феона. Голову она повернула к палачу, сверкающими глазами глядя ему в лицо, как бы желая видеть, когда и куда он опустит тяжелый бич…
И рука гиганта задержалась в воздухе; он опустил плеть, но провел ее мимо старика и девушки, хлопнув по камню скамьи так, что отдалось эхо; отрывисто кинул:
– Ну, проваливайте! Если вы не бунтуете… зачем попали в толпу этой черни? Вон!..
И, оставив их, он пошел дальше, полосуя и сгоняя вниз напуганных, бессильных двинуться с места женщин, стариков и детей…
Когда Феон и Плотин с Гипатией вышли на площадь, они увидели толпы, которые разбегались во все стороны. А с разных концов площади появлялись небольшие конные отряды в сопровождении пеших полицейских и быстро очищали пространство.
Начальник одного такого отряда, проезжая мимо ипподрома, узнал и окликнул Плотина:
– Наставник, ты? Вот попал не вовремя!.. и не туда, куда надо. Идем за нами. Я провожу тебя до дому… Нам как раз в ту часть города!..
Стараясь поспеть за свободным шагом коней, пошли все трое, печальные, подавленные, стараясь не видеть по сторонам расправы солдат и полиции с остатками толпы, еще не успевшей рассеяться по домам.
Только поздно вечером успокоилась Гипатия от пережитого волнения. Молодой месяц проглядывал из-за тучек, набежавших еще днем. Девушка, ее отец и Плотин сидели на террасе сада при доме, где жил философ. Продолжая начатую речь, Плотин внушительно, округляя фразы, с плавными жестами, говорил:
– Ты видел, что произошло? Кинегий, оказывается, умнее, чем я о нем думал. Он провел свой налог под флагом декрета. Плут-подстрекатель заранее знал, как толпа отзовется. Приготовил отряды. Быстро восстановил порядок в «бунтующем» народе и, конечно, получит за это новую награду от мальчишки Аркадия и от самого кесаря, когда тот вернется. А он вернется скоро. Народ это знает. Потому и не было открытого сопротивления сегодня. Звуки военных труб уже долетают в стены города.
– Значит, этим бесчеловечным, позорным избиением все и закончится? – с безнадежной тоскою прозвучал негодующий голос Гипатии.
– Нет, не совсем. Я знаю ромэйцев. Да вот, смотрите!
И Плотин показал рукою вниз, на заснувший город.
Усадьба, занимаемая философом, стояла на вершине холма, позволяя видеть все части города, лежащие ниже, до самого берега. И там, где был хлебный рынок и тянулись длинные темные склады для зерна, где ютились казенные здания и жилища небогатых людей, там стало разливаться какое-то красное сияние… все больше, шире! Скоро можно было видеть, как большой пожар запылал в этой части столицы, раздуваемый ветром, который все крепчал.
Видно даже было, как люди, мелькая черными обликами, силуэтами, метались сюда и туда, спасая что-то из пламени, заливая, где могли, огонь! Но красные факелы огня вырывались все чаще из багрового дыма. Взлетали целые снопы искр. Тучи, проплывая над местом пожара, багровели, словно и в небе пылал скрытый огонь, там, за тучами.
– Но… ведь вместе с казенными кладовыми сгорят и жилища бедняков. Сгорит зерно, которое так нужно людям!.. – негромко заметил Феон.
– Нет! Зерно успеют расхватать… если уже не выбрали его до пожара те смельчаки, которые зажгли этот факел. Там их не ждали. Там стражи нет. Они налетают, делают свое дело… и исчезают. И уже в другом месте. Гляди!
Плотин указал на квартал, соседний с дворцом, где он сближался с узкими улицами столицы. Там вспыхнул второй пожар. Немного спустя – третий. И скоро больше десятка багровых гигантских факелов пылало в разных концах города, как бы правя тризну по искалеченным и убитым сегодня мирным гражданам столицы…
В молчании глядели все трое. Слезы сверкали на глазах у девушки. Она так живо видела всю утреннюю сцену. Видела, как много горя и слез принесет и эта ночная жгучая месть.
Плотин снова заговорил:
– Что же, почтеннейший Феон? Теперь ты видишь, как опасно оставаться тебе, нехристианину, в этом огромном городе с дочерью? Ты думаешь, в Афинах можно спокойно заниматься наукой? Ошибаешься. Это слишком близко от Константинополя. Я знаю, что в этом году разрешены в последний раз Олимпийские игры. В Элладе будет все как и здесь! Ко мне в Александрию едем, друг. Там найдется тебе работа. Там проживешь спокойнее.
– Там? Где всевластен этот… Феофил? Знаю хорошо его.
– И я его знаю недурно, поверь. Это – опасное существо. Но – он жаден, как пиявка, пьющая чужую кровь, пока сама не лопнет! Золотом можно у него добиться многого. Закупив совесть патриарха, можно получить спокойствие для своей собственной. Можно получить свободу не верить или верить во что и как тебе угодно! Так размысли, друг! И соглашайся. Завтра триера отплывает прямо в Александрию. Едем?
– Не знаю… подумать бы… да некогда. Вот как она, Гипатия. Ей хотелось еще прослушать многое, поучиться в Академии в Афинах…
– О чем говорить? Вместе с указом об Олимпийских играх готовится запрещение преподавать в Академии Афинской что-либо, кроме христианской морали. Науки своей еще не создали священники и мудрецы, принявшие новое учение. О чем же думать, Феон?
– Не знаю… Как скажешь, дочка… ехать?
– Что же? Иначе некуда. Поедем, отец.
– Хорошо. Мы едем, почтеннейший Плотин!
– Ну вот и хорошо. А теперь пора и отдохнуть. Отплытие завтра в полдень. Доброй ночи.
Старики разошлись. А девушка еще долго, почти до зари, сидела на террасе. Угасли, побледнели огни пожаров. Затих огромный город. Совсем затихло все кругом. Только загадочно шелестели кипарисы, колеблемые ветром. Собачий звонкий лай порою доносился издалека. Перекликались петухи. Гипатия ничего не слышала, погруженная в думы. Перед ней проносились тяжелые картины минувшего дня. Но потом все чаще и чаще из путаницы образов и лиц стало выплывать лицо юноши на триере.
В Александрию едет она с отцом. На Александрию держала путь триера. Что, если встретит она там этого прекрасного, печального юношу?.. Он ее узнает ли?..
Предрассветная свежесть пахнула в лицо Гипатии, росою увлажнило ей волосы, плечи. Пожавшись, она встала и медленно пошла в дом.
Плаванье прошло удачно при попутном ветре. Но все же только на седьмой день после отплытия из Константинополя корабль вошел в обширную Старую, или Восточную, гавань великолепной Александрии.
Важнейший торговый центр, лучший порт всего тогдашнего мира, не только Средиземноморья, кроме трехсот тысяч свободных жителей и двойного количества рабов, наемников, вольноотпущенных людей, этот город вмещал еще в себе постоянно до ста тысяч приезжих торговцев, моряков, путешественников из ближних и дальних стран, ученых и учащейся молодежи, стекавшейся сюда, чтобы пройти школу философии, грамматики, т. е. литературы, математики, астрономии и медицины. Словом, всех дисциплин, которые уже больше семи веков так хорошо и полно разрабатывались в Александрийской Академии лучшими умами Древнего мира и учеными последних веков.
В семи стадиях, т. е. в двух с лишним километрах, от длинной и довольно широкой Меотийской косы, на которой, главным образом, расположен город, в прозрачных волнах Средиземного моря купается небольшой остров Фарос, связанный с северным краем косы могучим широким молом из огромных гранитных глыб – Септастадионом, т. е. Семимерным[7].
На дальней, северной части острова подымается беломраморная, стройная и нерушимая в то же время башня маяка Фаросского, высоко врезаясь своими смелыми очертаниями в синеющее небо Африки. В число семи чудес света, созданных природой и культурой Древнего мира, было вписано имя Фаросского маяка. С вершины этой башни открывался широкий вид вокруг.
От города на восток медленно катит свои желтые волны многоводный отец Нил, сотнями могучих рукавов сливаясь с ласковой волной Средиземного моря, на большое пространство окрашивая его лазурь мутью пресных вод своих. От крайнего рукава этой широкой дельты Нила, сверкая на солнце, вьется более узкий, искусственный канал, соединяющий реку с южным краем озера Мареотис, обращенного во внутреннюю гавань, Болотную, как ее называют, пестреющую фелуками, парусными плоскодонками и другими судами, приходящими с Нила. На юго-запад от города устроена еще искусственная гавань Киботос.
Мол, упираясь в северный берег косы, служит разделом между двумя прекрасными морскими гаванями. Восточная, самая обширная, называется Новою гаванью, Portus novus maximus. Западная гавань, такая же надежная, глубокая, только поменьше, – это Эйносто. И тесно бывает порою в этих двух гаванях, куда сходятся корабли изо всех стран, где только живут и торгуют более или менее просвещенные народы.
Северная часть высокой песчаной косы на 13 метров выше уровня моря, зеленеет садами, покрыта богатыми жилищами еврейской торговой и храмовой знати, облюбовавшей этот край. Две пятых города занимает еврейский квартал, вмещая больше 200 000 жителей. Две прямые, как стрела, в 30 метров шириною улицы, начинаясь отсюда, тянутся без конца до самых городских стен, опоясавших город с юга. Множество поперечных улиц под прямым углом пересекают эти две главных артерии города.
Лучшая, богатейшая часть города, Брухейон, стоит лицом к Большой восточной гавани. Роскошные дворцы царской династии Птолемеев, окруженные парками, садами, сейчас стоят в развалинах. А раньше они гордо подымали свои колоннады и высокие стены, стараясь заглянуть в зеркало вод, окружающих город. Но и сейчас прекрасны запущенные немного сады и парки. Развалины придают им какую-то особую, печально-тревожную прелесть.
Нетронутым осталось строгое, величавое сооружение Сома, гробница Александра Македонского, умевшего так хорошо угадать место, где надо основать новый центр для многолюдной нильской земли, богатой хлебом и торгом. Нетронут и Большой театр, Collosseum, вмещающий до 50 000 зрителей. Храм Посейдона, бога морей, подымается своими колоннадами над Эмпорионом, торговой обширной площадью, сбегающей к берегу моря и к Септастадиону. Торговые склады, глубокие подвалы и раскрытые лавки, торговые помещения всякого рода окаймляют площадь, всегда переполненную народом, мулами, верблюдами, вьючными ослами и черными рабами-носильщиками, навьюченными больше, чем мулы и ослы. Рыбачьи лодки, скользя и шныряя между высокими, стройными триремами, дромонами и галерами, идущими пришвартоваться у мола, стараются в более удобном местечке ткнуться носом в берег, откуда набегают люди и разбирают весь улов этого дня. Тунцы, макрели серебрятся чешуей, грудами лежа на дне лодок. Осьминоги, судорожно дергаясь, меняя цвета кожи, лежат в лужах воды тут же. Широкие плоские огромные камбалы и небольшие жирные глоси, угри и щуки морские… все это разбирается, как и целые груды ракушек; но ракушки, мидии – пища бедного люда. Тут же на месте поедаются эти устрицевидные моллюски. И целые холмы раковинок накопились на берегу всех гаваней, где грузчики, носильщики, рабы лакомятся моллюском, отбрасывая его скорлупку, этот твердый, острый по краям покров.
