Три элемента школы. Записки русского педагога бесплатное чтение
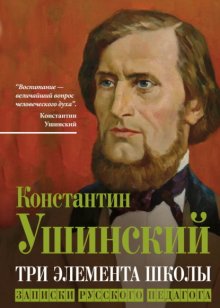
Кто мы?
© Ушинский К.Д., 2023
© ООО «Алисторус», 2023
© ООО «Издательство Родина», 2023
Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии
Предисловие
Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иным даже делом легким – и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком теоретически или практически. Почти все признают, что воспитание требует терпения; некоторые думают, что для него нужны врожденная способность и умение, т. е. навык; но весьма немногие пришли к убеждению, что кроме терпения, врожденной способности и навыка необходимы еще и специальные знания, хотя многочисленные педагогические блуждания наши и могли бы всех убедить в этом. Но разве есть специальная наука воспитания? Отвечать на этот вопрос положительно или отрицательно можно, только определив прежде, что мы разумеем вообще под словом наука. Если мы возьмем это слово в его общенародном употреблении, тогда и процесс изучения всякого мастерства будет наукою; если же под именем науки мы будем разуметь объективное, более или менее полное и организованное изложение законов тех или других явлений, относящихся к одному предмету или к предметам одного рода, то ясно, что в таком смысле предметами науки могут быть только или явления природы, или явления души человеческой, или, наконец, математические отношения и формы, существующие также вне человеческого произвола. Но ни политика, ни медицина, ни педагогика не могут быть названы науками в этом строгом смысле, а только искусствами, имеющими своею целью не изучение того, что существует независимо от воли человека, но практическую деятельность – будущее, а не настоящее и не прошедшее, которое также не зависит более от воли человека. Наука только изучает существующее или существовавшее, а искусство стремится творить то, чего еще нет, и перед ним в будущем несется цель и идеал его творчества. Всякое искусство, конечно, может иметь свою теорию; но теория искусства не наука; теория не излагает законов существующих уже явлений и отношений, но предписывает правила для практической деятельности, почерпая основания для этих правил в науке.
К. Д. Ушинский
«Положения науки, – говорит английский мыслитель Джон Стюарт Милль, – утверждают только существующие факты: существование, сосуществование, последовательность, сходство (явлений). Положения искусства не утверждают, что что-нибудь есть, но указывают на то, что должно быть». Ясно, что в таком смысле ни политику, ни медицину, ни педагогику нельзя назвать науками; ибо они не изучают того, что есть, но только указывают на то, что было бы желательно видеть существующим, и на средства к достижению желаемого. Вот почему мы будем называть педагогику искусством, а не наукою воспитания.
Мы не придаем педагогике эпитета высшего искусства, потому что самое слово – искусство – уже отличает ее от ремесла. Всякая практическая деятельность, стремящаяся удовлетворить высшим нравственным и вообще духовным потребностям человека, т. е. тем потребностям, которые принадлежат исключительно человеку и составляют исключительные черты его природы, есть уже искусство. В этом смысле педагогика будет, конечно, первым, высшим из искусств, потому что она стремится удовлетворить величайшей из потребностей человека и человечества – их стремлению к усовершенствованиям в самой человеческой природе: не к выражению совершенства на полотне или в мраморе, но к усовершенствованию самой природы человека – его души и тела; а вечно предшествующий идеал этого искусства есть совершенный человек.
Из сказанного вытекает уже само собою, что педагогика не есть собрание положений науки, но только собрание правил воспитательной деятельности. Таким собранием правил или педагогических рецептов, соответствующим в медицине терапии, являются действительно все немецкие педагогики, всегда выражающиеся «в повелительном наклонении», что, как основательно замечает Милль, служит внешним отличительным признаком теории искусства. Но как было бы совершенно нелепо для медиков ограничиться изучением одной терапии, так было бы нелепо для тех, кто хочет посвятить себя воспитательной деятельности, ограничиться изучением одной педагогики в смысле собрания правил воспитания. Что сказали бы вы о человеке, который, не зная ни анатомии, ни физиологии, ни патологии, не говоря уже о физике, химии и естественных науках, изучил бы одну терапию и лечил бы по ее рецептам, то же почти можете вы сказать и о человеке, который изучил бы только одни правила воспитания, обыкновенно излагаемые в педагогиках, и соображался бы в своей воспитательной деятельности с одними этими правилами. И как мы не называем медиком того, кто знает только «лечебники» и даже лечит по «Другу Здравия» и тому подобным собраниям рецептов и медицинских советов, то точно так же не можем мы назвать педагогом того, кто изучил только несколько учебников педагогики и руководствуется в своей воспитательной деятельности правилами и наставлениями, помещенными в этих «педагогиках», не изучив тех явлений природы и души человеческой, на которых, быть может, основаны эти правила и наставления. Но так как педагогика не имеет у себя термина, соответствующего медицинской терапии, то нам придется прибегнуть к приему, обыкновенному в тождественных случаях, а именно – различать педагогику в обширном смысле, как собрание знаний, необходимых или полезных для педагога, от педагогики в тесном смысле, как собрания воспитательных правил.
Мы особенно настаиваем на этом различии, потому что оно очень важно, а у нас, как кажется, многие не сознают его с полной ясностью. По крайней мере, это можно заключить из тех наивных требований и сетований, которые нам часто удавалось слышать. «Скоро ли появится у нас порядочная педагогика?» – говорят одни, подразумевая, конечно, под педагогикой книгу вроде «Домашнего лечебника». «Неужели нет в Германии какой-либо хорошей педагогики, которую можно было бы перевести?» Как бы, кажется, не быть в Германии такой педагогики: мало ли у нее этого добра! Находятся и охотники переводить; но русский здравый смысл повертит, повертит такую книгу да и бросит. Положение выходит еще комичнее, когда открывается где-нибудь кафедра педагогики. Слушатели ожидают нового слова, и читающий лекции начинает бойко, но скоро бойкость эта проходит: бесчисленные правила и наставления, ни на чем не основанные, надоедают слушателям, и все преподавание педагогики сводится мало-помалу, как говорят ремесленники, на нет. Во всем этом выражаются самые младенческие отношения к предмету и полное несознавание различия между педагогикою в обширном смысле, как собранием наук, направленных к одной цели, и педагогикою в тесном смысле, как теориею искусства, выведенною из этих наук.
Но в каком же отношении находятся обе эти педагогики? «В мастерствах несложных, – говорит Милль, – можно изучить одни правила; но в сложных науках жизни (слово наука здесь употреблено некстати) приходится постоянно возвращаться к законам науки, на которых эти правила-основаны». К этим сложным искусствам, без сомнения, должно быть причислено и искусство воспитания, едва ли не самое сложное из искусств.
«Отношение, в котором правила искусства стоят к положениям науки, – продолжает тот же писатель, – может быть так очерчено. Искусство предлагает самому себе какую-нибудь цель, которая должна быть достигнута, определяет эту цель и передает ее науке. Получив эту задачу, наука рассматривает и изучает ее как явление или как следствие и, изучив причины и условия этого явления, передает обратно искусству с теоремою комбинации обстоятельств (условий), которыми это следствие может быть произведено. Искусство тогда исследует эти комбинации обстоятельств и, соображаясь с тем, находятся они или нет в человеческой власти, признает цель достижимою или нет. Единственная из посылок, доставляемых науке, есть оригинальная главная посылка, утверждающая, что достижение данной цели желательно. Наука же сообщает искусству положение, что при исполнении данных действий цель будет достигнута, а искусство превращает теоремы науки, если цель оказывается достижимою, в правила и наставления». Но откуда же искусство берет цель для этой деятельности и на каком основании признает достижение ее желательным и определяет относительную важность различных целей, признанных достижимыми? Здесь Милль, чувствуя, быть может, что почва, на которой стоит вся его «Логика», начинает колебаться, проектирует особую науку целей, или телеологию, как он ее называет, и вообще науку жизни, которая, по его словам, заканчивающим его «Логику», вся еще должна быть создана, и называет эту будущую науку важнейшею из всех наук. В этом случае, очевидно, Милль впадает в одно из тех великих противоречий самому себе, которыми отличаются гениальнейшие мыслители практичной Британии. Он ясно противоречит тому определению науки, которое сам же сделал, назвав ее изучением «существования, сосуществования и последовательности явлений», уже существующих, а не тех, которые еще не существуют, а только желательны. Он хочет везде поставить науку на первое место; но сила вещей невольно выдвигает вперед жизнь, показывая, что не наука должна указывать окончательные цели жизни, а жизнь указывает практические цели и самой науке. Это верное практическое чувство британца заставляет не одного Милля, но также Бокля, Бэна и других ученых той же партии часто впадать в противоречия с собственными своими теориями, чтобы обезопасить жизнь от вредных влияний односторонности, свойственной всякой теории и необходимой для хода науки. И вот какой, действительно, великой черты в характере английских писателей не понимают наши критики, воспитанные большей частью на германских теориях, всегда почти последовательных, последовательных часто до очевидной нелепости и положительного вреда. Вот это-то практическое чувство британца заставило Милля в том же сочинении признать окончательною целью жизни человека не счастье, как следовало бы ожидать по его научной теории, а образование идеального благородства воли и поведения, а Бокля, отвергающего свободу воли в человеке, признать в то же время верование в загробную жизнь одним из самых дорогих и самых несомненных верований человечества. Эта же причина заставляет английского психолога Бэна, объясняя всю душу нервными токами, признать за человеком власть распоряжаться этими токами. Германский ученый не сделал бы такого промаха: он остался бы верен своей теории – и утонул бы вместе с нею. Причина таких противоречий та же, которая за 200 лет до Бокля, Милля, Бэна побудила Декарта, приготовляясь к своему труду, обезопасить от своего все опрокидывающего скептицизма один уголок жизни, где сам мыслитель мог бы жить, пока наука переломает и перестроит вновь все здание жизни; но это декартовское пока продолжается и теперь, как мы это видим на самых передовых представителях современного европейского мышления.
Мы, однако, не будем вдаваться здесь в подробный разбор, откуда и как должна заимствовать педагогика цель своей деятельности, что может быть сделано, конечно, не в предисловии, а тогда только, когда мы короче ознакомимся с той областью, в которой педагогика хочет действовать. Однако же мы не можем не указать уже здесь на необходимость ясного определения цели воспитательной деятельности; ибо, имея постоянно в виду необходимость определить цель воспитания, мы должны были делать такие отступления в область философии, которые могут показаться лишними читателю, особенно если он не знаком с той путаницей понятий, которая господствует у нас в этом отношении. Внести, насколько можем, хоть какой-нибудь свет в эту путаницу было одним из главных стремлений нашего труда, потому, что она, переходя в такую практическую область, каково воспитание, перестает уже быть невинным бредом и отчасти необходимым периодом в процессе мышления, но становится положительно вредною и загораживает путь нашему педагогическому образованию. Удалять же все, что мешает ему, – прямая обязанность каждого педагогического сочинения.
Что сказали бы вы об архитекторе, который, закладывая новое здание, не сумел бы ответить вам на вопрос, что он хочет строить – храм ли, посвященный Богу Истины, Любви и Правды, просто ли дом, в котором жилось бы уютно, красивые ли, но бесполезные торжественные ворота, на которые заглядывались бы проезжающие, раззолоченную ли гостиницу для обирания нерасчетливых путешественников, кухню ли для переварки съестных припасов, музеум ли для хранения редкостей или, наконец, сарай для складки туда всякого, никому уже в жизни не нужного хлама? То же самое должны вы сказать и о воспитателе, который не сумеет ясно и точно определить вам цели своей воспитательной деятельности. Конечно, мы не можем сравнить мертвых материалов, над которыми работает архитектор, с тем живым и организованным уже материалом, над которым работает воспитатель. Придавая большое значение воспитанию в жизни человека, мы тем не менее ясно сознаем, что пределы воспитательной деятельности уже даны в условиях душевной и телесной природы человека и в условиях мира, среди которого человеку суждено жить. Кроме того, мы ясно сознаем, что воспитание в тесном смысле этого слова как преднамеренная воспитательная деятельность, – школа, воспитатель и наставники ex officio – вовсе не единственные воспитатели человека и что столь же сильными, а может быть, и гораздо сильнейшими воспитателями его являются воспитатели непреднамеренные: природа, семья, общество, народ, его религия и его язык, словом, природа и история в обширнейшем смысле этих обширных понятий. Однако же и в самих этих влияниях, неотразимых для дитяти и человека совершенно неразвитого, многое изменяется самим же человеком в его последовательном развитии, и эти изменения выходят из предварительных изменений в его собственной душе, на вызов, развитие или задержку которых преднамеренное воспитание, словом, школа со своим учением и своими порядками, может оказывать прямое и сильное действие.
«Каковы бы не были внешние обстоятельства, – говорит Гизо, – все же человек сам составляет мир. Ибо мир управляется и идет сообразно идеям, чувствам, нравственным и умственным стремлениям человека, и от внутреннего его состояния зависит видимое состояние общества»; и нет сомнения, что учение и воспитание в тесном смысле этих слов могут иметь большое влияние на «идеи, чувства, нравственные и умственные стремления человека». Если же кто-нибудь усомнился бы в этом, то мы укажем ему на последствия так называемого иезуитского образования, на которые уже указывали Бэкон и Декарт как на доказательства громадной силы воспитания. Стремления иезуитского воспитания большей частью были дурны, но сила очевидна; не только человек до глубокой старости сохранял на себе следы того, что был когда-то, хотя только в самой ранней молодости, под ферулою отцов-иезуитов, но целые сословия народа, целые поколения людей до мозга костей своих проникались началами иезуитского воспитания. Не достаточно ли этого всем знакомого примера, чтобы убедиться, что сила воспитания может достигать ужасающих размеров и какие глубокие корни может пускать оно в душу человека? Если же иезуитское воспитание, противное человеческой природе, могло так глубоко внедряться в душу, а через нее и в жизнь человека, то не может ли еще большею силою обладать то воспитание, которое будет соответствовать природе человека и его истинным потребностям?
К. Д. Ушинский
Вот почему, вверяя воспитанию чистые и впечатлительные души детей, вверяя для того, чтобы оно провело в них первые и потому самые глубокие черты, мы имеем полное право спросить воспитателя, какую цель он будет преследовать в своей деятельности, и потребовать на этот вопрос ясного и категорического ответа. Мы не можем в этом случае удовольствоваться общими фразами, вроде тех, какими начинаются большей частью немецкие педагогики. Если нам говорят, что целью воспитания будет сделать человека счастливым, то мы вправе спросить, что такое разумеет воспитатель под именем счастья; потому что, как известно, нет предмета в мире, на который люди смотрели бы так различно, как на счастье: что одному кажется счастьем, то другому может казаться не только безразличным обстоятельством, но даже просто несчастьем. И если мы всмотримся глубже, не увлекаясь кажущимся сходством, то увидим, что решительно у каждого человека свое особое понятие о счастье и что понятие это есть прямой результат характера людей, который, в свою очередь, есть результат многочисленных условий, разнообразящихся бесконечно для каждого отдельного лица. Та же самая неопределенность будет и тогда, если на вопрос о цели воспитания отвечают, что оно хочет сделать человека лучше, совершеннее. Не у каждого ли человека свой собственный взгляд на человеческое совершенство, и что одному кажется совершенством, то не может ли казаться другому безумием, тупостью или даже пороком? Из этой неопределенности не выходит воспитание и тогда, когда говорит, что хочет воспитывать человека сообразно его природе. Где же мы найдем эту нормальную человеческую природу, сообразно которой хотим воспитывать дитя? Руссо, определивший воспитание именно таким образом, видел эту природу в дикарях, и притом в дикарях, созданных его фантазиею, потому что если бы он поселился между настоящими дикарями, с их грязными и свирепыми страстями, с их темными и часто кровавыми суевериями, с их глупостью и недоверчивостью, то первый бежал бы от этих «детей природы» и нашел бы тогда, вероятно, что в Женеве, встретившей философа каменьями, все же люди ближе к природе, чем на островах Фиджи.
Определение цели воспитания мы считаем лучшим пробным камнем всяких философских, психологических и педагогических теорий. Мы увидим впоследствии, как запутался, например, Бенеке, когда ему пришлось, переходя от психологической теории к педагогическому ее приложению, определить цель воспитательной деятельности. Мы увидим также, как путается в подобном же случае и новейшая, позитивная философия.
Ясное определение цели воспитания мы считаем далеко не бесполезным и в практическом отношении. Как бы далеко ни запрятал воспитатель или наставник свои глубочайшие нравственные убеждения, но если только они в нем есть, то они выскажутся, может быть, невидимо для него самого, не только уже для начальства, в том влиянии, которое окажут на души детей, и будут действовать тем сильнее, чем скрытнее. Определение цели воспитания в уставах учебных заведений, предписаниях, программах и бдительный надзор начальства, убеждения которого также могут не всегда сходиться с уставами, совершенно бессильны в этом отношении. Выводя открытое зло, они будут оставлять скрытое, гораздо сильнейшее, и самим гонением какого-нибудь направления будут усиливать его действие. Неужели история не доказала еще множеством примеров, что самую слабую и в сущности пустую идею можно усилить гонением? Особенно это верно там, где идея обращается к детям и юношам, не знающим еще жизненных расчетов. Кроме того, всякие уставы, предписания, программы – самые дурные проводники идей. Уже сам собою плох тот защитник идеи, который принимается проводить ее только потому, что она высказана в уставе, и который точно так же примется проводить другую, когда устав переменится. С такими защитниками и проводниками идея далеко не уйдет. Не показывает ли это ясно, что если в мире финансовом или административном можно действовать предписаниями и распоряжениями, не справляясь о том, нравятся ли идеи их тем, кто будет их исполнять, то в мире общественного воспитания нет другого средства проводить идею, кроме откровенно высказываемого и откровенно принимаемого убеждения? Вот почему, пока не будет у нас такой среды, в которой бы свободно, глубоко и широко, на основании науки, формировались педагогические убеждения, находящиеся в теснейшей связи вообще с философскими убеждениями, общественное образование наше будет лишено основания, которое дается только прочными убеждениями воспитателей. Воспитатель не чиновник; а если он чиновник, то он не воспитатель, и если можно приводить в исполнение идеи других, то проводить чужие убеждения невозможно. Среда же, в которой могут формироваться педагогические убеждения, есть философская и педагогическая литература и те кафедры, с которых излагаются науки, служащие источником и педагогических убеждений: кафедры философии, психологии и истории. Мы не скажем, однако, что науки сами по себе дают убеждение, но они предохраняют от множества заблуждений при его формации.
Однако же примем покудова, что цель воспитания нами уже определена: тогда останется нам определить его средства. В этом отношении наука может оказать существенную помощь воспитанию. Только замечая природу, замечает Бэкон, можем мы надеяться управлять ею и заставить ее действовать сообразно нашим целям. Такими науками для педагогики, из которых она почерпает знания средств, необходимых ей для достижения ее целей, являются все те науки, в которых изучается телесная или душевная природа человека, и изучается притом не в мечтательных, но в действительных явлениях.
К обширному кругу антропологических наук принадлежат: анатомия, физиология и патология человека, психология, логика, филология, география, изучающая землю как жилище человека и человека как жильца земного шара, статистика, политическая экономия и история в обширном смысле, куда мы относим историю религии, цивилизации, философских систем, литератур, искусств и собственно воспитания в тесном смысле этого слова. Во всех этих науках излагаются, сличаются и группируются факты и те соотношения фактов, в которых обнаруживаются свойства предмета воспитания, т. е. человека.
Но неужели мы хотим, спросят нас, чтобы педагог изучал такое множество и таких обширных наук, прежде чем приступить к изучению педагогики в тесном смысле, как собрания правил педагогической деятельности? Мы ответим на этот вопрос положительным утверждением. Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях. В таком случае, заметят нам, педагогов еще нет, и не скоро они будут. Это очень может быть; но тем не менее положение наше справедливо. Педагогика находится еще не только у нас, но и везде в полном младенчестве, и такое младенчество ее очень понятно, так как многие из наук, из законов которых она должна черпать свои правила, сами еще недавно только сделались действительными науками и далеко еще не достигли своего совершенства.
Но разве несовершенство микроскопической анатомии, органической химии, физиологии и патологии помешало сделать их основными науками для медицинского искусства?
Но, заметят нам, в таком случае потребуется особый и обширный факультет для педагогов! А почему же и не быть педагогическому факультету? Если в университетах существуют факультеты медицинские и даже камеральные и нет педагогических, то это показывает только, что человек до сих пор более дорожит здоровьем своего тела и своего кармана, чем своим нравственным здоровьем, и более заботится о богатстве будущих поколений, чем о хорошем их воспитании. Общественное воспитание совсем не такое малое дело, чтобы не заслуживало особого факультета. Если же мы до сих пор, готовя технологов, агрономов, инженеров, архитекторов, медиков, камералистов, филологов, математиков, не готовили воспитателей, то не должны удивляться, что дело воспитания идет плохо и что нравственное состояние современного общества далеко не соответствует его великолепным биржам, дорогам, фабрикам, его науке, торговле и промышленности.
Цель педагогического факультета могла бы быть определеннее даже цели других факультетов. Этою целью было бы изучение человека во всех проявлениях его природы со специальным приложением к искусству воспитания. Практическое значение такого педагогического или вообще антропологического факультета было бы велико. Педагогов численно нужно не менее, а даже еще более, чем медиков, и если медикам мы вверяем, наше здоровье, то воспитателям вверяем нравственность и ум детей наших, вверяем их душу, а вместе с тем и будущность нашего отечества. Нет сомнения, что такой факультет охотно посещали бы и те молодые люди, которые не имеют нужды смотреть на образование с политико-экономической точки зрения, как на умственный капитал, долженствующий приносить денежные проценты.
Правда, заграничные университеты не представляют нам образцов педагогических факультетов; но ведь не все же, что за границей, то хорошо. Притом же там есть некоторая замена этих факультетов в учительских семинариях и в сильном историческом направлении воспитания, а у нас оно так же не пустило корней, как растение, которое дитя посадило и постоянно выдергивает, чтобы пересадить в другое место, не решаясь, какое выбрать.
Однако же, еще заметит нам читатель, такое младенчество педагогики и несовершенство тех наук, из которых она должна черпать свои правила, не помешали же воспитанию делать свое дело и давать очень часто, если не всегда, хорошие, а нередко и блестящие результаты. Вот в этом-то последнем мы очень сомневаемся. Мы не такие пессимисты, чтобы называть абсолютно дурным всякие порядки современной жизни, но и не такие оптимисты, чтобы не видеть, что нас до сих пор заедает бесчисленное множество нравственных и физических страданий, пороков, извращенных наклонностей, вредных заблуждений и тому подобных зол, от которых, очевидно, могло бы нас избавить одно хорошее воспитание. Кроме того, мы уверены, что воспитание, совершенствуясь, может далеко раздвинуть пределы человеческих сил: физических, умственных и нравственных. По крайней мере, на эту возможность ясно указывают и физиология и психология.
Здесь, может быть, опять нападает на читателя сомнение в том, чтобы от воспитания можно было ожидать существенных перемен в общественной нравственности. Разве мы не видим примеров, что отличное воспитание сопровождалось часто самыми печальными результатами? Разве мы не видим, что из-под ферулы у отличных воспитателей выходили иногда самые дурные люди? Разве Сенека не воспитал Нерона? Но кто же нам сказал, что это воспитание было действительно хорошо и что эти воспитатели были действительно хорошие воспитатели?
Что же касается до Сенеки, то если он не удержал своей болтливости и читал Нерону те же моральные сентенции, которыми подарил потомство, то мы можем прямо сказать, что сам же Сенека был одною из главных причин ужасной нравственной порчи своего страшного воспитанника. Такими сентенциями можно убить в ребенке, особенно если у него натура живая, всякую возможность развития нравственного чувства, и такую ошибку очень может сделать воспитатель, не знакомый с физическими и психическими свойствами человеческой природы. Ничто не искоренит в нас твердой веры в то, что придет время, хотя, может быть, и не скоро, когда потомки наши будут с удивлением вспоминать, как мы долго пренебрегали делом воспитания и как много страдали от этой небрежности.
Мы указали выше на одну несчастную сторону обычных понятий о воспитательном искусстве, а именно на то, что оно для многих кажется с первого взгляда делом понятным и легким: теперь же нам приходится указать на столь же несчастную и еще более вредную наклонность. Весьма часто мы замечаем, что люди, подающие нам воспитательные советы и начертывающие воспитательные идеалы или для своих воспитанников, или для своей родины, или вообще для всего человечества, втайне срисовывают эти идеалы с самих себя, так что всю воспитательную проповедь подобного проповедника можно выразить в нескольких словах: «Воспитывайте детей так, чтобы они походили на меня, и вы дадите им отличное воспитание; я же достиг подобного совершенства такими-то и такими-то средствами, а потому вот вам и готовая программа воспитания!» Дело, как видите, очень легкое; но только такой проповедник забывает познакомить нас со своею собственною личностью и своею биографией. Если же мы сами возьмем на себя этот труд и разъясним личную основу его педагогической теории, то найдем, что нам никак нельзя вести чистое дитя по тому нечистому пути, по которому прошел сам проповедник. Источник таких убеждений – отсутствие истинного христианского смирения, не того лживого, фарисейского смирения, которое потупляет глаза долу именно затем, чтобы иметь право горе вознести свою гордыню, но того, при котором человек с глубокою болью в сердце сознает свою испорченность и все свои скрытые пороки и преступления своей жизни, сознает даже и тогда, когда толпа, видящая только внешнее, а не внутреннее, называет эти преступления безразличными поступками, а иногда и подвигами. Такого полного самосознания достигают не все и не скоро. Но, приступая к святому делу воспитания детей, мы должны глубоко сознавать, что наше собственное воспитание было далеко не удовлетворительно, что результаты его большею частью печальны и жалки и что, во всяком случае, нам надо изыскивать средства сделать детей наших лучше нас.
Как бы ни казались обширны требования, которые мы делаем воспитателю, но эти требования вполне соответствуют обширности и важности самого дела. Конечно, если видеть в воспитании только обучение чтению и письму, древним и новым языкам, хронологии исторических событий, географии и т. п., не думая о том, какой цели достигаем мы при этом изучении и как ее достигаем, тогда нет надобности в специальном приготовлении воспитателей к своему делу; зато и самое дело будет идти, как оно теперь идет, как бы ни переделывали и ни перестраивали наших программ: школа по-прежнему будет чистилищем, через все степени которого надо пройти человеку, чтобы добиться, того или другого положения в свете, а действительным воспитателем будет по-прежнему жизнь, со всеми своими безобразными случайностями. Практическое значение науки в том и состоит, чтобы овладевать случайностями жизни и покорять их разуму и воле человека. Наука доставила нам средство плыть не только по ветру, но и против ветра; не ждать в ужасе громового удара, а отводить его; не подчиняться условиям расстояния, но сокращать его паром и электричеством. Но конечно, важнее и полезнее всех этих открытий и изобретений, часто не делающих человека ни на волос счастливее прежнего, потому что он внутри самого себя носит многочисленные причины несчастья, было бы открытие средств к образованию в человеке такого характера, который противостоял бы напору всех случайностей жизни, спасал бы человека от их вредного, растлевающего влияния и давал бы ему возможность извлекать отовсюду только добрые результаты.
Молодой Ушинский
Но так как, без сомнения, педагогические или антропологические факультеты в университетах появятся не скоро, то для выработки действительной теории воспитания, основанной на началах науки, остается одна дорога – дорога литературы, и, конечно, не одной педагогической литературы в узком смысле этого слова. Все, что споспешествует приобретению педагогами точных сведений по всем тем антропологическим наукам, на которых основываются правила педагогической теории, содействует и выработке ее. Мы полагаем, что эта цель уже и теперь достигается шаг за шагом, хотя очень медленно и страшно окольными путями. По крайней мере, это можно сказать о том распространении сведений по естественным наукам, и в особенности по физиологии, которого нельзя было не заметить в последнее время. Еще недавно можно было встретить воспитателей, которые не имели даже самых общих понятий о главнейших физиологических процессах, даже таких воспитателей и воспитательниц ex officio, которые сомневались в необходимости чистого воздуха для организма. Теперь же общие физиологические сведения, более или менее ясные и полные, встречаются уже везде, и нередко можно найти воспитателей, которые, не будучи ни медиками, ни естествоиспытателями, имеют порядочные сведения из анатомии и физиологии человеческого тела благодаря довольно обширной переводной литературе по этому отделу.
К сожалению, никак нельзя сказать того же о сведениях психологических, что зависит, главным образом, от двух причин: во-первых, оттого, что сама психология, несмотря на неоднократное заявление о вступлении ее на путь опытных наук, еще до сих пор продолжает более строить теории, чем изучать факты и сличать их; во-вторых, оттого, что в нашем общественном, образовании давно уже философия и психология находятся в забросе, что не осталось без вредных влияний на наше воспитание и было причиною печальной односторонности во взглядах многих воспитателей. Человек весьма естественно придает большее значение тому, что знает, перед тем, чего не знает. В Германии и Англии психологические сведения распространены между воспитателями гораздо более, чем у нас. В Германии почти каждый воспитатель знаком, по крайней мере, с психологической теорией Бенеке; в Англии – читал Локка и Рида. Кроме того, замечательно, что в Англии гораздо даже более, чем в Германии, издано было разных психологических учебников и популярных психологии; даже преподавание психологии, судя по назначению разных изданий в этом роде, введено в некоторые школы. И в этом виден как верный практический смысл англичан, так и влияние великих английских писателей по психологии. Отчизна Локка не могла отнестись с пренебрежением к этой науке. У нас же воспитатель, сколько-нибудь знакомый с психологией, составляет весьма редкое исключение; а психологическая литература, даже переводная, равняется нулю. Конечно, недостаток этот несколько восполняется тем, что каждый человек, сколько-нибудь наблюдавший над собой, уже более или менее знаком с душевными процессами; но мы увидим далее, что эти темные, безотчетные, неорганизованные психологические знания далеко не достаточны для того, чтобы ими одними можно было руководствоваться в деле воспитания.
Но мало еще иметь в своей памяти те факты различных наук, из которых могут возникнуть педагогические правила: надобно еще сопоставить эти факты лицом к лицу с целью допытаться от них прямого указания последствий тех или других педагогических мер и приемов. Каждая наука сама по себе только сообщает свои факты, мало заботясь о сравнении их с фактами других наук и о том приложении их, которое может быть сделано в искусствах и вообще в практической деятельности. На обязанности же самих воспитателей лежит извлечь из массы фактов каждой науки те, которые могут иметь приложение в деле воспитания, отделив их от великого множества тех, которые такого приложения иметь не могут, свести эти избранные факты лицом к лицу и, осветив один факт другим, составить из всех удобообозреваемую систему, которую без больших трудов мог бы усвоить каждый педагог-практик и тем избежать односторонностей, нигде столь не вредных, как в практическом деле воспитания.
Но возможно ли уже в настоящее время, сведя все факты наук, приложимые к воспитанию, построить полную и совершенную теорию воспитания? Мы никак этого не полагаем; потому что науки, на которых должно основываться воспитание, далеки еще от совершенства. Но неужели людям следовало отказаться от пользования железною дорогою на том основании, что они еще не выучились летать по воздуху? Человек идет в усовершенствованиях своей жизни не скачками, но постепенно, шаг за шагом, и, не сделав предыдущего шага, не может сделать последующего. Вместе с усовершенствованиями наук будет совершенствоваться и воспитательная теория, если только она, перестав строить правила, ни на чем не основанные, будет постоянно справляться с наукою в ее постоянно развивающемся состоянии и каждое свое правило выводить из того или другого факта или сопоставления многих фактов, добытых наукою.
Мы не только не думаем, чтобы полная и законченная теория воспитания, дающая ясные и положительные ответы на все вопросы воспитательной практики, была уже возможна; но не думаем даже, чтобы один человек мог составить такую теорию воспитания, которая уже действительно возможна при настоящем состоянии человеческих знаний. Можно ли надеяться, чтобы один и тот же человек был столь же глубоким физиологом и врачом, сколько и глубоким психологом, историком, филологом и т. д.? Поясним это примером. В каждой педагогике существует и теперь отдел физического воспитания, правила которого, чтобы быть сколько-нибудь положительными, точными и верными, должны быть выведены из обширного и глубокого знания анатомии, физиологии и патологии: иначе они будут походить на те бесцветные, пустые и бесполезные по своей общности и неопределенности, часто противоречащие, а иногда и вредные советы, которыми обыкновенно наполняется этот отдел в общих курсах педагогики, написанных не врачами. Но не может ли педагог заимствовать уже готовые советы из медицинских сочинений по гигиене? Это, конечно, возможно, но при том условии, чтобы педагог обладал сам такими сведениями, которые дали бы ему возможность отнестись критически к этим медицинским советам, часто противоречащим один другому, да кроме того, необходимо, чтобы и слушатели и слушательницы его обладали такими предварительными сведениями по физике, химии, анатомии и физиологии, чтобы могли понять объяснение правил физического воспитания, основанное на этих науках. Положим, например, что педагогу приходится дать совет, чем следует кормить младенца, если почему-нибудь он не может пользоваться своею естественною пищею, или какую пищу следует назначить для того, чтобы облегчить ему переход от груди к обыкновенной пище. В каждой гигиене педагог встретит различные мнения: одна советует кашку из сухарей, другая – аророут, третья – молоко сырое, четвертая – кипяченое, одна находит необходимость подмешивать к молоку воду, другая находит это вредным и т. д. На чем же остановиться добросовестному педагогу, если он сам не медик и не знает настолько химии и физиологии, чтобы отдать преимущество одному совету перед другим? То же самое и в дальнейшей пище: одна гигиена держится преимущественно мясной и дает мясной бульон еще до прореза зубов; другая находит это вредным; третья предпочитает пищу растительную и не отворачивается даже от картофеля, на который четвертая смотрит с ужасом. Те же противоречия относительно температуры ванн и комнат. В германских закрытых заведениях дети спят при 5R тепла и ниже, едят картофель и здоровы. Казалось бы, что у нас следует еще более, чем в Германии, приучать детей к холоду и, держа низкую температуру в комнатах, и особенно в спальнях, смягчать ту страшную резкость переходов, которую выдерживают наши легкие, переходя из 15R тепла в 20R мороза; но мы положительно думаем, что если бы вздумали в наших учебных заведениях держать детей в такой же холодной спальне, как, например, у Стоя в Иене, то подвергли бы их серьезной опасности, особенно если бы им при этом давали и ту же пищу. Но можем ли мы чем-нибудь мотивировать наше мнение? Неужели ограничиться нам словом «кажется» или «мы убеждены»? Кто же обязывается разделять наши убеждения, которых мы не можем основать на точных физических и физиологических законах или, по крайней мере, на опытности, опирающейся на долгую медицинскую практику?
Мужская классическая гимназия
Вот почему мы, не обладая специальными сведениями в медицине, вовсе удержались в нашей книге от подачи советов по физическому воспитанию, кроме тех общих, для которых мы имели достаточные основания. В этом отношении педагогика должна ожидать еще важных услуг от педагогов, специалистов в медицине. Но не одни педагоги, специалисты по анатомии, физиологии и патологии, могут из области своих специальных наук оказать важную услугу всемирному и вечно совершающемуся делу воспитания. Подобной же услуги следует ожидать, например, от историков и филологов. Только педагог-историк может уяснить нам влияние общества в его историческом развитии на воспитание и влияние воспитания на общество, не гадательно только, как делается это теперь почти во всех всеобъемлющих германских педагогиках, но основывая всякое положение на точном и подробном изучении фактов. Точно так же от педагогов, специалистов по филологии, следует ожидать, что они фактически обработают важный отдел в педагогике, показав нам, как совершалось и совершается развитие человека в области слова: насколько психическая природа человека отразилась в слове и насколько слово, в свою очередь, имело и имеет влияние на развитие души.
Но и наоборот: медик, историк, филолог могут принести непосредственную пользу делу воспитания только в том случае, если они не только специалисты, но и педагоги: если педагогические вопросы предшествуют в их уме всем их изысканиям, если они, кроме того, хорошо знакомы с физиологией, психологией и логикой – этими тремя главными основами педагогики.
Из всего, что нами сказано, мы можем сделать следующий вывод:
Педагогика не наука, а искусство – самое обширное, сложное, самое высокое и самое необходимое из всех искусств. Искусство воспитания опирается на науку. Как искусство сложное и обширное, оно опирается на множество обширных и сложных наук; как искусство оно кроме знаний требует способности и наклонности, и как искусство же оно стремится к идеалу, вечно достигаемому и никогда вполне недостижимому: к идеалу совершенного человека. Споспешествовать развитию искусства воспитания можно только вообще распространением между воспитателями тех разнообразнейших антропологических знаний, на которых оно основывается. Достигать этого было бы правильнее устройством особых факультетов, конечно, не для приготовления всех учителей, в которых нуждается та или другая страна, но для развития самого искусства и приготовления тех лиц, которые или своими сочинениями, или прямым руководством могли бы распространять в массе учителей необходимые для воспитателей познания и оказывать влияние на формировку правильных педагогических убеждений как между воспитателями и наставниками, так и в обществе. Но так как педагогических факультетов мы долго не дождемся, то остается один путь для развития правильных идей воспитательного искусства – путь литературный, где каждый из области своей науки содействовал бы великому делу воспитания.
Но если нельзя требовать от воспитателя, чтобы он был специалистом во всех тех науках, из которых могут быть почерпаемы основания педагогических правил, то можно и должно требовать, чтобы ни одна из этих наук не была ему совершенно чуждою, чтобы по каждой из них он мог понимать, по крайней мере, популярные сочинения и стремился, насколько может, приобресть всесторонние сведения о человеческой природе, за воспитание которой берется.
Ни в чем, может быть, одностороннее направление знаний и мышления так не вредно, как в педагогической практике. Воспитатель, который глядит на человека сквозь призму физиологии, патологии, психиатрии, так же дурно понимает, что такое человек и каковы потребности его воспитания, как и тот, кто изучил бы человека только в великих произведениях искусств и великих исторических деяниях и смотрел бы на него вообще сквозь призму великих совершенных им дел. Политико-экономическая точка зрения, без сомнения, тоже очень важна для воспитания; но как бы ошибся тот, кто смотрел бы на человека только как на экономическую единицу – на производителя и потребителя ценностей! Историк, изучающий только великие или, по крайней мере, крупные деяния народов и замечательных людей, не видит частных, но тем не менее глубоких страданий человека, которыми куплены все эти громкие и нередко бесполезные дела. Односторонний филолог еще менее способен быть хорошим воспитателем, чем односторонний физиолог, экономист, историк. Не односторонность ли филологического образования, преобладавшая до новейшего времени во всех школах Западной Европы, пустила в ход бесчисленное множество чужих, плохо переваренных фраз, которые, обращаясь теперь между людьми, вместо действительных, глубоко сознанных идей, затрудняют оборот человеческого мышления, как фальшивая монета затрудняет обороты торговли? Сколько глубоких идей древности пропадает теперь даром именно потому, что человек заучивает их прежде, чем бывает в состоянии их понять, и так приучается употреблять их ложно и бессмысленно, что потом редко добирается до их истинного смысла. Такие великие, но чужие мысли несравненно бесполезнее хотя маленьких, да своих. Не оттого ли и самый язык современной литературы уступает в точности и выразительности языку древних, что мы учимся говорить почти единственно из книг и пробавляемся чужими фразами, тогда как слово древнего писателя вырастало из его собственной мысли, а мысль – из непосредственного наблюдения над природой, другими людьми и самим собою? Мы не оспариваем великой пользы филологического образования, но показываем только вред его односторонности. Слово хорошо тогда, когда оно верно выражает мысль; а верно оно выражает мысль тогда, когда вырастает из нее, как кожа из организма, а не надевается, как перчатка, сшитая из чужой кожи. Мысль же современного писателя часто бьется во множестве вычитанных им фраз, которые для нее или слишком узки, или слишком широки. Язык, конечно, есть один из могущественнейших воспитателей человека; но он не может заменить собою знаний, извлекаемых прямо из наблюдений и опытов. Правда, язык ускоряет и облегчает приобретение таких знаний; но он же может и помешать ему, если внимание человека слишком рано и преимущественно было обращено не на содержание, а на форму мысли, да притом еще мысли чужой, до понимания которой, может быть, еще и не дорос учащийся. Не уметь хорошо выражать своих мыслей – недостаток; но не иметь самостоятельных мыслей – еще гораздо больший; самостоятельные же мысли вытекают только из самостоятельно же приобретаемых знаний. Кто не предпочтет человека, обогащенного фактическими сведениями и мыслящего самостоятельно и верно, хотя выражающегося с трудом, человеку, у которого способность говорить обо всем чужими фразами, хотя бы взятыми даже из лучших классических писателей, далеко переросла и количество знаний и глубину мышления? Если же бесконечный спор о преимуществах реального и классического образования длится еще до сих пор, то только потому, что самый вопрос этот поставлен неверно и факты для его решения отыскиваются не там, где их должно искать. Не о преимуществах этих двух направлений в образовании, а о гармоническом их соединении следовало бы говорить и искать средств этого соединения в душевной природе человека.
Воспитатель должен стремиться узнать человека, каков он есть в действительности, со всеми его слабостями и во всем его величии, со всеми его будничными, мелкими нуждами и со всеми его великими духовными требованиями. Воспитатель должен знать человека в семействе, в обществе, среди народа, среди человечества и наедине со своею совестью; во всех возрастах, во всех классах, во всех положениях, в радости и горе, ц величий и унижении, в избытке сил и в болезни, среди неограниченных надежд и на одре смерти, когда слово человеческого утешения уже бессильно. Он должен знать побудительные причины самых грязных и самых высоких деяний, историю зарождений преступных и великих мыслей, историю развития всякой страсти и всякого характера. Тогда только будет он в состоянии почерпать в самой природе человека средства воспитательного влияния – а средства эти громадны!
Мы сохраняем твердое убеждение, что великое искусство воспитания едва только начинается, что мы стоим еще в преддверии этого искусства и не вошли в самый храм его и что до сих пор люди не обратили на воспитание того внимания, какого оно заслуживает. Много ли насчитываем мы великих мыслителей и ученых, посвятивших свой гений делу воспитания? Кажется, люди думали обо всем, кроме воспитания, искали средств величия и счастья везде, кроме той области, где скорее всего их можно найти. Но уже теперь видно, что наука созревает до той степени, когда взор человека невольно будет обращен на воспитательное искусство.
Читая физиологию, на каждой странице мы убеждаемся в обширной возможности действовать на физическое развитие индивида, а еще более на последовательное развитие человеческой расы. Из этого источника, только что открывающегося, воспитание почти еще и не черпало. Пересматривая психические факты, добытые в разных теориях, мы поражаемся едва ли еще не более обширною возможностью иметь громадное влияние на развитие ума, чувства и воли в человеке и точно так же поражаемся ничтожностью той доли из этой возможности, которою уже воспользовалось воспитание.
Посмотрите на одну силу привычки: чего нельзя сделать из человека с одной этой силой? Посмотрите хотя на то, например, что делали ею спартанцы из своих молодых поколений, и сознайтесь, что современное воспитание пользуется едва малейшею частицею этой силы. Конечно, спартанское воспитание было бы теперь нелепостью, не имеющей цели; но разве не нелепость то изнеженное воспитание, которое сделало нас и делает наших детей доступными для тысячи неестественных, но тем не менее мучительных страданий и заставляет тратить благородную жизнь человека на приобретение мелких удобств жизни? Конечно, странен спартанец, живший и умиравший только для славы Спарты; но что вы скажете о жизни, которая вся была бы убита на приобретение роскошной мебели, покойных экипажей, бархатов, кисеи, тонких сукон, благовонных сигар, модных шляпок? Не ясно ли, что воспитание, стремящееся только к обогащению человека и вместе с тем плодящее его нужды и прихоти, берет на себя труд Данаид? Изучая процесс памяти, мы увидим, как бессовестно еще обращается с нею наше воспитание, как валит оно туда всякий хлам и радуется, если изо ста брошенных туда сведений одно как-нибудь уцелеет; тогда как воспитатель собственно не должен бы давать воспитаннику ни одного сведения, на сохранение которого он не может рассчитывать. Как мало еще сделала педагогика для облегчения работы памяти – мало и в своих программах, и в своих методах, и в своих учебниках! Всякое учебное заведение жалуется теперь на множество предметов учения – и действительно, их слишком много, если принять в расчет их педагогическую обработку и методу преподавания; но их слишком мало, если смотреть на беспрестанно разрастающуюся массу сведений человечества. Гербарт, Спенсер, Конт и Милль весьма основательно доказывают, что наш учебный материал должен подвергнуться сильному пересмотру, а программы наши должны быть до основания переделаны. Но и в отдельности ни один учебный предмет далеко еще не получил той педагогической обработки, к которой он способен, что более всего зависит от ничтожности и шаткости наших сведений о душевных процессах. Изучая эти процессы, нельзя не видеть возможности дать человеку с обыкновенными способностями, и дать прочно, в десять раз более сведений, чем получает теперь самый талантливый, тратя драгоценную силу памяти на приобретение тысячи знаний, которые потом позабудет без следа. Не умея обращаться с памятью человека, мы утешаем себя мыслью, что дело воспитания – только развить ум, а не наполнять его сведениями; но психология обличает ложь этого утешения, показывая, что самый ум есть не что иное, как хорошо организованная система знаний.
Но если неумение наше учить детей велико, то еще гораздо больше наше неумение действовать на образование в них душевных чувств и характера. Тут мы положительно бродим впотьмах, тогда как наука предвидит уже полную возможность внести свет сознания и разумную волю воспитателя в эту доселе почти недоступную область.
Еще менее, чем душевными чувствами, умеем мы пользоваться волею человека – этим могущественнейшим рычагом, который может изменять не только душу, но и тело с его влияниями на душу. Гимнастика, как система произвольных движений, направленных к целесообразному изменению физического организма, только еще начинается, и трудно видеть пределы возможности ее влияния не только на укрепление тела и развитие тех или других его органов, но и на предупреждение болезней и даже излечение их. Мы думаем, что недалеко то время, когда гимнастика окажется могущественнейшим медицинским средством даже в глубоких внутренних болезнях. А что же такое гимнастическое лечение и воспитание физического организма, как не воспитание и лечение его волею человека? Направляя физические силы организма к тому или другому органу тела, воля переделывает тело или излечивает его болезни. Если же мы примем во внимание те чудеса настойчивости воли и силы привычки, которые так бесполезно расточаются, например, индийскими фокусниками и факирами, то увидим, как еще мало пользуемся мы властью нашей воли над телесным организмом. Словом, во всех областях воспитания мы стоим только при начале великого искусства, тогда как факты науки указывают на возможность для него самой блестящей будущности, и можно надеяться, что человечество, наконец, устанет гнаться за внешними удобствами жизни и пойдет создавать гораздо прочнейшие удобства в самом человеке, убедившись не на словах только, а на деле, что главные источники нашего счастья и величия не в вещах и порядках, нас окружающих, а в нас самих.
Выставив взгляд наш на искусство воспитания, на теорию этого искусства, на его бледное настоящее, на его необъятное будущее и на то, какими средствами могла бы мало-помалу вырабатываться и совершенствоваться воспитательная теория, мы тем самым показали уже, как мы далеки от мысли дать в нашей книге не только такую теорию воспитания, которую мы считали бы совершенною, но даже и такую, которую считаем уже невозможною в настоящее время, если бы составитель ее был основательно знаком со всеми разнообразными науками, на которых она должна строить свои правила. Наша задача далеко не так обширна, и мы выясним всю ее ограниченность, если расскажем, как и для чего задумали наш труд.
Лет восемь тому назад педагогические идеи оживились у нас с такою силой, какой нельзя было и ожидать, приняв в расчет почти совершенное отсутствие педагогической литературы до того времени. Мысль о народной школе, которая удовлетворяла бы потребностям народа, вступавшего в новый период своего существования, пробудилась повсеместно. Несколько педагогических журналов, появившихся почти одновременно, находили себе читателей; в журналах общелитературных педагогические статьи появлялись беспрестанно и занимали видное место; повсюду писались и обсуждались проекты различных реформ по общественному образованию, даже в семействах гораздо чаще стали слышаться педагогические беседы и споры. Читая педагогические проекты разного рода и статьи, присутствуя при обсуждении педагогических вопросов в различных собраниях, прислушиваясь к частным спорам, мы пришли к убеждению, что все эти толки, споры, проекты, журнальные статьи выиграли бы много в основательности, если бы придавали одно и то же значение психологическим и отчасти физиологическим и философским терминам, которые в них беспрестанно повторялись. Нам казалось, что иное педагогическое недоумение или горячий педагогический спор могли бы легко быть решены, если бы, употребляя слова: рассудок, воображение, память, внимание, сознание, чувство, привычка, навык, развитие, воля и т. д., согласились сначала в том, что разуметь под этими словами. Иногда было совершенно очевидно, что одна из спорящих сторон понимает под словом память, например, то же самое, что другая под словом рассудок или воображение, и обе употребляют эти слова как совершенно известные, заключающие в себе точно определенное понятие. Словом, пробудившаяся тогда педагогическая мысль обнаружила существенное упущение в нашем общественном образовании, а также и в нашей литературе, которая могла бы дополнить образование. Едва ли мы ошибемся, если скажем, что литература наша в то время не имела ни одного сколько-нибудь основательного психологического сочинения, ни оригинального, ни переводного, а в журналах психологическая статья была редкостью, и притом редкостью незанимательною для читателей, ничем не подготовленных к такому чтению. Тогда пришло нам на мысль: нельзя ли внести в наше только что пробуждающееся педагогическое мышление сколь возможно точное и ясное понимание тех психических и психофизических явлений, в области которых это мышление необходимо должно вращаться. Предварительные занятия философиею и отчасти психологиею, а потом педагогикою дали нам повод думать, что мы можем до некоторой степени способствовать удовлетворению этой потребности и хотя начать разъяснение тех основных идей, около которых необходимо вращаются всякие воспитательные соображения.
Но как это сделать? Перенести к нам целиком одну из психологических теорий Запада мы не могли, ибо сознавали односторонность каждой из них и что во всех них есть своя доля правды и ошибки, своя доля верных выводов из фактов и ни на чем не основанных фантазий. Мы пришли к убеждению, что все эти теории страдают теоретическою самонадеянностью, объясняя то, что еще нет возможности объяснить, ставя вредный призрак знания там, где следует сказать еще простое не знаю, строя головоломные и утлые мосты через неизведанные еще пропасти, на которые следовало просто только указать, и, словом, дают читателю за несколько верных и потому полезных знаний столько же, если не больше, ложных и потому вредных фантазий. Нам казалось, что все эти теоретические увлечения, совершенно необходимые в процессе образования науки, должны быть оставлены, когда приходится пользоваться результатами, добытыми наукою, для приложения их к практической деятельности. Теория может быть односторонняя, и эта односторонность ее даже бывает очень полезна, освещая особенно ту сторону предмета, которую другие оставляли в тени; но практика должна быть по возможности всесторонняя. «Идеи мирно уживаются в голове; но вещи тяжело сталкиваются в жизни», – говорит Шиллер, и если иам приходится не разрабатывать науку, а иметь дело с действительными предметами действительного мира, то часто мы бываем вынуждены поступаться своими теориями требованиям действительности, в уровень которой не выросла еще ни одна психологическая система. В педагогиках, написанных психологами, каковы педагогики Гербарта и Бенеке, мы часто с поразительной ясностью можем наблюдать это столкновение психологической теории с педагогической действительностью.
Сознавая все это, мы задумали изо всех известных нам психологических теорий взять только то, что казалось нам несомненным и фактически верным, снова проверить взятые факты внимательным и общедоступным самонаблюдением и анализом, дополнить новыми наблюдениями, если это где-нибудь окажется по нашим силам, оставить откровенные пробелы везде, где факты молчат, а если где, для группировки фактов и уяснения их, понадобится гипотеза, то, избрав наиболее распространенную и вероятную, отметить ее везде не как достоверный факт, а как гипотезу. При всем этом мы полагали опираться на собственное сознание наших читателей – ultimum argumentum в психологии, перед которым бессильны всякие авторитеты, хотя бы они были озаглавлены громкими именами Аристотеля, Декарта, Бэкона, Локка. Из психических явлений мы полагали останавливаться преимущественно на тех, которые имеют большее значение для педагога, прибавить те из физиологических фактов, которые необходимы для уяснения психических, словом, мы тогда еще задумали и начали подготовлять «Педагогическую антропологию». Мы думали кончить этот труд года в два, но, отрываемые от наших занятий различными обстоятельствами, только теперь выпускаем в свет первый том, и то далеко не в том виде, который бы удовлетворял нас. Но что же делать? Может быть, если бы мы снова принялись его исправлять и перерабатывать, то никогда бы и не издали. Всякий дает, что может дать по своим силам и по своим обстоятельствам. Впрочем, мы рассчитываем на снисходительность читателя, если он вспомнит, что это первый труд в таком роде – первая попытка не только в нашей, но и в общей литературе, по крайней мере, насколько она нам известна: а первый блин всегда бывает комом; но без первого не будет второго.
Правда, Гербарт, а потом Бенеке пытались уже вывести педагогическую теорию прямо из психологических оснований; но этим основанием были их собственные теории, а не психологические, несомненные факты, добытые всеми теориями. Педагогики Гербарта и Бенеке, – скорее, добавления к их психологии и метафизике, и мы увидим, к каким натяжкам часто вел такой образ действия. Мы же задали себе задачу без всякой предвзятой теории насколько возможно точнее изучить те психические явления, которые имеют наибольшее значение для педагогической деятельности. Другой недостаток в педагогических приложениях Гербарта и Бенеке тот, что они совершенно почти выпустили из виду явления физиологические, которых, по их тесной, неразрывной связи с явлениями психическими, выпустить невозможно. Мы же безразлично пользовались как психологическим самонаблюдением, так и физиологическими наблюдениями, имея в виду одно – объяснить, сколь возможно, те психические и психофизические явления, с которыми имеет дело воспитатель.
Правда также, что педагогика Карла Шмидта опирается и на физиологию, и на психологию, и еще более на первую, чем на последнюю; но в этом замечательном сочинении дан такой разгул германской ученой мечтательности, что в нем менее фактов, чем поэтических увлечений разнообразнейшими надеждами, вызванными наукою, но далеко еще не осуществившимися. Читая эту книгу, часто кажется, что слышишь бред германской науки, где могучее слово многостороннего знания едва прорывается сквозь тучу фантазий – гегелизма, шеллингизма, материализма, френологических призраков. Может быть, название нашего труда – «Педагогическая антропология» не вполне соответствует его содержанию, и во всяком случае далеко обширнее того, что мы можем дать; но точность названия, равно как и научная стройность системы, нас мало занимали. Мы всему предпочитали ясность изложения, и если нам удалось объяснить сколько-нибудь те психические и психофизические явления, за объяснение которых мы взялись, то и этого уже с нас довольно. Нет ничего легче, как разгородить стройную систему, озаглавив каждую из ее клеток то римскими и арабскими цифрами, то буквами всех возможных азбук; но подобные системы изложения всегда казались нам не только бесполезными, но вредными путами, которые писатель добровольно и совершенно напрасно надевает сам на себя, обязываясь вперед наполнить все эти клетки, хотя в иную, за неимением действительного материала, не оставалось бы поместить ничего, кроме пустых фраз. Такие стройные системы часто платят за свою стройность истиною и пользою. Кроме того, если и возможно такое догматическое изложение, то только в том случае, когда автор задался уже предвзятою, вполне законченною теориею, знает все, что относится к его предмету, ни в чем не сомневается сам и, постигнув альфу и омегу своей науки, начинает поучать ей своих читателей, которые должны только стараться уразуметь то, что говорит автор. Мы же думали – и, вероятно, читатель согласится с нами, что такой способ изложения не возможен еще ни для психологии, ни для физиологии и что надобно быть большим мечтателем, чтобы считать эти науки законченными и думать, что можно уже без натяжки вывести все их положения из одного основного принципа.
Воспитанницы женской гимназии
Подробности методы, которой мы придерживаемся при изучении психических явлений, изложены нами в той главе, где мы переходим от физиологии к психологии (т. I, гл. XVIII). Здесь же нам следует сказать еще несколько слов о том, как мы пользовались различными психологическими теориями.
Мы старались не быть пристрастными ни к одной из них и брали хорошо описанный психический факт или объяснение его, казавшееся нам наиболее удачным, не разбирая, где мы его находили. Мы не стеснялись брать его у Гегеля или гегелианцев, не обращая внимания на ту дурную славу, которою гегелизм расплачивается теперь за прежний, отчасти мишурный блеск. Мы не стеснялись также заимствовать и у материалистов, несмотря на то, что считаем их систему столь же одностороннею, как и идеализм. Верная мысль на страницах сочинения Спенсера нравилась нам более, чем великолепная фантазия, встречающаяся у Платона. Аристотелю мы обязаны за очень многие меткие описания психических явлений; но и это великое имя не связывало нас нигде и должно было везде уступать дорогу нашему собственному сознанию и сознанию наших читателей – этому свидетельству «паче всего мира». Декарт и Бэкон, эти две личности, отделившие новое мышление от средневекового, имели большое влияние на ход наших идей: индуктивная метода последнего привела нас неудержимо к дуализму первого. Мы знаем очень хорошо, как ославлен теперь картезианский дуализм; но если он единственно мог объяснить нам то или другое психическое явление, то мы не видели причины, почему бы не должны были пользоваться могучею помощью этого взгляда, когда наука не дала нам еще ничего, чем мы могли бы его заменить. Мы вовсе не сочувствуем восточному миросозерцанию Спинозы, но нашли, что никто лучше него не очертил человеческих страстей. Мы очень многим обязаны Локку, но не затруднялись стоять на стороне Канта там, где он до очевидности ясно показывает невозможность такого опытного происхождения некоторых идей, на которое указывает Локк. Кант был для нас великим мыслителем, но не психологом, хотя в его «Антропологии» мы нашли много метких психических наблюдений. В Гербарте мы видели великого психолога, но увлеченного германской мечтательностью и метафизическою системою Лейбница, которая нуждается в слишком многих гипотезах, чтоб держаться. В Бенеке мы нашли удачного популяризатора гербартовских идей, но ограниченного систематика. Джону Стюарту Миллю мы обязаны многими светлыми взглядами, но не могли не заметить ложной метафизической подкладки в его «Логике». Бэн также уяснил нам много психических явлений; но его теория душевных токов показалась нам вполне несостоятельною. Таким образом, мы отовсюду брали, что нам казалось верным и ясным, никогда не стесняясь тем, какое имя носит источник и хорошо ли он звучит в ушах той или другой из современных метафизических партий. Но какова же наша собственная теория, спросят нас? Никакой, ответим мы, если ясное стремление предпочитать факт не может дать нашей теории названия фактической. Мы шли везде за фактами и насколько вели нас факты: где факты переставали говорить, там мы ставили гипотезу – и останавливались, никогда не употребляя гипотезу как признанный факт. Может быть, некоторые подумают, «как можно сметь свое суждение иметь» в таком знаменитом обществе? Но нельзя же иметь разом десять различных мнений, а мы были бы вынуждены к этому, если бы не решились оспаривать Локка или Канта, Декарта или Спинозу, Гербарта или Милля.
Нужно ли говорить о значении психологии для педагога? Должно быть, нужно, если у нас столь немногие из педагогов обращаются к изучению психологии. Конечно, никто не сомневается в том, что главная деятельность воспитания совершается в области психических и психофизических явлений; но обыкновенно рассчитывают в этом случае на тот психологический такт, которым в большей или меньшей степени обладает каждый, и думают, что уже этого одного такта достаточно, чтобы оценить истину тех или других педагогических мер, правил и наставлений.
Так называемый педагогический такт, без которого воспитатель, как бы он ни изучил теорию педагогики, никогда не будет хорошим воспитателем-практиком, есть в сущности не более, как такт психологический, который столько же нужен литератору, поэту, оратору, актеру, политику, проповеднику и, словом, все тем лицам, которые так или иначе думают действовать на душу других людей, сколько и педагогу. Педагогический такт есть только особое приложение такта психологического, его специальное развитие в области педагогических понятий. Но что же такое сам этот психологический такт? Не что иное, как более или менее темное и полусознательное собрание воспоминаний разнообразных психических актов, пережитых нами самими. На основании этих-то воспоминаний душою своей собственной истории человек полагает возможным действовать на душу другого человека и избирает для этого именно те средства, действительность которых испробовал на самом себе. Мы не думаем уменьшать важности этого психологического такта, как это сделал Бенеке, который полагал тем самым резче выставить необходимость изучения своей психологической теории. Напротив, мы скажем, что никакая психология не может заменить человеку психологического такта, который незаменим в практике уже потому, что действует быстро, мгновенно, тогда как положения науки припоминаются, обдумываются и оцениваются медленно. Возможно ли представить себе оратора, который вспоминал бы тот или другой параграф психологии, желая вызвать в душе слушателя сострадание, ужас или негодование? Точно так же и в педагогической деятельности нет никакой возможности действовать по параграфам психологии, как бы ни твердо они были изучены. Но без сомнения, психологический такт не есть что-нибудь врожденное, а формируется в человеке постепенно: у одних быстрее, обширнее и стройнее, у других медленнее, скуднее и отрывочнее, что уже зависит от других свойств души, – формируется по мере того, как человек живет и наблюдает, преднамеренно или без намерения, над тем, что совершается в его собственной душе. Душа человека узнает сама себя только в собственной своей деятельности, и познания души о самой себе так же, как и познания ее о явлениях внешней природы, слагаются из наблюдений. Чем более будет этих наблюдений души над собственною своею деятельностью, тем будут они настойчивее и точнее, тем больший и лучший психологический такт разовьется в человеке, тем этот такт будет полнее, вернее, стройнее. Из этого вытекает уже само собою, что занятие психологиею и чтение психологических сочинений, направляя мысль человека на процесс его собственной души, может сильно содействовать развитию в нем психологического такта.
Но не всегда же педагог быстро действует и решает: часто приходится ему обсуждать или уже принятую меру, или ту, которую он думает еще предпринять: тогда он может и должен, не полагаясь на одно темное психологическое чувство, уяснить себе вполне те психические или физиологические основания, на которых строится обсуждаемая мера. Кроме того, всякое чувство есть дело субъективное, непередаваемое, тогда как знание, изложенное ясно, доступно для всякого. Особенно же недостаток определенных психологических знаний, как мы уже заметили выше, выказывается, когда какая-нибудь педагогическая мера обсуждается не одним, а несколькими лицами. По невозможности передачи психологического чувства и самая передача педагогических познаний на основании одного чувства становится невозможною. Тут остается одно из двух: положиться на авторитет говорящего или узнать тот психический закон, на котором основывается то или другое педагогическое правило. Вот почему как излагающий педагогику, так и слушающий ее должны непременно прежде сойтись в понимании психических и психофизических явлений, для которых педагогика служит только приложением их к достижению воспитательной цели.
