Немецкая философия. Философия времени в автопортретах. Том 2. Под редакцией и с предисловием Раймунда Шмидта бесплатное чтение
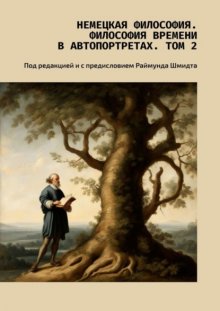
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0062-4761-1 (т. 2)
ISBN 978-5-0062-4759-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ЭРИХ АДИКЕС
Как в день, давший тебя миру, Солнце стояло в приветствии планет, Ты сразу же и дальше расцвел По закону, по которому ты начался.
Так должно быть, от тебя не уйти, Так говорили сибилы, так говорили пророки;
И никакое время и никакая сила не в силах расчленить вылепленную форму, которая развивается живьем.
Гете.
От того, какую философию человек выбирает, зависит, каким человеком он является.
Й. Г. Фихте.
Когда я оглядываюсь на свою жизнь и на свое философское развитие, я воочию вижу ту закономерность, с которой все происходило. Закономерность, разумеется, чисто внутреннего характера, которая не исключает свободу от внешнего принуждения, а включает ее! И читатель, возможно, также поймет из моего развития, как из типичного примера, ту истину, что каждое мировоззрение, которое человек не просто принимает внешне, но действительно переживает внутри себя как освобождающее и удовлетворяющее решение великих загадок мира, вырастает из глубины его личности с внутренней необходимостью.
I.
Я родился 29 июня 1866 года в Лесуме под Бременом, где мой отец с 1852 года был мировым судьей. На протяжении более 40 лет он пользовался всеобщим уважением жителей своего суда и был известен как «мировой судья». Он происходил из фермерской семьи с заболоченного участка «Земля Вюрстен» (в устье Везера вниз по течению от Бремерхафена), члены которой на протяжении многих поколений благодаря доверию сограждан занимали ведущие посты в местных органах власти страны. Его жена Теодора, урожденная Шапюзо, принадлежала к гугенотской семье; ее предок переселился в Германию в 1682 году.
Мои родители были глубоко религиозны. Они испытали сильное влияние ревивалистского движения 30-40-х годов прошлого века и до конца жизни непоколебимо держались религиозного мира пиетизма на старой лютеранско-ортодоксальной основе, в котором они выросли в то время. Что такое и к чему стремится благочестие, как оно полностью пронизывает жизнь и распространяет на нее особый отблеск, стало ясно мне еще в детстве, и без такого яркого наглядного обучения все религиозные идеи, как бы убедительно они ни преподносились, остаются лишь мертвыми словами.
В Лесуме я посещал «Rektorschule», школу для мальчиков и девочек, затем три четверти года занимался с частными преподавателями, а на Рождество 1880 года перешел в христианскую гимназию (Christianeum) в Альтоне, где на Пасху 1884 года сдал выпускные экзамены.
Уже с 5-го класса мне было ясно, что я хочу стать пастором. Но в то же время моя любовь к науке и исследованиям стала настолько сильной, что академическая карьера привлекала меня больше всего. Я также не был склонен отказываться от любви к миру в той степени, которая казалась необходимой для пастора. Поэтому, хотя я поступил на теологический факультет в Тюбингене, я с самого начала посещал также исторические и философские лекции, чтобы сдать филологический государственный экзамен и иметь надежную основу в качестве частного преподавателя.
Я впитал в себя всю толщу учения православия, как мне казалось, с твердым внутренним убеждением, и старался, насколько это было возможно, воплотить ее в своем опыте. Мне не удалось ощутить близость к Богу во время причастия так, как обещали трактаты об этом таинстве. По этой самой причине я некоторое время жил с серьезным опасением, что буду есть и пить свою собственную пищу с чувством неподобающего упоения.
Чувство вины и греха уже было очень сильно развито в мальчике. Ночью в постели меня часто охватывал такой страх перед возможностью вечного проклятия, что я разражался судорожными рыданиями, и успокоить меня с трудом мог только отец.
В начальной школе, по случаю религиозного обучения у свободомыслящего учителя, во мне зародились тихие сомнения, но они касались лишь внешних сторон ортодоксальной системы, прежде всего хронологии Ветхого Завета и буквальности вдохновения. Они были развеяны непосредственно перед моим поступлением в университет братом, который был пастором в библейском центре Dächsel: там мне было «доказано» – и я изо всех сил старался, чтобы мои сомнения были заглушены этими «доказательствами», – что в Библии нет ни ошибок, ни противоречий, что в хронологии также все в полном порядке и что год сотворения мира, а также рождения Авраама и смерти Давида можно определить с полной достоверностью. Когда я попытался приблизить процесс вдохновения к своему пониманию, сравнив его с соловьем (язык которого человек не понимает слово в слово, но чувствует и знает, что он хочет выразить), мне сказали, что «желание все понять» только умаляет оригинальность и уверенность веры, что необходимо подчинить понимание и разум Слову Божьему, открытому в Библии, в которой каждое слово исходит непосредственно от Бога.
В Тюбингене я слушал лекции Каутского по Ветхому Завету, и передо мной открылся новый мир. То, что отрицал Дэксель, здесь считалось само собой разумеющимся. Теория Велльхаузена о составе Пятикнижия излагалась с рвением и огнем новообращенного, Библия толковалась в соответствии со строго научными принципами, как любая книга профанной литературы. Чешуя спала с моих глаз, умиротворения Дэкселя исчезли, как мякина на ветру, отныне для меня было прочно установлено право историко-критического метода в отношении Библии, и в зимнем семестре 1884/85 года, следуя введению Каутского в Ветхий Завет, я на собственном опыте предпринял попытку провести новую источниковедческую экспертизу книги Самуила.
Тем не менее я по мере возможности придерживался других ортодоксальных учений. Общность веры казалась неизбежным условием для продолжения близких отношений с моими родителями. Прежде всего, моя вера в богосыновство Христа казалась мне незыблемой. Первые сомнения в этом возникли во время горного похода через Восточные Альпы, который я предпринял из Берлина в конце 1885 года, в связи с полученным заказом. Вскоре процесс разложения стал более выраженным. Во время летних каникул я прочитал «Историю материализма» Ланге как свою первую философскую книгу. Затем зимой и весной я читал «Критику чистого разума» Канта, готовясь к семинару, который о. Паульсен проводил по этой работе в летнем семестре 1886 года. В том же году во мне проснулась детерминистская идея, сначала лишь в тусклых очертаниях, но постепенно обретавшая светлую ясность. Ортодоксальный теизм постепенно превращался в решительный эволюционный пантеизм. Все это отмирание и становление сопровождалось тяжелой внутренней борьбой, в которой интимная общность жизни и мыслей с родителями выступала в качестве сильного тормозящего фактора. Отсюда проистекало полусознательное, полубессознательное стремление отсрочить и ограничить, насколько это возможно, разрыв с детскими верованиями, и отсюда становится понятным, что, например, молитва еще долгое время могла рассматриваться и практиковаться как религиозное выражение жизни, совместимое также с пантеистической точкой зрения.
Во всем процессе формирования нового не рассудок и разум играли главную роль, скажем, в том, что каждому предъявлялся на выбор ряд возможных мировоззрений, подвергавшихся критическому анализу и принимавших решение в пользу того, для которого были представлены наиболее убедительные аргументы. Речь не шла ни о тщательно продуманном выборе наиболее привлекательного из представленных продуктов, ни об отточенном смешивании различных ингредиентов для получения новой смеси с определенными характеристиками. Мировоззрение не было искусственно создано (Δεσει), не состояло из отдельных независимых элементов по заранее продуманному плану, но оно «стало» (φυσει), оно постепенно росло изнутри по своим собственным законам. Примерно так Шопенгауэр описывает возникновение своей системы: «Произведение растет, постепенно и медленно, как ребенок во чреве матери: я не знаю, что появилось первым и что последним, как ребенок во чреве матери. Я осознаю член, сосуд, одну часть за другой, то есть записываю ее, не заботясь о том, как она впишется в целое: ведь я знаю, что все это возникло из одного источника. Так возникает органическое целое, и только такое целое может жить» (рукописный Nachlaß Шопенгауэра, изд. Э, Грисбах, IV, 338).
II.
Решающими факторами были определенные духовные тенденции, укоренившиеся в глубинах моего существа, которые теперь раскрылись и взяли на себя постоянный контроль: они определяли направление развития, а также решали, что может быть интегрировано в зарождающийся организм как способное к ассимиляции; то, что противоречило им, должно было отмирать и изгонялось.
Мое отношение к этому отмиранию было изначально важным. Многие отступники считают, что нет лучшего способа доказать, что в него вошел новый дух, чем очернить то, чем он сам раньше дорожил. Это противоречило моей природе. Не то чтобы я сожалел об исчезнувшем детском рае с его твердой верой в авторитеты! Но то, что раньше было для меня свято, теперь казалось мне благородным. И более того, оно составляло самую глубокую основу моего бытия и высшую цель в жизни самых близких мне людей. Хотя я вырос из их веры, я чувствовал не менее тесную связь с ними: Чем яснее становился обзор и чем отчетливее представало перед моими глазами все мировоззрение, тем яснее я осознавал, что течения, которым мы доверили наш маленький корабль, текут в разных руслах, но все же в одном и том же главном направлении. И по сравнению с таким единством внутренних тенденций разница в теоретических идеях казалась незначительной.
Это единство проявлялось в трех аспектах. Во-первых, в фундаментальной ориентации оси жизни на вечное и вытекающей отсюда настоятельной необходимости сформировать нарождающееся мировоззрение таким образом, чтобы оно давало благочестию, жизни в Боге, полную свободу развития. С этим была тесно связана дальнейшая потребность в осмысленности и разумности мира, необходимость верить в его развитие к высшему, к добру, и обеспечить «идеальным благам» право на дом в нем. В-третьих, стояла задача организовать активную жизнь целиком под великой идеей долга и борьбы за эти идеалы.
Эти три тенденции легко исключали всякий материализм и натурализм, а также плюрализм, полагавший, что во вселенной нет изначального, сущностного, внутреннего единства, а лишь допускавший, что вещи, в принципе изолированные и независимые друг от друга, вступают во внешнюю связь в результате мировых событий и систематически слагаются, и уж тем более позитивизм, который хотел бы отказаться от всякой метафизики и всякой веры в принципе.
К этим трем унаследованным тенденциям добавилась четвертая, которая как раз и определяла отклонения от родительской точки зрения: решительно монистическая. Она призывала нас искать единство, скрытое за кажущимся разнообразием; она не терпела двойного события: естественного и сверхъестественного, считала естествознание единственным правителем в физическом мире, требовала общей, непреложной законности и в духовной сфере и видела непрерывное развитие внутренних сил повсюду, как в малом, так и в большом, как в окружении неживой природы, так и на высочайших вершинах духовной жизни человека с ее контекстами целей, стандартов ценности и идеалов, с его моральным поведением и его великими надличностными творениями, такими как язык, искусство, религия, наука, государство и социальное сообщество. Наконец, с монистическим взглядом была тесно связана реалистическая тенденция, побуждавшая нас понимать то, что существует само по себе, как максимально похожее на эмпирическую действительность, и прежде всего придать ей пространство и время, чтобы законы событий, установленные естественными науками, были действительны и для οντως ον.1
III.
Научную основу метафизики, развивавшейся под влиянием этих тенденций, составляли кантовские идеи: учение эпистемологического идеализма-феноменализма о феноменальном характере мира опыта и о невозможности когда-либо выйти за его пределы с помощью науки и установить взгляды на трансцендентное, которые были бы чем-то большим, чем просто субъективная вера.
Это последнее убеждение также выросло из моего собственного опыта: из опыта, что почти любая дискуссия по метафизическим вопросам, как правило, оказывается безрезультатной, когда ее участники находятся в явной оппозиции, что доводы, убедительные для одного человека, не производят никакого впечатления на другого, что это явление не происходит лишь время от времени то тут, то там, а равномерно проходит через тысячелетия, что, соответственно, история метафизики со времен Декарта и Спинозы, да что там, со времен Платона и стоиков, не показывает почти никакого прогресса. Для этого должна быть более глубокая причина, и, кажется, она может заключаться только в том, что причины и контрпричины в метафизической области черпают свою силу доказательства не из опыта или объективно и научно признанных условий того, что существует само по себе, а из глубин личности, что ее потребности и склонности, что сердце и разум определяют форму, которую мировоззрение принимает в индивиде, а не понимание и разум, которые можно сравнить только с рабочими, выполняющими здание, цель и план которого были определены другим, более высоким.
С позитивной стороны, это убеждение подкреплялось, в частности, тем, как я пришел к детерминизму: с внутренней необходимостью и совершенно ясным ее осознанием; с негативной стороны, оно получило свое более глубокое, строго научное обоснование именно через теорию познания Канта: через его ограничение строгого, объективного знания, претендующего на всеобщую достоверность, миром возможного опыта. За его пределами для науки остается пустое пространство, поскольку отсутствует всякий материал, на основании которого можно было бы с чистой совестью принимать решения или даже просто формулировать объективно обоснованные гипотезы, как это принято в отдельных науках. Поэтому вера здесь всеобъемлюща, но, в отличие от Канта, это не (если не теоретически, то хотя бы практически) доказуемая и потому в конечном счете универсально обоснованная вера, а совершенно индивидуальная вера, вытекающая из характера отдельной личности и потому, как субъективного происхождения, так и – по крайней мере первоначально – имеющая лишь субъективную обоснованность для этой самой личности и тех, кто устроен так же или подобно ей.
Но вера обычно стремится к большему. С точки зрения строгой науки, она может сказать что-то только о самой личности: о том, как она думает и желает Бога и мир. Но она также хотела бы получить информацию об объективной природе того и другого: о том, каковы они на самом деле. Степень, в которой эта потребность проявляется в отдельном «верующем», полностью зависит от его индивидуальности. Для меня реалистическая тенденция сильно проявилась в этом вопросе и придала моей вере догматическую окраску. Хотя я эпистемолог душой и телом, у меня очень твердая метафизическая позиция. Перед судейским креслом эпистемологии различные верования, конечно, совершенно равны: все они не имеют той славы, которую хотели бы иметь, все они не претендуют на научность, и ни одно из них не имеет ни малейшего преимущества перед другими. Возможно, ни одно из них не является истинным, в лучшем случае только одно.
Но, с другой стороны, здесь, как и везде, верно, что генезис и обоснованность взглядов – две совершенно разные проблемы: субъективное происхождение убеждения не делает невозможным его объективную обоснованность, его трансцендентную истину. И вот, несмотря на все эпистемологические предостережения, мое сердце надеется, что оно сорвало джек-пот, даже больше: оно твердо убеждено, что его вера единственно верна, что она по крайней мере отражает реальность (несмотря на бесспорно сильный иррациональный элемент в ней и несмотря на невозможность разгадать все ее загадки с нашей ограниченной точки зрения) такой, какая она есть сама по себе, в общем и целом. И осознание того, что вера проистекает из моего характера с внутренней необходимостью, ничуть не умаляет этого убеждения. Напротив, именно потому, что это так, потому, что я сильно чувствую эту необходимость и думаю, что могу ясно видеть связи, моя вера становится все более твердой, я знаю все более уверенно, что никакая сила на земле никогда не сможет разрушить ее фундамент – мне самому пришлось бы сначала стать кем-то другим. И эта уверенность проливает свет на проблему истины, и я твердо убежден, что Бог и мир, которые я не могу представить иначе, чем так, как их представляет моя вера, не будут иными в реальности.
Таким образом, моя вера, как и каноническая, тоже претендует на объективную истинность, но не на основе доказательств, а на чисто индивидуальной основе. И потому в этой вере также нет никакой нетерпимости, никакого желания обратить в свою веру, потому что я знаю, что люди сначала должны стать похожими на меня по своим жизненным наклонностям и воле, чтобы быть способными и обязанными отвечать на воздействия мира и судьбы теми же взглядами на веру.
Тем не менее, это не просто поэзия и идеалы, как у Фр. А. Ланге, и уж тем более не сознательные фикции, как в философии «как-бы» Вайхингера, которые вовсе не стремятся дать истину, а имеют цель и смысл только в том, что обогащают и углубляют жизнь. Скорее, моя вера означает иметь сам οντως ον в качестве своего объекта и, таким образом, обладать трансцендентной истиной, даже если она далека от того, чтобы продемонстрировать существование этой истины, доказав, что она полностью согласуется со своим объектом. Но если истина вообще существует, она может быть основана только на таком (пусть и недоказуемом, более того! непознаваемом) согласии, а не на какой-либо полезности или практической плодотворности, как утверждает прагматизм. Это согласие составляет сущность истины, и поэтому прагматизм вообще не занимается этой сущностью, а только некоторыми вытекающими из нее следствиями, которые при определенных обстоятельствах могут быть использованы в качестве внешних критериев истинности взгляда. Против него и всех связанных с ним точек зрения, а также против всего психологизма с его фундаментальной путаницей генезиса и обоснованности, я выступаю в самой резкой оппозиции.
IV.
Тем не менее я эмпирик и как таковой далек от переоценки необходимости и всеобщности рационалистами всех времен. Кант отрицал существование истинной науки без этих двух качеств. Современные естественные и гуманитарные науки с этим не согласны. И это справедливо. Я лично убежден, что необходимость и всеобщая закономерность присутствуют в бытии, как во внешней природе, так и в духовной жизни. Но необходимость и всеобщность в познании – это нечто совершенно иное. Ибо там требуется, чтобы я также имел ясно осознанное, необходимое и всеобще действительное осознание этой необходимости и законности бытия. Но это возможно только в том случае, если будет доказано бытие нерушимого, всеохватывающего причинного закона с необходимостью-всеобщей действительностью. Уже это предложение показывает круг. Вся необходимость-всеобщность как в бытии, так и в познании основывается только на бытии такого причинного закона; именно поэтому, однако, он не может быть снова доказан с помощью всеобщности-необходимости. Скорее, это постулат, который выдвигает наука, или вотум доверия, который она возлагает на природу. Во всех эмпирических науках индуктивная всеобщность является наивысшей достижимой. Трансцендентальный метод Канта, якобы являющийся источником априорной и высшей уверенности, на самом деле везде работает с умозаключениями от данного (опыта) к его неизвестным причинам и поэтому никогда не может выйти за пределы вероятности. В своем эссе «Либманн как эпистемолог» я говорил об особенностях логики и математики и преобладающем в них чувстве доказательства.
Эмпиризм, который я отстаиваю, вполне совместим с умеренным априоризмом, то есть с тем, который предполагается, чтобы не сказать навязывается, фактами опыта и структурой самого сознания. Кант убедительно показал, что мы не можем объяснить опыт, не предполагая наличия в нашем сознании каких-либо априорных функций.
Однако доводы, которые он приводит в пользу априоризма, поначалу не имели для меня такого смысла, как доводы в пользу идеализма и феноменализма, из-за их связи с рационализмом (как это ясно видно из взгляда на априорное как на источник строгой необходимости и всеобщности). С первого же прочтения они произвели на меня неизгладимое впечатление. То, что весь физический мир – это только явление, обусловленное связанной с нашей психической организацией необходимостью реагировать и познавать определенным образом, стало для меня ясно с того момента. Но пока я не проследил этот принцип во всех направлениях, не продумал его до конца и не вывел из него необходимые следствия для вопроса об априоризме и субъективных факторах, делающих опыт возможным, постепенно обуздав свой первоначально чрезмерный эмпиризм: на это ушли годы работы. Так получилось, что в своем издании «Критики чистого разума» (1889) в возрасте 23 лет я сделал несколько возражений против Канта, от которых впоследствии пришлось отказаться, – возражений, основанных прежде всего на предположении, что наши ощущения уже сами по себе обладают определенной связью и единством и что все единство и связь, которые наш разум также образует в них, он способен извлечь из самих» предметов».
Лишь постепенно я убедился в неизбежности идеи, столь противоречащей естественному реализму, что от «объектов» ничего нельзя ожидать, потому что объекты физического мира возникают только благодаря синтезу нашего разума, осуществляемому на основе ощущений, тогда как вещи сами по себе всегда только предполагаются, но никогда не даются, и поэтому совершенно невозможно взять из них единство и порядок и затем перенести их на наши ощущения. У нас никогда нет возможности встретиться лицом к лицу с вещами в себе и сравнить отношения в нашем мире чувственного опыта с отношениями в мире того, что существует само по себе. Ощущения – единственная первичная данность, поэтому они должны составлять исходный пункт объяснения, вместе с закономерностями и нарушениями, которые можно наблюдать в их одновременном и последовательном появлении и исчезновении. Кроме этих закономерностей и нарушений, которые мы осознаем лишь постепенно, на основе опыта, в ощущениях нет изначального единства, порядка, связи, объективных отношений. Скорее, они изначально образуют хаос, и именно наш разум с его априорными функциями создает из них объективный физический мир.
Все ощущения имеют пространственную составляющую и локализуются в пространстве с большей или меньшей определенностью. Этой экстернализации мы не можем научиться из внешнего опыта, как неопровержимо доказал Кант в первом пространственном аргументе своей «Критики чистого разума»; ведь весь внешний опыт уже предполагает пространственность ощущений. Любое отношение к «вне-себя», любой опыт такого «вне-себя» были бы невозможны, если бы не существовало изначальной, априорной способности и соответствующего принуждения к экстернализации наших ощущений в нашем сознании. Однако, будучи эмпириком, я стараюсь обходиться минимумом априорного и поэтому не предполагаю, подобно Канту, чистого понятия пространства, а только пространственную функцию, посредством которой мы вынуждены придавать нашим ощущениям пространственный характер, переживать их «вне себя», как пространственно определенные, в то время как свойства и законы этого внешнего «я», евклидова пространства, мы познаем только через опыт (см. мое эссе «Либман как эпистемолог», p. 43).
Время тоже не требует особого априорного взгляда. Скорее, для реалистической точки зрения достаточно психической способности к изменению в связи с идентичностью самосознания как логико-субстанциональной предпосылки опыта времени.
Что касается категорий, то они ни в коем случае не должны рассматриваться как априорные понятия, изначально и полностью данные в разуме. Кант имеет в виду скорее (первоначально бессознательно осуществляемые) синтетические функции. Если впоследствии поразмыслить над ними и над природой их действия и свести их к понятиям, то получаются категории. И здесь эмпирик будет стараться обойтись минимумом априорности. На мой взгляд, нет никакой необходимости в искусственно собранном Кантом числе двенадцати. Для меня также совершенно немыслимо, чтобы в нашем сознании в качестве первоначального приданого 12 материально различных функций, строго отграниченных друг от друга, были готовы и ждали, подобно пауку в своей паутине, соответствующего сенсорного материала, чтобы затем немедленно наброситься на него, сформовать и соединить в соответствии со своей собственной природой.
Вполне достаточно предположить наличие изначальной интеллектуальной функции соединения и разделения (синтеза и анализа), эффективность которой зависит от сенсорного материала и которая, следуя закономерностям и нарушениям, возникающим в нем, дифференцирует и специализирует себя разнообразными способами. Она действует на трех разных уровнях: сначала при формировании нашего перцептивного мира чисто ассоциативным путем: посредством воспроизведения и неосознанно и непреднамеренно возникающих ассоциаций прошлое проникает в настоящее и утверждается в нем; таким образом, ощущения становятся полнее, богаче. Разнообразие, сходство, одинаковость приходят в сознание только через разнообразие и т. д. состояний сознания: мы действительно переживаем разные вещи, когда видим красное и синее, когда слышим и ощущаем вкус; но мы не переживаем разнообразие этих состояний сознания. Это возможно только на второй стадии, когда сознание фокусируется на себе и своих состояниях; здесь из синтетической функции возникает совершенно новая, более высокая деятельность – сравнение. Прошлое теперь втягивается сознанием в настоящее и связывается с ним. Распознавание становится возможным, а вместе с ним и объективизация ощущений, разделение эго и не-эго. На третьей стадии синтетическая функция достигает кульминации своего развития. Внимание теперь сосредоточено на различиях, сходствах и т. д., которые переживаются. Они становятся объектом наблюдения, анализируются и сравниваются в соответствии с общностью, особенностью, степенью. Вещь и качество, действие и деятельность дифференцируются, от конкретного мы поднимаемся к абстрактному. Все это тесно связано с появлением языка и абстрактного мышления.
Таким образом, через всю жизнь духа проходит равномерное, непрерывное развитие, в котором одна и та же априорная синтетическая функция лежит в основе и раскрывается все богаче. Везде здесь кипит жизнь, все находится в процессе становления, то, что уже есть по природе, развивается и приспосабливается к новым условиям, потребностям и задачам – настоящая система эпигенеза, тогда как взгляд Канта с его жесткими, раз и навсегда заданными формами, несмотря на «Критику чистого разума «2 167L, гораздо лучше было бы назвать системой индивидуального преформирования.
Что касается, в частности, причинности, то я не могу представить себе ни ее понятие, ни общий закон причинности как априорное достояние разума. Не может помочь и обращение к высшим законам мышления. Ведь с ними все происходит в сфере мышления: мышление происходит с внутренней закономерностью и, следовательно, подчиняется определенному внутреннему принуждению, отсюда и то своеобразное ощущение доказательности, которого никто не может избежать, размышляя об этих законах и их концептуальной формулировке. Если же предположить особую априорную каузальную функцию, то в первую очередь речь пойдет о действии, которое будет заключаться не в мышлении, а в бессознательно осуществляемом синтезе, делающем возможными объективность и опыт (в обычном смысле слова) * Но как это действие может без лишних слов отразиться в мышлении? и как та необходимость, с которой происходит бессознательное действие, может перетечь в сознательное познание? Другой возможностью было бы рассматривать общий причинный закон как внутреннее побуждение в движении воображения; тогда под вопросом оказалась бы не только формальная сторона, как в случае с законами мышления, но скорее определенное содержание: постоянный поиск причины. Однако такое врожденное принуждение к определенной материальной концептуализации для меня немыслимо.
И здесь, как мне кажется, ничего не остается, как вернуться к той изначальной априорной функции синтеза вообще, с помощью которой мы переносим причинную связь как гипотетическую интерпретацию, интерполяцию (как говорил Либманн) в реально данное, когда последнее демонстрирует великое чудо непревзойденной закономерности в последовательности. Мы полагаем, что можем понять это только как излияние более глубокой, внутренней связи, каузальной, и таким образом превратить исключительно данное post hoc в propter hoc. Сенсорный материал с лежащими в нем интимами (в его закономерностях и нерегулярностях) также является здесь единственной основой для работы этой функции синтеза.
Таким образом, только благодаря бессознательной работе нашего разума, точнее, благодаря его априорной функции синтеза и анализа, происходит объективация ощущений, возникают тела мира видимостей. Невозможно считывать с того, что существует само по себе, ибо мы никогда не сможем увидеть его, никогда не сможем осознанно понять его отношения, чтобы воспроизвести их тем или иным образом. Точно так же невозможно удержать окружающие нас физические вещи и вычитать из них их порядок; ведь они становятся тем, что они есть, только благодаря синтезу нашего разума* Они – то, что подлежит объяснению, и поэтому не могут быть использованы для объяснения; они – именно проблема, и поэтому не могут быть использованы для ее решения.
В этом выведении телесного мира (вопрос о возможности опыта) я, таким образом, нахожусь на некотором расстоянии от философии реальности, а также от Марбургской школы, поскольку и для меня сами вещи никак не могут стать предметом рассмотрения в этой проблеме.
V.
Вскоре, однако, наши пути расходятся под влиянием моей реалистической тенденции: понятие вещи-в-себе для меня так же необходимо, как и для Канта; без него вопрос о происхождении ощущений научно неразрешим. Уступка Маха характерна для противоположных направлений: необязательно хотеть объяснить ощущения. Но отрицание проблемы никогда не означало ее устранения из мира. Конечно, существование вещей самих по себе недоказуемо. Только умозаключение от следствия к причине приводит к его предположению, и если оно и так не вполне определенно в большинстве случаев индивидуального опыта, то здесь, когда в качестве следствия рассматривается совокупность ощущений и весь состоящий из них мир опыта, оно имеет еще более гипотетический характер. То, что вещи сами по себе представляют излишнее дублирование мира опыта, было бы верно самое большее в том случае, если бы последний был абсолютно точным образом первого; но против этого можно сказать не что иное, как все. А повторяющиеся со времен Беркли попытки доказать противоречие в самом понятии вещи-в-себе (поскольку, мысля ее, она становится частью содержания моего сознания и тем самым теряет характер вещи-в-себе) настолько легко просматриваются, что могут иметь доказательную силу только для тех, кто по другим причинам является заклятым врагом вещи-в-себе. И, кроме того, даже противники не могут избежать вещей в себе. Ведь что такое Бог Беркли, абсолютное «я» Фихте, всеобщее сознание Шуппе, что такое другие «я», как не замаскированные вещи в себе?
Но моя сильная реалистическая тенденция ведет меня далеко за пределы позиции Канта. Она позволяет доводам, выдвигаемым против беспространственности и вневременности вещей в себе, произвести на меня решающее впечатление. Кто считает övtojq ov вневременным, для того нет ни моста от него к миру опыта, ни объяснения изменений и превращений в нем; а если становление должно быть только видимостью, то он не в состоянии даже сделать понятной возможность этой видимости. Я чувствую несомненную необходимость включить в свое мировоззрение научный реализм с его выведением ощущений из внешних стимулов. Однако это возможно только в том случае, если сами вещи находятся в пространстве и времени. Кант действительно пытался включить научный реализм в свой трансцендентальный идеализм, но результатом этого стало его учение о двойной привязанности познающего субъекта: через явления и через вещи сами по себе – учение, которое, желая избежать больших трудностей, создает еще большие трудности. И Шопенгауэр в той же попытке добился совершенно аналогичного результата.
Но даже если не принимать во внимание такие теоретические причины, метафизический реалист, безусловно, основывается на совершенно ином исходном опыте, чем трансценденталист и тем более крайний идеалист. Даже опыт Канта, несомненно, отличается от опыта Беркли или, например, Фихте. Он реалистически окрашен и позволяет ему ощутить намек на трансцендентное в апостериорном материале объектов видимости, так что ему кажется, что он непосредственно воспринимает присутствие и силу последнего в них, так сказать. Его концепция вещи-в-себе коренится в этом реалистическом опыте, из которого только и можно понять ту уверенность и самоочевидность, с которой она постоянно утверждает свое место, несмотря на все скептические последствия эпистемологии.
Мой опыт еще более реалистичен: он основан на убеждении, что там, где я ощущаю тело в своем пространстве сознания, есть соответствующая вещь в себе в пространстве того, что существует в себе (которое лишь доступно, но от этого не менее реально для меня), что, кроме того, события в себе соответствуют событиям в нашем мире опыта. Мое чувство реальности, а также своего рода чувство справедливости и скромности, восстает против идеи, что, как в крайнем идеализме, только люди и другие духи имеют право на истинную реальность. Почему горные великаны, леса, колышущиеся кукурузные поля и бескрайнее море должны быть менее реальными, чем мы?
Но даже допущение существования беспространственных и вневременных вещей самих по себе с чисто внутренними, логико-телеологическими или иными мыслимыми отношениями не удовлетворяет моей потребности в реальности. Природа для меня – источник самых высоких и святых радостей, и мне недостаточно, чтобы ей хоть что-то соответствовало; я хочу, чтобы ее формы, чья возвышенность и красота возвышают и восхищают меня, обладали самой настоящей реальностью. Я не знаю, совместимо ли увлечение природой, подлинная жизнь в природе, наслаждение ее красотами с точкой зрения Канта. Возможно, это возможно. Но тогда переживания в любом случае должны иметь совершенно иной характер, чем у реалиста. Если бы природа, ее формы и события в ней не соответствовали временно-пространственному «я», если бы только мое сознание с его функциями набрасывало на нее это временно-пространственное одеяние, тогда видимость для меня опустилась бы до просто видимости, наивная преданность природе закончилась бы, в ней остались бы только театральные удовольствия.
Итак, здесь происходит решающий поворот от эпистемологического идеализма к метафизическому реализму. Как бы охотно я ни признавал вместе с последним, что весь мир опыта есть только видимость, и как бы ни подчеркивал вместе с априоризмом, что именно наш разум с его априорными функциями создает мир физических объектов из одних только первоначально данных ощущений, я придерживаюсь того, что это не свободная конструкция, а лишь реконструкция единства и порядка, которые также существуют в самом себе.
Основой этой реконструкции являются те закономерности и нарушения в одновременности и последовательности ощущений, о которых уже неоднократно говорилось. Согласно реалистическому взгляду, они являются излиянием закономерных отношений и процессов в Я и, следовательно, позволяют делать выводы о них. Тактильное пространство моего сознания в целом является верным отражением трансцендентного пространства вещей в себе. Изменения в мире ощущений соответствуют изменениям в том, что существует само по себе. К «я» восходит не только материал ощущений, но и их формальные отношения, и именно они содержат, как бы скрытые под поверхностью и потому незаметные для органов чувств, намеки на тайный порядок, который интеллект может обнаружить и интерпретировать. Объединяя, объективируя и организуя чувственный материал, интерпретируя обычное post hoc в смысле propter hoc, он тем самым присоединяется к намекам, заложенным в самих ощущениях, и надеется в созданной им структуре мира видимостей правильно воспроизвести структуру мира того, что существует само по себе в целом. А наука лишь продолжает начатое здравым смыслом: она устанавливает законы «как?» событий, и реалист твердо убежден, что эти законы действуют и в отношении самих вещей. Поскольку с их помощью можно управлять природой и заранее просчитывать будущее, эта уверенность кажется ему основанной на самих фактах.
Однако следует еще раз подчеркнуть, что доказать что-либо из этого невозможно. Сами вещи лишь предполагаются, как бы ни был убежден реалист в том, что он может определить их природу. Если он попытается это сделать, то всегда будет двигаться только в гипотетических умозаключениях. Ощущения и построенный на них мир опыта были и остаются единственными вещами, которые даны изначально.
VI.
Мои сильные эпистемологические интересы и критическая позиция, которую я занимаю по отношению к трансцендентальным спекуляциям, оказывают тормозящее влияние на мои метафизические потребности в более детальном определении того, что существует само по себе, поскольку они побуждают меня обходиться минимумом метафизики и позволять отвечать только на те вопросы, от которых нельзя отказаться. Проблемы теогонии и теософии, например, как они занимали многих мистиков самым живым образом, или вопросы в духе Шеллинга: почему мир или отдельные явления в нем таковы, каковы они есть, кажутся мне лежащими так далеко за пределами всякого человеческого постижения, что лучше вообще не браться за них. Ибо дальше фантазий и выдумок дело не пойдет. Таким образом, эпистемологическое самосозерцание моей метафизики действительно отвлекает от стороны экстенсивности, но не от стороны интенсивности, где, скорее, моя вера так же сильна и самоуверенна, как и любая другая (ср. выше p. 8 f.).
И эта вера теперь находится под сильным влиянием моей монистической тенденции.
С одной стороны, моя монистическая тенденция, с другой – моя религиозная ориентация; первая допускала пантеизм только в том, что касается отношений между Богом и миром, вторая заставляла меня придавать ему форму, в которой религиозные потребности могли бы быть полностью реализованы. Пантеизм бытия, застоя с его верой в безпространственное и вневременное, вечно самосущее, без стен, возвышающееся над развитием, возникающее и исчезающее, был исключен моим реализмом. Только там, где есть развитие, деятельность, есть жизнь, и только там, где есть жизнь, есть истинное бытие. Для Шопенгауэра этот мир – лишь видимость, потому что в нем «нет никакой стабильности, никакого постоянного состояния, а все находится в беспокойном вихре и изменении, все спешит, летит». Для меня же мир опустился бы до видимости, как только я убедился бы, что преходящее, изменение, становление, уход из жизни чужды самому себе, потому что я вижу во всем этом только необходимые предпосылки и явления жизни, а жизнь, самая полная, самая богатая жизнь, представляется мне высшей ценностью.
Это оставляло мне только одну возможность: пантеизм развития, прогресса. Бог и мир как одно целое, мир, объединенный внешне пространством, временем, причинностью, внутренне: единая духовная жизнь, а именно как нечто изначальное, существенное, все индивидуальное коренится в ней и имеет лишь относительную самостоятельность как ее модификации; εν χαι παν понимается с внутренней законностью и необходимостью в вечной эволюции, в вечной самореализации; ее цель не в никогда не достижимом конце, но каждая фаза – самоцель; Бог в то же время всеблагой, и потому нравственность – глубочайшее содержание и смысл всего развития; но тем не менее – тайна тайн! – зло также заложено в нем как меньшее совершенство, которое постепенно устраняется во все большей степени; в то же время человек – соратник Бога в его самопобеде и борьбе с грехом. Каким образом причинность и конечность объединяются в Боге? Есть ли у него личность? Утомительные вопросы! Конечно, он не такая личность, как мы, которые являются только частями, только в нем и из него, в то время как у него нет ничего, кроме него самого. Это порождает отношения, о которых мы не можем думать, которые мы не можем концептуализировать. В любом случае не может быть и речи о планировании и цели, о выборе между более или менее подходящими средствами; это путь человека, а не Бога. У него все бесконечно выше, но по этой самой причине и для нас непостижимо. Нам должно быть достаточно того, что пантеистическая мысль позволяет религиозным чувствам полностью реализоваться и развиться и гарантирует нам, что во вселенной есть смысл и разум, что ее развитие постепенно поможет торжествовать идеалам, которые для нас являются самыми высокими, что воспитание людей и народов происходит непостижимым для нас образом, с целью морализации, и что с этой целью каждый опыт (даже самый трудный), через который нам приходится пройти, является лучшим из того, что может выпасть на нашу долю в сложившихся обстоятельствах.
Когда речь зашла об отношениях между телом и духом, материализм, естественно, был исключен без дальнейших разговоров из-за его мелкости и фундаментальной неадекватности; дуализм противоречил моему монизму, спиритуализм – моему реализму. Оставался только психофизический параллелизм с его следствием: вседуховностью. С одной стороны, он позволяет избежать взаимодействия между двумя субстанциями, столь же совершенно различными, как тело и разум, согласно дуалистическому утверждению, а с другой – удовлетворяет совершенно очевидному для мониста требованию естествознания, согласно которому весь физический мир может рассматриваться как единая, самодостаточная, непрерывная система процессов движения, подчиняющихся закону постоянства энергии.
Всеединство вряд ли может быть реализовано иначе, чем в монадологической форме, но тогда оно предполагает и локальный параллелизм: то есть мельчайшие материальные единицы находятся и движутся в пространстве, но в то же время в них параллельно с движениями происходят и психические процессы. Многие параллелисты сегодня начинают за пределами человеческого тела мона-дологически и, таким образом, также субстанциалистски, но в конечном итоге заканчивают в самом человеке с актуалистическим взглядом. Мой монизм, с другой стороны, требует единства наблюдения и, соответственно, также занимает монадолого-субстанциалистскую позицию в человеческом существе, к чему, кстати, меня, кажется, призывают и сами факты сознания.
Я называю мельчайшие единицы, из которых я представляю себе мир, центрами силы, чтобы указать, что телесность в смысле материального пространственного осуществления, поскольку она полностью поглощена субъективными, вторичными качествами, не может быть приписана самому себе. Каждый из этих центров силы обладает определенными движущими силами, занимает определенное положение в пространстве, исключает своими силовыми воздействиями все другие центры силы из ограниченной его части, но находится в непрерывной причинной связи со всеми ними, что выражается в закономерных движениях. В то же время каждый центр силы является носителем внутренних состояний, которые, бесконечно отличаясь друг от друга, также находятся в непрерывной причинной связи, параллельной физическому ряду.
Моя душа также является таким энергетическим центром и составляет часть мозга. С одной стороны, она обладает определенной суммой движущих сил, определенным количеством энергии и занимает определенное пространство своими физическими силовыми воздействиями, а с другой – является носителем феноменов моего сознания. Нет необходимости в том, чтобы каналы излучались в место души со всех сторон. Достаточно прямой связи центра силы души лишь с ограниченным числом подцентров, подобно тому как монарх не связан со всеми властями, или в телефонной сети не все связаны со всеми, а только с центральным офисом.
С физической стороны центр силы души можно представить себе как обладающий особыми органическими или индивидуальными движущимися силами, то есть силами, которые не подчиняются химико-физическим законам, а следуют своим собственным законам. Поэтому он может быть активным органическим или индивидуальным фактором как в построении организма, так и в его многообразном функционировании, при этом самодостаточный контекст движения, требуемый естественной наукой, нисколько не нарушается. Ибо воздействие психических сил (идей, волевых актов) не принимается во внимание, а игра физических движущих сил остается совершенно ненарушенной, разве что наряду с химико-физическими силами в нее примешиваются другие (органические, индивидуальные). Душа в собственном смысле слова заключает в себе только внутренние состояния центра силы, а они принадлежат к собственной причинной связи: психическому, в которое движущиеся силы вмешиваются так же мало, как его части вмешиваются в физический ряд.
Я отстаивал этот вид параллелизма в лекциях на протяжении почти 25 лет, а также вкратце описал его в своей работе «Кант против Геккеля». Недавно К. Гроос в своем «Untersuchungen über den Aufbau der Systeme» (Zeitschr. f. Psychol., 77, pp. 199ff.) обратил на него внимание и подчеркнул, что он не подвержен возражениям, которые справедливо выдвигались против обычных (актуалистических) форм параллелизма, поскольку все они не справляются с «корневым различием» между сознанием и мозгом или мозговыми процессами. На самом деле, во всех них психическое рискует быть проигнорированным само по себе и быть механизированным или материализованным тем или иным образом. Обвинения в психологическом атомизме, «фрагментах души», аргументы Буссе об Аустерлице и телеграмме и тому подобные возражения направлены только против актуалистического параллелизма, который рассматривает душу как самость или как внутренность всего мозга, состоящего из триллионов крошечных материальных частиц. Они отскакивают от монадолого-субстанциалистского параллелизма: только он способен полностью сохранить права психического в рамках параллелистского образа мышления.
В качестве особого преимущества я хотел бы также подчеркнуть, что он позволяет максимально расширить рамки того, насколько движения соответствуют внутренним состояниям. Непрерывного параллелизма не следует требовать, да его и не следует ожидать. Задача параллелизма состоит лишь в том, чтобы избежать дуалистического взаимодействия и удовлетворить потребность естествознания рассматривать физический мир как самодостаточную систему. И каждое движение, поскольку оно изменяет внешние отношения между двумя или более центрами сил, должно соответствовать и изменению их внутренних отношений, а значит, и их внутренних состояний. Но не наоборот! Скорее, особенно в силовых центрах, которые как центральные монады человеческих тел образуют человеческие души, мыслимы процессы сознания, происходящие в них по чисто внутренним законам, без влияния извне, то есть со стороны других душ. Это могут быть абстрактные мысли, представления о ценностях и идеалах, чисто духовные чувства удовольствия и неудовольствия. Решающим фактором является то, вступает ли наша душа во внутреннее взаимодействие с другими силовыми центрами мозга. Если это так, то это «вступление во внутренние отношения» должно сопровождаться и внешними изменениями положения, которые происходят благодаря движущим силам, которыми оснащены силовые центры как представители физического мира. Если это не так, то невозможно понять, почему эти состояния сознания, которые полностью ограничены нашей душой и могут быть полностью объяснены их чисто внутренними законами, должны сопровождаться движениями, более того, как они вообще могут сопровождаться ими. В какой степени применимо то или другое – это, в сущности, простой вопрос факта. К сожалению, фактов в этой области у нас нет. Их заменяют различные теории локализации. Мой параллелизм безразличен ко всем им по указанным причинам. Он признает их все. Но он не связан ни с одной из них и поэтому не может быть втянут в их падение ни одной из них.
Очень важно, что при таком взгляде две причинно-следственные связи становятся в определенной степени независимыми друг от друга. Ведь на психической стороне больше связей, или, по крайней мере, их может быть больше, чем на физической. Каждому звену в последней соответствует звено в психической каузальной связи, но не наоборот. Здесь, скорее, только тогда, когда событие не ограничивается внутренней жизнью одного силового центра (души), но когда в расчет принимаются взаимные внутренние отношения между различными силовыми центрами. Обвинения в том, что нельзя найти физических аналогов для референтного мышления и его синтезов, для единства сознания и т. д., не имеют, таким образом, характера возражений против моего параллелизма. Утверждение Буссе (Geist und Körper p. 350), что физические законы параллелизма применимы и к психическим процессам, к нему не относится, и антиномия между логическим мышлением с его необходимостью и причинно-механической связью психических процессов, которая так мешала Либману, для него не существует.
Следует лишь мимоходом заметить, что мой параллелизм не только допускает бессмертие, возможно, в форме переселения душ, но и фактически предполагает его.
То, что подтолкнуло меня к детерминистскому мировоззрению с его предположением о всеобщей, непреложной закономерности даже в духовной сфере, было также моей монистической тенденцией. Она сделала меня ясновидящим в отношении моего собственного развития и позволила мне самому убедиться в истинности детерминизма.
Три наследственные тенденции, упомянутые выше, сыграли решающую роль в его детальном формировании. Они не допускали ничего излишне радикального, что не вытекало бы из детерминистского мировоззрения и не было бы необходимо для его обоснования. Другие, прежде всего Пол Ри, подчеркивают именно это и тем самым в немалой степени способствуют дискредитации детерминизма среди «благонамеренных». Такие натуралисты обычно создают искаженное представление о закономерности материального существования и событий, а затем переносят его на духовную сферу (которая для них зачастую является лишь приложением к материальной). Напротив, мой монизм оценивает всю законность в соответствии с духовным, которое я переживаю в себе самым ярким образом, в котором я сталкиваюсь с внутренней необходимостью, но без внешнего принуждения, без принуждения со стороны факторов, которые не принадлежат мне самому; и в соответствии с этим архетипом я затем также смотрю на то, что происходит в физической природе. Таким образом, я могу признать в человеке практическую свободу, спонтанность и личность (последнюю в смысле независимого источника силы), могу объединить религиозность и детерминизм в себе, а также в Павле, Августине и Лютере; различие между добром и злом не теряет своего доминирующего значения, а понятия долга и вины, совести и раскаяния, вменения, наказания и искупления сохраняют свой хороший смысл и свое полное оправдание и для практической жизни.
Мои этические взгляды также развивались под влиянием монистической тенденции. И здесь единство мысли было для меня непреложной потребностью. Поэтому не два мира, как у Канта, не пропасть между чувственностью и нравственностью, но чувственность тоже должна быть морализована и морализована в истинном благе. Не абсолютный категорический императив, под которым должна быть покорена вся эмоциональная и инстинктивная жизнь, а естественное стремление к добру. Соответственно, морализация – это естественный процесс, идущий в закономерном развитии, даже в так называемом «перерождении», ибо оно тоже происходит с внутренней необходимостью и является закономерным итогом часто длительной борьбы, которая происходит в человеке между конфликтующими сторонами его природы и в которой сторона, победившая в перерождении, изначально была побеждена.
Направленность натуры, унаследованная от родителей (ср. выше стр. $f.), позаботилась о том, чтобы чистота нравственности не была омрачена этой переориентацией и чтобы понятиям долга, нормы, обязанности и аскетизма, как незаменимым средствам нравственного самовоспитания, было отведено должное место во всех направлениях. Но и они должны позволить вставить себя в естественную психическую законность, и поэтому релятивизм и эвдемонизм также сохраняют за собой последнее слово в морали.
VII.
Несколько слов о моих публикациях по истории философии!
Если формирование моих метафизических взглядов происходило последовательно, под давлением внутренних тенденций, без внешних влияний, приобретавших большую значимость, то, напротив, в моей работе над Кантом внешние стимулы и побуждения дважды приводили к судьбоносным решениям.
Тему для диссертации (систематика Канта как системообразующий фактор) я нашел самостоятельно, когда после семинара Паульсена летом и осенью 1886 года проработал всю кантовскую систему. Я получил докторскую степень 14 мая 1887 года и сдал филологический государственный экзамен в ноябре того же года. С 1 апреля 1888 года я служил в Альтоне в качестве годичного стажера, с Пасхи 1889 по Пасху 1890 года я работал в качестве испытательного кандидата в Оберреальшуле в Киле и, проработав шесть месяцев в качестве помощника учителя в Реальшуле в Бармен-Вуппер-фельде, я был принят туда на постоянную работу в качестве старшего учителя на Пасху 1891 года. Я получил квалификацию учителя.
В 1890 и 1891 годах я сдал экзамены по религии, ивриту, философской пропедевтике, истории, немецкому языку для всех и географии для средних классов. Я занимался в основном религией и немецким языком и считал, что с моими либеральными взглядами и философским образованием среди молодежи Киля я нахожусь на правильном месте в качестве преподавателя религии. Мне нравилось преподавать, особенно в Сексте и Приме, но после получения хабилитации в Кильском университете (осенью 1895 года) мое желание заниматься чисто академической и научной работой становилось все сильнее и сильнее. Я оставался в школе до 1902 года, правда, почти три года был в полном отпуске и два с половиной года в половинном отпуске в связи с изданием Канта. В 1898 году я стал неоплачиваемым доцентом, осенью 1902 года принял назначение на должность полного профессора в недавно основанный университет Мюнстера, а осенью 1904 года – в Тюбинген в качестве преемника Хр.
Во время моего медового месяца в Лугано на Пасху 1892 года ко мне обратился редактор «Философского обозрения» профессор д-р Шурманс с предложением написать библиографию Канта для его журнала. Я принял предложение, не подозревая, что это займет меня на несколько лет. Ибо я не ограничился составлением названий, но одновременно дал критический обзор содержания сочинений и эссе и изложение целых систем. Таким образом, библиография, хотя и ограниченная Германией и заканчивающаяся годом смерти Канта, достигла объема в 623 страницы с почти 2900 номерами. Подобные работы крайне необходимы для истории философии. Если возможно, их следует создать для всех великих философов. Только на этой основе можно написать историю отдельных философских школ и великих философских течений, а такие описания крайне необходимы. Ведь не бывает так, как часто представляется в недальновидном изложении истории, что один великий философ оказал прямое влияние на другого, например, Кант на Фихте, тот на Шеллинга и так далее. История не так проста. Если бы Фихте родился на 15 лет раньше или позже, он никогда бы не написал свою «Wissenschaftslehre». И все же в обоих случаях Кант мог повлиять на него своими трудами. Но что не могло повлиять на него, особенно в пору его юношеской упругости и наибольшей образованности, так это мощное интеллектуальное течение, исходившее от Канта и втянувшее в свои круги почти весь ученый мир, соглашавшийся или не соглашавшийся, радовавшийся или негодовавший, и оказавшее сильнейшее влияние даже на тех, кто был далек от университетов, на обывателей и бизнесменов. Все это нужно описать, изобразив это течение во всей его могучей силе, в его пленительной энергии, в его широте и глубине. А затем, с другой стороны, изобразить личность Фихте: тогда становится понятным, как он, в полном расцвете сил своей молодости, должен был быть захвачен и увлечен этим движением, как он с «внутренней необходимостью отреагировал на него именно таким образом и отклонил его в совершенно ином направлении, чем предполагал Кант. Только так можно по-настоящему понять и изобразить великие исторические контексты, и для этого, опять же, такие работы, как моя библиография Канта, являются необходимой предпосылкой.
Весной 1896 года я обязался перед Берлинской академией наук опубликовать рукописное наследие Канта, даже отдаленно не представляя, какую работу я на себя беру. Это связало мою энергию не просто на годы, а на десятилетия. На самом деле я хотел попрощаться с Кантом. Мои исследования и планы были сосредоточены на эпистемологических, метафизических, ценностно-психологических и этических проблемах. Но мне обещали двухлетние каникулы и перспективу полного освобождения от учебы после завершения издания. Поэтому я подписал контракт и обрек себя на принудительный труд, который придал моей научной деятельности совершенно иное направление, чем я предполагал изначально. Чтобы издание соответствовало всем научным требованиям, мне пришлось, без внутренней радости и с постоянной тягой к систематической философии, работать в самых отдаленных областях: потребовались глубокие исследования в области истории физики и химии, географии и геологии. Но прежде всего мне пришлось на долгие годы погрузиться в филологическую работу над деталями. Необходимо было создать новый метод датировки размышлений, записанных Кантом в его рукописях, который позволил бы мне работать с объективными критериями. Оказалось необходимым проанализировать достоверность, взаимосвязь и зависимость, а также дату происхождения (как в целом, так и по отдельным частям) 21 коллегиальной рукописи, восходящей к лекции Канта по физической географии. И, прежде всего, бесконечное количество терпения и времени пришлось посвятить собственно редакторской работе с присущей ей микрологией. У меня было достаточно возможностей попрактиковаться в «преданности малому».
Но хочется надеяться, что вся эта работа была проделана не напрасно, поскольку под ее влиянием среди философов, возможно, также распространится убеждение, что при возникновении в их исследованиях проблем, сходных с филологическими, единственным научно обоснованным способом является их рассмотрение с помощью испытанных и проверенных филологических методов или тех, которые будут созданы вновь, и – что такой подход ни в коем случае не принижает и даже не позорит философа.
В другом смысле было бы неплохо подвести историческую работу философов под филологические аспекты: а именно, фундаментально отделить историческое исследование системы от ее текущего использования. Во всей моей работе над Кантом моей конечной целью всегда было распознать и представить его мысли и намерения, его интеллектуальные импульсы и его развитие такими, какими они были на самом деле, независимо от того, какими они могли бы быть у меня или как, по моему мнению, их лучше всего использовать в настоящем. Сочетание обеих точек зрения не является, как часто утверждают философы, высшей вещью, единственно подходящей для философа как такового. Напротив, оно означает явный методологический недостаток, так как регулярно не соответствует обеим: и объективной исторической истине, поскольку ее слишком легко исказить желанием использовать и чисто субъективным предпочтением отдельных мыслей, на которых она основана, и самой систематической работе, которая протекает гораздо более гладко и может быть выполнена более последовательно, если ей не приходится на каждом шагу принимать во внимание более ранние системы и возможность их использования.
Список МОИХ ТРУДОВ И ЭССЕ
Kants Systematik als systembildender Faktor. 1887. VIII, 174 S.
Kants Kritik der reinen Vernunft. Mit einer Einleitung und Anmerkungen hrsg. 1889. XXVII, 723 S.
German Kantian Bibliography. T. I erschien Mai 1893 bisFebr. 1894 in Nr. 9—18 der Philosophical Review und wurde 1896 im Zusammenhang (256 S.) wieder abgedruckt. T. II (bis S. 380) erschien Juni 1895 als Supplement Nr. 1, T. III (bis S. 623) Juni 1896 als Supplement Nr. 2 zur Philosophical Review.
Kantstudien. 1895. 185 S.
Die bewegenden Kräfte in Kants philosophischer Entwicklung und die beiden Pole seines Systems: Kantstudien 1897, I, 9—59, 161—196, 352—415.
Lose Blätter aus Kants Nachlaß: Ebenda, S. 232—263.
Philosophie und Theologie: Jahresberichte f. neuere deutsche Literatur, Bd. VIII. 1897.
Wissen und Glauben: Deutsche Rundschau, Jan. 1898, S. 86—107.
German Philosophy during the Years 1896—1898: The Philosophical Review 1899, VIII, 273—289, 386—410.
Philosophie, Metaphysik und Einzelwissenschaften (im Anschluß an Wundts System der Philosophie): Zeitschr. f. Philosophie und philos. Kritik 1899, CXIII, 216—231.
Ethische Prinzipienfragen: Ebenda 1900, CXVI, 1—56 (I. Ethik und Werttheorie (Absolutismus und Relativismus in der Moral). II. Eudämonismus (Utilitarismus).). S. 161—255 (III. Folgen der deterministischen Weltanschauung für die Moral.). 1901 CXVII, 38—70 (IV. Ethik (Philosophie) und Soziologie).
Die Ganzen und die Halben, zwei Menschhheitstypen: Deutsche Rundschau, Aug. 1900, S. 213—242.
Korrekturen und Konjekturen zu Kants ethischen Schriften, Kantstudien 1900, V, 207—214.
The Philosophical Literature of Germany in the Years 1899 and 1900: The Philosophical Review 1901, X, 386—416.
Kant contra Haeckel. 1901. 2. verb, und erweit. Aufl. 1906. VII, 160 S.
Vier Schriften des Herrn Prof. Kappes, auf ihre Herkunft untersucht. 1903» 2. um ein Nachwort vermehrter Abdruck. 1903. IV, 64 S.
Anti-Kappes. Eine notgedrungene Entgegnung. 1904. 60 S.
Bericht über philos. Werke, die in englischer Sprache in den Jahren 1897 bis 1900 erschienen sind: Zeitschr. f. Philos. und philos. Kritik 1904, CXXIV, 79—105.
Kant als Mensch. Zu Kants 100jähr. Todestag (12. Febr. I9°4): Deutsche Rundschau, Febr. 1904, S. 195—221.
Kant als Denker. Eine Betrachtung zu seinem loojähr. Todestage (12. Febr. 1904): Deutsche Monatsschrift, 1904, III, 651—674.
Kant als Ästhetiker: Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts zu Frankfurt am Main, 1904, S. 315—338.
Auf wem ruht Kants Geist? Eine Säkularbetrachtung: Archiv f. systemat. Philos. 1904, X, I—19.
Charakter und Weltanschauung. Akad. Antrittsrede, gehalten am 12. Januar 1905. 1905. 2. Tausend, 1907. 46 S.
Chamberlains Kantwerk. Wissenschaft gegen Dilettantismus: Deutsche Monatsschrift, 1906, V, 604—618.
Friedrich Paulsen f. Ein Scheidegrufi: Kantstudien, 1909, XIV, 1—7.
Liebmann als Erkenntnistheoretiker. (Untersuchungen zur Theorie der Aprtori-tät, sowie über die Evidenz der geometrischen Axiome): Kantstudien 1910» XV, 1—5».
Die Zukunft der Metaphysik. Ein Versuch, aus dem Wesen der Metaphysik und ihrer gegenwärtigen Lage die Richtlinien, künftiger Entwicklung zu erschliefien: Weltanschauung, Philosophie und Religion, 1911, S. 219—252.
Untersuchungen zu Kants physischer Geographie. 1911. VIII, 344 S.
Kants Ansichten über Geschichte und Bau der Erde. 1911. VIII, 207 S.
Kants handschriftlicher Nachlaß, hrsg. in der Kant-Ausgabe der Berliner Akademie der Wissenschaften. Bd. I. 1911. LXII, 637 S. Bd. II. 1913. XIV, 982 S. Bd. III. 1914. XVI, 875 S.
Ein neu aufgefundenes Kollegheft nach Kants Vorlesung über physische Geographie. 1913. V, 91 S
Sub specie aeternitatis: Weihnachtsgruß der Universität Tübingen an die Studenten im Feld. 1915. S. 26—34.
Zu O. Schöndörffers Bemerkungen über Kants physische Geographie: Altpreuß. Monatsschrift, 1919, LVI, S. 55—71.
Kants Opus postumum dargestellt und beurteilt. (Kantstudien. Ergänzungsheft Nr. 50.) 1920. XX, 855 S.
Клеменс Баумкер
I.
Я родился в Падерборне в Вестфалии 16 сентября 1853 года, и мне посчастливилось найти в доме моих родителей множество стимулов для спокойных размышлений и вдумчивой деятельности, объединенных с серьезным религиозным чувством. Я никогда не забуду, как мы, дети, слушали нашу мать, когда она читала длинные отрывки из старого копенгагенского издания первых десяти песен «Мессии» Клопштока 1755 года – еще маленькой девочкой она получила это красивое квартето для верного чтения вслух от своего старого, почти слепого друга, Но именно ее отец, который много лет преподавал историю в местной гимназии, а также издал несколько небольших исторических трудов, пробудил в ней чувство истории. Но он также направил меня к поэзии, поскольку сам был одарен некоторыми поэтическими талантами и неоднократно использовал их; так же как и книга из его библиотеки, «Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands» Эйхендорфа, особенно с ее росистым описанием романтизма, стала моей любимой книгой в поздние годы учебы в гимназии и оказала решающее влияние на весь мой образ мыслей и чувств. С 1863 года я учился в гимназии в моем родном городе, бывшей иезуитской школе с теми же традициями, где с давних времен сохранялось уважение к гуманизму, но не преуменьшалось значение математических наук и логической подготовки. Для меня было очень важно, что среди моих учителей было несколько человек, которые умели пробудить желание и любовь к свободной деятельности помимо школьной подготовки. Это стимулирование распространялось не только на античную и патриотическую литературу, но и на математические и естественно-научные предметы, где я постоянно мог помогать своему учителю математики, необычайно способному физику, следившему за ходом исследований, в его работе по спектральному анализу, для которой он использовал все ресурсы своего физического кабинета, и где интеллектуальный филолог Фр. В. Гримме, который также был увлеченным ботаником, привил мне любовь к scientia amabilis, что выразилось во многих экскурсиях. В то время я сильно колебался между историко-литературным интересом, который был особенно сосредоточен на греческих авторах, и математико-научным интересом; и когда позже, найдя особенно ревностно возделываемое поле для работы в изучении средневековой философской интеллектуальной жизни, я предпочел исследовать связи между платоническим течением в схоластике в частности и математическим и медико-ориентированным естествознанием, я вижу в этом последействие впечатлений моей юности, которые продолжали прорываться наружу. Кстати, несмотря на идиллическую уединенность моего родного города, который все еще был преимущественно аграрным и мелкобуржуазным, социальные проблемы, волновавшие меня в то время, попали в поле моего зрения и в более поздние годы учебы в гимназии, но не получили дальнейшего развития, особенно в общении со старшим другом детства и товарищем по учебе, известным впоследствии христианским социальным политиком Францем Хитце. Меня также очень интересовала, по крайней мере теоретически, церковная музыка, особенно периода Палестины.
После успешной сдачи выпускных экзаменов осенью 1872 года я начал изучать теологию, чему особенно способствовали гонения, вызванные тогдашним «Культуркампфом», и мужественный энтузиазм в отношении веры, порожденный в католической части населения в качестве противодействующего эффекта. В философско-богословской академии в моем родном городе, «Теодориануме», я начал свое подготовительное обучение, особенно в области философии. Я изучал Ветхий Завет и историю церкви, а также готику и ориенталистику с лингвистом Освальдом, но прежде всего философию, которая сразу же полностью захватила меня. Моим главным учителем в этой области был Джозеф Вигенер, знающий ученый с широким кругом интересов и великолепным владением пленительным словом, который просто не умел сдерживать себя и концентрироваться и поэтому, несмотря на весь свой интеллект, так и не смог создать много литературы. В строго томистском смысле он дал очень подробное учение о знании и метафизике – как я позже обнаружил, с сильной ссылкой на большой курс Иоганна а Санкто Фома, крупное произведение посттридентской схоластики, – при этом он, по общему признанию, прошел над головами большинства из них, к их большому неудовольствию. Они предпочли прислушаться ко второму лектору, Бакхаусу, который предложил совершенно неполную выдержку из сборника Тонгиорги. Но лучше всего было то, что предложение Вигенера привело меня непосредственно к источникам. В течение этих двух семестров я с большим усердием изучал под его руководством Фому Аквинского и Аристотеля; также кое-что из Бонавентуры, чей Itinerarium mentis in Deum он открыл для меньшего круга на вечернем кружке, а также немного Мейстера Экхарда и других немецких мистиков, к которым «Geistliches Leben» Денифа Леза, который в то время только что был опубликован, дал прекрасное введение со ссылками на источники. В философском плане на меня также произвел неизгладимое впечатление ученый религиозный деятель, который много лет был другом моей семьи, о. Игнатий Йейлер, лектор францисканского монастыря в Падерборне, который отвечал за завершение образцового издания Бонавентуры, подготовленного о. Феделе да Фанном, и который, в манере старшей францисканской школы, сочетал томистское аристотелианство с сильной склонностью к платоновско-августиновской мысли. Что же касается более новой философии, то в моем распоряжении в то время был только купленный на аукционе исторический конспект кантианца Теннемана, из которого я с неменьшим рвением почерпнул хотя бы элементарные знания о внешнем виде доктрин, хотя, естественно, без более глубокого понимания.
Осенью 1873 года – философско-теологическая школа в Падерборне была закрыта вскоре после этого в результате «Культуркампфа» – я перешел в Мюнстерский университет, который в то время был еще академией с двумя факультетами, чтобы начать свое настоящее богословское образование, не без тихой надежды стать лектором где-нибудь в области спекулятивной мысли. Из преподавателей теологии, однако, только один оставил на меня глубокое впечатление, способный историк догматики Шване, который, кстати, в основном читал о морали. Все мои интересы по-прежнему были сосредоточены на философии, и хотя мои учителя мало поощряли меня – у меня остались воспоминания только об ученике Прантля Гидеоне Шпикере, который позже был отправлен в Мюнстер, поскольку я не переставал спорить с ним на беседах и экзаменах, – я с еще большим рвением стремился продолжить свое образование путем самообразования. Среди философов больше всего мне помог почтенный слепой Кристоф Бернхард Шлютер, к которому я обратился лично как к читателю. Друг и советчик вестфальской поэтессы Аннет фон Дросте-Хюльсхофф в ее молодые годы, он был также наследником литературных традиций Мюнстера времен принцессы фон Галлицин, подруги Гаманна. Он был знаком с Платоном и Плотином, Августином и Скотом Эриугеной, которого он, яростно отвергавший Спинозу, пытался лишить пантеистического характера, а философия веры Якоби и теософия Баадера, столь важная для последнего периода жизни Шеллинга, по-прежнему находили в нем живой отклик. Таким образом, я узнал эти настроения через него, но без того, чтобы они глубже завладели мной. С другой стороны, Шлютер, знавший наизусть Гомера и Софокла, Пиндара и Горация и силой своей памяти переводивший на связанную речь римских, английских и многих неолатинских поэтов, давал мне более сильные стимулы в литературном и эстетическом отношении. В частности, его близкое знакомство с эстетическими достижениями гуманистического периода пробудило во мне устойчивый интерес к гуманизму, который впоследствии усилил романист Густав Кёртинг. С научными трудами Аристотеля меня познакомил зоолог и врач Карш, который также преподавал мне физиологию нервной системы и органов чувств, для которой, разумеется, были доступны лишь весьма несовершенные средства демонстрации. Под руководством Бикеля продолжалось изучение восточных языков, особенно сирийского.
Поэтому в вопросах философии мне приходилось полагаться в основном на книги и на себя. Систематически прорабатывались аристотелевские труды, продолжалось изучение святого Фомы, тщательно вычитывалась подробная Summa philosophica строгого томиста Philippus a Ss. Trinitate, которая также давала полный обзор особых мнений в схоластике по каждому пункту доктрины, была тщательно вычитана и сравнена с более свободными метафизическими диспутами Суареса; также были рассмотрены Платон и Плотин, а также Николай Куза. С другой стороны, о более поздней философии я узнал из лучших источников, чем маленький Теннеманн, прежде всего из обширной «Полной истории» Риттера, которую я купил на аукционе; я также усердно читал Канта, а также Рейнхольда, Эшенмайера и других современных философов, которые попадались под руку, но, поскольку мне не хватало компетентного руководства, я мог лишь несовершенно ориентироваться в ней. Возникла также потребность в συμιφιλοσοφειν и дальнейшем образовании. В кругу сокурсников обсуждались метафизические вопросы и объяснялся «Opusculum de ente et essentia», который является основополагающим для томистской метафизики. Длительная переписка с тогдашним городским капелланом, а позже профессором Уфусом из Галле, которого эпистемологические объяснения Э. фон Гартмана поколебали в его прежних взглядах, побудила меня сформулировать свою позицию по проблеме, которая всегда оставалась для меня фундаментальной. С помощью схоластического различения между species intelligibilis как – говоря теперь более понятными терминами – психологическим содержанием сознания, verbum mentis как объективным содержанием суждения, имманентным сознанию, и res как «подразумеваемым» трансцендентным фактом я пытался прояснить для себя эти трудности, в отношении которых, как и многие из моего поколения, концепция действительности Лотце и его теория факта дали мне впоследствии новые импульсы. Уже тогда, в противовес наивному реализму многих представителей старой школы и феноменалистическим взглядам, которые были широко распространены в мои ранние годы, я пришел к направлениям мысли, которым позже дал эпистемологическую интерпретацию его психологии мышления, а также нашел по крайней мере некоторые точки соприкосновения в подходе «Логических исследований» Гуссерля, который, конечно, существенно отличался от него. В медленной, по-разному обусловленной форме они развились в ту форму критического реализма, которую я представляю.
В 1875 году я намеревался переехать из Мюнстера в Вюрцбург, чтобы получить докторскую степень по философии и подготовиться к хабилитации. Однако смерть отца и необходимость ухаживать за любимой матерью помешали этому намерению и заставили меня отказаться от планов академической карьеры, по крайней мере на время. Первоочередной задачей было как можно скорее найти работу. Я не чувствовал потребности в практической пасторской карьере и не готовился к ней во время учебы. Поэтому профессия школьного учителя моего отца казалась наиболее очевидным выбором, тем более что я уже успел тесно познакомиться с филологией благодаря интенсивному изучению греческой философии и надеялся, что в будущем смогу соединить свой философский энтузиазм с такой профессией. Я пробыл в Мюнстере еще четыре семестра, занимаясь в основном классической филологией и изучением немецкого языка. Моим главным учителем в это время был грецист Й. М. Шталь, который, помимо лекций и семинарских занятий, всячески поощрял меня личными наставлениями, а также вдохновлял на историческое изучение греческой философии. Я также занимался с латинистом П. Лангеном, поэтическим германистом Й. Шторком, историком Т. Линднером и философом Гидеоном Спикером. Филологические занятия дали мне новый импульс для систематической работы над сочинениями Платона. Я также настойчиво стремился разгадать глубокий смысл «Критики чистого разума» Канта, хотя и не мог согласиться с моим учителем Шпикером, который испарял «вещь в себе», но понимал учение Канта в то время и еще долгое время в смысле, более близком к Фризу. Кроме того, теория внутреннего опыта, как ее отстаивал Überweg в своей «Логике», и то, как он хотел разрушить стены, воздвигнутые Кантом, послужили многим стимулом.
Однако сначала эти философские исследования должны были завершиться получением докторской степени, чтобы достичь внешней цели. Долгое время я был занят диссертацией о вызывавшем много споров учении Аристотеля о нусе, в которой предполагалось развить идеи Аристотеля в критической дискуссии, в частности, с Францем Брентано, и проследить их дальнейшее развитие в средневековой философии. Однако для завершения этой обширной темы, для которой я уже многое собрал и подготовил, потребовалось бы еще больше времени, чем я мог выделить. Поэтому был закончен и представлен отрывок из подготовительной работы – «Учение Аристотеля о внешних и внутренних чувственных способностях», с которым в начале 1877 года я получил докторскую степень. Работа получила определенное признание критиков. Зюземиль и Вальтер высоко оценили ее, а рецензия Нойхойзера в Бонне – впоследствии я стал его преемником – даже выросла в целую книгу: «Aristoteles Lehre von den sinnlichen Erkenntnisvermögen und dessen Organen» (1878), против основного тезиса которой, как ни странно, ученик Нойхойзера и Юргена Бона Мейера, Дембовский, снова представил мою защиту в боннской диссертации. В конце 1877 года я также сдал филологический государственный экзамен и в начале 1878 года начал преподавать в Паулинишеской гимназии в Мюнстере.
С диссертацией об Аристотеле я вступил на путь, к которому меня подталкивали время и склонность, – к строго историко-критическому исследованию исторического развития философии, основанному на точных методах. «Философия греков» Целлера казалась мне блестящим образцом для этого. Помимо небольших текстово-критических материалов по Аристотелю, которые я написал еще студентом и опубликовал в «Zeitschrift für österreichische Gymnasien», продолжая дух Боница, я опубликовал в «Rheinij sehen Museum» эссе о софисте Поликсене, на которое меня натолкнули платоновские исследования. От Александра Афродисийского мне удалось доказать в юном магийском диалектике, о котором историки философии ничего не сообщают, родоначальника аргумента τριτος ανδρωπος, который Аристотель проводит против учения об идеях, но который появляется уже в платоновском «Пармениде». Если в то время последнее обстоятельство обычно рассматривалось как решающее доказательство неподлинности «Парменида», то теперь это доказательство стало недействительным. Таким образом, это открытие стало хотя бы небольшим звеном в начавшемся в то время движении против гиперкритики трудов Платона, которое достигло апогея благодаря Убервегу и Шааршмидту. Моя литературная деятельность также была сосредоточена на эпохе Возрождения. Появилось несколько эссе по истории мюнстерского гуманизма; по предложению Кёртинга, отчасти вопреки ему, были каталогизированы античные и патриотические источники для антикварного сочинения Петрарке.
II.
В течение этих пяти лет моей работы в гимназии я испытывал большое внутреннее удовлетворение от преподавания, особенно греческого и немецкого языков, и прежде всего философской пропедевтики, которая в то время еще была связана с немецким языком в высшем классе и для которой я составил небольшой конспект; тем не менее я был глубоко тронут, когда в конце 1882 года неожиданно открылась перспектива осуществить мучительно откладывавшийся идеал преподавания философии. Георг Фрайхерр фон Хертлинг, который много лет был частным преподавателем в Бонне и которым я очень восхищался, отказался от назначения на католическую кафедру философии в университете Бреслау, чтобы последовать новому призванию в Мюнхен. Он указал на меня. Несмотря на все мои сомнения – во время личной консультации я просил министра фон Госслера первоначально направить меня только в качестве доцента, но это оказалось невозможным, – я с пониманием принял вызов на Пасху 1883 года, радуясь, что теперь смогу полностью посвятить себя науке и работать в соответствии со своим мировоззрением. Конечно, работа была трудной. Ведь без постепенного созревания времени частного лектора, без обязательств и ответственности, я должен был прорабатывать лекцию за лекцией, одновременно осознавая свою собственную точку зрения в непрерывной внутренней дискуссии с современными течениями, особенно с неокантианством и позитивизмом, и в то же время реализуя свое желание писать. Через несколько! семестра я серьезно заболел, и мне потребовался целый год отпуска, чтобы восстановиться.
В течение этого времени мной двигало множество различных интересов. Систематически они – помимо метафизических в связи с историческими системами, из которых возникли «Мысли о метафизике» (1884), направленные, в частности, против позитивизма, – были прежде всего психологическими. Из изучения, в частности, «Физиологической психологии» Вундта у меня возникла идея применить экспериментальный метод к высшим психологическим образованиям, вначале к памяти. Долгое время я проводил с этой целью эксперименты, не найдя, конечно, подходящего для этого средства – методически сформированных рядов слогов, вместо которых я использовал числа. Таким образом, я самостоятельно обнаружил некоторые закономерности в отношении объема памяти, предпочтение первых и последних членов, выгодное распределение повторений и т. п. Однако когда в 1885 году появилась новаторская книга Эббингауза о памяти, в которой с помощью всех средств методической техники были получены результаты, далеко выходящие за эти рамки, я был обескуражен и отказался от своих планов. Исследования психологии мышления, начатые в то время с обычных «кабинетных экспериментов», также были оставлены, и план истории психологии ассоциаций также не был реализован. Но даже несмотря на то, что меня больше привлекали другие задачи, я воздерживался от самостоятельных психологических исследований и вынужден был довольствоваться в основном наблюдением за их ходом, я не потерял к ним интереса. Напротив, я продолжал заниматься им и позже: основал скромный психологический институт в Страсбурге, который впоследствии оставил Г. Штеррингу, когда тот получил назначение, написал педагогико-психологический трактат о восприятии и мышлении (1913) и время от времени писал короткие эссе по психологии и юношеским исследованиям. Как бы я ни отворачивался от психологического смешения биологического развития с логической, эпистемологической и ценностно-этической обоснованностью содержания, которое естественным образом было связано с расцветом психологических исследований, я убежден в важности психологии на своем месте, не только как особой дисциплины наряду с философией, но и как основной философской науки как таковой. Психология и философия остаются для меня неразделимыми. – Следует также упомянуть о логике, которую я напечатал для своей аудитории в 1890 году и в которой я стремился, в частности, реализовать аспект методологии, например, связать силлогистические формы с различными мыслительными задачами.
Однако в первую очередь моя работа по-прежнему была направлена на философские и исторические исследования. Не то чтобы сама философия растворилась для меня в истории. Но, с другой стороны, история ни в коем случае не существовала для меня исключительно ради системы, будь то для того, чтобы просто предоставить ей материал для развития возможных взглядов на тот или иной вопрос, будь то для того, чтобы насильственно сформировать ее как путь к целям, которые должна достичь собственная система. Скорее, она имела для меня ценность как историческое развитие человеческого духа, в котором, как и во всем живом, прошлое остается имманентным настоящему и абсолютный разрыв с прошлым не может быть осуществлен без нарушения непрерывности жизни. Эволюция, а не ниспровержение, была моей программой и в философии. По этой причине, однако, историческая работа также имела для меня фактологическое и систематическое значение. Она также имела для меня непреходящую ценность для самой философской мысли: как спасение и как критика. В первом случае – как сохранение значимых мыслей великих мастеров, достижений исследований, которые, как и сама истина, существуют только сегодня, как строительные блоки философии вечности, как ее называет Лейбниц, в прогрессирующей плодотворности. Известные слова Тренделенбурга в предисловии ко 2-му изданию «Логических исследований» об органическом мировоззрении, которое заложено в Платоне и Аристотеле, продолжается от них и должно быть развито и постепенно завершено в более глубоком исследовании основных понятий, а также отдельных аспектов и во взаимодействии с реальными науками, также направляли меня. Однако, с другой стороны, это историческое наблюдение оказалось лучшим средством критики в противовес рабскому следованию авторитарным предубеждениям. Оно учит нас понимать даже самые высоко ценимые вещи в их исторической обусловленности. Таким образом, она противостоит усилиям простого зависимого повторения, которое не идет дальше простой экзегезы традиций и их постоянно обновляемого применения, а всегда направляет взгляд назад к самим фактическим проблемам через сравнительное и дедуктивное рассмотрение.
В результате моих филологических исследований эта историческая работа периода Бреслау первоначально была сосредоточена на греческих философах. Небольшие работы, некоторые из них литературные, особенно текстово-критические по содержанию, касались Аристотеля и Платона, досократиков, особенно Парменида, платоника Тавроса, Нумения, Прокла и так далее. В «Проблеме материи в греческой философии» (1890) рассматривается более широкая проблемно-историческая тема по образцу «Истории категорий» Тренделенбурга. Моей главной целью в этой книге был анализ и объективная оценка аристотелевской доктрины, которая также должна была стать критическим рассмотрением концептуально-философской трактовки натурфилософских проблем в рамках аристотелизма в целом и продемонстрировать ее ограниченность. Это также было хорошо замечено теми, на кого была направлена критика, и впоследствии иногда приводило к острым столкновениям.
Вполне естественно, что этот способ работы, основанный на примере Тренделенбурга и Целлера, вскоре обратился к тому философскому периоду, интеллектуальные продукты которого интенсивно занимали меня уже в первые годы моей работы и в котором я не переставал видеть органичное дальнейшее развитие греческой философии и в то же время предпосылку современной мысли, которую нельзя было устранить: к Средним векам. Однако этот поворот был не только результатом личного развития, но и объективной необходимостью: мнение о том, что почти вся средневековая философия была пустой схоластикой гениального ума, отвернувшегося от самого предмета, псевдонаукой, связанной авторитетами, которую лучше вообще игнорировать, давно уже перестало преобладать. Французские исследователи, такие как Кузен, два Журдана, Равассон, специалист по рукописям Наигёаи, который, по общему признанию, не был свободен от серьезных заблуждений, пробудили интерес, в частности, к началам. В Германии Риттер сочувственно рассказывал о патристике и схоластике; Штёкль и Карл Вернер подготовили обширные репродукции систем, изложенных во многих томах, предлагая хотя бы внешнее знакомство с ними. Если более глубокое проникновение в средневековую философию долгое время было доступно только в кругах богословов и теологов, которые сами строго следовали Фоме Аквинскому, которого они, однако, неверно отождествляли со схоластикой в целом, и из среды которых вышел ряд превосходных, хотя и никак не исторически ориентированных, описаний томистской доктрины, то теперь интерес к средневековой философии распространялся повсюду, где применялась историческая мысль.
Конечно, для достижения подлинно исторического понимания средневековой философии еще многое предстояло сделать. Многие из наиболее важных для понимания ее развития работ все еще дремали в рукописях или не были опубликованы в достаточном объеме. Длинные лекции о различных! системы в сочетании с восхвалением или порицанием цензуры, как это делал Штёкль, не были историей. Вместо живых потоков и течений мы видели однообразную серость абстрактной теории, из которой отдельные отклоняющиеся явления выделялись как парадоксальные исключения. Знаний о происхождении, источниках, истоках и развитии в ключевых областях по-прежнему не хватало. Прежде всего, два исследователя, Денифле и Эрле, которые, будучи глубокими знатоками рукописей, а также схоластической доктрины и методов исторического исследования, дали решающий импульс исследованиям в этой области, проведя множество новаторских исследований. В нескольких фундаментальных эссе, основанных на богатом рукописном материале, он мастерски раскрыл внутреннюю структуру золотого века схоластики и ее развитие, как она развивалась от более древнего, ориентированного на Августина традиционного взгляда, через борьбу и противостояние с новым аристотелизмом, к окончательному формированию томизма и скотизма. Весь образ «схоластики» начал меняться. То, что подобные исследования приводят не только к чисто историческим результатам, продемонстрировал, в частности, Г. фон Хертлинг в программной работе о AL bertus Magnus, которая показала, как понимание исторического развития может быть использовано и для критической оценки.
Принять участие в решении всех бесчисленных задач, поставленных здесь, – вот задача, которая властно влекла меня. Конечно, меня привлекало не столько синтетическое резюме; вскоре мне стало ясно, что невозможно написать полную, обобщающую, основанную на источниках историю средневековой философии, как это сделал Целлер для греческой философии. Слишком многое еще предстояло выявить и монографически исследовать, и весь мой подход был направлен скорее на анализ и первичное извлечение сведений из источников, чем на окончательное расширение.
При этом я особенно стремился изучить те аспекты, которые, как мне казалось, до сих пор были менее прояснены. В частности, мне открылись движения в кругах художников, в то же время в их связи с научными исследованиями, а также платонические и неоплатонические течения и многообразные последствия этих движений в теологических кругах, особенно в мистицизме. Отсюда можно было многое почерпнуть для генетического понимания теологически ориентированной схоластики, в первую очередь исследованной Денифле и Эрле, которая, конечно, намного превосходила другие по влиянию и длительному значению.
Конечно, для этих исследований, особенно для изучения рукописей, мне пришлось совершить несколько длительных путешествий, которые в то же время принесли мне благоприятное знакомство с выдающимися учеными в Италии, Франции и Бельгии, такими как Эрле в Риме, Клодий Пиат и Пикаве в Париже, Мерсье и де Вульф в Лувене.
Здесь можно лишь вкратце коснуться деталей. Публикация латинского перевода «Источника жизни» еврейского философа Авенсброла (ибн Гебироля), который до этого времени издавался только в очень сокращенном чтении на иврите, должна была представить спорный источник неоплатонического движения. В ее переводчике, испанце Доминикусе Гундиссалинусе, появился первый представитель нового аристотелевско-арабского движения XII века, который все еще работал в полностью компилятивной манере, о котором я дал обобщающую характеристику и для которого серия работ, начатая мной, определила его место в истории. Я вернулся к нему позже, в связи с публикацией работы Альфараби о происхождении наук (1916), которую он перевел и которая характерна для переходного периода. Его работа об Алане Лилльском и публикация рукописного трактата против амальрикейцев, ентиномистской секты, возвысившей неоплатонизм до явного пантеизма и сочетавшей его с иоахимитскими бреднями о временах мира, продвигали в платонических кругах. Правильная позиция учения Николая Автрекурского, совершенно неправильно понятая Наигёаи, данная в контексте связных критических общих докладов, выявила в этом номиналисте XIV века «средневекового Юма» (1897).
Публикация «Impossibilia» Сигера Брабантского впервые сделала известным полное сочинение этого главного представителя латинского аверроизма в Парижском университете – он известен как представитель доктрины двойной истины, в то время как его оппонент Фома Аквинский, как и Альберт Магнус, стремился «христианизировать» Аристотеля и таким образом установить философско-теологический синтез, – которое Фр. Мандонне вскоре опубликовал полное издание, сопровождаемое великолепным историческим очерком. Я не буду вдаваться в различные споры, которые впоследствии последовали за вопросом Сигера; через множество неприятных моментов они, тем не менее, все больше проясняли истинные факты центрального вопроса философского движения в период расцвета средневековой схоластики. Еще во Вроцлаве я завершил первую литературно-историческую часть книги о силезском философе и естествоиспытателе Витело.
Благодаря поддержке дальновидного издателя, интересующегося наукой, я смог основать «Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen» («Вклад в историю средневековой философии. Тексты и исследования»), который объединил многие силы в совместной работе над 22 солидными томами и двухтомниками на сегодняшний день. По моей просьбе Г. Фрайх. фон Хертлинг, чье имя выражало программу со времен его «Albertus Magnus», также выступил в качестве соредактора, начиная со второго тома, но, к его сожалению, не смог принять дальнейшего участия в самой работе, кроме предложения нескольких трактатов его учеников, из-за других многочисленных требований.
III.
После семнадцати лет счастливой деятельности на берегах Одера – я устоял перед соблазном поехать в Вену – осенью 1900 года я последовал призыву в Бонн, на место моего бывшего критика Нойхойзера. Там я снова встретил Бенно Эрдмана, чьим стимулирующим философским обменом идеями я уже наслаждался в течение нескольких лет в Бреслау. Однако, как ни привлекала меня интеллектуальная атмосфера рейнского университета, я покинул Бонн всего через пять семестров, когда получил срочный вызов от факультета и правительства Страсбурга, где в связи с переездом Виндельбанда в Гейдельберг освободилась кафедра, которую я счел своим патриотическим долгом занять. Я никогда не забуду десять лет, проведенных в немецком Эльзасе, которому я посвятил всю свою душу и которому до сих пор с болью предано все мое сердце, после того как на Пасху 1912 года я поменял Страсбург на Мюнхен, чтобы занять там место преподавателя философии Георга фон Гертлинга, как когда-то в Бреслау, который тем временем был назначен с кафедры на должность главы баварского государственного министерства по доверию своего регента.
Но позвольте мне вернуться к внутреннему развитию. В Страсбурге я только завершил «Витело», начатое мною в Бреслау. Я отредактировал неоплатонический трактат о теории интеллекта, который Рубчинский приписывал силезскому Вителло, или, скорее, Витело, из-за сходства его метафизических взглядов, вместе с соответствующими философски значимыми главами «Перспективы». Литературные вопросы уже были рассмотрены в печатной части – с тех пор, конечно, я признал то, что считал возможным с самого начала, что этот трактат старше «Перспективы» Витело, даже если оба принадлежат к одной группе – и краткая ориентация в истории идей должна была завершить работу. Только во время заключения план изменился. Короткий набросок последней главы вырос в толстую книгу, которая была закончена только в 1908 году, но которая, таким образом, представляет собой как бы недостроенный лес, из которого, кстати, кое-кому уже удалось нарубить дров. В нее вошли целые монографии по истории идей. Прежде всего, мне было интересно пролить свет на особенность платонического и неоплатонического движения, значение и распространение которого до этого момента было так мало признано даже в рамках высокой схоластики. Так, анализ мотивов доказательств существования Бога показал характерные различия между старым, концептуально-рационалистическим, и новым, аристотелевским типом, основанным на платонизирующих направлениях мысли, и тем самым позволил найти как место для концепции этого трактата, так и точки зрения для объективной критики такого концептуального реализма внутри самой схоластики. Я также проследил последствия платоновско-августиновской доктрины знания в противовес аристотелевской в соответствии с ее особенностями в рамках высокой схоластики. В частности, я стремился показать, как в контексте этих антиаристотелевских, платонизирующих течений в схоластику проникает воззрение, уходящее корнями в глубочайшую древность, – я назвал его «метафизикой света», – которая, не в чисто фигуральном смысле, видела в свете, происходящем от божественного первозданного света, медиум знания, принцип жизни и одновременно космообразующий фактор. Эта метафизика света в трактате об интеллекте сочеталась с математико-физическим мышлением в «Перспективе» Витело – из которой в то же время прослеживалось ассоциативное объяснение психических образований, восходящее к арабскому Альхазену.
Полученные таким образом знания вскоре распространились по всему миру. Подобный платонизм, сочетавшийся с естественными науками, возник и у других мыслителей, ставших более известными в то время, таких как Дитрих фон Фрейберг и Берхтольд фон Моосбург. Более того, все эти поначалу столь обескураживающие явления были частью целостного платонического или неоплатонического движения, которое в основном базировалось в южной и западной Германии – поэтому я назвал его платонистской «юго-западной немецкой школой», чтобы провести современную параллель. У Альберта Магнуса, наряду с традиционным августинским теологическим направлением, взятым на вооружение Хью Страсбургским, и аристотелевским, продолженным Фомой Аквинским, оно составляло одну из сторон его всеобъемлющей природы, которая оттуда, как и у Дитриха Фрейбергского, перешла к ученику Альберта Ульриху Страсбургскому и, в большей степени, стала решающей для Мейстера Экхарта. Образ мышления Данте также неоднократно оказывался связанным с этим направлением в философских вопросах, несмотря на все его отношения с Фомой Аквинским, особенно в теологических вопросах. В страсбургской речи 1912 года о доле Эльзаса в интеллектуальных движениях Средневековья и мюнхенской речи о платонизме в Средние века (1916), а также в различных других местах я попытался сформулировать эти взгляды более четко. В псевдогерметической «Книге 24 мастеров» (1913) я сделал доступным новый, по общему признанию, более декоративный документ такой платонистской мысли с ее загадочными определениями Бога в неопифагорейской окраске.
Таким образом, при всем моем уважении и признании схоластического синтеза, кульминацией которого стал Фома, я стремился, особенно благодаря его четкой сбалансированности, выявить живое богатство и полное напряжение жизни повсюду, Я также попытался включить натурфилософию Роджера Бэкона, хорошо знавшего язык и природу, и в особенности его учение о материи и форме, индивидуальности и универсальности, в соответствующий контекст (1916).
В ходе многолетнего изучения труда Альфреда Англикуса «De motu cordis» объединилось множество различных интересов. С одной стороны, это было интересное сочетание научных и философских интересов, в котором, однако, к платонизму и неоплатонизму добавилось очень сильное аристотелианство. Это, однако, было связано с другим вопросом, который сам по себе был чисто литературно-историческим, но который, в силу особого, сильно восприимчивого характера средневекового философствования, имел в то же время немаловажное значение для истории философии и к которому меня уже привело исследование о Сигер-ион-Брабанте. Это был вопрос о рецепции настоящих философских трудов Аристотеля, который был известен более древнему латинскому средневековью в основном только как логик. Доказав истинную дату написания более раннего и слишком позднего сочинения Альфреда и определив переводы, которыми он пользовался, отчасти с помощью новых рукописей, можно было получить немалые новые сведения. В кругах «Beiträge» Грабманн затем заново занялся этим вопросом о переводах Аристотеля, всесторонне изучив рукописи.
Недавняя публикация о Петре из Гибернии, земляке Михаила Скота, и его диспуте перед королем Манфредом также относится к аристотелевскому кругу. На основании обнаруженной рукописи мне удалось составить представление о первом философском учителе Фомы Аквинского, который познакомил его с аристотелизмом еще до Альберта Великого и дал ему здесь первое отношение, и таким образом, как мне кажется, это не только вклад в эпоху Гогенштауфенов, но прежде всего тот, который проливает свет на карьеру самого великого из схоластов.
Осталось упомянуть еще два обобщающих описания. То, что казалось мне наиболее значительными аспектами средневековой философии в целом с точки зрения истории идей, как богословов, так и богословски ориентированных философов, и то, что и в наши дни требовало и заслуживало обсуждения, я кратко изложил в разделе о средневековой европейской философии, который появился в общей истории философии в книге Хиннеберга «Kultur der Gegenwart» (1909). Мое стремление там вовсе не заключалось в том, чтобы представить все явления с максимально возможной полнотой и единообразием. Моей целью было охарактеризовать времена, движения и действительно представительных людей и представить как можно точнее, без всякого переосмысления или неверного толкования, те идеи, которым есть что сказать сейчас, как и в свое время. – Аналогичным образом и в соответствии с аналогичными точками зрения, также сознательно избегая благодарной и удобной формы удобного для изучения компендиума, я затем добавил ко второму изданию (1913) в качестве подготовки обзор патристической философии, то есть философских аспектов Отцов, а не всей патристики, включая ее богословское содержание.
