В тени императора бесплатное чтение
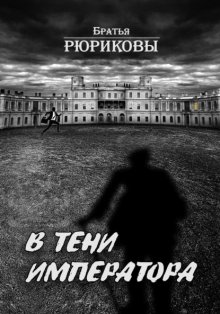
Часть первая. Плут
В ночь с 7 на 8 марта районный центр Петровск жил привычной сонной жизнью. Дремали все тридцать три бронзовых Петра. Петра Первого – основателя города. Ничто не предвещало беды.
Ровно в полночь в родильном доме № 2 тишину нарушил громкий победный крик. На свет появился мальчик. Принимавшие роды три женщины, словно добрые феи, склонились над младенцем. Внезапно дитя широко улыбнулось, показав острые зубки.
– Ничего себе чудо морское, – сказала самая старшая, врач Вера Павловна, и перекрестилась.
– Этот откусит свой кусок пирога, – добавила обстоятельная медсестра Надежда.
– Богатым будет. Какой мужик кому-то достанется, – завистливо прошептала практикантка Любочка.
– И глазки, как у нашего первого. Синие-синие… – словно припоминая что-то, заключила Вера Павловна.
«Первым» в Петровске называли первого секретаря райкома партии Ивана Михайловича Петрушина.
Мальчик родился в самой обычной семье. Отец ребенка, Иван Никифорович Солнцедаров, окончил местное ПТУ, трудился на комбинате бытового обслуживания. Из тех, кого называют «мастер золотые руки». Любимец окрестных пенсионерок, безотказный, он чинил всё, что ломалось (от утюга и кастрюли до телевизора). Зарабатывал хорошо. В общем, человек положительный, незаменимый не только на работе, но и на любых культурных мероприятиях. На свадьбах, юбилеях, днях рождения его гитара звучала по-особенному проникновенно.
Роста невеликого, неказистый, но что поражало в его облике – это необыкновенной синевы глаза, в которые заглядывались местные красавицы разного возраста.
Мама мальчика, Мария Антоновна, заведовала столовой. Железной рукой управляла она и коллективом, и супругом. В почти столичный Петровск судьба забросила ее из тихого провинциального городка. И не только судьба…
Но перенесемся на пять лет назад в этот провинциальный городок Псковской области, который так и назывался: Городок.
Ивана Михайловича Петрушина, занимавшего тогда ответственный пост в Петровском райкоме комсомола, руководство направило в Городок – там проходила важная конференция.
И вот после заседаний, знакомства с достопримечательностями, выполнив всё запланированное, комсомольский лидер готовился к отъезду домой. До отправления автобуса оставалось немного времени, и Иван решил подкрепиться.
Искать приличную точку общепита было некогда, и тут перед глазами Петрушина, словно яркая вспышка, возникла вывеска «БУФЕТ». В сознании огнем полыхнули слова: Мене, Текел, Фарес.
Для читателей, возможно, не столь образованных, как наш герой-комсомолец, поясним, что эти слова, согласно ветхозаветной Книге пророка Даниила, были начертаны таинственной рукой на стене во время пира вавилонского царя Валтасара незадолго до падения Вавилона от рук персидского правителя Кира. В вольном переводе слова означают: Взвешен, Исчислен, Оценен. И это не предвещало ничего хорошего.
Но судьба толкнула мужчину в спину, и он толкнул дверь буфета. Тонкое обоняние зафиксировало: пиво, квашеная капуста, жареные котлеты. Всё это тонуло в клубах табачного дыма. Публика оказалась соответствующая: здоровенные мужики (очевидно, водители), потертые личности неопределенного возраста и профессий и несколько приличного вида пассажиров, тревожно озирающихся по сторонам.
У Ивана Михайловича пропал аппетит, и он уже собрался покинуть заведение, как из клубов дыма, словно из тумана, появилась она! В голове зазвучали стихи:
И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами…
Отметим, что Петрушин был большим любителем искусства. В живописи больше всего ценил Ренуара, Тициана, Кустодиева. Нетрудно догадаться, что он, невысокий, субтильный, женщин предпочитал крупных, с пышными формами. И чтобы всё радовало глаз: высокая грудь, тонкая талия, тяжелые бедра. Не девяносто–шестьдесят–девяносто, а, пожалуй, сто двадцать–шестьдесят–сто двадцать. Поэтому, когда Иван увидел девушку с подносом, в легком сарафане, по его телу пробежала дрожь: «Это же кустодиевская Венера!»
Всё в ней соответствовало вкусу ценителя женской красоты. Даже простое лицо с грубоватыми чертами не портило впечатления.
«Вылитый Тихонов… – подумала девушка. – И глаза такие же синие!»
Фотографии известного киноактера Вячеслава Тихонова из художественного фильма «Мичман Панин» висели дома над ее кроватью.
Подавая салат из огурцов, девушка склонилась над симпатичным посетителем, ощутив непривычный запах, очевидно, дорогого одеколона: «Пахнет-то как! Не то что наши…»
Под «нашими» юная Мария подразумевала завсегдатаев буфета. А еще она обратила внимание на тонкие музыкальные пальцы: «Не то что лапищи у наших…»
Не будем описывать дальнейшее – всё произошло словно само собой. Они встретились в тот же вечер. Руки интеллигентного молодого человека оказались ласковыми и неожиданно сильными. Ничто не могло остановить всепоглощающую страсть. Даже обручальное кольцо на пальце заезжего принца.
В тот вечер Иван Петрушин на автобус не попал.
Спустя несколько месяцев восемнадцатилетняя Маша Ефимова оказалась в Петровске. В небольшой комнатке малонаселенной коммунальной квартиры. Из старой жизни сюда она перевезла только фотографии любимых артистов и книги о путешествиях, которыми зачитывалась с детства. С жильем помог обожаемый Иван Михайлович. Он же устроил на работу.
Используя свои связи, Иван Петрушин, теперь уже первый секретарь райкома комсомола (культурный, образованный, любимец партийного руководства), карьеру делал быстро.
Он был женат. Супруга, натура изысканная, играла на скрипке в оркестре одного из известных Ленинградских театров. Могла рассуждать на любые темы и полностью соответствовала культурным запросам мужа. Особой красотой не отличалась – в профиль напоминала беззащитного вороненка. Ее худоба не вполне отвечала тайным вкусам Ивана, но в выборе спутницы жизни главное достоинство невесты перевесило всё остальное: она была единственной дочерью очень влиятельного человека.
Нетрудно представить себе состояние, в котором оказались Иван Михайлович и Маша. Оба получили то, о чем мечтали: он стал обладателем настоящего осязаемого сокровища, ее девичьи грезы стали реальностью – принц на белом коне, своя комнатка с видом на море и работа по специальности рядом с домом – поваром в детском саду при самом богатом в городе заводе. И даже то, что видеться они могли лишь тайком и только в те вечера, когда законная супруга Ивана была занята в театре, не портило атмосферы радости и счастья.
Целый год продолжалась сказка. Но всё меньше времени оставалось у первого секретаря райкома комсомола на тайную личную жизнь. И, соответственно, всё больше свободных вечеров появлялось у Марии.
Однажды, глотая слезы, Иван Михайлович сообщил Маше, что при всем желании не сможет встретиться с ней ни в этот четверг, ни в следующий, ни, возможно, через месяц. Его отправляют на учебу.
«Машенька, мне хотелось бы видеть тебя каждый день. Но развестись я не могу, ты же понимаешь. И терять я тебя не хочу, солнце мое! Но комсомольская совесть не дает мне права удерживать тебя, как жар-птицу в клетке. Это не значит, что я ухожу насовсем. Мы будем встречаться, если ты захочешь. Но ты свободна в принятии решений. Мы живем в самой свободной стране!» – не удержался Иван Михайлович от пропагандистского штампа.
Они проплакали вместе всю ночь…
В дальнейшем Иван Михайлович Петрушин, делающий успешную партийную карьеру, будет появляться на страницах нашего романа нечасто. А лишь тогда, когда развитие сюжета без его вмешательства окажется невозможным.
Мария горевала целый месяц. По вечерам смотрела в окно, как солнце тонет в волнах Финского залива, и представляла себе, как тонет она сама. Как плачет над ее телом обожаемый Иван Михайлович.
Она пыталась забыться, читая книги о путешествиях и приключениях. И даже дефицитный по тем временам телевизор марки «Заря» Ленинградского завода имени Козицкого, подаренный любимым, не приносил успокоения ее страдающей душе.
Однажды в субботу, не в силах оставаться одна, девушка решила прогуляться. Она шла по Петровскому бульвару. Без всякой цели. С опущенной головой.
Возникший перед ней бронзовый Пётр (один из тридцати трех монументов Великому императору, установленных в городе и играющих важную роль в нашем повествовании) изменил направление жизни Маши Ефимовой. Его рука указывала строго на юго-восток – там был парк. Именно оттуда доносились зажигательные звуки – оркестр исполнял модную песню «Черный кот». Мария послушно двинулась в указанном направлении.
Танцплощадка встретила Машу как родную. Родным здесь было для нее всё: грохочущая музыка, раскрасневшиеся лица парней и девушек. И даже не самые приятные запахи пота, табачного дыма и дешевого портвейна не вызвали отторжения. Хотя Иван Михайлович и приучил Машу к более изысканным ароматам.
Девушка любила танцы. В родном Городке это было, пожалуй, главным развлечением по выходным. И свершилось чудо! Куда-то ушли тоска и уныние, словно оковы спали. Маша танцевала самозабвенно, чувствовала себя неотразимой. Кавалеры сменяли один другого, парни говорили ей какие-то слова, но все партнеры были словно на одно лицо. Девушка целиком отдалась танцу.
Так было до того момента, когда ее неожиданно легко подхватил и закружил невысокий паренек.
«С небольшой, но ухватистой силой, – мелькнуло есенинское в голове у Маши (она была девушкой начитанной). – А глаза-то, глаза! Господи, как у Ивана Михайловича. Синие-синие!»
– Ну что, будем знакомиться? Иван, – сказал парень, ослепительно улыбаясь, совсем как актер Пётр Олейников в фильме «Трактористы», и крепко прижал к себе.
– Мария, – прошептала она.
Остаток вечера Иван и Мария не расставались. И даже когда парень предложил выпить за знакомство, она не отказалась. Отлучившись на минутку, Иван вернулся с двумя гранеными стаканами и початой бутылкой, украшенной ярко-желтой этикеткой.
– «Солнцедар», – значительно произнес он. – А я – Солнцедаров! Это моя фамилия. Не последний человек в городе!
В Петровске было рабочее общежитие, в котором жили друзья Ивана. В любой момент они были готовы подставить плечо другу – уступить комнату.
Туда и привел Солнцедаров свою новую знакомую.
Удивительно, но то, что произошло с ней, Мария не ощущала как измену Ивану Михайловичу. «Сам виноват, – мстительно думала она, – оставил девушку одну».
Надо признать, что Иван Солнцедаров произвел на нее впечатление. Веселый, обходительный, ласковый, зарабатывает хорошо. И сила в нем чувствуется. Мужская. Посильнее будет, чем Иван Михайлович. И глаза! Вскоре Маша Ефимова стала Марией Солнцедаровой.
Иван Михайлович Петрушин воспринял новость как должное. Он был благородным человеком и даже оставил девушке все подарки, включая телевизор. Петрушин не хотел терять Машу окончательно. Конечно, он понимал, что девушка ему не ровня, его иногда коробили простота и некоторая вульгарность, полностью отказаться от Марии Петрушин не мог. Над здравым смыслом и комсомольской моралью торжествовали кустодиевские формы.
Не будем судить Машу за то, что впоследствии она уступала иногда страсти человека, который открыл перед ней новые возможности, изменил ее жизнь и помог материально.
А Иван Солнцедаров переехал к супруге. Со временем они сумели чудесным образом улучшить жилищные условия – стали полновластными хозяевами квартиры, заполучив вторую комнату.
Мария Антоновна за пять лет сделала карьеру: прошла путь от повара в детском садике до завпроизводством в столовой самого крупного завода в Петровске. Не без помощи Ивана Михайловича, теперь уже главного человека в городе – первого секретаря райкома КПСС.
А муж, Иван Солнцедаров, всё так же продолжал чинить, паять, ремонтировать… И беспрекословно подчинялся своей Марии, которая бранила его, когда он приходил с работы под градусом.
Дом их был полная чаша, вот только детей бог не дал. И даже всемогущий Петрушин помочь в этом вопросе не мог. Чего только не перепробовала Маша! Ездила к бабкам-целительницам, снадобья всякие пила, даже в церковь ходила (так, чтобы никто не видел, конечно). И вот как-то в июне, гуляя в сквере Юных Пионеров, куда она приходила частенько, Мария с грустью наблюдала за играющими детьми.
Наблюдал за детишками и бронзовый Пётр, изваянный местным скульптором Ханыгиным. Сидящий на гранитном валуне император был центром композиции. Его окружали бронзовые дети, все как один в пионерских галстуках. Скульптура называлась «Пётр Первый и дети».
«Батюшка, помоги!» – взмолилась молодая женщина.
Бронзовый истукан безмолвствовал. Тогда Мария подошла к памятнику, прижалась лбом к теплому плечу Петра и заплакала.
«Будет тебе мальчик», – послышалось ей.
Через девять месяцев Маша Солнцедарова родила сына Павлика. Радовались все: и Иван Никифорович Солнцедаров, и Иван Михайлович Петрушин, и, быть может, Пётр Алексеевич (памятник).
Будучи уже в зрелом возрасте, Павел Иванович Солнцедаров раннее детство свое вспомнить не мог. Неясно всплывали лишь отдельные образы и впечатления:
Вот мать дает ему сырник, политый сгущенкой.
Вот он с отцом сидит с удочками на берегу. Поймали они тогда что-нибудь или нет, он не помнит, но помнит залитую солнцем морскую гладь и запах влажных водорослей, выброшенных на берег.
Вот он уютно устроился на коленях у матери. Она излучает тепло и ласку, губы ее шевелятся – мама читает ему книгу.
Вот он следит за руками отца, которые разбирают-собирают какой-то непонятный предмет.
А вот руки дяденьки в шляпе. Они протягивают большое шоколадное мороженое. Рядом смеющаяся мама.
И неприятное – руки матери, такие ласковые обычно, бьют отца по лицу, а тот в ответ что-то мычит неразборчивое. И слова матери: «Алкаш проклятый».
Вот он катается в парке на новеньком трехколесном велосипеде. К нему подбегает девочка с огромным белым бантом.
– Мальчик, дай покататься, – просит она.
– Не дам, – отвечает он и мчится дальше.
Оглядывается на девочку, показывает ей язык и на всей скорости врезается во что-то твердое, громадное. Слезы, боль – кто посмел?
Сверху льется холодная вода. Он поднимает голову – на него гневно смотрит усатый гигант, в его руках корчится, извивается страшная змея. Из пасти змеи вырывается мощная струя.
Позже Павлик узнал, что этот памятник – главный в Петровске. И стоит он у главного в городе здания, в котором всегда находилась власть. А бронзовый гигант – основатель города Пётр Первый.
Еще позже Павел узнает, что скульптурная композиция эта олицетворяет собой борьбу со злом. Само собой, злом была змея. В разные времена зло видоизменялось. Это был и мировой империализм, и фашизм, и культ личности, и застой… Только в последние мгновения своей жизни Павел Иванович Солнцедаров поймет, что на самом деле бронзовый гигант расправлялся с самым страшным в России злом – с коррупцией.
К семи годам мальчик был, как говорилось в одном романе, «резов, но мил». От мамы он взял упорство и целеустремленность. От отца – синие глаза и способность мастерить, чинить и даже изобретать, не прилагая к этому особых усилий. Остальные достоинства, о которых речь пойдет позже, достались ему неизвестно от кого. Неисповедимы пути передачи дарований по наследству.
Детство Павлуши было вполне заурядным: переходил из класса в класс с хорошими оценками, вел себя примерно, не хулиганил. Имел, правда, одну особенность, за которую другого побили бы – он всегда старался быть на виду. Первым тянул руку на уроках, помогал педагогам донести журнал и тетради до учительской, ловко уходил от наказаний. Не попадался, когда другие попадались. Но Павлику всё прощали за веселый необидчивый характер. Мальчик не был жадным, угощал ребят конфетами. Доставались они совершенно случайно самым авторитетным одноклассникам, обладающим силой и влиянием. Конфеты давала мама, приговаривая: «Угощай ребят. Пригодится».
Павел рос мальчиком худеньким, особой силой не отличался. Зато здоровенные кулаки были у соседа по парте Миши Меньшикова, главного в классе хулигана. Они дружили. Мишка был, что называется, безотцовщина. Мать работала в школе уборщицей, семья жила бедно, и фундаментом дружбы Павлика и Мишани стали деньги. У Павлика они водились всегда, и он никогда не отказывал просьбам друга поделиться.
Как в каждом настоящем психологическом романе, авторы не могут обойтись без подробного описания среды, в которой формировалась личность героя. Начнем с описания города.
Именно на территории сегодняшнего Петровска царь Пётр повелел основать новую столицу, «ногою твердой стать при море», куда бы «по новым им волнам все страны в гости будут к нам». Дальше у поэта следовало: «И запируем на просторе».
По преданию, Пётр так запировал на взморье, что наутро начисто забыл о своем решении, и столица была построена в сотне верст отсюда – на непригодном для жизни болотистом месте. Утешением для позднейших обитателей этих краев стало присвоение городу, возникшему здесь позднее, имени Петра. Не Санкт-Петербург, но всё же.
Краеведы Петровска разделились на два лагеря. Одни видели в случившемся промысел божий, другие считали, что виной всему финский крестьянин – помните «приют убогого чухонца»? Крестьянин, ненавидевший российскую экспансию, преподнес царю-батюшке ведро белого вина с поклонами и западными расшаркиваниями. Напиток этот, сообщил он через толмача, обладает целебной силой, потому что настоян на местной траве кипрейке. И что человек, испивший вина, принимает только верные решения.
Финский националист, видимо, добавил в вино какой-то гадости, сбившей русского царя с верного пути. Однако местные жители с этим не смирились и утверждали, что Петровск и есть законная столица империи. В подтверждение тому воздвигли в городе столько памятнику императору, сколько не было во всей России.
Напиток же под названием кипрейка стал, что называется, брендом Петровска. Построили винный заводик, наладили выпуск штофов из зеленого стекла, увенчанных пробками в виде короны. На этикетке красовался царь Пётр в полный рост. Со шпагой. С тех пор повелось принимать судьбоносные решения только после употребления кипрейки – петровского напитка. Повсеместно.
Ко времени, о котором идет речь в нашем повествовании, город Петровск стал районным центром с населением шестьдесят тысяч человек. Многие трудились на вышеупомянутом заводе – градообразующем предприятии. Продукция пользовалась спросом у самых разных слоев населения, а кипрейка «Царская» отправлялась на экспорт в страны социалистического лагеря. Кипрейка же под ласковым названием «Катюша», которую выпускали по древнему финскому рецепту, поставлялась исключительно в капиталистические страны. С понятной целью.
У простых граждан популярностью пользовалась кипрейка «Народная» за доступную цену и способность раскрашивать жизнь в яркие цвета. Ассортимент был широчайший – вплоть до самого демократичного крепленого «Солнцедара».
Завод, как и положено, имел свой детский сад, профессионально-техническое училище, музей, поликлинику и санаторий-профилакторий, разместившийся в одном из восстановленных дворцов на берегу Финского залива.
В Петровске был морской порт, откуда отходили корабли в дальние страны. Неподалеку располагалась судоверфь. Сама атмосфера города оказывала сильнейшее влияние на становление личности каждого юного жителя. Не важно, кем он становился во взрослой жизни – шофером, зубным техником, начальником цеха или заурядным выпивохой, в душе чувствовал себя моряком. И практически под каждым пиджаком, рубашкой, спецовкой или свитером была тельняшка. Кто-то гордо ее демонстрировал, а кто-то скрывал, как самое заветное. Якорек на руке у мужской части населения считался особым шиком, подчеркивал принадлежность к морской воле и доле. Мишка Меньшиков уже в пятом классе сделал себе такую наколку. Пытался вовлечь в морское братство и друга Павлика, но тот побоялся: у мамы была тяжелая рука. Впоследствии якорь появится на руке у Павла – все-таки он был настоящим патриотом города со славной морской историей. Он любил море и верил, что это его судьба.
Туристов в Петровск привлекали старинные крепостные сооружения с чугунными пушками и заботливо восстановленный парковый ансамбль с дворцом восемнадцатого века, принадлежавшим одному из сподвижников Петра. С размещенным в нем музеем.
Надо признать, что особой любовью жителей и гостей города пользовался небольшой павильон, украшенный по фасаду мозаичным изображением травы кипрейки. Заведение находилось на балансе винзавода. Здесь можно было ознакомиться с историей предприятия, начиная с петровских времен, и отведать любой напиток. Каждый мог позволить себе это удовольствие. Советский человек способен был надегустироваться до потери сознания за три рубля, с иностранцев брали в тройном размере. Такие правила придумал предприимчивый и политически грамотный директор завода. Он же стал инициатором установки скульптурной композиции «Пётр со сподвижниками, пирующий на просторе».
На центральной площади города возвышалось здание районного комитета партии с колоннами строгого дорического ордера. Перед входом, согласно регламенту, был установлен памятник Ленину в кепке. Правда, выглядел он не очень авантажно – лепили его явно без души, формально. Зато стоящий в нескольких метрах бронзовый Пётр со змеей являлся настоящим произведением искусства.
Это парадный Петровск. Были и другие районы, застроенные деревянными, а также двух- и трехэтажными домами из силикатного кирпича. В одном из таких домов и проходило детство нашего героя.
Как говорил классик, «бытие определяет сознание». Определяющим в бытии Павлика Солнцедарова были два холодильника марки «ЗиЛ». Белые сверкающие близнецы-красавцы занимали чуть ли не половину кухни и содержанием напоминали пещеру Аладдина.
Желтыми брусками, похожими на золотые слитки, лежали куски сливочного масла. Твердокопченые колбасы излучали непередаваемый аромат благополучия и зажиточности. Им вторили круглые упитанные сыры. Шоколадные плитки занимали целую полку. Отдельно хранились икра красная в жестяных баночках и икра черная в стеклянных. Шкаф был забит банками дефицитного растворимого кофе из Индии. Всё это мама приносила в сумках с работы.
Украшением комнат служили хрустальные люстры из Чехословакии. Из этой же братской страны прибыли хрустальные бокалы, фужеры, вазочки – украшение серванта. Тоже импортного. На стенах висели ковры. Книжный шкаф вызвал бы зависть у любого любителя литературы. Помимо подписных изданий в суперобложках (от Пушкина до Горького) здесь были чуть ли не все романы Дюма и Майн Рида, а также увесистые тома альманахов «Мир приключений» и сборники стихов любимых Марией Антоновной поэтов. Далеко не в каждом доме можно было увидеть такое богатство! Не следовало его видеть посторонним людям – считала мудрая женщина. Поэтому Павлику запрещалось приводить домой друзей.
Люди в возрасте прекрасно помнят, как создавалось такое благополучие. Для наших юных читателей поясним. У Аркадия Райкина есть сатирическая миниатюра про «уважаемых людей». Вот отрывок: «В театре просмотр, премьера идет. Кто в первом ряду сидит? Уважаемые люди сидят: завсклад сидит, директор магазина сидит, сзади товаровед сидит. Всё городское начальство завсклада любит, завсклада ценит. За что? Завсклад на дефиците сидит». Ну, и так далее…
Дефицит появлялся в квартире Солнцедаровых благодаря тому месту, которое занимала Мария Антоновна в кругу «уважаемых людей». Завпроизводством крупного предприятия общественного питания могла многое и обладала большими связями – всем были нужны дефицитные продукты.
Кое-что перепадало и главе семейства. В мебельной стенке имелся встроенный бар, в котором, переливаясь всеми цветами радуги, ожидали своего часа редкие по тем временам напитки в красивых бутылках, включая экзотическую текилу. Бар закрывался на ключ. Ключ хранился у Марии Антоновны. По праздникам Иван Солнцедаров допускался к коллекции. Ему дозволялось прикоснуться к прекрасному – к одной из бутылок.
Неизгладимый отпечаток на каждого гражданина необъятной родины накладывала некоторая двойственность, которая стала чуть ли не основой жизни людей:
Думали одно – говорили другое.
Декларировали всеобщую свободу, а за границу могли выехать только товарищи проверенные, достойные. Да и то в соцстраны.
Официально заявляли, что в Советском Союзе секса нет. А сходили бы вы душным летним вечером в городской парк – парочки там не только целовались.
Боролись за коммунистические идеалы, а с работы тащили всё, что плохо лежит. Не потому, что мерзавцы, а потому, что в магазинах было не купить. К примеру, Мария Антоновна Солнцедарова была Ударником коммунистического труда, ее портрет висел на заводской Доске почета. Она всегда знала меру, очень аккуратно выносила с работы продукты. И никогда не игнорировала просьбы начальства.
Иван Никифорович Солнцедаров на комбинат бытового обслуживания устроился сразу после срочной службы, где отличник военно-морского флота старший матрос стал членом КПСС. Прямой, открытый человек работал честно. Максимум, что он мог себе позволить – принять в знак благодарности от клиента бутылку водки. Иван никогда не отрывался от коллектива, позволял себе по пятницам выпить с друзьями на работе. А в субботу ту же процедуру повторить на рыбалке, которая была его главным увлечением.
С годами повод выпить стал появляться всё чаще. Начальство начало ощущать некие флюиды, исходившие от Ивана Никифоровича, а уже заметное дрожание рук отражалось на качестве выполняемой работы. Другого могли бы уволить, но Солнцедаров был членом партии с большим стажем и по-своему человеком незаменимым – он являлся единственным рабочим-коммунистом на предприятии.
Людям, далеким от тогдашних реалий, поясним: во время партийных собраний в президиуме обязательно должен был сидеть представитель рабочего класса. Поэтому много лет Ивана Никифоровича избирали. Он не мог нарушить партийную дисциплину и добросовестно высиживал унылые часы на скучных мероприятиях. Но в один прекрасный день утомленный жизнью Солнцедаров в категорической форме отказал секретарю партийного бюро занять место в президиуме: «Устал».
Его уговаривали всем составом партбюро. Нельзя было нарушать ритуал.
«Хрен с вами, – сказал Иван Никифорович. – Буду сидеть, если стакан нальете. Без стакана не сяду».
С этого дня далеко не лучший, сильно пьющий член коллектива и первичной партийной организации, махнув стакан, занимал место за столом президиума. Испытывая легкое чувство эйфории, он сидел подчеркнуто прямо. Монотонные речи клонили в сон, но многолетняя выдержка и чувство долга не позволяли заснуть.
На почве развитого социализма вырастали не только герои: летчики, шахтеры, космонавты, геологи. Было очень много обычных хороших людей, которые работали, воспитывали детей, старались жить по совести. Однако было немало и тех, кто приспособился к системе, знал ее сильные и слабые стороны и использовал их к личной выгоде.
Но вернемся в квартиру Солнцедаровых. Вечер. На втором этаже дома из силикатного кирпича светятся два окна. В большой комнате, которую Мария Антоновна называет гостиной, на двадцати квадратных метрах напротив книжного шкафа и стенки с хрусталем расположились двуспальный диван бордового велюра, два кресла из того же гарнитура, массивный стол с зеленым сукном и выдвижными ящиками, приобретенный по знакомству в комиссионном магазине. Каждый ящичек закрывается на ключ. Когда стол покупали, ключей при нем не было, и Мария велела мужу их изготовить. Причем, каждый ящик должен был закрываться на свой ключ.
Иван ответственно подошел к выполнению задания – ключи смастерил. Хранились они в укромном местечке, известном только Марии Антоновне.
Была у стола особенность – нижний левый ящик имел двойное дно. Его женщина обнаружила при тщательном досмотре приобретенной вещи. Напомним, Мария с юности увлекалась книгами о приключениях и путешествиях. Там нередко в старой мебели находили тайники с драгоценностями. Роман Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» не прошел мимо ее внимания.
В данном предмете мебели сокровищ не было. Мария Антоновна не расстроилась и в тайнике хранила собственные украшения: золотые кольца и цепочки, несколько пар сережек, золотые часики и колечко с бриллиантом. Часть вещиц была подарена старинным другом Иваном Михайловичем Петрушиным. Часть же предусмотрительная женщина приобрела по случаю. Деньги на покупки она, естественно, заработала сама.
Украшала стол бронзовая дореволюционная лампа с абажуром.
Почетное место занимал новенький цветной телевизор, установленный на комоде. На нем расположились фарфоровые фигурки, изготовленные руками сентиментальных немецких мастеров девятнадцатого века.
За столом Мария Антоновна работала с документами (накладными, сметами, таблицами). Со стороны заведующая производством напоминала вдохновенного творца: то роденовского мыслителя, раздумывающего о бренности жизни, то поэта Пушкина, подбирающего подходящую рифму.
Это уже не та кустодиевская Венера, в которую без ума влюбился молодой комсомольский работник Иван Петрушин. Она раздобрела, хотя и не потеряла некоторой привлекательности.
Под ее пером рождались грандиозные схемы: обычная треска превращалась в благородного сига, мясо второй категории приобретало категорию высшую, пожухлые морковь, картофель и свекла становились свежайшими, а дешевый грузинский чай второго сорта чудесным образом превращался в индийский и цейлонский высшего качества.
Дверь в комнату приоткрылась, появилась изрядно полысевшая голова мужа:
– Машенька, я могу телевизор посмотреть? Сейчас футбол будет.
Мария Антоновна грохнула деревянными счетами по столу:
– Испортил песню, дурак!
Иван Никифорович тихонько прикрыл дверь и удалился в свою каморку, которую называл мастерской. Там, на площади в два квадратных метра, разместились верстачок с маленькими тисками и наковаленкой. На полочках, сделанных руками самого Солнцедарова, были любовно разложены инструменты для самой разной работы: отвертки и отверточки, напильники и надфили, сверла, молоточки, паяльники и множество разных вещичек, назначение которых не всякому понятно.
Иван со вздохом сел на табуретку, развернул на верстаке кусок тонкой замши, протянул руку и взял с полки очки, которые принесла починить соседка. Расплатилась она с ним «четвертинкой» (для читателей, не употребляющих алкоголь регулярно, поясним – это бутылка водки емкостью четверть литра, то есть 250 граммов). Хотя Иван Никифорович уже привык к тому, что жена относится к нему без уважения и даже помыкает им, он чувствовал обиду. Это мешало приступить к работе. А без вдохновения мастер работать не мог.
Он привстал, потянулся к стоящей на полке радиоле «Эстония», отогнул заднюю крышку и достал ту самую «четвертинку». Настоящий мастер, каким и был Иван Солнцедаров, никогда не позволял себе употреблять до работы, но в данный момент правило пришлось нарушить – ради установления душевного равновесия. Выпил, крякнул и приступил к делу.
А в это время Павлик Солнцедаров, ученик шестого класса, в ванной комнате приобщался к прекрасному – с интересом изучал журнал «Плейбой», который дал ему на один вечер закадычный друг Мишка Меньшиков. Журнал привез из дальнего плавания старший брат Михаила. Время летело незаметно: занятие было очень увлекательным!
Громкий стук в дверь вспугнул юного исследователя.
– Павлик, ты чего там делаешь? Открывай.
– Мама, сейчас иду, – мальчик открутил кран посильнее и стал судорожно засовывать журнал под рубашку.
– Уроки сделал?
– Да, мамочка.
– Пойдем. Покажешь.
Комнату Павла отличали чистота и порядок. Ровными рядами стояли учебники. Тетради были сложены в аккуратную стопочку. Над столом висели портреты пионеров-героев: Зины Портновой, Лёни Голикова, Володи Дубинина, Вали Котика и, конечно, Павлика Морозова. На полочке за стеклом стояла модель корабля, которую Павел, посещавший кружок судомоделистов, сделал сам. Не без помощи отца, конечно.
Влияние матери проявилось в том, что мальчик увлекся коллекционированием. Он собирал марки с кораблями, с картинами художников-передвижников, с видами Ленинграда и его пригородов, в том числе родного Петровска. Павлик начал собирать и коллекцию значков с изображением вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина: от маленького с кудрявой головой до вставшего во весь рост на броневике.
Постепенно коллекционирование стало страстью Павла. В принципе, в этом нет ничего предосудительного, скорее наоборот. Цари собирали Русь, Морозовы, Мамонтовы и Щукины – живопись. О том, что станет собирать взрослый Павел Солнцедаров, мы расскажем в свое время, а пока заметим, что хорошему мальчику Павлику, как и его родителям, тоже было что скрывать. И у него была своя тайна. Уроки Солнцедарова-старшего не прошли даром, и сын смастерил под столешницей тайник, в котором можно было спрятать что-то запрещенное.
Мать проверила у Павла домашнее задание и вышла. Он облегченно вздохнул и спрятал «Плейбоя» в тайник. Там у него хранилось самое заветное – коллекция металлических рублей с профилем Ленина.
Мальчик достал увесистый мешочек, взвесил на ладони, разложил на столе монеты и пересчитал их, хотя прекрасно знал, сколько Ильичей содержится в его коллекции.
Два случая оказали судьбоносное влияние на формирование характера нашего героя.
Отца Павлик по-своему любил. Отец был человек незлой, не докучал моралью строгой, не ругал, а уж тем более, никогда не поднимал руку на сына. Баловал – давал деньги на карманные расходы. Мальчик знал, что главная в доме мать, отец – подчиненный, от него в семье ничего не зависит. Однако своего пренебрежительного отношения к отцу умный Павлик не показывал. Но пользовался его слабостями. Мог залезть в карман к спящему родителю и стащить рубль-другой (выпивший всё равно не заметит).
И отец действительно или не замечал, или делал вид, что не заметил. Но когда сынишка стал сообщать матери о том, что папу опять видели у пивного ларька, что папка с кем-то ругался на улице, что он упал лицом в клумбу, Иван Никифорович начал задумываться: «Как так получилось, что мальчишка вырос с подлецой? В кого уродился?»
Иван не пытался воспитывать сына, что-либо ему объяснять. Он самоустранился, чувствовал, что ничего исправить не может. И только однажды не выдержал.
Была у него единственная дорогая вещь – в память о службе на флоте друзья подарили отличнику боевой и политической подготовки Ивану Солнцедарову трофейный морской цейсовский бинокль с выгравированной надписью «Другу Ивану на долгую память о Северном флоте». Бинокль этот хранился в кожаном футляре.
Порой, когда на душе было скверно, Иван доставал бинокль, любовно протирал немецкую оптику, снова и снова перечитывал надпись: «Другу Ивану на долгую память…» и мыслями уносился в лучшие свои годы.
Но однажды Солнцедаров пришел с работы в особенно скверном настроении. И даже выпитый у ларька ёрш (коктейль из водки и пива – напиток, высоко ценимый в определенных кругах) не помог обрести душевного спокойствия. Его при людях начальник обозвал пьяницей и бракоделом. Это его-то, мастера-универсала! Ну, запорол он заказ какого-то клиента. С кем не бывает…
Иван потянулся за биноклем. И тут в груди ёкнуло: футляр оказался непривычно легким. Бинокля не было. Солнцедаров, надеясь на чудо, перерыл мастерскую, вынул все ящики (мало ли куда по рассеянности засунул).
Чуда не случилось. Ярость охватила обычно кроткого и спокойного человека. Первой мыслью было: Павлик!
Он вылетел из каморки, распахнул дверь в комнату сына. Тот за столом делал уроки. Отец схватил мальчика за шиворот и с нечеловеческой силой приподнял. Пуговички от рубашки Павлика раскатились по полу.
– Где бинокль, гаденыш? Убью!
– Папочка, отпусти, – полузадушенным голосом проскулил мальчик.
Такого ужаса он еще никогда не испытывал. Он описался и признался:
– Меня заставили… Я не хотел… Я думал, потом верну… Но меня обманули… Сказали, что продали… Мне угрожали… Папочка, прости…
На самом деле стащить у отца бинокль подговорил Мишка Меньшиков, который по-прежнему опекал и защищал тщедушного Павлика. Как и прежде, небескорыстно. Услуги могучего секьюрити обходились всё дороже. Бинокль понадобился Мишке для наблюдения за представительницами противоположного пола на нудистском пляже, появившемся недавно в тихой бухте близ Петровска. Там, в камышах, он оборудовал наблюдательный пункт, куда иногда приводил друга.
Солнцедаров-старший бросил извивающегося сыночка на кровать, резким движением вытащил из брюк ремень и дважды хлестнул наотмашь. Павлик орал.
Как разъяренная фурия в комнату ворвалась мать. Она отшвырнула мужа, влепила затрещину, от которой тот выкатился в коридор.
«Я с тобой еще разберусь. Пьяница! Алкаш!» – и крепко прижала сына к себе.
«Чуть не задушила», – подумал Павлик.
Ему хотелось вырваться. Хотелось освободиться из материнских объятий, но он понимал, что этого делать нельзя – мать обидится. Приходилось терпеть. Глаза защипало то ли от слез, то ли от приторных духов.
После этого случая Павел окончательно уяснил:
КТО ГЛАВНЫЙ, ТОТ И ПРАВ. И быть надо всегда с сильным.
Второй урок наш герой получил буквально через несколько дней – его отец попал в вытрезвитель.
Иван Солнцедаров после работы совершал привычный ритуал: с приятелями отмечал окончание рабочей недели у пивного ларька. В этот раз буфетчица не успела разбавить, как обычно, пиво, и ёрш оказался особенно забористым. В результате Иван Никифорович до дома не дошел, а присел на скамейку в парке, да и заснул. Где вскоре был обнаружен патрульным экипажем. Старший сержант Савчук и милиционер-водитель младший сержант Алтынбаев загрузили сладко спящего гражданина в автомобиль. Они, конечно, могли проехать мимо, не обратить внимания, но была пятница, и требовалось выполнить план по задержанию нарушителей общественного порядка: пьяниц, сквернословов и дебоширов. Солнцедарова доставили в вытрезвитель.
Для тех, кто не застал те благословенные времена, когда бутылку водки можно было купить за три рубля, портвейн за полтора, когда божественный «Агдам» стоил 2 рубля 20 копеек, а привезенные танкерами из дружественного Алжира виноматериалы превращались в «Солнцедар» крепостью двадцать градусов и ценой чуть больше рубля, когда пивные ларьки стояли на каждом углу, главной задачей вытрезвителей считалось задержание лиц, оскорбляющих своим видом и поведением общественную нравственность. Сюда свозили тех, кто распивал алкогольные напитки, шел по улице, шатаясь, или уже не мог идти.
Прибывших в учреждение усаживали на специальные скамьи. Потом забирали деньги и документы, фотографировали, записывали личные данные. Далее – раздевание, холодный душ и укладывание на койку. Особо буйных привязывали к кроватям. Всем «постояльцам» выписывали штраф за пребывание (до 25 рублей при средней зарплате рублей в 130).
О пребывании в вытрезвителе немедленно сообщали по месту работы или учебы, после чего обязательно следовала партийная или комсомольская проработка на собрании и строгий выговор. Советского труженика могли лишить премии и «тринадцатой зарплаты».
Понятно, что самым неприятным из всего вышеперечисленного для коммуниста Солнцедарова было сообщение на работу, но еще страшнее – гнев жены! Мария Антоновна, человек с положением, руководитель, даже представить не могла, что в городе станет известно: муж Солнцедаровой – запойный пьяница, не вылезает из вытрезвителя. Что подумают люди ее круга: директор мебельного магазина, директор рынка, заведующие поликлиникой и аптекой? И до райкома дойти может. Это вообще невыносимо! Какой стыд…
Узнав от ехидно улыбающейся соседки, что мужа забрали милиционеры, Мария приняла моментальное решение: надо спасать положение!
«Пойдешь со мной. Поможешь дотащить, если что», – приказала она Павлику.
Дежурный по вытрезвителю старший лейтенант с утомленным лицом принял от Марии Антоновны несколько купюр и привычным жестом засунул в карман кителя. После вытер платком лоб, надел фуражку, поправил форменный галстук на резинке, приосанился и, полюбовавшись на себя в зеркало, с чувством удовлетворения произнес: «Ждите, Мария Антоновна. Сейчас выпустим. Сообщать никуда не будем».
На всю жизнь Павел запомнил эту сцену: человек в форме берет деньги и решает проблему. Неосознанно подросток вывел гениальную формулу:
ВЛАСТЬ + ДЕНЬГИ = СИЛА
Семейство Солнцедаровых – мать и сын, поддерживая под руки сонного отца, прошло мимо памятника императору. Самодержец, олицетворяющий абсолютную власть, был изваян с секирой в руке. Павлик обернулся (ему послышался какой-то шорох).
Пётр смотрел на него в упор. Секира в руке угрожающе наклонилась.
Год 1980-й принес Павлу Солнцедарову новые ощущения, впечатления и разочарования. Прежде чем продолжать повествование о формировании характера Павла, мы хотим объясниться с читателем. Не будем препарировать нашего героя – он же не лягушка, в конце концов. Человек! У него есть душа. Да и не всё потайное, скрытое стоит вытаскивать наружу. Какой только гадости там не обнаружишь. Так и в человечестве можно вообще разочароваться. И даже заявить: «Проект не удался. Всевышнему придется его закрывать».
А ведь это был Его любимый замысел. Как мило: земля, свет, чудная природа, всякой твари по паре, чистота Адама и Евы. Ну, что было потом, вы знаете: змей, дьявол, Содом и Гоморра, войны, бесовщина… Но, может быть, Господь потерпит еще? Ведь пока живы и Адам, и Ева. И такие понятия, как любовь и чувство прекрасного. И тоска по чему-то светлому, значительному, а то даже и подвигу. Господь каждому дает шанс. Каждый имеет выбор. Один пестует, развивает в себе чувства добрые, другой же эти чувства подавляет и превращается просто в свинью.
Павлу четырнадцать лет. Время надежд, поисков, самоутверждения. Счастливая пора! Он уже член ВЛКСМ, принимает активное участие в жизни комсомольской организации, выступает на собраниях, обличает пассивность, безынициативность, ставит в пример, как правило, ребят физически развитых, спортсменов. Подчеркивает достижения Михаила Меньшикова – призера городских соревнований по боксу.
Павел играет на гитаре и неплохо поет – у него оказался хороший слух. Ни один концерт художественной самодеятельности не обходится без его выступления. Особенно проникновенно у него получалась песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, зовущая к новым вершинам, свершениям, победам:
Звени, отваги колокол!
В дороге все, кто молоды.
Нам карта побед вручена.
Отчизне в дар останутся
Рабочей славы станции.
Запомните их имена:
Любовь, комсомол и весна.
В эти минуты Павел чувствовал себя одним из героических строителей светлого будущего. Его глаза сияли, он был готов к борьбе и победам. Девочки смотрели на исполнителя с обожанием.
Случалось, что после такого концерта они вместе с Мишкой шли в парк или к старинной крепости, куда часто подъезжали автобусы с туристами, в том числе иностранными. Мгновенно выходя из роли молодого строителя коммунизма, Павел становился совсем другим человеком. Друзья поджидали интуристов и приступали к работе. Павлик передавал Мишке значки с изображением Ленина и коммунистической символикой из собственной коллекции и присаживался в сторонке на скамейку.
Михаил, выглядевший солидно не по годам, совершал сделки. Он знал несколько фраз на английском, немецком и даже финском языках, поэтому легко выменивал значки на дефицитные по тем временам товары: жевательную резинку в яркой упаковке, разноцветные пластмассовые зажигалки, а в самые удачные дни даже американские сигареты Marlboro.
Мишка ничего не боялся и с гордостью носил кличку «Perkele», что в переводе с финского значит «Чёрт». Так его называли знакомые фарцовщики.
Павлик же не случайно оставался в стороне – понимал, что поступают они не совсем законно, и ему не улыбалась перспектива попасться в руки дружинникам или милиционерам. Можно было и из комсомола вылететь, а Павел уже задумывался о будущем.
Самое время нарисовать портрет нашего героя. И, пожалуй, лучше всего сделать это точным языком милицейского протокола. Так, вероятно, описали бы его в случае задержания:
«Солнцедаров Павел Иванович, 1966 года рождения. Ученик 8-го класса Петровской средней школы. Рост 1 метр 68 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые. Нос вздернутый. Губы красные полные. Лоб высокий, сдавленный с висков. Особая примета – очень яркие синие глаза».
Была и еще одна особая примета, но целомудренный язык милицейского протокола не позволяет ее ни описать, ни назвать.
Павел писал стихи. Этот талант открылся у него в десятом классе, весной. Когда всё преображается, расцветает, расцвел и новый талант у юноши. Рифмы роились, толпились, складывались в строфы. Молодому человеку хотелось признания. Но он не мог показать стихи друзьям – боялся насмешек.
Кому показать свои произведения? Конечно же, человеку понимающему, человеку искусства – Ханыгину Алексею Михайловичу.
Скульптор Ханыгин был достопримечательностью Петровска. Мало того, что он творил сам, досконально знал историю родного города, он разбирался во всех искусствах. Мог поддержать, дать совет начинающему. И даже с большой точностью предсказать его будущее.
Алексея Михайловича нередко приглашали в школу, где учился Павел. Вместе с учениками он отправлялся в увлекательнейшее путешествие – в те времена, когда здесь, по берегу Финского залива, прогуливался Пётр Первый со свитой и строил далеко идущие планы. Ханыгин рассказывал об этом так ярко, что казалось, будто он сам был в числе сопровождающих самодержца. Может быть и не в свите, но среди дворцовой прислуги точно.
Павлик осторожно постучал в дверь мастерской скульптора.
– Открыто, – Ханыгин сидел за столом и творил. Он создавал очередной шедевр. В куске глины можно было увидеть знакомый образ основателя города.
В живописном беспорядке ожидали своего часа штихели разных размеров, стеки, кисти, циркули, линейки… Были здесь и мольберты, и палитры, и наборы красок «Ленинград» и «Нева», и даже россыпь разноцветных тюбиков масляных красок производства Германской Демократической Республики – их могли приобретать только члены Союза художников СССР в специальных магазинах не чаще двух раз в год. Венчал композицию внушительных размеров молоток. В углу валялись несколько разбитых бюстов и статуй.
– Проходи, садись, – мастер отложил работу, вытер руки, достал из старинной табакерки щепотку нюхательного табака и засунул себе сначала в одну ноздрю, потом в другую. – Ну, читай свои стихи.
Ханыгин обладал даром предвидения. Он сразу понял, зачем пожаловал к нему застенчивый юноша.
Павлик прижал руку к сердцу, расправил плечи:
Я люблю тебя, мать Россия.
Комсомольское сердце поет.
И глаза мои синие-синие
Отражают сияние твое.
Скульптор содрогнулся то ли от ядреного табака, то ли от стихов юного дарования и громко чихнул.
– У тебя есть что-нибудь другое? – недовольно спросил он.
– Есть, – ответил перепуганный Павлик. – Про любовь.
– Ну, читай.
И Павел стал читать. Про весну. Про первые листочки. Про ветер, который играет локоном девушки. Про пение соловьев в парке над ручьем. Про бушующее море.
– Далеко пойдешь, – сказал старик и пристально всмотрелся в лицо мальчика. – Впрочем, время покажет.
Алексей Михайлович закрыл глаза и забормотал:
– Павла, императора, враги, злодеи, заговорщики ударили, задушили шарфом…
Павлик стоял ни жив ни мертв. Глаза предсказателя открылись, и он произнес обычным голосом:
– Хорошие стихи. Талант у тебя есть. Несколько талантов… Но не дай тебе бог использовать их во зло – плохо кончишь. А впрочем, продолжай писать.
– Спасибо, – поблагодарил юноша и, окрыленный, удалился.
Ханыгин в раздумье употребил очередную порцию табака и прочихался так, что с необыкновенной ясностью сквозь пелену времен увидел тех напудренных, напыщенных, беспринципных сановников, которые всегда сопровождали самодержцев. Готовые на всё ради карьеры, они кончали свой жизненный путь на каторге, на Соловках, в Сибири (к примеру, в Берёзове). А иным – тем, что помельче, отрубали головы или секли позора ради на площадях. Чтоб другим неповадно было.
«Так было. Так будет!» – сурово сказал Алексей Михайлович.
Он встал из-за стола, снял ядовито-зеленый берет, толстый вязаный кардиган и подошел к дубовому шкафу, возраст которого, как и возраст самого владельца, определить было невозможно. Оттуда извлек треуголку и парадный костюм. Ботфорты были утрачены за годы долгих путешествий во времени. Из тайника достал восьмиконечную звезду, усыпанную бриллиантами (в далекие времена этот орден пропал у императора).
Минута – и в зеркале отразилась фигура сановника, обремененного государственными делами. Картину немножко портили стоптанные тапки на босу ногу.
Отметим, что в шкафу хранилась и настоящая коллекция оружия прошлых веков: пищали, пистолеты, алебарды, шпаги – всё, что попадалось в руки Алексея Михайловича во время путешествий.
Павел не был бы самим собой, если бы тотчас не решил извлечь выгоду из открывшегося дара – из стихов, которые получили одобрение ценителя поэзии. Он давно заглядывался на девочку Лиду из параллельного класса, но не решался к ней подойти, искал повод заговорить, познакомиться ближе.
Его стихи – отличный повод!
Хотя Павлик в жизни уже кое-что повидал благодаря дружбе с Мишкой Меньшиковым, он оставался юношей романтичным и в девушках ценил такие качества, как строгость, принципиальность, честность. Любовь представлял себе в самых розовых тонах.
И однажды решился. Увидев Лиду, сидящую на скамейке с томиком Есенина в руках, он подошел и сказал: «Я тоже пишу стихи. Можно, я тебе их почитаю?»
Барышня отложила Есенина и кивнула. Павел стал читать. Он точно подобрал ключ к сердцу девушки.
На следующий день после уроков молодые люди пошли в кино. А потом долго гуляли в парке. Павел был бесподобен! Он шутил, рассказывал смешные истории, читал стихи свои и других поэтов. Лида хохотала, и юноша был счастлив.
Кое-какие деньги у Павлика имелись, и он водил девушку в кафе-мороженое, в кино, катал на прогулочных корабликах.
Так прошел месяц. Они уже гуляли по парку, взявшись за руки. И один раз при расставании Лида позволила себя поцеловать. В ту ночь Павел не смог заснуть…
Месяц май был наполнен и другими событиями. Павел готовился поступать в мореходное училище. Такое решение было естественным для мальчишки из морского города, который мечтал о дальних странствиях, неизведанных морях, заграничных походах.
Романтика романтикой, но Павел Солнцедаров прекрасно знал, что «ходить в загранку» – это не только романтика. Это престиж, это перспективы, это хорошие деньги, это возможность покупать дефицитные товары в магазинах для моряков загранплавания «Альбатрос», которые торговали за чеки Внешторгбанка (был такой заменитель валюты). Кроме того, курсантов не призывали на срочную службу в армию, а после окончания помимо гражданской специальности они получали погоны младшего лейтенанта.
Готовился к поступлению в это же училище и Михаил Меньшиков. По совету старшего брата, который вот уже несколько лет бороздил моря и океаны. С немалой выгодой для себя. Он даже купил автомобиль «Жигули». Позволить себе такую покупку мог далеко не каждый советский человек.
Судьбе было угодно, что оба будущих мореплавателя и девушка Лида оказались в одной компании – отмечали день рождения кого-то из одноклассников.
– Лидия, – сказала Лида и протянула руку Меньшикову.
– Михаил, – осторожно пожал руку девушке юный богатырь.
После дня рождения провожать Лиду пошел Михаил. Впоследствии при встрече Солнцедарова и Меньшикова тот вел себя, как ни в чем не бывало.
Девочка же Лида подошла к Павлику на перемене и сказала: «Прости, но это была любовь с первого взгляда».
Не будем описывать переживания Павла, его терзания – всё и так понятно. Скажем только, что покинутый юноша вывел для себя формулу:
ДРУЖБА + ЛЮБОВЬ = ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Потрясение, которые испытал Павел от двойного предательства – любимой девушки и лучшего друга, оставило глубокий след в его душе. Чувства добрые покинули юношу. Он поклялся мстить! И Меньшикову, и всем девушкам. Мстить, как граф Монте-Кристо. Не сразу, а смакуя, лелея месть. И наносить разящий удар внезапно. Как молния!
А пока, не имея ни богатств графа, ни его мужественности и привлекательности (имеется в виду Жан Маре в роли Монте-Кристо), Павел понимал: надо упорно идти вверх. Моряк Дантес шел к цели в холодной камере замка Иф, пробивал каменные стены, проявил волю и смекалку и не погиб в волнах бушующего моря.
Почему-то, думая о графе, Солнцедаров всегда вспоминал романтическую песню моряков:
Они стояли на корабле у борта,
Он на нее смотрел с тревогой и мольбой.
На ней был светлый плащ,
На нем бушлат потертый.
Он замер, к девушке с протянутой рукой.
Дальше в песне шел диалог леди и матроса. Главное было в конце:
Но на призыв влюбленного матроса
Сказала: «Нет!», потупив леди взор.
Любовь вскипела в нем, как крылья альбатроса,
Он бросил девушку в бушующий простор!
На последних словах сердце будущего моряка сжималось. Не от жалости – от мстительного чувства. Так бы Лиду!
И вот Павел в курсантской форме. По традиции трет лоснящийся нос бронзового императора, основателя российского флота, и проходит в широко распахнутые ворота в новую жизнь – то есть в училище, куда он поступил без особого труда. Мальчик был смышленый и умел ловко переводить вопросы экзаменатора, на которые не знал ответа, на другой предмет. Например, его просили объяснить:
– В чем назначение шкотов и как ими управляют?
Павел важно отвечал:
– Значение шкотов чрезвычайно велико. Но вот швартовы… – и выкладывал всё, что знал об этих тросах.
Получалось, что экзаменующийся разбирается в самых разных снастях, не только в шкотах.
Поступил в эту мореходку и необремененный знаниями Мишка Меньшиков – будет защищать спортивную честь училища на соревнованиях по боксу.
Павел ради поставленной цели, ради светлого будущего вынес всё: утренние и вечерние поверки, строевые занятия, тренировки отбой-подъем, многочисленные наряды на работу, дежурства вне очереди за неповиновение, непонимание, нетерпение, грубое слово, курение… Он, личность свободолюбивая, поэт, должен был жить в тисках ужасной дисциплины, ходить строем, когда тяжелые ботинки – их называли «гадами» – как гири тянули к земле, носить форму не по размеру, которая сидела мешком, испытывать чувство омерзения от скользящего, как змея, по шее гюйса. Но Павел любил жизнь и верил, что это взаимно. Поэтому он выдержал. Как и другие курсанты, научился форму ушивать, а стрелки на брюках наглаживал так, что о них можно было порезаться – эффект достигался тем, что изнутри брюки, где должны быть стрелки, тщательно натирались мылом и затем проглаживались горячим утюгом. Мыло склеивалось, и получались очень тонкие и острые стрелочки. В этом был особый морской шик.
Стрелки на брюках превращались в стрелы, которые летели в сердца юных дев на танцплощадке в павильоне «Дружба» – излюбленном месте отдыха девушек из расположенного поблизости кулинарного училища. Столько барышень здесь было! И одна краше другой! Павел с Мишкой частенько посещали этот очаг культуры. Иногда приходилось бегать и в самоволку. Танцплощадка была так плотно окружена тенистыми аллеями с уединенными скамейками, что наш герой несколько раз чуть было не женился. Но каждый раз тень от предательства Лиды падала на светлые чувства и гасила их.
Вот уже и второй курс. Ярко светит весеннее солнце, весело чирикают воробьи, и только зычный голос начальника строевого отдела капитана третьего ранга Лыкова оскверняет идиллию:
«Курсант Меньшиков, находясь в самовольной отлучке вместе с неустановленным лицом из числа курсантов, привел себя в нетрезвое состояние, посетил танцевальный павильон «Дружба», где устроил драку с гражданской молодежью, закончившуюся увечьями нескольких человек. За что был задержан нарядом милиции и доставлен в сорок шестое отделение. Неустановленное лицо скрылось. За грубейшее нарушение дисциплины приказано отчислить курсанта Меньшикова из училища».
В душе курсанта Солнцедарова слова капитана третьего ранга отзываются ликующей музыкой. Он торжествует: граф Монте-Кристо начал действовать!
Драку спровоцировал сам Павел – пристал к девушке, которая танцевала с кем-то из местных. Солнцедаров понимал, что боксер Меньшиков заступится за друга. Так и вышло. Меньшиков заступился, пролилась кровь, Мишку отчислили.
А Павел и еще несколько счастливцев готовились к настоящему морскому походу – впереди были три месяца практики на корабле, заграничные порты и новые впечатления.
Теплоход «Александр Пархоменко» взял курс на северо-запад Швеции. Штормило. Многих курсантов свалила морская болезнь. Павлу же хоть бы что – он настоящий моряк!
Уже осталась по левому борту Дания. По правому борту иногда возникает Швеция. Как весточки из другого мира проходят мимо суда-иностранцы.
Качка стихает. На горизонте появляются очертания берега – на каменных островах лепятся аккуратные белые домики с красными крышами. Порт Уддевалла. Загрузились целлюлозой.
Несколько дней перехода – и Бельгия. Павел впервые ступил на заграничную землю. В кулаке он крепко сжимает тонкую пачку бельгийских франков – выдали командировочные. Сумма хоть и чисто символическая, но валюта!
Антверпен – город небольшой и очень шумный, прямо на улице продают свежих крабов, кальмаров, рыбу. Яркая реклама приглашает в мир изобилия. И огромное количество красивых автомобилей неизвестных марок.
А потом были Неаполь, Александрия, другие города. Загружались апельсинами, бумагой, тканями…
Домой возвращались настоящими «морскими волками». В лексиконе появились новые морские словечки и, конечно, названия далеких иностранных портов.
«Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 18 апреля 1985 года.
Старший следователь Следственного отдела Управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области майор Пестелевич К. Ф., рассмотрев материалы Ленинградской таможни по делу о контрабанде № 80/58 от 18 апреля 1985 года и материалы, поступившие из оперативного подразделения УКГБ, установил:
17 апреля 1985 года теплоход «Александр Пархоменко» Балтийского морского пароходства прибыл из заграничного рейса в Ленинградский морской порт.
18 апреля член экипажа теплохода Солнцедаров Павел Иванович на автомашине марки Фольксваген номер 27-13 ЛАГ, которой управлял водитель автобазы морского пароходства Морозов В. И., пытался вывезти с территории порта партию электронных наручных часов иностранного производства в количестве 650 штук.
Однако это ему не удалось, так как во время досмотра автомашины сотрудниками таможни заиграли мелодии в нескольких часах.
По предварительной оценке, их стоимость составила 29 250 рублей. Как объяснил Морозов, указанные часы Солнцедаров вынес с борта теплохода «Александр Пархоменко» и погрузил в автомашину Фольксваген. Принимая во внимание, что в действиях Солнцедарова содержатся признаки контрабанды в крупном размере, то есть преступления, предусмотренного статьей 78 УК РСФСР, руководствуясь требованиями статей 108–112 и части 2 статьи 129 УПК РСФСР, постановил:
В отношении Солнцедарова Павла Ивановича, 08.03.1966 года рождения, уроженца города Петровска, русского, члена ВЛКСМ, курсанта мореходного училища, проходившего практику на теплоходе «Александр Пархоменко», возбудить уголовное дело.
Подпись: старший следователь Следственного отдела УКГБ майор Пестелевич Кондрат Фёдорович».
«Введите!» – крикнул Пестелевич, и ввели задержанного. «Фамилия!» – рявкнул майор.
На новеньких голубых джинсах молодого человека образовалось темное пятно.
«Да, не декабрист», – подумал Пестелевич.
Павел, натура тонко чувствующая и впечатлительная, рассказал следователю всё! Рассказывал взахлеб, упирая на то, что его вовлекли, использовали старшие товарищи. Назвал все фамилии, показал все места хранения контрабанды. Как оказалось, система покупки, доставки на борт и транспортировки товара была тщательно отлажена.
Поэтическая натура Солнцедарова нашла отражение в письме, адресованном следователю. Любопытный документ:
«Прошу простить меня за ложь! Мне стыдно перед родными, близкими, комитетом комсомола, которым я лгал. Стыдно, что вводил в заблуждение товарища следователя, который проявлял терпение и такт. Я, оступившийся гражданин и патриот нашей великой Родины, осознаю свою вину и обязуюсь впредь соблюдать все законы».
И светил бы нашему герою, несмотря на чистосердечное раскаяние, помощь следствию и любовь к Родине, немалый срок за контрабанду. Если бы не…
Они встретились у памятника Петру Первому перед райкомом партии.
«Да, не Кустодиев. Скорее, что-то рубенсовское», – подумал первый секретарь Петровского райкома КПСС Иван Михайлович Петрушин, глядя на располневшую Машу Солнцедарову. Сколько лет прошло, а он про себя называл ее по-прежнему Машей. Яркими были воспоминания!
«Похудел-то как… Поседел… А глаза всё такие же синие-синие», – подумала Мария.
– Сынок Павлик. Мой. Наш. Беда. Ваня. Надо спасать, – заплакала она.
– Успокойся, Маша. Изложи по порядку.
Убитая горем мать рассказала, какая беда случилась с Павлом.
Иван Михайлович задумался:
– Дело скверное. Работает КГБ. Сам не справлюсь. Придется обратиться к Игорю Александровичу, Вадиму Сергеевичу или Олегу Васильевичу. В крайнем случае, попрошу тестя. Сделаю всё, что в моих силах.
Сверху на них сочувственно смотрел Пётр: все-таки это он открыл окно в Европу.
Через несколько дней Павел Солнцедаров был отпущен. По официальной версии – за отсутствием состава преступления. На самом же деле, майор Пестелевич, получивший указание прекратить дело в отношении Солнцедарова, будучи настоящим профессионалом, человеком дальновидным, распорядился освободить и Павла, и еще одного курсанта-практиканта, проходившего по тому же делу.
Две цели преследовал опытный чекист: отводил ненужные подозрения в стукачестве от Солнцедарова и планировал использовать Павла в дальнейшем. Ему приглянулся смышленый паренек.
Во время последней беседы теперь уже подполковник Пестелевич, досрочно получивший звание за успешное расследование крупномасштабного дела о контрабанде, дал подписать Солнцедарову соответствующую бумагу и сказал, пожимая руку: «Павел Иванович, мы рассчитываем на вас. Продолжайте учебу. После выпуска из училища и присвоения звания младшего лейтенанта будете направлены на Северный флот. Нам там нужны верные, преданные Родине люди».
Двойственные чувства овладели Павликом. Он понимал: прощай, загранка, прощай, вольная жизнь, прощай, теплый океан. Здравствуй, холодное Северное море, здравствуй, безжалостная флотская дисциплина.
С другой стороны, он испытывал ни с чем не сравнимое чувство облегчения. Удалось избежать сурового наказания, пусть даже ценой предательства. Да и перспективка вырисовывалась: покровительство могущественного ведомства поможет быстро сделать карьеру. Нравственная сторона вопроса молодого человека не интересовала. Однако психологическую травму он получил. Навсегда в его сознание впечаталась семьдесят восьмая статья Уголовного кодекса РСФСР.
Кроме того, у Павла в течение многих лет любые часы вызывали настоящую идиосинкразию – он не переносил вида часов, тиканья часов, само движение стрелок было ему неприятно.
Вечером юноша впервые напился до бесчувствия. Отец и мать встретили узника празднично накрытым столом, в центре которого стояла внушительная бутылка – дорогой 45-градусный джин «Капитанский» с якорем на этикетке.
«За тебя, Павлуша. За тех, кто в море», – трезво произнес отец и налил сыну целый стакан.
Павел особой тяги к спиртному вообще-то не имел, но в этот день ему требовалась встряска. Крепчайший джин был частью педагогического замысла старшего Солнцедарова, который не хотел, чтобы Павлик пошел по его стопам, стал пьяницей. И решил напоить сына так, чтобы навсегда вызвать у него отвращение к спиртному. Мать против эксперимента не возражала.
Отец добился своего: больше двадцати лет Павел не пил джин. Его мутило даже при виде бутылки с названием этого напитка. Правда, результат эксперимента, как это часто бывает, оказался непредвиденным: Солнцедаров-младший с тех пор с удовольствием употреблял любые другие спиртосодержащие жидкости всех цветов, оттенков и градусов.
Впереди оставался последний год учебы. В дальнейшем, когда Павел пытался вспомнить это время, он словно проваливался в какую-то черную дыру.
В стране бушевала Перестройка. Демократически настроенные и доверчивые граждане выходили на митинги. Предприимчивые товарищи открывали кооперативы. Гремели смелые лозунги: Гласность! Независимость! Свобода!
Чего-чего, а свободы Павел ощутить никак не мог. Его угнетала подписка, данная подполковнику Пестелевичу. Он боялся. Боялся, что о его тайной миссии станет известно однокурсникам, что во время сна в казарме он случайно проговорится, выдаст тайну.
Бывшие одноклассники с трудом признали бы в этом осунувшемся, бледном, с погасшим взглядом молодом человеке прежнего любимца публики, заводилу, весельчака.
Павел делал всё автоматически. Без энтузиазма грыз гранит морской науки, ходил в наряды, готовился к выпускным экзаменам. Не было больше самоволок, танцплощадок, девушек из кулинарного училища, которые могли вкусно накормить и приласкать.
И вот государственные экзамены, банкет в ресторане «Морской волк», тосты за тех, кто в море. Выпускников ждали моря и океаны, экзотические страны, романтические встречи. И обнявшись, качаясь, словно на волнах, они пели:
В кейптаунском порту
С пробоиной в борту
«Жанетта» поправляла такелаж.
Но прежде, чем уйти
В далекие пути,
На берег был отпущен экипаж.
Идут, сутулятся, Вливаясь в улицы.
И клеши новые ласкает бриз.
Они пошли туда,
Где можно без труда
Достать себе и женщин, и вина.
Тут Солнцедаров, с трудом сдерживая слезы, освободился от братских объятий и бросился прочь.
В туалете никого не было, и Павлик смог дать волю чувствам. Он плакал. Не видать ему ни Кейптауна, ни Жанетты. Его, единственного с курса, ждут суровый и неприветливый Север, военно-морской флот. В голове против воли зазвучало:
Прощайте, скалистые горы,
На подвиг Отчизна зовет!
Мы вышли в открытое море,
В суровый и дальний поход.
А волны и стонут, и плачут,
И плещут на борт корабля…
Растаял в далеком тумане Рыбачий,
Родимая наша земля.
Корабль мой упрямо качает
Крутая морская волна,
Поднимет и снова бросает
В кипящую бездну она.
Обратно вернусь я не скоро,
Но хватит для битвы огня.
Я знаю, друзья, что не жить мне без моря,
Как море мертво без меня.
На последних словах песни слезы хлынули ручьем.
– Я разделяю ваши чувства. Я бы тоже плакал от счастья. Такая судьба впереди! – тяжелая рука опустилась на плечо Павла. – Хоть волны и стонут, и плачут, и плещут на борт корабля, но радостно встретит героев Рыбачий, родимая наша земля, – речитативом произнес подполковник Пестелевич (а это был он).
Сотрудник КГБ крепко пожал руку молодому офицеру.
– Поздравляю с окончанием училища! Уверен, вы с честью выполните свой долг перед Родиной. Волосатово – городок небольшой, но место стратегически важное. Недалеко от Рыбачьего, кстати. Внешний враг туда не сунется. Опасней враг внутренний. Связь будете держать только со мной.
Слезы моментально высохли. Павел расправил плечи, и они в едином порыве запели:
Нелегкой походкой матросской
Иду я навстречу врагам,
А после с победой геройской
К скалистым вернусь берегам.
В эти мгновения они по-настоящему любили море, Родину, Северный флот.
Поездом до Мурманска, дальше два часа автобусом. Младший лейтенант Солнцедаров поглядывал в окно и читал купленную на вокзале книжку о Кольском полуострове:
«Кольский полуостров – один из живописнейших и суровых регионов Советского Союза. Благодаря законам полярных широт смена дня и ночи в этих местах дарует неописуемое сказочное зрелище – Северное сияние. Неотъемлемой частью пейзажей являются озера с чистейшей водой, красивые водопады, потрясающие воображение скальные выходы. Девственная природа, практически не тронутая человеком, бросает вызов климату и радует глаз яркими праздничными красками».
Павел перевел взгляд с книги на пейзаж за окном и не увидел ни ярких праздничных красок, ни девственной природы. Зато увидел низкорослые кривые березки, серые сопки, скособоченные постройки, ржавые конструкции неизвестного назначения. Увиденное кардинально отличалось от прочитанного, но Павел был готов к любым неожиданностям.
Населенный пункт Волосатово встретил молодого офицера гостеприимно. На автобусной остановке лохматая дворняга приветливо махнула хвостом. Солнцедаров миновал контрольно-пропускной пункт.
Военный городок не отличался от великого множества других, разбросанных на необъятных просторах СССР. Всё звало к подвигам и образцовому выполнению воинского долга.
Павел прошел по чисто выметенной дорожке вдоль фанерных щитов с наглядной агитацией. Были здесь патриотические лозунги и выдержки из уставов. Взгляд задержался на плакате, с которого на вновь прибывшего в упор смотрел суровый матрос в бескозырке и с автоматом. Павел поежился: матрос удивительно походил на подполковника Пестелевича. Надпись на плакате призывала: «Не теряй бдительность. Будь всегда начеку!»
Солнцедаров согласно кивнул.
Далее – представление по случаю прибытия и размещение в офицерском общежитии. Усатый комендант в тельняшке выдал ключ, постельные принадлежности, графин для воды, два граненых стакана и негромко, словно о чем-то интимном, сообщил: «Каюта двухместная. Но пока поживешь один. Пока освоишься, то да сё…»
Павлу показалось, что старый моряк на что-то намекает.
В маленькой комнате стояли две кровати с панцирными сетками и скатанными матрасами, стол, два стула, шкаф и две тумбочки. Все предметы были украшены бирками с инвентарными номерами.
Из чемодана Павел извлек тельняшки (летнюю и зимнюю), спортивный костюм, новенькие кроссовки Adidas – подарок матери, бутылку кипрейки «Царская» (экспортный вариант) – подарок отца. И купленную у спекулянтов книжку с картинками. Книжка называлась «Камасутра». А еще в чемодане были коричневая тетрадь с собственными стихами, томик поэта Николая Рубцова, тоже служившего на флоте, блок сигарет Marlboro, десяток фирменных пластмассовых зажигалок (для подарков), несколько плиток шоколада «Вдохновение» (на всякий случай) и шариковая авторучка, внутри которой находилась фигурка стройной девушки в легком платье. При переворачивании ручки девушка расставалась с одеждой – сеанс стриптиза в миниатюре.
Павлик повертел ручку и вздохнул. Очень хотелось есть.
В кафе «Снежинка» Солнцедарова встретили как родного.
– Новенький? – заинтересованно спросила рыжеволосая буфетчица.
«А она ничего, аппетитная», – подумал Павел, оценив достоинства фигуры.
– Сегодня прибыл. Из Ленинграда. Младший лейтенант Солнцедаров Павел Иванович. Буду служить здесь.
– Маша. У нас очень вкусный борщ. И палтус в кляре. Наше фирменное блюдо.
Павел увлеченно работал ложкой (готовили в кафе действительно вкусно) и думал: «На маму похожа. И зовут так же».
Служить младшему лейтенанту Солнцедарову предстояло на одной из баз Северного флота, в штабе части. Должность у него была невысокая, но ответственная. Приходилось иметь дело с важными документы, в том числе и секретными. Поэтому мы не может рассказывать о том, как проходила служба нашего героя – в целях государственной безопасности. Скажем только, что через семь лет Павел уже стал капитан-лейтенантом. Начальство ценило его за исполнительность, скромность, глубокое знание основ марксизма-ленинизма.
А вот сослуживцы относились к нему с настороженностью, хотя Солнцедаров был человеком компанейским, нежадным, покладистым. Товарищи чувствовали, что он не так прост, как кажется.
Рутинная служба, тоскливые пейзажи не располагали к поэзии, но не писать Павел не мог. Его творческая натура искала выхода. Он должен был выразить недовольство товарищами по службе, опостылевшим жилищем с удобствами в конце коридора и вечным запахом жареной трески.
Высказать открыто недовольство Солнцедаров опасался – это могло разрушить образ «своего парня». И тогда появился дневник – коричневая тетрадь на девяносто шесть листов за сорок четыре копейки, первоначально предназначенная для стихов.
Двадцать лет доверял Павел свои тайны этому единственному другу. Когда Солнцедаров делал записи в дневнике, он преображался, он блистал. Под его пером рождались гениальные образы. Как в кривом зеркале отражались портреты сослуживцев. Описание быта и нравов городка Волосатово могло соперничать с сатирой Салтыкова-Щедрина.
«Ай да Солнцедаров! Ай да сукин сын!» – восклицал Павел, завершая очередную запись.
Мы, уважаемый читатель, имели возможность познакомиться с дневником Павла Ивановича. Особых литературных достоинств не обнаружили. Попадались, конечно, отдельные яркие, язвительные характеристики – Солнцедарову не откажешь в наблюдательности. Он не щадил сослуживцев, начальников, редко находил слово доброе и для женщин, с которыми был близок. Это и понятно – наш герой продолжал мстить своей первой любви – девушке Лиде, предательнице.
Некоторые дневниковые записи помогают понять метущуюся душу автора. Полистаем тетрадь:
Комендант Потапенко, добрый человек, не стал ко мне никого подселять. Всего-то за бутылку коньяка. Живу один, никто не храпит, не лезет в душу.
Ознакомился с достопримечательностями: магазин, кафе, клуб. В километре от КПП – блага цивилизации. Не Петровск, конечно, но жить можно. Пятиэтажки, кинотеатр, стадион, школа, библиотека, универмаг, ресторан.
В ресторане «Белые ночи» отмечали начало моей службы. Пили коньяк. Напоили, гады. Все выходные отлеживался.
В части много женщин – и вольнонаемных, и в погонах. Пока присматриваюсь. Некоторым я, похоже, нравлюсь.
Каждый вечер зовут выпить. Пьем шило – так на флоте называют разбавленный спирт.
Проснулся в чужой комнате. Рядом – она. Не девушка моей мечты. Вчера снова перебрал в «Белых ночах». Надо бросать пить.
Не пью почти месяц. Пошел в библиотеку. Хотел взять что-нибудь о родном Петровске – все-таки иногда тоска берет. Библиотекарша ничего такая, так и ест меня глазами! Проснулся в ее постели.
Пошел в кино. Фильм «Выйти замуж за капитана». Рядом симпатичная блондинка. Заметил: обратила внимание на мою морскую форму. После фильма пошли в ресторан. Опять много выпил. Опять проснулся в чужой кровати.
Заместитель командира части капитан второго ранга Савицкий, плешивое ничтожество, при всех обматерил меня. Запах ему мой не понравился. Себя бы лучше нюхал! Трезвый, видите ли, он. Не налили вчера, наверное. А эта гнида, мичман Будаладзе, еще подсмеивался, как будто не с ним мы вчера пили.
Листаем дальше:
Вчера опять напился…
И так далее, и тому подобное. Целый год. Стоп! Осень 1987-го:
Вчера с Машей расписались. Чего тянуть? Она от меня без ума. Мне тоже нравится. Готовит не хуже мамы, а это большое достоинство для женщины. Да и вообще, пора уже остепениться, а то сопьюсь или подхвачу чего-нибудь. Нам обещают выделить квартиру – скоро переедем.
Отмечали мое звание. Мне присвоили лейтенанта. Процесс пошел!
Год 1988-й:
Мать пишет каждую неделю. Скучает. Спрашивает, когда приеду, с Машей хочет познакомиться. Ехать пока никак не могу: отец по секрету от матери написал, что меня какие-то двое спрашивали. Сказали, что друзья, вместе в загранку ходили. Сами улыбаются, а глаза злые. Допытывались, где я, куда пропал. Отец, молодец, сказал, что я где-то в Заполярье, на острове, в секретной части. Неприятное известие. Петровск для меня теперь закрытый город.
Вступил в партию. В рекомендациях написали: политически грамотный, служебные обязанности выполняет образцово, хороший семьянин, настоящий товарищ, морально устойчив. Ха-ха-ха!
Зачем вступил? Беспартийному карьеру не сделать. Взносы, правда, теперь платить придется. Но это потом окупится.
Год 1989-й:
В Норвежском море затонула наша подводная лодка. В числе погибших Антон Курков – с ним я познакомился в части в прошлом году. Десятки моряков погибли. А ведь могли бы жить да жить. Кто их гонит под воду, на глубину? Риск, опасность… Сидишь, как в тюремной камере, никаких тебе удовольствий. Каждая минута может стать последней. А они всё равно идут.
Я тогда спросил у Антона: «Зачем тебе это? Зачем рисковать?». Он посмотрел на меня, как на дурачка, ничего не понимающего в жизни, и сказал только: «Кто-то должен…» и ушел, даже руку не пожал. Я так и стоял с протянутой рукой. Вот они – те, кто должен, и погибли.
Дорогой дневник, доверяю тебе самое сокровенное. Машка у меня жена хорошая, баба верная. А у меня с верностью проблемы. Дамы нашего городка – из тех, с которыми у меня было, не умеют держать язык за зубами. Делятся впечатлениями о моих достоинствах, мягко выражаясь. Надо быть поосторожнее, а то побьют еще. Член КПСС с фингалом – некрасиво.
Побаловал Машку – отдыхали в Сочи. Такие девушки! На будущий год поеду один.
Год 1991-й:
Был в командировке в Москве. Подробности раскрывать не могу – служба. Постоял в очереди в американский ресторан Макдональдс. Пообедал. Машка готовит лучше. И чего они сюда ломятся? Почему-то вспомнил Антверпен. Ведь всё могло сложиться иначе…
Видел Ельцина на танке. Здоровенный мужик! Толпы народа у Белого дома. Кричат: «Долой ГКЧП, долой КПСС!» Партбилет в кармане у меня зашевелился, словно почуял что-то. Ушел…
Партию запретили. Зря вступал. Партбилет сохранил. Мало ли как всё повернется.
Год 1994-й:
Капитан-лейтенант. Четыре звезды на погонах. Раньше бы – почет, уважение, хорошие деньги. Сейчас – полная жопа. Выплаты задерживают, дома холодно, продуктов нет. Хорошо, что Маша с работы приносит.
Отпустил усы. Выгляжу солидно. Но Машка недовольна, говорит: «Рыжие, жесткие, на кота похож».
Мать посылок больше не присылает. Пишет: «Завод раздербанили, в помещении столовой – спирт «Рояль» – склад устроили новые русские. Всё, что заработала, всё, что для тебя берегла, сынок, накрылось медным тазом. Эти сволочи-реформаторы хуже бандитов! Кое-какие украшения остались на черный день. Отец сильно болеет – сердце. Не пьет больше.
Видела дружка твоего Мишку. У него два ларька, прямо на площади рядом с Петром поставил – напротив райкома партии! Дрянью всякой торгует импортной: ликеры польские, сникерсы, отрава разная. А как райком прикрыли, там банк разместили. Наш бывший первый, Иван Михайлович Петрушин, банкиром заделался. Иногда вижу его – о тебе справляется. А тех парней, с кем ты в море ходил, выпустили недавно. Теперь они хозяйничают в городе. Мафия. Так что ты не приезжай пока».
Год 1995-й. В дневнике Павла Солнцедарова впервые за эти годы появился стих:
Она фигурою плоска,
Тверда, упряма, как доска.
И чувства ее так плоски,
Что можно умереть с тоски.
Черты отменной плоскости,
Нет чувств, ума и совести.
Поэтические строки эти посвящены Ангелине. Ангелина Львовна Прокопенко – супруга капитана второго ранга Прокопенко Сергея Михайловича, заместителя командира части по тылу. Большой человек! Всё материальное, от тушенки до портянок, в его руках. Под ним склады с продовольствием, обмундированием, горюче-смазочными материалами и другими благами.
Ангелина не дает мне прохода. Глаз положила. Сама – ни кожи ни рожи, а туда же! Придет в штаб, меня найдет, спрашивает: «Можно ваши усы потрогать?» Трогает и норовит прижаться, вроде нечаянно. И оттолкнуть нельзя. Ё-моё, что делать?
В клубе танцы. Пошел развеяться. И попался. Ангелина пригласила на белый танец. Шепчет: «Павел Иванович, муж уехал в командировку. А у меня кран потек – капает, спать мешает. Не могли бы вы посмотреть?»
И посмотрел… Всю спину расцарапала, зараза. А куда деваться? Откажешься – неприятностей не оберешься. Они же, как кошки, мстительные. Однако есть о чем подумать…
Обстановка в квартирке – закачаешься. Ковры, вазы, ванна огромная с пузырьками – джакузи называется. Она меня туда загнала и сама залезла, костлявая. При такой еде могла бы и поупитаннее быть. Давно так не ел. Сплошные деликатесы и даже ананас откуда-то возник. Потом кофе с коньяком пили из чашек китайского фарфора. Можно и на Севере жить нормально! А я чем хуже?
С Ангелиной встречаемся, когда муж уезжает в командировки. Много интересного узнал! Бабы болтливые. Все силы ей отдашь, а она еще поговорить требует. Обычно глупости всякие, но и полезная информация есть. О кап-два Прокопенко много узнал. Ясно теперь, откуда джакузи и ананасы.
Это когда другим жрать нечего! Как тут поддерживать обороноспособность нашего флота! Что на это скажет подполковник П.? Давненько я ему не докладывал.
Нам стало известно содержание доклада Павла Солнцедарова подполковнику Пестелевичу:
«Довожу до вашего сведения, что мною обнаружена противоправная деятельность заместителя командира части по тылу капитана второго ранга Прокопенко С. М.
Из внушающих доверие источников получена информация о том, что Прокопенко С. М., пользуясь служебным положением и фактической бесконтрольностью, совершает хищения материальных средств, в том числе продовольствия.
В результате проведенных мною оперативных мероприятий установлено, что в январе сего года по распоряжению Прокопенко с продовольственного склада гражданским лицам были проданы 20 ящиков тушенки и 3 ящика сгущенного молока. Деньги Прокопенко С. М. присвоил. В апреле таким же образом ушли на сторону неустановленным лицам 54 комплекта постельного белья и 80 комплектов белья нательного (хлопчатобумажные кальсоны и майки)».
В завершение доклада капитан-лейтенант Солнцедаров высказывает некоторые соображения:
1) Действия Прокопенко С. М. наносят ущерб военно-морскому флоту, подрывают боеготовность.
2) Следует усилить контроль за сохранностью и распределением материальных ресурсов воинской части.
3) Считаю, что на этом участке работы должен находиться человек, наделенный доверием руководства, который сможет навести порядок. При необходимости готов возглавить этот участок.
Вскоре в воинскую часть прибыла комиссия. В результате проверки капитан второго ранга Прокопенко с супругой покинули ставший для них родным городок Волосатово.
Капитан-лейтенант Солнцедаров был переведен на новую должность и получил доступ ко всем материальным ресурсам, хранящимся на складах воинской части. Получил он доступ и к мичману Зинаиде Сорокиной, которая умела многое и была готова выполнить любое требование начальника. И делала это с удовольствием.
События последующих десяти лет не отличались большим разнообразием. Павел Иванович верно исполнял свой долг, не щадил ни себя, ни подчиненных. Он смог реализовать коммерческий талант, который дремал в нем все годы службы.
Солнцедаров усовершенствовал и развил дело своего предшественника. Он комбинировал, придумывал разные хитроумные схемы, заводил полезные знакомства. В результате счет в банке «Честное слово» становился всё внушительней. А матросы на базе в Волосатово тем временем недоедали…
Несмотря на огромную занятость, Павел Иванович иногда делал записи в заветном дневнике.
Год 2002-й:
Наконец-то у нас родился сын! Столько лет я этого ждал! Назвали Алексеем. Наследник! Сообщил матери. Она счастлива.
Мать пишет: Павлик, отца похоронили. Хотел тебя увидеть перед смертью. Понимаю, что ты приехать не мог. Меня в Петровске больше ничего не держит, и ноги болят, ходить тяжело. Хочу уехать на родину, в Псковскую, к сестре. Там дом остался, огород, яблони. Скучаю. Хотелось бы Алёшеньку, внучка, увидеть. За квартирой в Петровске соседка присмотрит, тетя Нина, ты ее должен помнить.
Однажды, утомившись от трудов и забот, Павел Иванович решил прогуляться к морю. Черные волны, белая пена, огромные валуны – что-то первозданное виделось в этом Солнцедарову. Он вдруг почувствовал себя частицей грандиозного мира и одновременно понял свою ничтожность и бессмысленность собственного существования. Но все-таки поэтическое начало брало вверх. Особенно в тот момент, когда брызги мягко коснулись его лица.
Павел расправил плечи. И в этот миг что-то упало… Прямо на голову.
Громадный альбатрос с криком покидал место действия, устремляясь в пучину морскую. Солнцедаров, провожая альбатроса взглядом, провел рукой по волосам и обнаружил…
«Тварь! Мерзкая тварь!» – схватил камень и запустил вслед обгадившей его птице.
Смывая гадость с головы, Павел чуть не заплакал. От бессилья. Где-то в глубине души он осознавал, что это, казалось бы, ничтожное событие, на самом деле – награда ему. Награда за его неправедную, но очень сладкую жизнь.
И вскоре грянул гром! Такого Солнцедаров не ожидал. Казалось бы, всех перехитрил, всех перемудрил, обвел вокруг пальца. И проглядел.
Был у него помощник Владислав Чернявский – свой в доску. Павел ему полностью доверял, деньгами не обижал, жизни учил. А тот донос написал. И приехала в Волосатово комиссия – практически в том же составе, что и десять лет назад.
Хорошо, не посадили. Сумел откупиться, и дело замяли. Но со службой пришлось расстаться.
Как говорится, беда не приходит одна. Банк «Честное слово» лопнул, управляющий сбежал, накопления развеялись как сон, как утренний туман.
Если раньше Павел Иванович, что называется, закладывал, то после этой истории просто запил! За месяц превратился из бравого офицера в опустившееся неряшливое существо. Жидковат оказался на расправу. Ненавидел всех, кроме сыночка Алёшеньки. Машу бил, как будто она во всех бедах виновата.
«Павлик, – говорила верная Мария. – Давай уедем отсюда в Петровск. Там и квартира есть, и работу найдем. И для Алёши будет лучше – всё же климат другой, а то он болеет часто».
«Какая же я все-таки скотина, – в минуты просветления думал Павел Иванович. – Она же меня любит. Прощает всё. Она же мне сына родила».
Солнцедаров приникал к ее плечу и плакал. В эти минуты он жалел себя, Марию, родителей, пропавшие деньги.
Справедливости ради отметим, что Солнцедаров оставался верен себе и уже на следующий день приникал к плечу мичмана Сорокиной, просил у нее прощения за всё. И плакал. Себя он ни в чем не винил. Виноваты были обстоятельства, его доверчивость, предательство пригретого им Владика Чернявского, равнодушие подполковника Пестелевича, мошенничество сволочей-банкиров. Но изменить что-либо было невозможно. У Павла Ивановича Солнцедарова начиналась новая жизнь.
С лязганьем, скрипом и шипением поезд дальнего следования из Мурманска остановился у платформы железнодорожного вокзала города Петровска. Проводница второго вагона открыла дверь, и Солнцедаровы вышли на перрон. Впереди с двумя объемистыми чемоданами шел глава семейства в парадной военно-морской форме с кортиком, в черно-белой фуражке с якорем на кокарде и тремя юбилейными медалями на левой стороне груди. Правую грудь украшали полдюжины значков разного цвета и неизвестного происхождения.
Со всем этим великолепием не гармонировало бледное испитое лицо капитана второго ранга. За ним семенила верная Мария с сумками. Мальчик Алёша с рюкзачком за спиной замыкал процессию.
«Носильщик, ко мне!» – потребовал Павел Иванович.
И вот он – Петровск! Слов не хватит, чтобы описать чувства, которые нахлынули на Солнцедарова, когда он ступил на привокзальную площадь. Двадцать лет прошло…
Смешались восторг и печаль, страх и надежда. Что ждет его на родине? Тихие слезинки покатились по небритым щекам.
Родной вокзал всё тот же, с облупившейся краской. Памятник Петру позеленевший и какой-то бесприютный.
«Непорядок», – подумал опытный хозяйственник.
Зато сверкал и блистал, подавляющий всё вокруг, новенький торговый центр. Даже храм, тоже новенький, с иголочки, проигрывал ему в величественности.
Спохватившись, Солнцедаров снял фуражку и перекрестился. В такт ему перекрестилась Мария. Алёшке, который крутил головой, озирая окрестности, отец дал подзатыльник. И вразумленный сын перекрестился тоже.
Одухотворенное, возвышенное состояние не помешало Павлу Ивановичу прикинуть, во сколько обошлось строительства магазина и церкви. Без видимой причины он повеселел. Сам собой родился стих:
Здравствуй, город мой родной.
Наконец-то я с тобой!
«Ждите здесь», – скомандовал офицер и бодрой походкой направился к вокзальному туалету или, говоря на флотский манер, гальюну. Теплое чувство шевельнулось в груди у Павла – в далеком детстве вместе с приятелями он подбрасывал в воду заменяющего унитаз сооружения карбид, который громким шипением и отвратительным запахом пугал посетителей заведения.
Этим же поездом прибыло еще одно семейство. В купейном вагоне под номером тринадцать в Петровск приехал Андрей Егоров, отработавший в геологоразведке пятнадцать лет. Если бы он надел свой пиджак, предназначенный для торжественных случаев, то мы увидели бы орден Красной Звезды, медаль «За отвагу» и медаль за трудовую доблесть.
Вместе с ним прибыли жена Ольга и четырехлетняя дочка Варенька. Носильщик погрузил на тележку вещи, и Егоровы направились к выходу с вокзала.
Исполнив задуманное, Солнцедаров подошел к внушительных размеров зеркалу, поправил фуражку и галстук. Затем повел плечами, отчего медали торжественно зазвенели. Из зеркала на Павла смотрел вполне бравый офицер. Но, как человек самокритичный, он не мог не заметить мешки под глазами и одутловатость физиономии. Усы, придававшие ему мужественность и сексуальность, висели уныло. На бледном лице, измученном горькими размышлениями, выделялся нос странного лиловатого оттенка. Больше всего расстроили Солнцедарова глаза: когда-то синие-синие, они потускнели и напоминали цветом водянистых медуз Баренцева моря.
В этот момент зеркало отразило еще одно лицо. Андрей Егоров после дальней дороги тоже решил посетить туалет. По поведению вошедшего было ясно, что внешность его абсолютно не интересует. Он помыл руки, пригладил мокрой ладонью волосы, подмигнул в зеркало следившему за его действиями офицеру и ушел.
Солнцедаров отдал должное богатырской стати мужчины, его волевому, чуточку плакатному лицу. Он отдал должное и скромным на вид часам известной швейцарской марки. «Тысяч на пять баксов потянут», – прикинул знающий толк в часах Павел.
И вдруг, словно какой-то механизм сработал – исчезло старое неприязненное отношение к часам, как к чему-то враждебному. Возникло неудержимое стремление обладать самыми лучшими в мире часами! Перед мысленным взором пронеслись картинки: президент с часами, папа римский с часами, премьер-министр, наследный принц, эмир, шейх, султан. Солнцедаров представил себе, как надевает часы: одни, другие, третьи, Ролекс, Брегет, Патек Филипп… Блестит золото, сверкают бриллианты, бегут стрелки…
«Время, вперед!» – воскликнул про себя Павел Иванович. «Мы еще им покажем!» – пригрозил он неведомо кому.
На привокзальной площади Мария Солнцедарова с Алёшей и Ольга Егорова с Варенькой оказались рядом, на одной скамейке.
– Тоже с севера? – спросила Ольга.
– С Северного флота! – ответила Мария.
Алёша, не отрываясь, смотрел на девочку. Та показала ему язык.
Во время поездки на такси Павел Солнцедаров узнавал и не узнавал родной город. Памятники Петру стояли там же, где положено. Фонтаны работали, скверы благоухали, на разноцветных детских площадках резвились, качались, прыгали маленькие жители Петровска. Чуть ли не на каждом шагу завлекали покупателей многочисленные магазины и магазинчики, павильоны и павильончики, рестораны и кафе, салоны красоты и просто парикмахерские. А названия: Pelmennaya, Zakusochnaya, Bulochnaya, Suvenirnaya Lavka. Чем не Антверпен!
С виду всё вполне благополучно и благопристойно. Но наметанный взгляд бывшего руководителя крупного тылового подразделения отмечал: кое-где облезли фасады, требовали ремонта дороги, с вывески «БИБЛИОТЕКА» куда-то пропала первая буква «Б», и получилось нечто не совсем приличное.
«Непорядок, – размышлял Солнцедаров. – Или деньги не выделяют, или работать не умеют, или воруют».
Павел Иванович был возмущен, как истинный патриот и профессионал. Вот он бы здесь развернулся.
В квартире на втором этаже дома из силикатного кирпича ничего не изменилось. Так же стояли белые, как альбатросы, холодильники, сверкала хрустальная люстра, диван и два кресла готовы были принять уставшие тела. Над телевизором, на самом видном месте, висел портрет лейтенанта Солнцедарова в парадной форме.
Слезы навернулись на глаза Павла: «Мама, я скоро приеду».
Чуть ли не ручьем хлынули слезы из глаз, когда он вошел в свою комнату. Так же, как и двадцать лет назад, смотрели на него, зовя на подвиг, пионеры-герои, белоснежный парусник по-прежнему приглашал в неведомую даль, куда путь для Павла теперь был навсегда закрыт.
С удовлетворением Солнцедаров отметил наличие тайника на прежнем месте.
«Павлик, иди обедать», – голос Маши оторвал его от воспоминаний.
В родительской комнате Солнцедаров подошел к бару, который оказался заперт. Жизненный опыт подсказал, куда любящая мама могла спрятать ключ. Павел решительно направился к собственному портрету. Он не ошибся – нашарил за портретом ключи и открыл бар.
Когда-то, в прошлой жизни, отец пытался оригинальным способом вызвать у Павла отвращение к алкоголю. Эксперимент тогда не удался: Павел полюбил спиртные напитки всей душой, исключая джин «Капитанский». Джин вызывающе смотрел на Солнцедарова.
«Врешь, не возьмешь», – Павел взял бутылку за горло.
Закаленный организм справился с джином. Утром Павел Иванович проснулся с ясной головой. Правда, не помнил ничего из того, что было накануне.
Следующие дни Солнцедаров водил семейство по местам «боевой славы». Сначала он привел Марию и Алёшу к школе, где, по его словам, руководил комсомольской организацией, возглавлял художественную самодеятельность, а его стихи постоянно появлялись в стенной газете. Учебное заведение он окончил с блеском.
– Так-то, сынок. Учись, пока я жив!
Павел Иванович привел семью к старинной крепости, рассказал о славе русского оружия и о личном вкладе в защиту национального достояния от тех, кто позорил историю Петровска – от фарцовщиков:
– Были в те времена такие нехорошие люди. Они, унижаясь перед заезжими иностранцами-капиталистами, выпрашивали жевательную резинку и сигареты. Да! Вот так тогда было, сынок, – говорил Солнцедаров и гладил мальчика по голове. – А мы, народные дружинники, проводили специальные операции по задержанию нарушителей. Это была опасная работа. Я был командиром отряда.
Мария, с обожанием глядевшая на супруга, спросила:
– Паша, а почему ты мне об этом не рассказывал раньше?
– Раньше нельзя было. До сих пор часть материалов засекречена, – строго ответил Солнцедаров.
Экскурсия продолжилась возле забора мореходного училища. Ближе Павел Иванович почему-то подходить не стал.
– Вот здесь начинался мой путь в море. Почти четыре года! Не всякий выдержит. Ни сна, ни отдыха. Вахты, занятия, караулы, ночные тревоги, – Павел боязливо огляделся по сторонам.
Морской порт встретил Солнцедаровых белоснежными лайнерами, работягами-буксирами и сухогрузами.
– Отсюда я ушел в свой первый рейс, в загранку. Антверпен, Стокгольм, Неаполь, Александрия…
Резкий крик прервал воспоминания «морского волка». Он посмотрел вверх и втянул голову в плечи – над ним парил громадный альбатрос явно с дурными намерениями. Павел Иванович поспешил свернуть экскурсию.
Ноги сами понесли его в городской парк, где, как он надеялся, всё еще стоит павильон «Кипрейка», в котором страждущий, униженный и просто желающий поднять настроение человек может найти успокоение.
Увиденное поразило Солнцедарова: «Сколько же деньжищ вбухано! И какая прибыль идет!»
Скромный павильон, принадлежавший винному заводу, сохранился в первозданном виде. Но что появилось вокруг него! Павильон стал частью познавательно-развлекательного комплекса, включающего даже музей, посвященный истории прославленной кипрейки, ее роли в развитии города и становлении демократии в Петровске. Приглашая посетить заведение, у входа стояла бронзовая фигура императора с поднятой чаркой.
Солнцедаровы вошли в стеклянные двери, и глава семейства оценил размах увиденного. Всё было нацелено на извлечение денег из карманов посетителей.
Сам павильон стилизовали под точку общепита времен СССР. Туда не зарастала народная тропа.
Богатые люди посещали шикарный дегустационный зал. Интуристы же после дегустации обязательно направлялись в павильон – советское прошлое было для них экзотикой, и они с удовольствием принимали из рук буфетчицы в сарафане и кокошнике рюмку водки и традиционный советский бутерброд с килечкой и яйцом.
Для посетителей с детьми создали специальное пространство. И пока глава семьи отдыхал в дегустационном зале или павильоне, его дети могли поиграть, а супруга выпить чашечку кофе.
Оставив Марию и Алексея в царстве развлечений, Павел Иванович поспешил в павильон. Душа горела! Получив рюмку и бутерброд, Солнцедаров направился к свободному столику. В советских рюмочных процесс употребления алкоголя полагалось совершать стоя: столы были высокие, стулья отсутствовали.
Павел Иванович, приоткрыв рот и поднеся рюмку, уже чувствовал ни с чем не сравнимый вкус холодного сорокаградусного напитка, как кто-то сильно хлопнул его по спине, и знакомый голос весело произнес: «Здорово, Пашка!»
Рука Павла дрогнула. Водка пролилась на белоснежные брюки, образовав неприличное пятно.
Да, это был он – друг детства Мишка Меньшиков. Огромный, в модном, помятом, как и положено, льняном костюме. Улыбаясь во весь рот, глядя сверху вниз на щуплого Солнцедарова, он произнес:
– Как ты тогда выкрутился? А я на два года в армию загремел! Чего ты здесь жмешься! Пошли в большой зал. Там попрохладнее.
– Да я тут, у меня…
– Пошли, не бойся.
Едва друзья переступили порог дегустационного зала, к ним тотчас бросился сотрудник в костюме с бабочкой:
– Проходите, пожалуйста, Михаил Иванович.
Павел и Михаил расположились за уютным столиком. Официант в легком полупоклоне ожидал распоряжений.
– Что пить будешь? Водку, как обычно? По морде вижу, что ты на Северах не просыхал, – заржал Меньшиков.
– Да нет, устал. Переезды, хлопоты. Закрутился, спал мало, – Солнцедаров пытался сохранять достоинство.
– Ладно, – махнул рукой Михаил и приказал официанту. – Тащи бутылку коньяка моего, бутербродов с икоркой, и осетринки пусть порежут.
Павел ждал, что будет дальше, чем закончится неожиданная встреча. Не затаил ли курсант Меньшиков зла на него за ту давнюю историю?
– Ну, как тебе? Нравится здесь? – широким жестом обвел помещение Михаил.
– Шикарно, – прошелестел Павел.
– Всё мое! – захохотал Меньшиков.
– В каком смысле? – Солнцедаров не знал, как реагировать на происходящее.
– В прямом. Сначала завод купил, дело поставил. Когда в других местах зарплату не платили, ко мне отбоя не было от желающих. Стал выпускать не только кипрейку, но и лимонады, соки. И пошло-поехало. Люди оценили.
Испытав потрясение от полученной информации, Павел Иванович быстро пришел в себя и стал прикидывать плюсы и минусы встречи с другом детства. С одной стороны, вырисовывались перспективы от общения с таким серьезным человеком, каким стал Мишка. С другой, Павел, как человек с разнообразным жизненным опытом, опасался, что друг припомнит предательство курсанта Солнцедарова. Однако пока не чувствовалось, что Меньшиков имеет зуб на старого кореша. Михаил Иванович, похоже, был действительно рад встрече. Он смеялся, наливал, рассказывал истории, в которых вместе с ним фигурировали многие известные люди, включая Анну Сукачеву и Генриха Бреха.
– Что это я всё о себе да о себе. Ты-то как, морячок? – спохватился Михаил.
– Да, ничего особенного. Последние десять лет руководил службой тыла на Северном флоте. Зампотылу, капитан второго ранга. Должен был получить первого ранга, но я так поставил работу, перекрыл все лазейки для злоупотреблений, что нажил серьезных врагов. И мне пришлось уволиться.
– Врешь, подлец. Я тебя знаю. Из-за баб, наверное, погорел?
Солнцедарова коробило такое к себе отношение, но показывать недовольство он не стал – не время. И только кисло улыбнулся.
– А жена, дети? – поинтересовался Михаил.
– Ё-моё! – вскочил Павел, – они же здесь, рядом. Играют.
– Пойдем, познакомишь.
Увидев мужа, Мария бросилась к нему:
– А мы тебя совсем потеряли.
– Мой друг Михаил Иванович. Мы с ним с первого класса вместе.
Нежная рука Марии утонула в огромной ладони Михаила.
– Мария, – она приветливо улыбнулась.
– Михаил.
И тут Солнцедаров заметил, что друг охватил всю ее взглядом, не предвещающим ничего хорошего. Таким взглядом он смотрел на первую любовь Павла – девушку Лиду.
Солнцедаров вдруг увидел Машу глазами Меньшикова: высокая, стройная женщина. Полная, но в меру, приятное лицо, обаятельная улыбка, большие карие глаза, яркие губы. «Декольте могло бы быть и поскромнее», – подумал Павел Иванович.
– А это наш Алёша, – представила сына Мария.
– Привет! Понравилось тебе здесь? – спросил мальчика Меньшиков.
– Понравилось.
– Моряком, наверное, будешь? Как отец?
– Нет. Милиционером.
Михаил засмеялся во весь голос и подвел его к полке с игрушками:
– Выбирай!
– Это же чужое, – возмутился Алёша.
– Это не чужое. Это подарок. От меня.
– А можно эту машинку? – Алексей показал на радиоуправляемый автомобиль в милицейской раскраске.
– Алёша, это очень дорого, – покачала головой Мария.
Михаил Иванович ласково коснулся ее руки.
– Для вашего сына, Маша, совсем недорого, – сказал он и вручил мальчику автомобиль. – Жалко, что мои сейчас в Испании отдыхают. А то бы познакомились.
Меньшиков посмотрел на часы и заторопился:
– Мне пора. Дела, – он протянул Солнцедарову визитку. – Завтра позвони в семнадцать тридцать. Надо встретиться. Двадцать лет не виделись!
По дороге домой Павел Иванович рассказывал о настоящей мужской дружбе, о том, как помогал Мишке в учебе, как они вместе дрались с хулиганами, как поступали в мореходку и мечтали о дальних странах: «Но Мишку тогда выгнали за драку. Девушку защищал. Не рассчитал силу и сломал негодяю нос. Потом армия. После занялся бизнесом. Развлекательный комплекс, в котором мы были – его».
Вечером, уложив сына, супруги Солнцедаровы беседовали на кухне о жизни. Легкое белое вино способствовало искренности и откровенности разговора.
– Паша, а ведь это неслучайно.
– Что неслучайно?
– Ну, Михаил Иванович…
– Не понял?
– Ну как же. Нам надо как-то устраиваться. А тут твой друг.
– У тебя, Машка, голова работает. Я сразу об этом подумал. Визитка-то вот она! – Павел покрутил визитной карточкой, на которой золотом было написано: Меньшиков Михаил Иванович (без всяких должностей) и телефон.
Вино лилось. Текла тихая беседа. И казалось, что всё у них в жизни наладится.
На следующий день в назначенное время Солнцедаров позвонил другу.
– Здравствуйте. Приемная, – ответил женский голос.
– А-а-а… мне бы Михаила Ивановича. Мы договаривались.
– Как вас представить?
– Солнцедаров Павел Иванович.
В трубке что-то звякнуло, стрельнуло, крякнуло.
– Здорово, Павлуха! В шесть будь на лодочной станции. Помнишь, где это? Там сейчас яхт-клуб.
Павел задумался: секретарша, яхт-клуб. Уровень! Надо выглядеть соответствующе.
Парадная форма у капитана второго ранга всегда была наготове. Так он и явился к месту встречи.
Ровно в восемнадцать часов к яхт-клубу подкатил черный Мерседес. Водитель в белой рубашке распахнул заднюю правую дверь автомобиля, оттуда собственной персоной появился сияющий Меньшиков.
– Можешь ехать, Серёжа. Я позвоню, – отпустил он водителя и повернулся к Павлу. – А поворотись-ка, сынку! Экий ты важный сегодня! Я ж тебя в баню позвал, а не на прием в мэрию. Да ладно, сойдет.
Пожилой дежурный в тельняшке и капитанской фуражке отдал входящим честь:
– Здравия желаю, Михаил Иванович! Всё готово.
Павел при этом испытал чувство дежавю – вахтер был вылитый комендант офицерского общежития в городке Волосатово, который много лет назад размещал прибывшего для прохождения службы младшего лейтенанта.
«Не знак ли это свыше? – подумал повидавший всякого Солнцедаров. – Там, на Севере, я начинал новую жизнь. Может быть, и сейчас что-то начнется?»
Ни к селу ни к городу вдруг зазвучало:
Будут внуки потом,
Всё опять повторится сначала.
Меньшиков с Солнцедаровым прошли мимо пришвартованных яхт, катеров, лодок и направились к отдельно стоящему одноэтажному зданию без вывески.
– Сезам, открой дверь, – негромко произнес Михаил.
Дверь открылась. Друзей встретил крепкий смуглый парень, похожий на героя фильмов о восточных единоборствах.
– Привет, Сезам, – Меньшиков пожал ему руку. – Мой друг. Адмирал без пяти минут.
Павел и Михаил обернулись простынями, и Сезам открыл следующую дверь.
Солнцедаров испытал шок: перед ним простиралось море. Настоящая пучина морская с белыми барашками и грозным альбатросом. И шум прибоя.
– Удивлен? – толкнул Меньшиков друга в бок. – Лучший специалист из Австралии работал. Ну, и наши инженеры кое-что умеют.
– Полундра! – прокричал сверху альбатрос.
Павел вздрогнул и втянул голову в плечи.
– С чего начнем, Павел Иванович? – спросил Михаил.
– Хорошо бы…
– Понял… Сезам! – позвал Меньшиков.
Тут же появился столик. На нем было всё, что может пожелать душа моряка. Кроме разве что макарон по-флотски. Сезам налил в пузатые рюмки коньяк и исчез.
– С возвращением на родную землю, морячок!
Дальше всё по отработанному сценарию: русская парная, финская сауна, турецкий хамам.
– Давай-ка наперегонки, как в старые времена, – предложил Михаил Иванович.
И они прыгнули в бассейн. Первым финишировал Солнцедаров.
– Есть еще порох в пороховницах, – похвалил Павла Меньшиков. – На вид – соплей перешибешь, а жилистый.
Они ныряли, брызгали друг в друга водой. Периодически у бортика появлялся Сезам с подносом. Друзья выпивали по рюмочке, закусывали лимоном и продолжали резвиться.
А потом, подобно патрициям, обмотанные простынями, они возлежали в глубоких креслах, вели неспешную беседу о жизни. Тихо играла музыка, Солнцедаров расслабился и получал удовольствие.
Неожиданно взгляд Меньшикова стал холодным и жестким:
– А теперь давай-ка рассказывай всё о себе.
– О чем? – словно недоумевая, спросил Павел.
– Я должен знать о тебе всё. Иначе дела не будет.
И Солнцедаров рассказал. Как его допрашивали в КГБ, как попал в службу тыла, как его подставили и чуть не посадили.
– Хотели посадить ни с того ни с сего? – хмыкнул Меньшиков.
– Да нет, конечно. Система виновата. Воровали все. Я был в системе – деньги шли наверх.
– Тебе, конечно, ничего не доставалось? – усмехнулся Михаил.
– Да, какая-то мелочь. Уволился без гроша в кармане.
– Верю. А теперь к делу. Ты уже понял, что я в Петровске человек не последний. Эта банька, яхт-клуб, да и развлекательный комплекс, в котором были вчера – мои. Есть и еще кое-что. Записано, правда, на родственников. Мне не положено. Я – чиновник, глава города.
– Ни х… себе! – вырвалось у Солнцедарова. Он дернулся, чтобы встать по стойке смирно.
– Сидеть! – скомандовал Меньшиков. – Я так понимаю, ты сейчас на мели. Могу тебе предложить работенку. Перспективную. Специалистом по военно-патриотическому воспитанию. Как раз твой профиль – будущих воинов воспитывать станешь. Годится? Или мелковато для тебя?
– В самый раз, – махнул рукой Солнцедаров.
– За тебя! – поднял рюмку Меньшиков.
Они чокнулись. На глазах Павла Ивановича навернулись слезы.
Через неделю Солнцедаров должен был приступить к работе. А пока он решил навестить мать, которую не видел много лет.
Междугородный автобус доставил семейство в небольшой городок Псковской области, на родину матери Павла. У автовокзала в ожидании клиентов дежурили таксисты-частники. Один из них, поигрывая ключами, направился к приехавшим: «Куда поедем?»
Солнцедаров назвал адрес.
Дорога заняла несколько минут. Автомобиль остановился возле старого деревянного, но еще крепкого дома с высоким крыльцом и резными наличниками. В ухоженном палисаднике росли нежнейшие белые и розовые мальвы. Павел отметил, что забор слегка покосился, а на крылечке не хватает ступеньки. В этот момент открылась дверь, и на крыльцо вышла женщина в темном платке. Солнцедаров сначала не признал в этой грузной, строгой старухе родную мать.
Когда гости подошли поближе, мать внимательно посмотрела на Павла и спросила:
– Что же они с тобой сделали?
– Кто? – не понял Павел.
– Бесы, – сурово ответила она.
Павел часто заморгал. Алёшка заплакал.
Вся строгость вдруг ушла с лица женщины. Она суетливо обняла и расцеловала всех по очереди.
А Солнцедаров всё не мог успокоиться:
– Какие бесы, мама?
– Потом-потом, – отмахнулась она. – Тоня, иди скорей! Павлик приехал!
На зов вышла другая женщина. Помоложе Марии Антоновны, но похожая на нее как две капли воды.
– Антонина. Сестра моя.
Гости вошли в дом. Из «красного угла» на Павла строго смотрел Иисус.
«Не простит», – мелькнуло в голове. Он торопливо перекрестился. То же самое сделали супруга и сын.
Комната поражала необыкновенной чистотой и уютом. Почетное место занимала свежевыбеленная русская печка. Мария Антоновна погладила ее рукой:
– Кормилица наша. Всю войну я на ней провела, можно сказать. С братом, он на год постарше меня был. Спали мы на старых ватниках, половичках. Нам туда бабушка подбрасывала мешочки с жареными тыквенными семечками, сушеной свеклой. Вместо сладостей. Вы надолго приехали?
– Денька на два, на три. Я на работу устроился. В городскую администрацию.
– Эх, Павлик. Всё такой же шустрый, – покачала головой мать. – Скоро будем обедать. Я сейчас приготовлю. Машенька с Алёшенькой пусть ягодок поедят. Смородины нынче много.
– А я ступеньку поправлю, – сказал Солнцедаров, – а то так можно и шею свернуть. Где у вас инструменты?
Получив в свое распоряжение ящик с инструментами, Павел приступил к работе. Неожиданно для себя он испытал невероятное удовольствие от этого занятия, словно гены отца проснулись вдруг. Он пилил, строгал, тщательно подгонял новую досочку, вдыхал запах свежеструганного дерева, наслаждался.
Вышедшая на крыльцо мать смотрела не него, сложив руки на груди:
– Совсем как отец. Вечная ему память. Святой был человек. Я ему жизнь испортила. Тебя прохвостом воспитала.
Солнцедаров вскрикнул – уронил на ногу тяжелый молоток:
– Чего ты, мама, опять!
– Ладно, потом поговорим. Зови своих – обед готов.
Павел позвал, и из кустов появились довольные Маша с Алёшкой:
– Спасибо, Мария Антоновна. Таких больших сладких ягод мы и не видели никогда.
Во время обеда Павел чувствовал себя некомфортно. Конечно, и окрошка, и котлеты с молодой картошкой, и салат со своего огорода были хороши. Но не хватало…
– Чего ёрзаешь! Выпить хочешь? – спросила мать.
Павел неопределенно покрутил рукой.
– Тоня, принеси рюмки.
На столе появился графин с жидкостью красного цвета и рюмки.
– За встречу, Павлик!
Мать разлила настойку, и взрослые выпили.
После третьей Павел раскрепостился. Он не понимал, что происходит с матерью, почему она так строга с ним. Ведь раньше любила, прощала всё.
– Мама, ты какая-то другая стала.
– Потом поговорим. Машенька, расскажи мне про Алёшу.
– А я пойду забор посмотрю. Покосился, вроде, – сказал Павел и вышел.
Три рюмочки малоградусной настойки не звали Солнцедарова на подвиг – это же не бутылка коньяка, но что-то совершить хотелось.
И опять пила, топорик, гвозди… Павел решил заменить целый пролет забора. Работа кипела. Новые штакетины рождались под рукой мастера – ровные, гладкие, без сучка и задоринки. Свистел рубанок, летал молоток, сверкали гвозди, звенела пила. Рождался шедевр.
Смеркалось. Завершив труд, Павел вернулся в дом.
– Мама, посмотри, что я сделал.
Мария Антоновна работу похвалила:
– Молодец! Заслужил. Вижу, чего ты хочешь.
– Да хорошо бы, мама.
Павел допил настойку, с чувством выполненного долга лег на диван и заснул. Спал он сладко, как в детстве. А мать смотрела на него с любовью и печалью.
На следующий день Мария Антоновна позвала всех в церковь. Там поставили свечки, и она долго молилась перед иконой Богородицы. Чуткий слух мог бы уловить отдельные слова: «Сыночку моему беспутному… Спаси и сохрани… Не дай погибнуть…»
Павел деловым шагом отправился искать икону покровителя мореплавателей. Обращаясь к Николаю Чудотворцу, он попросил здоровья для всех близких, а также побольше денег и успешной карьеры для себя.
Вечером мать сказала сыну:
– Пойдем. Поговорить надо.
И они пошли к реке, которая протекала неподалеку. Подойдя к большому валуну, напоминающему то ли кресло, то ли какое-то иное сиденье, Мария Антоновна потрогала камень:
– Он теплый хоть днем, хоть ночью. Я сюда приходила совсем маленькой. Смотрела, как течет река. Садись.
Мать и сын сидели рядом, как когда-то.
– Сон я видела недавно, Павлик. Император Пётр Первый, огромный, на коне, скачет по нашему Петровску. А ты от него убегаешь. Убегаешь, убегаешь… Он догнать тебя хочет. И вот наконец догоняет.
– Мама, это же поэма Пушкина «Медный всадник».
– Слушай дальше. Догоняет, хватает тебя за горло. И тут сон кончается. И такое мне снится часто.
– Ну, ты даешь, мама! Мистика какая-то.
– Ладно. Теперь слушай. Вижу, как ты на меня смотришь. Вроде не узнаешь. Да, я и в самом деле другая. Жизнь я прожила плохую. Сейчас вот хожу в церковь, грехи замаливаю.
Когда молодой была, работала здесь, в столовке на вокзале. И встретился мне принц. Мы все, девушки, о принце мечтаем. И увез он меня в Петровск. Ты его знаешь – это Иван Михайлович Петрушин. Он тогда большая шишка был в Петровске. Мы любили друг друга. Но он был женат. Разводиться ему нельзя было. Пришлось нам расстаться. Но расстались хорошо, он мне всегда помогал. И тебе помог, когда ты наблудил с часами заграничными.
А потом я замуж вышла за твоего отца. Не скажу, что любила, но жили не хуже других. Я, конечно, перед ним виновата. Он был мастер от бога. Всё знал, всё умел. Когда работал, люди любовались. Настоящий талант! А я-то что? Никто и звать никак! Начальник вроде, а толком ничего в жизни не сделала…
Паша, я так и сейчас не знаю, кто твой отец. Ивана Солнцедарова уже нет. Но ты знай, что Иван Михайлович тебе тоже не чужой человек. Мы с ним переписываемся иногда. До сих пор.
А грехи мои такие… Посуди сам, в столовую на заводе Иван Михайлович меня устроил. Из-за меня уволили хорошую женщину, я ее место заняла. Комнатку, а потом квартиру я тоже не за заслуги получила. Благодаря Ивану Михайловичу директором стала – это ты уже знаешь. Но не знаешь, кем я стала… Воровкой. Продукты таскала, дефицит налево сбывала. Начальству угождала, чтоб покрывали. Общалась с людьми, которые мне противны были – их называли «нужными людьми». Тогда ведь и сесть можно было.
Про родителей забыла. Посылала иногда деньжонок, как будто откупалась. Золото приобретала, в тайнике хранила вместе с неправедными деньгами. Всё думала, что для семьи, для тебя, Павлик. А и просмотрела. Ты, по всему видно, прохиндеем стал, со службы тебя поперли. Молчи, не перебивай. Я всё знаю.
Маша твоя – женщина добрая. Ты ее береги. Мальчик хороший. Единственное, что ты сделал путного – это Алёша. Ты его испортить не сможешь. Я в нем силу вижу.
Из Петровска я уехала не из-за житейских дел. Во мне пустота какая-то образовалась. Что-то меня гнало оттуда. Я потом только поняла – это грехи меня гонят прочь. И болеть начала. Иван Никифорович являться стал каждую ночь, к себе звал. Я уж в церковь сходила, батюшке всё рассказала. Вот как тебе сейчас. Он посоветовал: «Уезжай отсюда. И молись». Так я и вернулась на родину. Церкви жертвую. Для меня теперь каждый день в радость. В храм хожу – радуюсь, посты соблюдаю – радуюсь. Заповеди не нарушаю, исповедуюсь. Жаль только, что все грехи искупить не могу. За тебя болею. Взяла бы с тебя слово, что ты честным человеком станешь. И ты дашь слово, а не выполнишь. И сына не тяни за собой – молю тебя. А то прокляну!
«Как во городе то было во Петровске…» – былинный размер сложился у авторов как-то сам собой. Ведь речь в дальнейшем пойдет о герое, который, подобно русскому богатырю Илье Муромцу, схватился с Идолищем поганым. И победил его.
Но усложнять повествование старославянскими оборотами не очень этично по отношению к нашему читателю, который, возможно, университетов не кончал. И ни «Слова о полку Игореве», ни былин старинных не изучал. Поэтому о предстоящей битве будем писать простым русским языком, имея все-таки в виду, что будущее сражение – это не просто стычка каких-нибудь персонажей, не поделивших деньги и славу, а явление метафизическое, столкновение сил добра и зла.
Итак, Андрей Георгиевич Егоров, с которым наш читатель познакомился во время прибытия его на вокзал города Петровска, не был, собственно, уроженцем сего славного города. Он рос и воспитывался в детском доме, куда попал восьмилетним мальчиком после гибели родителей – геологов. Трагедия случилась в горах во время схода лавины.
Детский дом размещался в старинной усадьбе близ Петровска, в трех километрах от залива. Часть усадьбы представляла собой руины, привлекавшие любознательных мальчишек. Они искали подземные ходы, которые, согласно легендам, могли привести к сокровищам. После многодневных раскопок ребята нашли несколько ярко-синих черепков (явно фрагментов посуды) и несколько почти целых керамических плиток (судя по всему, изразцов, используемых для облицовки печей и каминов). Клада мальчишки, конечно, не обнаружили, но у Андрея Егорова появился интерес к раскопкам всякого рода, к истории, археологии и даже геологии.
Директор детского дома, бывший военный моряк, регулярно устраивал для воспитанников вылазки в Петровск. Так Андрей впервые увидел море. Увидел и влюбился. Особенно его поразили летящие по сверкающей глади залива крылатые «Метеоры» и яхты с белыми парусами. Тогда-то он и решил: стану моряком.
Каждый раз, бывая в Петровске, Андрей подолгу сидел на берегу, смотрел на проходящие суда и представлял себя в роли капитана.
А пока вместе с друзьями он осваивал небольшое, но глубокое, а значит и опасное, озеро. Опасность, как известно, всегда привлекает мальчишек. Сначала они мастерили и пускали в воду кораблики, устраивали морские сражения. Потом решили построить плот с капитанской рубкой и парусом. И построили. И пустились в плавание.
В результате серьезных конструктивных просчетов бревна ковчега разошлись, четверо мореплавателей оказались в воде. И тут выяснилось, что один из друзей плавать не умеет и прямиком отправился ко дну. Спас утопающего лучший пловец детского учреждения Андрей Егоров. Он же сделал пострадавшему при кораблекрушении искусственное дыхание. Откачали, но невезучий моряк чувствовал себя прескверно. Ребята бегом дотащили его до детского дома и сдали в медпункт. Страшного не случилось.
Страшно нарушителям дисциплины стало в кабинете директора детдома. Он не ругался, не топал ногами, но смотрел на них с таким гневом и даже брезгливостью, что ребята поняли смысл выражения «провалиться сквозь землю».
«Все вы будете наказаны, – наконец сказал он. – Чуть не погиб человек. ЧП! Больше всего мне хочется вас выпороть. К сожалению, телесные наказания запрещены. Но сейчас о другом. Вы решили отправиться в плавание. Думали, что это просто, что это забава? Результат налицо – парень в больнице. Врачи говорят – скорее всего, станет инвалидом, – директор подошел к окну, долго стоял, словно решая что-то. Потом повернулся к ребятам. – Разберем, какие ошибки вы совершили. Егоров – ты был главным. Вся ответственность на тебе. За то, что не растерялся, спас друга – хвалю».
И они подробно, как на занятиях по морскому делу, разобрали все просчеты и ошибки: формирование экипажа, конструкция судна, отсутствие индивидуальных спасательных средств и так далее. Этот урок ребята запомнили на всю жизнь. И всю жизнь были благодарны за науку мудрому наставнику и доброму человеку.
Больше никаких экспериментов на воде воспитанники детского дома не проводили. А вину за происшедшее (его друг действительно остался инвалидом) Андрей носил в себе всю жизнь.
После детского дома – служба в армии, Афганистан, интернациональный долг, ранение, боевые награды. Сложилось так, что уволившийся в запас сержант Егоров отправился в Ленинград и поступил в горный институт, который когда-то окончили его родители.
Хотя свободного времени у студента было немного, он не забывал родной детский дом, по просьбе директора даже вел Уроки мужества. Приезжал и в Петровск. Представлял себе, что здесь у него будет собственный дом, семья. Здесь он построит свой корабль.
Но, как говорится, человек предполагает, а институтская комиссия по распределению располагает… И направили выпускника геологоразведочного факультета Егорова за Полярный круг. Там и служил он верой и правдой государству Российскому. За трудовые достижения был неоднократно награжден. Там же, на севере, женился.
Егоров любил свою работу, зарабатывал хорошо, его ценили. Но когда родилась дочь, он стал подумывать о возвращении на Большую землю.
Во время отпуска съездил в Петровск, присмотрел дом, в котором хотел бы жить: двухэтажный, с террасой, выходящей на залив и окном-иллюминатором в башенке.
Та-та-та-тааа… Та-та-та-тааа…
Вступление к Пятой симфонии Бетховена могло бы сопровождать неотвратимое движение Солнцедарова. Он шел к новому месту службы. С тонкой шеей, маленькой головой, в офицерской большой фуражке. Стрелки идеально отутюженных форменных брюк рассекали пространство и время. Он шел целеустремленно, как подводная лодка, как ядерная торпеда «Посейдон». Топорщились щеточкой рыжие усы. И снова синим огнем горели глаза.
В город пришла беда! Показалось, что, завидев его приближение, бронзовый Пётр попятился назад вместе с пьедесталом. На клумбах поникли анютины глазки. С совершенно ясного неба вдруг ударил гром, и литавры угрожающе бухнули: та-та-та-тааа…
«Он пришел разорить наш город, вытянуть из него все соки», – хотел, но не мог вымолвить старый дуб. Одним чиновником в Петровске стало больше. Отдел по военно-патриотическому воспитанию принял героя-подводника (по версии самого Солнцедарова) с распростертыми объятиями.
В администрации не хватало такого человека! Подразделением здесь командовала ветеран сухопутных войск Жанна Гавриловна Каковина. Двадцать пять лет она отслужила в секретной части в/ч 48338 и, выйдя в отставку, вот уже несколько лет руководила отделом в городской администрации. Жанна Гавриловна любила вооруженные силы, воинов, дисциплину.
Воплотить все планы по патриотическому воспитанию молодежи ей мешали полученные во время службы радикулит, остеохондроз, артроз нижних конечностей и варикозная болезнь. Кардиограмма регулярно регистрировала неспецифические изменения процессов реполяризации в миокарде и множественные одиночные экстрасистолы. Она очень хотела, но не могла участвовать в «Веселых стартах», парусных регатах и в соревнованиях по стрельбе из лука. Зато Каковина могла содержать в идеальном порядке вверенные ей материальные ценности, поддерживала идеальную дисциплину в отделе, лично контролировала проведение всех военно-спортивных мероприятий. И очень любила цветы. Конкретно – белые розы.
Появившийся на пороге блестящий офицер достал из-за спины и протянул ей букет белых роз (спасибо Меньшикову – подсказал). Щеки женщины заалели. Легким движением руки она поправила прическу.
Прибывший щелкнул каблуками:
– Солнцедаров Павел Иванович. Прибыл в ваше распоряжение!
Прижав цветы к груди, Жанна Гавриловна вышла из-за стола и крепко пожала офицеру руку.
– За цветы спасибо! Будем работать.
И работа закипела. Солнцедаров показал всем, как нужно это делать. Вначале им были намечены стратегические задачи:
1) как лучше осуществлять патриотическое воспитание;
2) кто должен быть охвачен патриотическим воспитанием;
3) какими материальными ресурсами располагает Петровск для наиболее эффективной работы по ПВ (патриотическому воспитанию);
4) кого следует привлечь для безоговорочного выполнения намеченных планов по патриотическому воспитанию (представителей бизнеса, госпредприятий, сотрудников всех отделов администрации, а также силовые структуры: милиция, прокуратура, МЧС, Госнаркоконтроль).
Составив план, Павел Иванович приступил к выполнению намеченного.
«Кадры решают всё» – это он прекрасно знал и отправился на прием к главе города.
– Разрешите войти, Михаил Иванович? – держа папку под мышкой, Солнцедаров скользнул в кабинет руководителя.
– Заходи, Паша, – Меньшиков пожал руку другу. – Наслышан о твоих подвигах. Жанна Гавриловна уж на что строга и сурова, а характеризует тебя с самой лучшей стороны. Говорит – мыслишь масштабно. Ну, давай, что там у тебя в папке-то.
И Солнцедаров разложил перед всесильным главой графики, схемы, планы. Меньшиков быстро ознакомился с документами, одобрительно покачал головой:
– Удивил. Не все мозги пропил.
– Не все, Михаил Иванович.
Меньшиков в этом ответе ничего особенного не заметил. Опытный же наблюдатель почувствовал бы глубоко спрятанную угрозу или даже ненависть.
– Что от меня требуется?
Солнцедаров показал взглядом на портрет президента:
– Как говорит наш президент – адреса, пароли, явки.
И Меньшиков дал ему координаты влиятельных людей Петровска.
– Ссылайся на меня. Считай, что эта рекомендация стоит подороже, чем удостоверение «Проезд всюду», которое выдал рейхсфюрер СС гауптштурмфюреру Вайсу, нашему разведчику. Надеюсь, кино «Щит и меч» смотрел? – и Михаил Иванович весело захохотал.
– Так точно, мой фюрер! – вытянулся по стойке смирно Солнцедаров и тоже заржал.
– А вот места, куда ты свой нос совать не должен. Как ты уже понял, торговые центры, развлекательные комплексы, винный завод, яхт-клуб, гостиницы, рестораны, такси – это моя епархия.
– Понял, не дурак, – ответил Павел Иванович.
Вернувшись в отдел, он достал с полки справочник с грифом «Для служебного пользования», содержащий сведения обо всех значимых фигурах города Петровска.
Солнцедаров, как чиновник, которому поручили заниматься военно-патриотическим воспитанием, решил начать с мероприятия громкого, необычного, которое соответствовало бы духу морского города, носящего имя Петра. А что может быть лучше морского парада?
Первый адрес – пароходство. Туда Павел Иванович и направился. Массивное здание с якорями при входе внушало почтение. Чувствовалось, что работают здесь люди солидные, основательные.
В холле Солнцедарова приятно поразило сочетание благородных ароматов табака Virginia, коньяка Frapin и дорогого мужского парфюма. Всё это было знакомо Павлу по вечерам, проведенным в квартире Ангелины Львовны Прокопенко, супруги заместителя командира части по тылу.
В кабинете начальника пароходства Бориса Аркадьевича Симонова чуткий нос Солнцедарова уловил те же ароматы, что и в холле. К ним примешивался запах натуральной кожи. В огромном кабинете вся мебель, кроме разве что стола, была кожаная. А стол внушительных размеров темно-коричневым цветом навевал мысли об экзотических островах, джунглях и пампасах.
– Мадагаскарский эбен, – сказал с улыбкой хозяин кабинета.
Всё в нем выдавало старого морского волка: широкое обветренное лицо, шкиперская бородка и внимательный взгляд человека, привыкшего смотреть вдаль.
– Капитан второго ранга в отставке Солнцедаров.
– Я в курсе.
– Специалист по военно-патриотическому воспитанию молодежи, сотрудник городской администрации.
– Я в курсе. Виски, коньяк, ром?
Посетитель сглотнул набежавшую, как морская волна, слюну и развел руками. Этим жестом показывая радость и готовность принять приглашение. И сожаление от невозможности совместного распития в высшей степени достойных и завлекательных напитков.
– Не могу, Борис Аркадьевич, – простонал Солнцедаров. – У меня через час мероприятие с детьми.
– Я в курсе. Уважаю.
Симонов налил в бокал основательную порцию коньяка, выпил и стал набивать табаком трубку, выполненную, судя по всему, из того же мадагаскарского эбена.
– С чем пожаловал, Павел Иванович? Какие проблемы?
Солнцедаров, внутренне гордясь своей выдержкой и стойкостью, отрапортовал:
– Планирую провести морской парад! Участники – школьники, воспитанники кружков и секций. Нужна ваша поддержка!
Начальник пароходства, выпуская клубы ароматнейшего табачного дыма, поинтересовался:
– Что нужно конкретно?
– Нужен флот! Хотя бы шлюпки. Поясняю: малые гребные, парусные или моторные беспалубные суда, изготовленные из дерева, металла, пластмасс. На худой конец, из резины. Хождение на шлюпках способствует физическому развитию подрастающего поколения, выработке волевых и морских качеств: глазомера, наблюдательности, сметливости. Воспитывает настойчивость в достижении поставленной цели, прививает любовь к морю.
– Я в курсе. Можешь не объяснять. Оставь мне списочек.
Следующий визит Павел Иванович нанес в школу № 914, известную своими морскими классами, традициями и четкой профессиональной ориентацией. Он с легкостью договорился с молодым, романтически настроенным директором учебного заведения о совместной подготовке морского парада.
«Парень – энтузиаст, – подумал Солнцедаров. – Можно использовать». Вслух же произнес: «Прославим школу и Петровск! Нужно подготовить призы, ценные подарки. Об этом позаботится администрация города и лично я. Привлечем телевидение, радио, газеты. Ваша задача – сформировать экипажи из лучших юных моряков. Форма – тельняшки. Родители обеспечат массовость мероприятия. С собой принесут плакаты, флажки, транспаранты. Первую шлюпку оформим под ялик Петра Первого. Командовать парадом будет ваш воспитанник – обязательно высокого роста, в соответствующем костюме, в парике и треуголке. Усы обеспечите».
Вечером Солнцедаров явился в кабинет начальника отдела Каковиной и доложил:
– Жанна Гавриловна! Ваше поручение выполнено! Ведется подготовка к проведению морского парада!
«Какой морской парад? Вроде бы я ничего не поручала», – подумала Жанна Гавриловна, но приосанилась.
– Нужна ваша поддержка. Хочу посоветоваться. Я уже задействовал морское пароходство, школу с морскими классами. Для освещения подготовленного нашим отделом мероприятия следует привлечь средства массовой информации. Мы сможем использовать ваши связи?
– Есть наша районная газета, местное радио, кабельное телевидение, – Каковина задумалась на секунду и, как бы сомневаясь, завершила: – Есть у меня, конечно, контакты на Ленинградском телевидении, на Чапыгина, 6. Я свяжусь с Кирюшей Сикорским. Хороший мальчик. Он ведет популярную авторскую передачу – ну там новости, события, происшествия. Обожает море.
