Архитектура. Что такое хорошо и что такое плохо. Ключ к пониманию бесплатное чтение
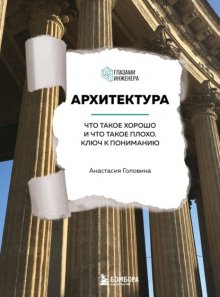
© Головина А.М., текст, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
«Архитектура заключается в том,
чтобы превратить дешёвый камень
в камень из чистого золота».
Алвар Аалто
Об архитектуре
Любой разговор стоит начинать с определения терминов. Что же такое архитектура? И сразу возникают сложности. Потому что у архитектуры нет чёткого определения. Если мы откроем толковые словари, то там будет примерно следующее: «Архитектура – это совокупность различных видов деятельности человека, включающая в себя проектную, строительную, реставрационную, ремонтную и другие деятельности».
Сами здания – это архитектура, проектирование зданий – архитектура, реставрация или реконструкция зданий – тоже архитектура. А кроме зданий есть ещё строения и сооружения, ландшафтная архитектура, градостроительная деятельность – и всё это тоже относится к архитектуре и к архитектурной деятельности человека. Любые преобразования – и виртуальные, и реальные – тоже архитектура. Проект на бумаге – архитектура, процесс воплощения – архитектура. Реставрация архитектуры – также часть этой человеческой деятельности. И безвозвратно погибший памятник всё равно остаётся архитектурой и занимает своё место в её истории.
Парк Версаля. Ландшафтный архитектор Андре Ленотр XVII век.
Гравюра XIX века
На своих лекциях я часто задаю вопрос: что на этой гравюре архитектура. Правильный ответ – всё, кроме линии холмов на дальнем плане. Архитектура – дворец и другие строения, планировка парка и малые архитектурные формы: фонтаны, лестницы, ограды. Архитектура – и трёхлучие, расходящееся тремя лучами дороги от площади перед дворцом, которое мы можем увидеть на дальнем плане. Этот градостроительный приём расходящихся лучами улиц – именно отсюда, из Версаля попадёт в Санкт-Петербург. Умение рисовать и изобразить ансамбль в перспективе – часть деятельности архитектора.
Часто путаются понятия архитектуры как вида деятельности человека и архитектуры как вида искусства. Некрасивый дом, построенный без проекта, – это архитектура? Может быть, архитектура – это нечто, сделанное исключительно по профессиональному проекту? Кого считать профессиональным архитектором – только ли человека с дипломом? А как тогда быть с теми архитекторами, которые получали престижные премии за архитектуру, при этом не имели профильного образования? Или куда отнести народную архитектуру? Таких вопросов много и разные люди отвечают на них по-разному.
Можем ли мы считать, что архитектура – это только то, что может претендовать на звание высокого искусства? Довольно часто про плохие строения говорят: «Но ведь это просто строительство, не архитектура». Это довольно популярная точка зрения, и она имеет право на существование.
Кроме этого, понятие «архитектура» стало использоваться в новых технологиях и в новых областях. Архитектура сайтов, архитектура безопасности, виртуальная архитектура – всё это размывает термин «архитектура» и вносит дополнительную путаницу. А так как чёткого определения архитектуры нет, то каждый может создавать собственное, и включать в неё самые разные процессы и объекты.
Я предпочитаю использовать термин «архитектура» в более традиционном смысле – материально воплощённая среда обитания. То, что можно увидеть и (или) осязать. Виртуальная архитектура – то есть архитектурные фантазии, созданные новыми технологиями, – тоже архитектура, пусть она нематериальна, но мы можем представить её, воплощённую в камне, дереве, стекле, фантастическом материале. Человечество создаёт архитектурные фантазии и проекты, которые не всегда реализуются, но это тоже часть архитектуры. А вот то, что в материальном воплощении представить сложно, я к архитектуре не причисляю. На мой взгляд, уместнее использовать слово «структура» – структуры сайтов, структуры безопасности и т. п.
Эта книга об архитектуре как обо всей искусственно созданной среде обитания человека, включая фантазийную и виртуальную, поскольку большинство принципов, описанных в этой книге, к ним тоже относятся. По большому счёту, архитектура – это всё материальное, что нас окружает, кроме естественной природы. Посаженные ровными рядами деревья – это тоже искусственно созданная среда обитания человека. Проложенная трактором дорога в лесу – тоже элемент человеческой среды обитания, созданный искусственно. Но не всегда искусно.
И всю эту искусственно созданную среду обитания мы можем оценивать с помощью архитектурных инструментов – масштаба, пропорций, деталей, фактуры, контекста. В этой книге разберём некоторые из этих инструментов, которыми архитекторы пользуются для проектирования, а любой человек может пользоваться для оценки архитектуры. В этой книге я привожу примеры, используя здания и сооружения. Но примерно так же они работают и в целых ансамблях, и в простых лесных посадках, в интерьерах и т. д.
Конечно, хочется говорить об архитектуре на лучших примерах, когда здание или сооружение (или парк, или лес, или дорожка в лесу) становятся произведениями искусства Архитектуры. Иногда я буду писать слово Архитектура с большой буквы, чтобы обозначить, что речь идёт про произведение, которое достигло уровня настоящего искусства.
Моя задача – сформулировать некоторые критерии оценки и показать, как их применять к тому, что вы видите. И для архитектуры (всей среды обитания), и для Архитектуры (настоящих произведений искусства) эти критерии будут примерно одинаковыми.
Эта книга про то, как именно оценивать архитектуру. Что делает архитектуру Архитектурой.
Если мы рассматриваем архитектуру только как произведение искусства, то сталкиваемся с тем, что каждый художник (в широком смысле слова) видит его по-своему. Поэтому вывести какие-то методы оценки почти невозможно, они слишком субъективны. Кому-то нравится один цвет, кому-то другой, кому-то реализм, кому-то импрессионизм, кому-то абстракция. И это нормально, ведь мы все разные. В архитектуре тоже есть место субъективности. Кто-то любит ордер, кто-то деконструктивизм, кто-то модернизм или архитектуру какого-то народа, этноса, периода и т. д. Но для честного профессионального разговора критерии «нравится – не нравится» и «современно – несовременно» могут быть только стартовой точкой для размышлений, в ходе которых найдутся другие, более объективные критерии оценки.
Архитектура отличается от других видов искусств в первую очередь тем, что она слишком зависит от законов физики. Кроме этого, на неё влияют и политика, и экономика, и природные особенности местности, и жизненный уклад людей, и многое другое. Картина, которая висит у вас на стене, влияет только на ваше настроение: в идеале оно должно улучшаться от наличия этой картины, и это единственный критерий её качества именно для вас. С архитектурой так не получится – в ней должно быть и удобно, и комфортно – и физически, и психологически. В ней должно быть безопасно и на уровне ощущений, и по объективным фактам. Поэтому мы можем вывести некоторые закономерности – что такое хорошо и что такое плохо в архитектуре, если воспринимаем её шире, чем просто один из видов искусства.
Методы оценки архитектуры нужны для того, чтобы люди, причастные к искусству, не говорили остальным «вы ничего не понимаете». Если в доме нельзя жить – это плохой дом, каковы бы ни были его эстетические качества. Если, идя по улице, вы видите дом, от которого ваше настроение ухудшается, то, скорее всего, это плохая архитектура (если это не связано с вашим личным негативным опытом).
В этой книге я хочу показать, как можно увидеть хорошее в непритязательных, но очень качественных зданиях, и одновременно дать вам инструменты для критики. Ведь важно видеть не только хорошее, но уметь объяснить, почему то или иное сооружение вам не нравится, и, возможно, найти способы его улучшить.
Если другие виды искусства мы можем при желании избегать: можем на них не смотреть, не покупать, не ходить в музей или на выставку, то архитектуру игнорировать довольно сложно. И когда нас заставляют жить в том, что нам не нравится, мы должны уметь об этом сказать. Здесь не работает подход «вы непрофессионал, вы не понимаете глубокий смысл искусства», который может работать с живописью, скульптурой, перфомансами. Архитектура слишком проникает в нашу жизнь и слишком на неё влияет, и у нас нет возможности изменить это, кроме как анализировать и осознавать, что происходит. И реагировать на это, меняя что-то к лучшему или перемещаясь в другую среду обитания.
Мне бы хотелось научить людей отслеживать собственные чувства и эмоции при соприкосновении с архитектурой. Научить видеть архитектуру – и для того, чтобы получать удовольствие и улучшать качество своей жизни, и чтобы видеть не слишком удачные решения, уметь осознавать, почему они действуют негативно, и опять-таки иметь возможность улучшить качество своей жизни.
Потому что архитектура – это вся искусственно созданная среда обитания. Мы в ней живём. Мы живём внутри неё постоянно. Она задаёт наши траектории движения, схемы поведения, задаёт настроение, влияет на нас. И чем больше мы будем это видеть и осознавать, тем меньше сможем находиться под негативным влиянием, и больше сможем создавать себе комфортную среду пребывания. Даже если это будет значить «просто пройтись другим, более комфортным для вас маршрутом».
И мы начнём с самого древнего метода оценки архитектуры – триады Витрувия.
О Триаде Витрувия
В этой книге иногда будут встречаться QR-коды, которые ведут на небольшие авторские видео-лекции, про то или иное здание, упоминаемое в тексте.
Вот как тут слева – QR-код ведет на видео про Триаду Витрувия.
Часть I
Триада Витрувия
Когда-то, давным-давно, в I веке до нашей эры, в Римской империи жил человек по имени Витрувий. Он был практикующим архитектором, но, говорят, в какой-то момент он впал в немилость и перестал получать заказы. Тогда он решил собрать весь свой практический опыт для следующих поколений, и получился трактат «Десять книг об архитектуре»[1], который Витрувий презентовал императору, надеясь вернуть императорское расположение и снова строить.
Это был первый известный нам теоретический труд по архитектуре.
Кроме практических советов – как выбирать участок, как определить, есть ли в камне внутренние трещины, как передвигать камни и т. п., Витрувий сформулировал критерии, которым должна отвечать архитектура. Их три.
Это польза, прочность и красота. Так называемая «триада Витрувия».
Чуть дальше мы поговорим о том, что же входит в эти понятия и как они влияют на архитектуру. Но самое важное – они едины и неразрывны. Это не три разных критерия, а единая взаимосвязанная система критериев.
Функция здания непосредственно влияет на то, как и из чего оно будет построено. Его прочность и конструкция непосредственно влияют на внешний вид, а красота здания, его эстетические характеристики обусловлены теми материалами и конструкциями, которые используются, и сами эти характеристики полезны для глаз и души. Да, мы можем говорить о них отдельно друг от друга, но связи между ними будут в разговоре возникать постоянно. В архитектуре польза, прочность и красота связаны практически неразрывно. В самых лучших образцах архитектуры это сделано или идеально, или очень интересно, или иногда даже весьма неожиданно.
Конечно, за две тысячи лет, которые прошли со времён Витрувия, менялась не только архитектура, но и сами понятия. В разные времена под пользой, прочностью и красотой могли подразумеваться разные вещи. Менялись приоритеты между критериями, и баланс между частями Триады Витрувия мог быть разным. Были эпохи, которые отдавали первенство красоте, были и те, кто превыше всего ценили пользу или прочность. Но в любой эпохе самое лучшее включает в себя все три критерия, собранные воедино.
Есть мнение, что Триада Витрувия устарела, что в мире современной архитектуры она перестала работать. Появились новые критерии и новые условия. Но «польза – прочность – красота» по-прежнему работают вместе и могут быть удобным инструментом оценки архитектуры.
Представьте, что вы видите здание, любое. Чем-то оно вас заинтересовало и привлекло. Или наоборот – вызвало негативные эмоции. Вы не знаете ни год постройки, ни архитектора, ни стиля. И не можете найти эту информацию в интернете.
Но вы можете задать себе вопросы: «Для чего оно построено? Какова его функция? В чем его польза?» Скорее всего, вы сможете на него ответить сами, без подсказок.
Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке.
Архитектор Фрэнк Ллойд Райт 1959 г.
Здание музея состоит из трех объёмов, каждое из которых имеет свою функцию и очень ясно эту функцию выражает. Высокий прямоугольник на заднем плане – хранилище. Прямоугольные ячейки – самые удобные по форме для хранения, весь объём хранилища подчёркнуто прямоугольный, очень легко представить его шкафом с ящичками или полочками. Цилиндр на переднем плане – это зал для чтения лекций об искусстве. В нем проглядывают черты колонны – он как будто похож на капитель (верхнюю часть колонны) и имеет каннелюры (вертикальные желобки на колоннах). Это напоминание о классическом образовании, куда обязательно входило изучение искусства Древней Греции. Дальний большой объём в виде расширяющегося вверх конуса из ленты, перекрытый стеклянным куполом – это выставочные залы музея, которые представляют собой большой нисходящий пандус. Вы поднимаетесь на лифте наверх, и, рассматривая картины, двигаетесь пешком вниз. Конус сужается книзу – это возможность сделать естественное освещение через прозрачную крышу для нижних этажей, то есть сама форма очень функциональна. Подобные конструкции в середине XX века возможно было сделать только из железобетона, так что прочность и возможности материала тоже хорошо отражены на фасаде и стали частью его красоты.
Вы можете спросить себя: «Из какого материала оно построено? Какая у него конструкция? Каркас ли это или стены? Много ли в нем этажей или внутри единое пространство?» И в большинстве случаев вы тоже сами на эти вопросы ответите.
Какие у него эстетические качества? Цвет, форма, фактура, украшения? Нравится ли оно вам? Чем оно нравится, а чем не нравится? Связано ли это с его пользой и прочностью? И если нравится и связано – это хорошее здание. Если не нравится, и вы видите, как порваны эти связи, – плохое.
Конечно, всегда есть исключения. Есть здания, которые мы любим именно за то, что у них эта связь разорвана. Специально, ради какой-то идеи. Возможно, так случилось в процессе жизни здания. Есть сложные истории, сложные
Про Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке
эпохи, разные обстоятельства. Бывает и наоборот – здания, в которых всё на месте – и польза, и прочность, и красота, но это фоновый незаметный дом. Скорее всего, это хороший дом, но шедевром архитектуры он не становится, потому что не хватает чего-то очень важного. Триада Витрувия не охватывает все качества архитектуры. Но является отличным инструментом в качестве первичной оценки.
Поговорим по отдельности о каждом элементе триады Витрувия, но будем держать в голове, что это части общего целого.
Польза
В современном мире вместо слова «польза» чаще говорят «функция». «Функция» – это чуть более узкое понятие. Польза здания может быть шире функции, например, сама красота здания тоже приносит пользу, но довольно редко красота становится непосредственной функцией, хотя такое встречается, например, в торжественных монументах. Я буду употреблять оба слова, в обоих случаях мы говорим о прямом предназначении здания: для чего оно построено, какая его функция, какую пользу оно приносит людям.
Архитектура – вид человеческой деятельности, требующий огромных вложений, несопоставимых с обычными делами. Даже если человек строит своими руками самую простую беседку на даче или кладёт дорожку, много дней его жизни будут подчинены этой задаче. Архитектура – это сложно, долго и дорого.
Для того чтобы появилась архитектура, кто-то должен вложить в неё время, деньги и труд. Кто-то должен захотеть это сделать. Поэтому не бывает архитектуры без функций, которые могут быть самые разные, от вполне практических, утилитарных, до сложносоставных и весьма экзотических.
С утилитарными функциями вроде бы всё просто. Нужна практическая вещь, приносящая пользу. И, кажется, можно сделать «просто строительство», можно не думать об Архитектуре. Но даже в простых утилитарных вещах польза переплетается с прочностью и красотой.
Нам нужен, например, большой магазин. Мы строим большой магазин, исходя из технических задач. Выбираем конструкции и материалы, которые отвечают этим задачам так, чтобы не переплачивать, но так, чтобы магазин внешне был привлекателен для покупателей. Если выпадает какая-то часть триады Витрувия, то бизнес будет идти плохо. Если мы сделаем неудобный магазин, мы можем потерять клиентов или будем много тратить на логистику. Если ошибёмся в расчётах прочности… даже не хочу об этом думать. Можно, конечно, обеспечить большой запас прочности, это просто лишние расходы и не так страшно, как недостаток прочности. Но магазин должен быть рентабельным, вкладывать деньги в бизнес с большим запасом могут позволить себе немногие. Красота – это тоже функция для привлечения клиентов и работы бизнеса. Вроде бы всё просто. Любому ларьку стоит быть привлекательным без вложения лишних денег в украшение. А это значит, привлекательность должна закладываться на уровне проектирования. Ему необязательно быть произведением искусства Архитектуры, но, даже будучи не самой интересной архитектурой, он тем не менее нуждается в гармонии между пользой – прочностью – красотой. Возможно, даже больше, чем здания, в строительстве которых нет ограничения по деньгам, – они могут позволить себе и избыточные площади, и дополнительную прочность, и расходы на украшения.
Самое интересное начинается, когда вопросы пользы выходят за рамки утилитарности, когда здание строится не ради (или не только ради) удовлетворения физических потребностей людей, а ради идеи. Когда здание рассчитывается на гораздо больший срок, чем длина человеческой жизни. Именно такие здания, построенные ради чего-то большего, становятся Архитектурой с большой буквы, памятниками архитектуры. Именно о них пишутся книги, к ним едут туристы, именно их мы видим на красивых афишах.
Ради каких идей может строиться архитектура? Религиозных, рекламных, государственных и многих других. Я сформулировала это одним понятием – Архитектура строится ради передачи информации. Информация может быть очень разная, цели её тоже могут быть очень разные, предназначена она может быть очень разным людям, но, по сути – это некая информация, которая должна сохраниться подольше.
Информация может быть тоже довольно утилитарна, например: «в этом доме булочная – заходите» или «владелец дома выращивает виноград и поэтому тут всё в виноградных лозах», а может быть очень сложной, на уровне философских размышлений о тщете всего сущего. Иногда эта информация считывается легко в любые времена, довольно часто она теряется за изменениями истории.
Но всё выходящее за рамки утилитарной функции – это про информацию. На здании биржи изображены аллегории торговли и путешествий. Дом, декорированный в античном стиле, рассказывает о классическом образовании его хозяев. Храм передаёт информацию о том, как устроена вселенная в картине мира данной конфессии.
Поставленный в поле менгир (установленные вертикально огромные камни, которые встречаются по всей земле и сохранились от доисторических времён) тоже передаёт информацию. Захоронение важного человека? Ориентир в пространстве? Важная точка? Нам неизвестно, однако именно ради передачи информации люди тащили сюда камень весом в несколько тонн и поднимали его вертикально. Им было важно её зафиксировать и поделиться ею со следующими поколениями. Увы, мы не можем её прочесть, но можем быть уверены, что камень этот ставили ради передачи некой информации, а не ради утилитарных целей. Эти камни не служили опорой для крыши от дождя, к ним не привязывали диких животных, на них нет следов подобного утилитарного использования.
Можно попытаться прочесть эту информацию. Утилитарные слои считываются легче, а для того, чтобы читать информационный слой, нужны знания истории, литературы, человеческой психологии и т. д., но иногда стоит немного задуматься, и становится понятным, хотя бы частично, что хотели сказать архитектор и заказчик.
Функция архитектуры определяет её внешний вид. Мы не перепутаем завод с жилым домом. Вряд ли спутаем магазин и театр. Тюрьма и детский сад выглядят совершенно по-разному. Но одинаковые по функции здания могут быть совершенно разные. Легко можно представить два театра или два магазина, которые совсем не похожи друг на друга. Но функция каждого здания или строения считывается довольно легко.
Дом скульптура XVIII века в городе Сантьяго-де-Компостела.
Испания
Тут всё ясно и понятно – в этом доме живёт скульптор, который может для вас сделать работы вот такого качества: украсит здание, создаст памятник или просто красивую вещь. Обращайтесь!
На деле всё, конечно, гораздо сложнее. Редко встречаются монофункциональные здания. Почти всегда в многоквартирных домах на первом этаже располагаются магазины или какие-нибудь учреждения. Нечасто мы видим отдельно стоящий магазин. Даже обычный дом на одну семью, как правило, служит не только домом, но и мастерской, и офисом, и это тоже отражается на его планировке и внешнем виде.
Довольно редко функция здания на протяжении долгого времени остаётся неизменной. В современном мире функция обычно меняется быстрее, чем жизнь конструкций.
Собор Св. Софии,
внутреннее пространство.
Константинополь (Стамбул)
VI век
Во все времена и во многих культурах до изобретения книгопечатания и быстрой передачи информации храмы были не просто местом проведения обрядов и ритуалов, но местом, где человек мог получить самые разные сведения. Посмотреть на картины, узнать новости и т. п. В самой архитектуре храмов заложена информация об устройстве мира глазами той религии, которой храм принадлежит. Сегодня многое мы не можем считать и понять, потому что времена изменились, что-то знают только узкие специалисты, но есть вещи, которые до сих пор читаются, если чуть-чуть присмотреться.
Собор Богоматери в Антверпене. Главный неф.
Бельгия XIV–XVI вв.
Это мой любимый пример про два христианских храма. Но Святая София построена, когда христианство ещё только формировалось, достаточно было прийти в храм и оказаться защищённым от зла, оказаться под куполом, стать «своим», попасть в рай после смерти. А собор в Амьене построен в другой стране и в другое время. Там, где почти все вокруг христиане, уже недостаточно просто принять крещение. Быть христианином – это путь, долгий и трудный путь обрядов, раскаянья, осознания, пожертвований. Это очень хорошо отражено в архитектуре внутреннего пространства храмов: главный купол, дающий защиту и волшебство, и длинный путь в темноте – протяжённый неф с алтарным светом в конце.
Существует огромная область реконструкции старой архитектуры, разработки приспособления старых домов под новые функции. Иногда они становятся музеями, но увы, из всех старых зданий музеи не сделать, нужно искать для них новую функцию. Так мы видим превращение старых промышленных зон в многофункциональные лофтовые пространства. Внешний вид меняется не сильно, но появляются новые окна, новые детали, современные пристройки. Глухие ворота проходной сменяются чем-то гораздо более дружелюбным и заманивающим. Изменённая функция начинает влиять на внешний вид.
О св. Софии Константинопольской
Фрагмент стены храма Николы Мученика в селе Поречье-Рыбное.
Ростовская область
В кладке более поздней стены проявляется старая колонна. Стена хранит информацию и о перестройках храма, и о том, как выглядело прежнее крыльцо. Информация, которую рассказывает архитектура, самая правдивая. Можно подделать книги и летописи, можно изобразить нечто совершенно фантастическое в керамике, исходя из чего историки следующих поколений могут сделать неправильные выводы о вашем быте. Но архитектура, в силу своей сложности и дороговизны, не умеет врать. Если использованы какие-то технологии в архитектуре – значит, они освоены. Если люди зачем-то двигают огромные камни – значит, задача или передаваемая информация имеют соразмерную ценность. В каком-то смысле архитекторы всегда работают на вечность, любая архитектура имеет шанс сохраниться и стать самым правдивым свидетельством о своём времени.
Вилла Ротонда. Италия.
Архитектор Андреа Палладио. Виченца XVI век
Вилла Тугендат, Брно, Чехия.
Архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ 1928–1930 гг.
Одна и та же функция: вилла – богатый загородный дом. Почему же они выглядят такими разными? Эти элементы находятся в балансе: при изменении одного параметра начинают меняться другие, пока не найдут новый баланс. Беря другие материалы, изменяя параметр «прочности» при неизменной «пользе», мы получим другую «красоту».
В зависимости от функции здания выбираются определённые параметры прочности. Временный павильон будет построен из ткани и фанеры, здание, которое должно простоять долго и (или) эксплуатироваться в сложных условиях, должно быть построено из более крепких материалов – железобетона, камня, цельного дерева.
Про Виллу Ротонду
Газометр В. Австрия. Реконструкция Coop Himmelb(l)au 1999–2001 гг.
Четыре огромных Газометра были построены в 1896–1899 гг. для хранения газа, использующегося для освещения городских улиц. Технология менялась, появилось электричество и природный газ, эти газометры стали не нужны. При реконструкции они поменяли устаревшую промышленную функцию на общественно-жилую и превратились в жилые комплексы с магазинами, спортзалами, концертным залом. Проект реконструкции каждого из четырёх газометров выполняли разные архитекторы или архитектурные бюро. На фото газометр, который не просто был реконструирован, у него ещё появилась дополнительная пристройка в стиле «деконструктивизм». Теперь это и модное место, и туристический объект, и просто удобный жилой комплекс.
Здания с разной функцией будут иметь совершенно разный вид. Одна красота у магазина, который должен привлечь покупателей, другая – у дома, который расскажет о своём владельце. Третья – у завода, в котором всё будет больше подчинено задачам производства и создаст свою особую красоту промышленной архитектуры.
Цементный завод в Рамле. Израиль
Два завода – один с линейным конвейерным производством, другой с большим количеством параллельных процессов, в которых идёт смешивание и перемешивание. Не перепутаете?
Про Венские Газометры
Завод электротехнического концерна AEG. Берлин. Германия Архитектор Петер Беренс 1909 г.
Мусоросжигательный завод в Шпитлау, Вена.
Архитектор Хундертвассер 1987–1989 гг.
Красота сама становится пользой. И даже превращается в функцию. В данном случае, красота служит ширмой, за которой прячется функция. И, хотя кажется, что это противоречит Триаде Витрувия, на самом деле и тут польза и красота неразрывно связаны. Просто они немного другие – функция нуждается не в подчёркивании, а в некотором прикрытии, которую обеспечивает красота.
В архитектуре считается хорошим тоном делать так, чтобы функция здания считывалась на его фасадах. Разные эпохи решали эту задачу по-разному. Иногда это простая задача, например, храмовую архитектуру сложно перепутать с чем-либо ещё, если она специально не прячется. Иногда в тех эпохах и местах, где здания строятся по примерно одним технологиям, в едином стиле, это совсем простые маркеры функции: вывески, аллегорические фигуры, прямые цитаты. Иногда показ функции становится основным принципом, как в стилях конструктивизм и модернизм, где важно, чтобы функция становилась огромной частью эстетики здания. Для большинства зданий показ функции – это вопрос успешного маркетинга: как можно больше людей должно видеть, что это театр, магазин или интересный музей.
Прочность
Основное, что входит в понятие «прочность», – материалы, из которых построены здания и сооружения; конструкции, то есть системы, которые собираются из этих материалов; и технологии: как именно мы эти материалы собираем в конструкции и что из этого получается.
Материалы – конструкции – технологии – полноценные участники триады Витрувия, а значит, они непосредственно связаны с пользой и красотой архитектуры. Невозможно сделать проект, не думая, из какого материала будут строить это сооружение и какие у этого материала конструктивные и эстетические характеристики.
Традиционные материалы – это в основном дерево и камень. Человечество несколько тысяч лет разрабатывало различные деревянные и каменные конструкции. В них эстетические качества уже сформировались, изучены, понятны. Тем не менее деревянные и каменные конструкции продолжают развиваться. Из традиционных материалов ещё можно создать множество красивых зданий, придумать новые конструкции. А если добавить современные технологии, то вариантов новых материалов и новых конструкций из дерева, камня, растений, глины бесконечное множество. Можно вспомнить появившийся в начале XX века камышит – лёгкий теплоизоляционный материал из бетона и растений, с небольшой себестоимостью, который в сочетании с каркасной основой превращался в недорогое и качественное жильё. И только технологии возведения не позволили домам из камышита служить долго и эффективно: гидроизоляция была, как правило, сделана плохо, металлический каркас ржавеет, а утеплитель подгнивает. А если к этим материалам и конструкциям добавить современные технологии, мы бы получили долговечные, недорогие, экологичные здания.
