В работу с головой. Паттерны успеха от IT-специалиста бесплатное чтение
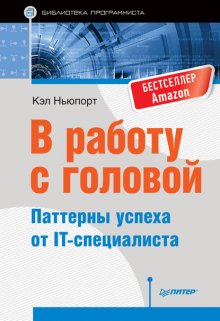
Кэл Ньюпорт
В работу с головой
Паттерны успеха от IТ-специалиста
Серия «Библиотека программиста»
Права на издание получены по соглашению с Grand Central Publishing
© 2016 by Cal Newport
© Перевод на русский язык ООО Издательство «Питер», 2017
© Издание на русском языке, оформление ООО Издательство «Питер», 2017
© Серия «Библиотека программиста», 2017
* * *
Вступление
В швейцарском кантоне Санкт-Галлен, близ северного берега Цюрихского озера, есть деревушка под названием Боллинген. В 1922 году ученый-психиатр Карл Юнг избрал это место для строительства своего убежища. Вначале это было двухэтажное каменное здание, получившее название Башня. Затем, вернувшись из поездки по Индии, где принято иметь при жилище специальное помещение для медитации, Юнг расширил постройку, добавив к ней личный кабинет. «В моей комнате для уединения я полностью принадлежу себе, – говорил Юнг. – Ключ всегда при мне, в кабинет никому не дозволяется входить без моего разрешения».
В своей книге «Ежедневные ритуалы» журналист Мейсон Карри, исследуя различные источники, воссоздает рабочий график знаменитого психиатра в его Башне. Юнг, пишет Карри, вставал в семь часов утра и после сытного завтрака проводил два часа в личном кабинете, где писал, ни на что не отвлекаясь. Его вечерние часы часто занимала медитация или долгие прогулки по окрестностям. В Башне не было электричества, так что, когда солнце садилось, дом освещали лишь масляные лампы и огонь в камине. В десять часов вечера Юнг отходил ко сну. «С самого начала в этой башне меня не покидало сильнейшее чувство покоя и отдохновения», – говорил он.
Однако не стоит думать, что Башня в Боллингене была местом отдыха. Если мы примем во внимание деятельность Юнга на тот момент, то ясно поймем, что пристанище на берегу озера строилось не для того, чтобы отлынивать от работы. В 1922 году, когда Юнг приобрел этот участок земли, он не мог себе позволить удалиться на покой. Всего лишь годом раньше, в 1921-м, он опубликовал свои «Психологические типы» – основополагающий труд, где были собраны и сформированы все различия во взглядах Юнга и его прежнего друга и учителя Зигмунда Фрейда. Для того чтобы в 1920-х годах не соглашаться с Фрейдом, требовалась немалая смелость. Юнгу было необходимо не терять хватку и подкреплять свою книгу оригинальными статьями и публикациями, где он формулировал и разъяснял основные положения аналитической психологии — такое название получило в конечном счете созданное им новое направление мысли.
Лекции и консультационная практика предоставляли Юнгу обширное поле деятельности в Цюрихе, это несомненно. Но одной работы было для него недостаточно. Он стремился изменить само наше понимание бессознательного, а эта цель требовала от него более глубокого, более тщательного изучения предмета, чего он не мог добиться в сутолоке городской жизни. Поэтому Юнг удалился в Боллинген – не для того, чтобы убежать от своей профессиональной деятельности, но для того, чтобы еще больше погрузиться в нее.
* * *
Впоследствии Карл Юнг стал одним из наиболее влиятельных мыслителей двадцатого столетия. Достигнутый им успех, безусловно, имеет не одну причину. В этой книге, однако, меня интересует лишь его преданность принципу, несомненно сыгравшему ключевую роль в его дальнейших достижениях, а именно:
Углубленная работа – профессиональная деятельность, выполняемая в состоянии безраздельной концентрации, для чего требуется предельное напряжение мыслительных способностей. Такое усилие приводит к созданию новых ценностей и увеличивает мастерство исполнителя, его результаты трудно воспроизводимы.
Погружение в работу абсолютно необходимо, если мы хотим извлечь из интеллектуальных способностей, которыми на данный момент обладаем, все до последней капли. Сейчас, после многолетних исследований в области психологии и нейробиологии, нам известно, что состояние умственного напряжения, сопровождающее углубленную работу, необходимо также для расширения наших возможностей. Другими словами, погружение в работу – как раз такой тип усилия, который был нужен, чтобы выделиться в области, требующей интеллектуальных способностей, каковой являлась академическая психиатрия в начале двадцатого столетия.
Употребленный мной термин «углубленная работа» не принадлежит Карлу Юнгу – сам ученый никогда им не пользовался; однако его деятельность, относящаяся к тому периоду, показывает, что он прекрасно понимал стоящий за этими словами смысл. Юнг выстроил в лесу каменную башню, чтобы с головой погрузиться в работу, – задача, требовавшая времени, усилий и денег. Помимо прочего, пребывание в Башне помогало ему отвлечься от более повседневных занятий. Мейсон Карри пишет, что регулярные отлучки Юнга в Боллинген происходили в ущерб его работе с пациентами, и добавляет: «Несмотря на множество пациентов, полагавшихся на его искусство, Юнг не стеснялся брать лишний выходной». Предпочесть погружение в работу всему остальному – непростое решение, но оно было необходимо, чтобы достичь целей по преобразованию мира, которые поставил перед собой ученый.
В самом деле, если посмотреть на жизнь других известных людей, сыгравших роль как в древней, так и в новейшей истории, можно обнаружить, что погружение в работу было для всех них общей чертой. Писателя XVI века Мишеля де Монтеня, к примеру, в этом смысле можно назвать предтечей Юнга – он также работал в своей личной библиотеке, которую устроил в южной башне, возвышавшейся над каменными стенами его французского шато; а Марк Твен написал большую часть «Приключений Тома Сойера» в хижине на территории фермы Куорри в штате Нью-Йорк, где проводил лето. Рабочий кабинет Твена был настолько изолирован от основного здания, что его домашним приходилось трубить в рожок, чтобы позвать писателя к обеденному столу.
Возвращаясь к нашему времени, можно рассмотреть пример кинорежиссера и сценариста Вуди Аллена. За сорокачетырехлетний период, с 1969 по 2013 год, он выступил сценаристом и режиссером сорока четырех фильмов, двадцать три из которых удостоились премии «Оскар», – невероятная производительность. За все это время Аллен ни разу не воспользовался компьютером; все свои работы он отпечатал вручную, на немецкой машинке Olympia SM3, не отвлекаясь на электронные устройства. В неприятии компьютеров Аллена поддерживает и Питер Хиггс, физик-теоретик, который занимается своей работой в таком уединении, что журналисты даже не смогли его отыскать, когда он был объявлен лауреатом Нобелевской премии. Джоанна К. Роулинг, с другой стороны, хотя и пользуется компьютером, но известна тем, что во время работы над всеми книгами о Гарри Поттере воздерживалась от социальных сетей и интернет-общения, хотя в то время интернет-технологии стремительно развивались и становились все популярнее среди деятелей медиа. В конце концов сотрудники Роулинг завели от ее имени аккаунт в Twitter — это произошло осенью 2009 года, когда она работала над «Случайной вакансией», – и за первые полтора года там появилась единственная запись: «Это действительно я, но боюсь, вы вряд ли будете часто меня видеть, поскольку в настоящий момент моими приоритетами являются ручка и бумага».
Разумеется, говоря о погружении в работу, нельзя ограничиваться только историческими примерами или случаями технофобии. Глава компании Microsoft Билл Гейтс, как известно, дважды в год устраивал себе «неделю размышлений» (Think Week), на протяжении которой не делал ничего, только читал и обдумывал глобальные проблемы. Именно во время такой «недели размышлений» в 1995 году Гейтс написал свой знаменитый меморандум «Приливная волна Интернета» (Internet Tidal Wave), обративший внимание сотрудников на недавно созданную компанию под названием Netscape Communications. И как это ни парадоксально, прославленный писатель в жанре киберпанк Нил Стивенсон, благодаря которому, в частности, сформировалось распространенное сейчас представление об эре Интернета, почти недостижим средствами электронной связи – на его веб-сайте не указано никаких адресов электронной почты, зато есть заметка, объясняющая, почему писатель целенаправленно избегает пользоваться социальными медиа. Вот как он сам это объясняет: «Если я смогу организовать свою жизнь таким образом, чтобы она состояла из долгих, последовательных, ничем не нарушаемых периодов времени, то смогу писать романы. [Если же меня все время будут прерывать], что из этого получится? Вместо романа, который проживет долго… останется лишь кучка электронных сообщений, отосланных мной нескольким отдельным людям».
* * *
Подчеркнуть, насколько распространен такой подход к работе среди людей, значимых для общества, представляется особенно важным, поскольку это резко контрастирует с образом жизни большинства современных интеллектуальных работников – группы, стремительно забывающей о том, насколько важно сосредоточение.
Причина, по которой люди, занятые интеллектуальным трудом, разучились погружаться в работу, хорошо известна: это сетевые технологии. В эту широкую категорию входят и средства связи, такие как электронная почта и SMS-сообщения, и социальные сети наподобие Twitter и Facebook, и сверкающий клубок информационно-развлекательных сайтов, таких как BuzzFeed или Reddit. Развитие этих технологий, в совокупности с повсеместным доступом к ним посредством смартфонов и подключенных к сети персональных компьютеров, раздирает внимание в клочья. Исследование, проведенное Маккинси в 2012 году, показало, что современный работник интеллектуального труда в среднем проводит более 60 % рабочего времени за сетевым общением и интернет-поиском, причем почти 30 % рабочих часов приходится только на чтение электронной почты и написание ответов.
Такое состояние фрагментированного внимания не может сочетаться с углубленной работой, требующей долгих периодов ничем не прерываемого обдумывания. Однако в то же время нельзя сказать, что современные интеллектуальные работники бездельничают. Фактически, согласно отчетам, они заняты не меньше, чем прежде. В чем же состоит различие? Многое прояснится, если ввести понятие, противопоставленное идее погружения в работу:
Поверхностная работа – не требующие интеллектуального напряжения задачи вычислительного типа, часто выполняемые в состоянии рассеянного внимания. Как правило, такие усилия не приводят к созданию в мире новых ценностей и легко воспроизводимы.
Другими словами, в эпоху сетевых технологий работники интеллектуального труда все чаще заменяют углубленную работу ее поверхностным вариантом, без конца обмениваясь электронными посланиями, словно очеловеченные маршрутизаторы, с частыми перерывами на быстрые дозы развлечений. Более масштабные проекты, которые требуют серьезных размышлений, такие как формирование новой деловой политики или написание заявки на важный грант, раздергиваются на разрозненные куски, в результате чего страдает их качество. Есть еще одна плохая новость: поступает все больше доказательств того, что сдвиг в сторону поверхностности – не тот выбор, от которого можно в любой момент отказаться. После того как достаточное количество времени проведено в маниакально-поверхностном состоянии, способность глубоко погружаться в работу теряется навсегда. «Похоже на то, что Интернет лишает меня способности к концентрации и глубокому размышлению, – признается журналист Николас Карр в своей широко цитируемой статье 2008 года в журнале Atlantic. – И я такой не один». Впоследствии Карр развил это положение в своей книге «Пустышка» (The Shallows), номинировавшейся на Пулитцеровскую премию. Вполне объяснимо, что для написания «Пустышки» Карр был вынужден переселиться в отдельную хижину и не выходить в Сеть.
Мысль о том, что сетевые технологии выталкивают качество работы с глубины на поверхность, далеко не нова. «Пустышка» была лишь первой из целого ряда современных книг, исследующих воздействие Интернета на наш мозг и трудовые навыки. В этой связи можно упомянуть такие названия, как «Blackberry для Гамлета» (Hamlet's BlackBerry) Уильяма Пауэрса, «Тирания электронной почты» (The Tyranny of E-mail) Джона Фримена и «Приверженность к отвлечениям» (The Distraction Addiction) Алекса Суджан-Ким Пэнга, – все упомянутые авторы в большей или меньшей степени согласны в том, что сетевые технологии отвлекают нас от задач, требующих безраздельной концентрации, одновременно подрывая нашу способность к сосредоточению внимания.
Учитывая уже существующий массив данных, я не буду тратить время на дальнейшие попытки акцентировать этот момент в своей книге. Полагаю, мы можем с полным правом принять за данность, что сетевые технологии оказывают отрицательное влияние на углубленную работу. Также я уклонюсь от обсуждения различных веских доводов относительно социальных последствий такого сдвига в долгосрочном прогнозе, поскольку в подобных дискуссиях, как правило, зияют огромные дыры. На одной стороне находятся техноскептики вроде Джарона Ланье и Джона Фримена, подозревающие, что пресловутые технологии, по крайней мере в их нынешнем виде, разрушают общество; на другой стороне – технооптимисты вроде Клайва Томпсона, которые доказывают, что новшества действительно изменяют общество, но в чем-то нам от этого станет только лучше. Так, например, не исключено, что наша память слабеет из-за пользования Google, но хорошая память нам больше и не нужна, поскольку теперь мы можем в несколько мгновений найти в Сети все необходимое.
У меня нет своей позиции в этом философском диспуте. Мой интерес в данном вопросе может быть более или менее выражен тезисом гораздо более прагматического и индивидуального характера, а именно: происшедший в нашей культуре труда сдвиг в сторону поверхностного, независимо от того, считаете вы его злом или благом, открывает огромные экономические и персональные возможности для тех немногих, кто осознает потенциал сопротивления этому тренду и выберет глубину. Именно этой возможностью не так давно воспользовался заскучавший молодой консультант из Вирджинии по имени Джейсон Бенн.
Существует множество способов обнаружить, что вы не имеете большой ценности для экономики страны. Джейсон Бенн усвоил этот урок, когда, вскоре после вступления в должность финансового консультанта, осознал, что подавляющее большинство его рабочих обязанностей может быть автоматизировано при помощи состряпанного «на коленке» скрипта для Excel.
Фирма, в которую устроился Бенн, занималась подготовкой отчетов для банков, специализирующихся на сложных сделках. («Насколько интересным было это занятие, можно понять уже по тому, как оно звучит», – пошутил Бенн в одном из наших интервью.) Процесс подготовки отчета включал в себя многочасовые манипуляции вручную с данными, представленными в виде таблиц Excel. Поначалу у Бенна уходило до шести часов на каждый отчет (наиболее продвинутые и закаленные сотрудники выполняли эту же задачу приблизительно вдвое быстрее). Легко понять, что Бенну это было совсем не по душе.
«В том виде, в каком мне его показали, этот процесс выглядел громоздким и требующим больших усилий», – вспоминает Бенн. Ему было известно, что программа Excel включает в себя функцию под названием «макрос», позволяющую пользователям автоматизировать однообразные задачи. Почитав статьи по теме, Бенн в скором времени смог подготовить новую электронную таблицу, напичканную макросами, благодаря которым шестичасовой процесс ручной обработки данных сводился к нескольким щелчкам мыши. Написание отчета, на которое прежде уходил полный рабочий день, теперь занимало у Бенна меньше получаса.
Бенн был сообразительный парень. Он закончил элитный Университет Вирджинии с дипломом экономиста и, подобно многим своим однокурсникам, имел далеко идущие профессиональные планы. Однако он быстро сообразил, что у этих планов нет никаких шансов на осуществление, пока его рабочие обязанности могут быть выполнены макросом для Excel. Бенн понял, что ему необходимо повысить свою значимость для окружающего мира. Потратив некоторое время на исследования, Бенн пришел к решению: он объявил своей семье, что больше не хочет работать электронной таблицей и собирается уйти с работы, чтобы стать программистом. Однако, как часто бывает с подобными грандиозными планами, здесь имелась одна неувязка: Джейсон Бенн понятия не имел, как пишутся программы.
Будучи ученым-специалистом в области вычислительной техники, я могу подтвердить то, что и так очевидно: написание компьютерных программ – задача не из легких. Большинство начинающих разработчиков тратят по четыре года на обучение в университете, чтобы разобраться что к чему, прежде чем получат первую работу – и даже после этого их ждет жесткое соревнование за лучшие места. У Джейсона Бенна не было на это времени. После прорыва с Excel он ушел со своей работы в финансовой конторе и окопался дома, чтобы подготовиться к следующему шагу. Его родители радовались, что у него есть план, но им не нравилась перспектива того, что его пребывание дома может оказаться долговременным. Бенну предстояло обучиться сложному мастерству – и сделать это быстро.
Тут-то Бенн и столкнулся с той же проблемой, которая мешает многим интеллектуальным работникам выйти на тропу стремительного карьерного роста. А именно: для обучения такому непростому искусству как программирование, необходимо пристальное, безраздельное сосредоточение на концепциях, требующих интеллектуального напряжения – сосредоточенность такого типа, какой привел Карла Юнга на берег Цюрихского озера. Говоря другими словами, эта задача требовала погружения в работу с головой. Однако большинство интеллектуальных работников, как я уже говорил выше, потеряли способность к такому погружению, и Бенн не был исключением из этого правила.
«Я постоянно вылезал в Интернет проверить электронную почту; я не мог удержаться. Это не зависело от моей воли», – так описывал Бенн свое состояние в период, предшествовавший его уходу из финансовой конторы. Чтобы подчеркнуть, с какими трудностями он сталкивался при попытке сосредоточиться, Бенн рассказал мне об одном проекте, который ему как-то поручил его непосредственный начальник. «От меня требовалось составить бизнес-план», – пояснил он. Бенн понятия не имел, как составляются такие документы, поэтому он решил предварительно ознакомиться с пятью существующими бизнес-планами, сравнивая и сопоставляя их друг с другом, чтобы понять, в чем заключается его задача.
Идея была правильная, но имелась одна проблема. «Я все время терял нить», – признавался Бенн впоследствии. На протяжении этого периода случались целые дни, когда он едва ли не все свое время («девяносто восемь процентов моего рабочего дня») тратил на сидение в Интернете. Порученный Бенну проект – возможность отличиться в самом начале его карьеры – так и не был доведен до завершения.
Ко времени своего ухода из фирмы Бенн уже прекрасно осознавал свои трудности с погружением в работу поэтому когда он решил посвятить себя программированию, он знал, что одновременно ему придется обучить свой ум глубоко сосредоточиваться на предмете. Методику он избрал суровую, но эффективную. «Я заперся на замок в комнате, в которой не было компьютера – только учебники, карточки для заметок и маркер». Он подчеркивал важные места в книгах по программированию, переносил идеи на карточки, а затем вслух зачитывал получившееся. Вначале такие периоды свободы от электронных отвлечений давались нелегко, но Бенн не оставил себе иного выбора: усвоить материал было абсолютно необходимо, и он позаботился о том, чтобы в комнате ничто не могло сбить его с мысли. Однако со временем концентрация стала даваться ему лучше, и в конце концов он дошел до того, что регулярно проводил по пять или более часов в день в своем кабинете, безраздельно сосредоточившись на обучении новому трудному предмету. «К тому моменту, как я закончил, я прочел, наверное, около восемнадцати книг по теме», – вспоминает Бенн.
После двух месяцев, проведенных взаперти и посвященных занятиям, Бенн принял участие в известном своей сложностью учебном курсе Dev Bootcamp, представляющем собой обучающую программу по вебпрограммированию, рассчитанную на работу по сто часов в неделю. (Во время изучения программы Бенн познакомился с принстонским выпускником со степенью PhD, который признавался, что Dev — самое трудное, что ему доводилось преодолеть в своей жизни.) Благодаря своей подготовке, а также новоприобретенной способности погружаться в работу Бенн одолел курс. «Иногда люди приходят неподготовленными, – рассказывал он. – Они не могут сосредоточиться. Не могут быстро обучаться». Лишь половина тех, кто взялся за курс, сумели пройти его в установленный срок. Бенн был в их числе. Он не только прошел курс – он оказался лучшим в своем потоке.
Умение погружаться в работу оправдало себя. Прошло немного времени, и Бенн нашел себе место разработчика программного обеспечения в сан-францисском технологическом стартапе с венчурным капиталом в 25 миллионов долларов и собственным штатом сотрудников. Когда всего лишь полугодом раньше Бенн покидал свою должность финансового консультанта, он зарабатывал 40 тысяч долларов в год. Новая работа принесла ему 100 тысяч долларов – и эта сумма продолжала расти вместе с уровнем его мастерства; по сути, на рынке Кремниевой долины заработок хорошего программиста не ограничен ничем.
Когда я в последний раз беседовал с Бенном, он процветал на новом месте. Будучи новоявленным адептом углубленной работы, он снял себе квартиру напротив офиса, что позволяло ему появляться на месте пораньше, пока никто еще не пришел, и поработать не отвлекаясь. «Бывали дни, когда мне удавалось урвать четыре часа концентрации до первой деловой встречи, – рассказывал он мне. – И потом еще, может быть, три-четыре часа вечером. Причем я имею в виду настоящую концентрацию: никакой электронной почты, никаких „Hacker News“ [название популярного среди компьютерщиков веб-сайта], только программирование». Если вспомнить, что речь идет о человеке, который, по его собственному признанию, на старой работе порой до 98 % рабочего времени проводил в Интернете, трансформация Джейсона Бенна не может не показаться поразительной.
* * *
История Джейсона Бенна иллюстрирует важнейший урок: углубленная работа – это не какая-то надуманная ностальгическая концепция, изобретенная писателями и философами начала XX века, наоборот, это умение, имеющее величайшую ценность прямо сейчас.
Тому есть две причины. Первая из них относится к процессу обучения. Наша информационная экономика зависит от комплексных систем, которые быстро изменяются. Так, например, некоторые из компьютерных языков, выученных Бенном, не существовали десять лет назад и, скорее всего, через десять лет устареют. Точно так же те, кто пришел в сферу маркетинга в 1990-е годы, скорее всего, не имели представления о том, что сегодня им придется овладевать цифровой аналитикой. Таким образом, для того чтобы сохранить свою ценность в нынешней экономике, необходимо овладеть искусством быстро обучаться сложным вещам. Такая задача требует погружения в работу. Если вам не удастся выработать у себя эту способность, скорее всего, вы не будете поспевать за развитием технологий.
Вторая причина заключается в неоднозначных последствиях революции цифровых сетей. С одной стороны, если вы сможете создать что-либо нужное людям, доступная вам аудитория (будь то работодатели или покупатели) окажется практически бесконечной, что в значительной мере увеличит ваше вознаграждение. С другой стороны, если ваш продукт будет среднего качества, то вы выходите из игры, поскольку для аудитории не составит никакого труда найти в сети лучшую альтернативу. Будь вы программистом, писателем, маркетологом, консультантом или предпринимателем, вы сейчас находитесь в той же ситуации, что и Юнг, когда он пытался помериться силами с Фрейдом, или Джейсон Бенн, завоевывавший место в престижном стартапе: чтобы достичь успеха, вам необходимо выдать самый лучший результат, на какой вы только способны. А такая задача требует углубленной работы.
Потребность в углубленной работе стала расти лишь недавно. В промышленной экономике существовал низкоквалифицированный труд и класс профессионалов, для которых концентрация на своем деле была жизненно необходима; однако большинство работников могли прекрасно существовать и без способности концентрироваться. Им платили за то, чтобы они двигали рычаги, – и год от года содержание их работы не особенно менялось. Однако по мере нашего перехода к информационной экономике все большая часть населения начинает заниматься интеллектуальным трудом, и углубленная работа становится основной валютой, даже если многие до сих пор и не осознали этого факта.
Другими словами, углубленная работа не есть некое старомодное искусство, давно потерявшее свое значение, – это ключевое умение для любого, кто надеется продвигаться вперед в условиях общемировой соревновательной информационной экономики, готовой разжевать и выплюнуть любого, кто не оправдывает свою зарплату. Настоящая награда ожидает не тех, кто способен пользоваться Facebook (легковыполнимая и воспроизводимая задача), но тех, кто способен разрабатывать инновационные распределенные системы, управляющие этим сервисом (несомненно сложная и трудновоспроизводимая задача). Углубленная работа настолько важна, что мы вполне можем, вслед за бизнес-писателем Эриком Баркером, назвать ее «суперспособностью XXI века».
* * *
Итак, мы рассмотрели две концепции: одна отмечала растущую нехватку в углубленной работе, а другая ее растущую ценность, – которые теперь можем объединить в одну идею, являющуюся основой для всего, что будет сказано в этой книге, а именно:
Теорема углубленной работы: способность погружаться в работу становится все более редкой как раз в то время, когда она приобретает все большую ценность для экономики. Следовательно, те немногие, кто сможет выработать в себе это умение и затем сделать его основой своей трудовой жизни, добьются успеха на своем поприще.
Эта книга имеет две цели, которые рассматриваются каждая в своем разделе. Первая, излагаемая в первой части: убедить вас в том, что теорема углубленной работы действительно верна. Вторая, которой посвящена вторая часть, должна научить вас, как воспользоваться существующим положением вещей, тренируя свой мозг и трансформируя свои рабочие навыки так, чтобы сделать углубленную работу основой вашей профессиональной деятельности. Однако прежде, чем переходить к конкретным деталям, я хотел бы потратить несколько минут на объяснение того, как я стал таким ярым приверженцем концентрации.
* * *
На протяжении последних десяти лет я развивал свою способность концентрироваться на сложных предметах. Для того чтобы понять, откуда взялся этот интерес, следует знать, что моя область знаний – теоретические основы вычислительной техники, и я готовился к написанию своей докторской диссертации в составе знаменитой группы теории вычислений при Массачусетском технологическом институте (MIT). В таком профессиональном окружении способность фокусироваться на проблеме считалась необходимым навыком.
На протяжении этих лет я работал в кабинете, отведенном для аспирантов, а дальше по коридору размещался человек, выигравший макартуровский «грант для гениев» – профессор, которого пригласили читать лекции в MIT еще до того, как ему было официально разрешено употреблять спиртные напитки. Этого ученого нередко можно было застать в общем кабинете – он сидел, уставившись на исписанную доску, в окружении группы студентов, которые так же безмолвно сидели вокруг и смотрели туда же. Такое могло продолжаться часами. Я уходил на обеденный перерыв, возвращался – они все сидели. Связаться с этим профессором неимоверно трудно. Его нет в Twitter, и если вы с ним не знакомы, то он вряд ли ответит на ваше электронное письмо. За прошлый год он опубликовал шестнадцать статей.
Такого рода яростной концентрацией была пропитана атмосфера моих студенческих лет. Неудивительно, что вскоре и у меня возникла не меньшая приверженность к сосредоточению. К досаде как моих друзей, так и многочисленных издателей, с которыми мне довелось иметь дело во время работы над моими книгами, у меня никогда не было аккаунта на Facebook, в Twitter или в других социальных сетях, за исключением собственного блога. Я не имею привычки лазить по Интернету и узнаю новости в основном по Национальному общественному радио и из Washington Post, которую мне приносят на дом. Как правило, до меня трудно достучаться: на моем личном сайте не указан адрес электронной почты, а первый смартфон появился у меня лишь в 2012 году (тогда моя беременная жена поставила мне ультиматум: «Ты должен обзавестись телефоном, по которому можно дозвониться, прежде чем у нас родится сын!»).
С другой стороны, моя преданность сосредоточенной работе принесла свои плоды. За десятилетний период после окончания университета я выпустил четыре книги, защитил докторскую диссертацию, написал некоторое количество научных работ, высоко оцененных специалистами, и получил должность преподавателя в Джорджтаунском университете с перспективой бессрочного продолжения контракта. Причем этих весомых результатов я достиг, лишь изредка засиживаясь за работой позднее пяти-шести часов вечера на протяжении рабочей недели.
Такое сжатое расписание оказалось возможным благодаря тому, что я приложил значительные усилия, чтобы исключить из своей жизни все мелочное, одновременно стараясь выжать из освободившегося времени как можно больше. Я всегда тщательно обдумываю, чем должен заняться, и строю свой рабочий день на основе сосредоточенной работы, а ту поверхностную деятельность, которой никак не избежать, я распихиваю небольшими порциями по краям своего графика. Как выяснилось, трех-четырех часов в день (при пятидневной рабочей неделе) ничем не прерываемой и тщательно направляемой концентрации вполне достаточно, чтобы получить значительные и ценные результаты.
Моя ориентация на глубину принесла свои плоды и вне профессионального поля. Я чаще всего не притрагиваюсь к компьютеру с того момента, как прихожу домой с работы, до следующего утра, когда начинается новый рабочий день (главным исключением являются посты в моем блоге, которые я люблю писать после того, как мои дети отправляются спать). Такая способность полностью отключаться – в противовес более общепринятой практике постоянно заглядывать в Интернет, чтобы проверить почту или просмотреть обновления в социальных сетях, – дает мне возможность проводить вечера с семьей, а также прочитывать поразительное количество книг, учитывая мою занятость и наличие двоих сыновей. Если говорить в более общем ключе, отсутствие отвлекающих факторов в моей жизни снижает тот шумовой фон, который, по всей видимости, все больше наполняет повседневную жизнь большинства людей. Я ничего не имею против того, чтобы поскучать, – и это умение может приносить немалое удовольствие, особенно в сонный летний вашингтонский вечер, когда по радио неспешно разворачивается очередная игра «Нэшнлс».
* * *
Эту книгу будет правильнее всего определить как попытку формализовать и объяснить, чем так привлекательно для меня погружение на глубину в противоположность поверхностному подходу, а также описать конкретные техники, помогавшие мне действовать в соответствии с этой моей приверженностью. Я изложил свои соображения в словах частично для того, чтобы помочь вам перестроить вслед за мной свою жизнь, взяв за основу углубленную работу, – но это еще не все. Мне хотелось вычленить и прояснить эти идеи для самого себя, чтобы усовершенствовать собственную практику. Открытие «теоремы углубленной работы» помогло мне добиться жизненного успеха, но я убежден в том, что еще не исчерпал свой потенциал. Сражаясь и в конечном счете торжествуя благодаря изложенным в дальнейших главах идеям и правилам, вы можете быть уверены, что я занимаюсь тем же самым – беспощадно отсеиваю все поверхностное и усердно культивирую способность к интенсивному погружению. (Насколько мне это удалось, вы сможете узнать из заключительной главы этой книги.)
Когда Карл Юнг захотел устроить революцию в области психиатрии, он построил себе убежище в лесу. Башня Юнга в Боллингене оказалась местом, где он мог сохранять свою способность к сосредоточенному мышлению, и именно благодаря этому умению он затем сумел выдать работу настолько изумительную по своей оригинальности, что она изменила весь мир. В последующих главах я постараюсь убедить вас присоединиться ко мне в попытке построить свою собственную боллингенскую башню – выработать в себе способность производить настоящие ценности в мире, все больше подверженном отвлечениям, и признать истину, которую разделяли самые творчески плодовитые и известные личности прошлых поколений: «Сосредоточенная жизнь – хорошая жизнь».
Часть I
Идея
Глава 1
Углубленная работа имеет ценность
По мере приближения дня выборов 2012 года количество посещений веб-сайта New York Times быстро росло, как это обычно бывает, когда в стране происходит что-то важное. Однако этот случай оказался особенным. Непропорционально большая доля трафика – по некоторым данным, более 70 % – приходилась на посещения одной-единственной страницы во всем огромном домене. И это не была заглавная страница с изложением последних новостей или комментарии одного из газетных обозревателей – лауреатов Пулитцеровской премии. Это был обычный блог, который вел некий компьютерщик по имени Нейт Силвер, раньше занимавшийся бейсбольной статистикой, а затем переключившийся на предсказания результатов выборов. Прошло меньше года, и агентства ESPN я ABC News переманили Силвера из Times (газета пыталась его удержать, обещая штат более чем в дюжину авторов); согласно заключенному соглашению, Силвер мог участвовать во всех новостных разделах – от спорта до погоды, от сетевых новостей до, представьте себе, трансляций присуждения премии «Оскар». И хотя методологическая точность силверовских доработанных вручную моделей порой оспаривается, лишь немногие могут отрицать, что в 2012 году этот тридцатипятилетний статистик-вундеркинд сорвал большой куш.
Другим таким победителем стал Давид Хейнемейер Ханссон, блестящий программист, создавший веб-фреймворк Ruby on Rails, на котором в настоящее время основываются многие из наиболее популярных веб-сервисов, включая Twitter и Hulu. Ханссон является партнером влиятельной компании по разработке программного обеспечения Basecamp (до 2014 года она носила название 37signals). Ханссон предпочитает не обсуждать размеры своей доли от продаж Basecamp или другие источники своего дохода, однако можно предположить, что они достаточно прибыльны, учитывая, что он делит свое время между Чикаго, Малибу и испанским городом Марбелья, где участвует в непрофессиональных автогонках.
Нашим третьим и последним примером явного победителя в национальной экономике является Джон Доэрр, главный партнер знаменитой в Кремниевой долине венчурной компании Kleiner Perkins Caufield & Byers. Доэрр помогал финансировать многие ключевые компании, возглавившие современную технологическую революцию, включая Twitter, Google, Amazon, Netscape и Sun Microsystems. Прибыль от капиталовложений была астрономической: капитал Доэрра на момент написания этой книги составлял более 3 млрд долларов.
* * *
Что же помогло Силверу, Ханссону и Доэрру добиться такого успеха? Ответы на этот вопрос можно разделить на два типа, исходя из масштаба. Первые мы назовем «микро»: в них уделяется внимание в первую очередь чертам характера наших трех героев и тактическим приемам, которые помогли им в продвижении. Второй тип – скорее «макро»; они меньше концентрируются на самих личностях и больше на характере выполняемой ими работы. Хотя для нас важны оба подхода к этому ключевому вопросу, «макро»-ответы весомее, поскольку лучше объясняют, какие именно качества позволяют добиться успеха в современных экономических условиях.
Для того чтобы исследовать эту «макро»-перспективу обратимся к паре экономистов из Массачусетского технологического института, которых зовут Эрик Бриньйолфссон и Эндрю Макафи. В своей нашумевшей книге 2011 года «Наперегонки с машиной» (Race Against the Machine) они высказывают интригующую мысль, что среди других разнообразных сил, участвующих в игре, именно развитие цифровых технологий в первую очередь способно неожиданным образом трансформировать рынок труда. «Мы находимся на ранней стадии „Великого преобразования“, – разъясняют Бриньйолфссон и Макафи в начале своей книги. – Технология стремительно развивается, но многие из наших умений и организационных навыков не поспевают за ней». Для бесчисленных работников такое отставание не сулит ничего хорошего. По мере усовершенствования умных машин сокращается расстояние между возможностями машины и человека, и работодатели все чаще предпочитают поручать задачи «новым машинам», а не «новым людям». А там, где человеческий труд незаменим, усовершенствование средств связи и технологий сотрудничества делает все более простой и удобной удаленную работу, что побуждает компании передавать ключевые позиции «звездам» со стороны, оставляя местные таланты без рабочих мест.
Описываемая авторами реальность, однако, не так уж абсолютно безжалостна. Как подчеркивают Бриньйолфссон и Макафи, грядущее «Великое преобразование» не уничтожит все рабочие места, но лишь разграничит их. Хотя многие люди пострадают от этой новой экономики, поскольку их работа достанется машинам или сторонним специалистам, найдутся и другие, которые не только выживут, но и будут процветать – их труд станет еще более востребованным (а следовательно, и более высокооплачиваемым), чем прежде. Подобную бифуркацию в экономике будущего предсказывают не только Бриньйолфссон и Макафи. Так, например, в 2013 году экономист Тайлер Коуэн из Университета Джорджа Мейсона выпустил книгу «Среднего более не дано» (Average Is Over), где развивал тот же тезис о цифровом разделении будущего. Однако анализ, предложенный Бриньйолфссоном и Макафи, особенно ценен тем, что вслед за вышеизложенным они выделяют три конкретные группы людей, которые выиграют в результате такого разделения и пожнут большую часть благ, дарованных Эрой умных машин. Стоит ли удивляться тому, что именно к этим трем группам принадлежат Силвер, Ханссон и Доэрр? Давайте же по очереди рассмотрим каждую из них, чтобы лучше понять, почему они внезапно оказались столь востребованными.
Высококвалифицированные работники
Группа, которую представляет Нейт Силвер, у Бриньйолфссона и Макафи носит название «высококвалифицированные работники». Такие достижения прогресса, как робототехника и распознавание речи, позволяют автоматизировать многие низкоквалифицированные рабочие обязанности, однако, как подчеркивают цитируемые экономисты, «другие технологии – визуализация данных, аналитика, скоростные способы связи и быстрое построение моделей – увеличили потребность в абстрактном мышлении и умении работать с данными, тем самым повысив ценность таких работ». Другими словами, те, кто умеет работать со сложными машинами и добиваться от них значительных результатов, смогут достичь успеха в новом мире. Тайлер Коуэн еще более жестко высказывается о грядущей реальности: «Ключевым вопросом станет – умеете вы эффективно работать с умными машинами или нет».
Разумеется, Нейт Силвер, при той легкости, с которой он собирает сведения в огромные базы данных, а затем выводит из них свои загадочные модели по методу Монте-Карло, являет собой идеальный образчик такого высококвалифицированного работника. Умные машины не препятствие его успеху – напротив, они его необходимое условие.
Суперзвезды
Гений-программист Давид Хейнемейер Ханссон может служить примером второй группы работников, которые, по предсказаниям Бриньйолфссона и Макафи, смогут добиться успеха в новой экономике – группы «суперзвезд». Высокоскоростные сети передачи данных и новые инструменты для совместной работы, такие как электронная почта и программы для виртуальных совещаний, уничтожили региональный подход во многих областях интеллектуального труда. Больше нет смысла, например, нанимать штатного программиста на полный рабочий день, не говоря уже об аренде офиса и выплате страховых пособий, когда есть возможность вместо этого поручить задачу одному из лучших программистов в мире – например, Ханссону – оплатив лишь то время, которое у него уйдет на завершение проекта. Такой подход позволит вам получить лучший результат за меньшие деньги, в то время как сам Ханссон сможет обслуживать в год большее количество заказчиков, а следовательно, тоже окажется в выигрыше.
Тот факт, что Ханссон будет работать удаленно, находясь в испанском городе Марбелья, в то время как ваш офис расположен в Де-Мойне, штат Айова, никак не скажется на работе вашей компании, поскольку последние достижения в области средств связи и технологий сотрудничества позволяют выполнять такие процессы практически без задержки. (Однако ощутимо скажется на жизни местных, менее искусных программистов в Де-Мойне, которые нуждаются в постоянном заработке.) Тот же самый тренд наблюдается во многих областях, где технологические достижения сделали возможной продуктивную удаленную работу – консалтинга, маркетинга, написания текстов, дизайна и так далее. Когда доступ к рынку талантов открыт из любой точки мира, те, кто находится на вершине этого рынка, процветают, в то время как остальные оказываются в убытке.
Экономист Шервин Розен в своей программной статье 1981 года исследовал математическую подоплеку подобных рынков, где победителю достается все, а остальным ничего. Одной из его ключевых идей было детальное моделирование таланта – качества, которое Розен в своих формулах обозначил переменной q как фактор, обладающий свойством «неполного замещения». Экономист объясняет это правило следующим образом: «Если вы прослушаете ряд номеров, исполняемых посредственными певцами, это никогда не станет одним выдающимся концертом». Другими словами, талант – не товар, который можно закупать оптом и комбинировать для достижения необходимого уровня, – награду получают самые лучшие. Следовательно, если потребитель имеет доступ ко всем исполнителям на рынке и их значение q не скрыто, потребитель всегда будет выбирать самых лучших. Даже если разница в величине таланта у них и у тех, кто стоит ступенью ниже, невелика, суперзвезды всегда смогут завоевать основной объем рынка.
В 1980-х годах Розен изучал этот эффект в первую очередь на таких примерах, как киноиндустрия и музыкальный бизнес, где существовали прозрачные рынки – музыкальные магазины и кинотеатры, в которых аудитория имела доступ к различным исполнителям и возможность точно оценить степень их таланта прежде, чем принять покупательское решение. Быстрое развитие средств связи и технологий сотрудничества превратило многие из прежних локальных рынков в такой же общемировой гипермаркет. Небольшая компания, ищущая программиста или консультанта по связям с общественностью, теперь имеет доступ к международному рынку талантов. Точно так же некогда появление грампластинок позволило меломанам даже в глубинке покупать альбомы лучших мировых исполнителей, в обход местных музыкантов. Иными словами, «эффект суперзвезд» распространился гораздо шире, чем мог бы предсказать Розен тридцать лет назад. В нынешней экономике исполнителям все чаще приходится соревноваться с «рок-звездами» в своих отраслях.
Владельцы
И наконец, символом последней группы людей, которых ждет процветание в новой экономической модели, может служить Джон Доэрр. Эта группа состоит из владельцев капитала, инвестируемого в новые технологии, которые и служат двигателем «Великого преобразования». Со времен Маркса мы знаем, что доступ к капиталу дает немалые преимущества. Однако не менее справедливо и то, что в некоторые периоды эти преимущества могут оказываться куда значительнее, нежели в другие. Как указывают Бриньйолфссон и Макафи, послевоенная Европа могла послужить примером времени, когда сидеть на куче денег было совершенно невыгодно, поскольку сочетание стремительной инфляции и агрессивного налогообложения уничтожало старые состояния с невероятной скоростью (то, что мы могли бы назвать «эффектом аббатства Даунтон»).
В отличие от послевоенного периода «Великое преобразование» дает отличный шанс тем, кто имеет доступ к капиталу. Чтобы понять, почему это так, прежде всего следует вспомнить один из тезисов теории переговоров, основополагающей для стандартного экономического мышления. Если прибыль поступает благодаря сочетанию инвестиций капитала и труда, вознаграждение выплачивается, грубо говоря, пропорционально вкладу каждой из сторон. Поскольку цифровые технологии снижают запрос на труд во многих отраслях, вознаграждение, возвращаемое владельцам умных машин, пропорционально возрастает. В сегодняшней экономике венчурный капиталист может финансировать такую компанию, как Instagram, которая в итоге была продана за миллиард долларов, – имея в штате всего лишь тринадцать человек. Был ли в истории хоть один момент, когда столь ничтожно малое количество работников позволило создать столь крупную стоимость? При таком небольшом трудовом вкладе пропорциональное количество дохода, получаемого владельцами машин – в данном случае венчурными инвесторами, – оказывается беспрецедентным. Стоит ли удивляться, что один из венчурных капиталистов во время интервью для моей последней книги признался мне с некоторой озабоченностью: «Каждый хочет получить мою работу».
* * *
Давайте соберем вместе те нити, которые нам удалось проследить до сих пор. Современная экономическая наука, как я уже упоминал, полагает, что беспрецедентный масштаб развития и влияния новых технологий ведет к массовой реструктуризации нашей экономики. В новом мире особым преимуществом будут пользоваться три группы людей: те, кто способны успешно и творчески сотрудничать с умными машинами, те, кто являются лучшими профессионалами в своей области, а также те, кто имеют доступ к капиталу.
Необходимо пояснить, что модель «Великого преобразования», предлагаемая такими экономистами, как Бриньйолфссон, Макафи и Коуэн, – не единственный значительный тренд в современной экономической науке, и группы людей, могущих рассчитывать на успех, не сводятся к трем упомянутым выше; однако в рамках этой книги важно понять, что эти тренды, хоть они и не единственные, тем не менее важны, и такие группы, хоть есть и другие, все же будут иметь успех. А следовательно, если вы сможете присоединиться к одной из этих трех групп – вы будете в выигрыше. Если нет – есть вероятность, что вы все равно будете в выигрыше, но ваше положение окажется менее надежным.
Вопрос, к которому мы теперь подошли, напрашивается сам собой: каким образом можно попасть в число таких победителей? Рискуя угасить ваш растущий энтузиазм, я тем не менее должен первым делом признаться, что не владею секретом того, как быстро сколотить капитал и стать следующим Джоном Доэрром. (Если бы даже я и знал такой секрет, то едва ли стал бы делиться им в книге.) Доступ в две другие группы победителей, однако, остается открытым. Оказаться в числе этих людей – вот задача, к исследованию которой мы теперь приступим.
Как стать победителем в новой экономике
Выше я определил две группы, обреченные на успех, в которые, по моему мнению, возможно попасть, – это те, кто способен творчески работать с умными машинами, и «звезды» в своей профессиональной области. Каков же секрет попадания в эти прибыльные сектора по ту сторону расширяющейся цифровой пропасти? Я утверждаю, что для этого жизненно необходимы две ключевые способности.
Две ключевые способности, необходимые для успеха в новой экономике
1. Способность быстро овладевать сложными навыками.
2. Способность выдавать продукцию высочайшего уровня, как по качеству, так и по скорости исполнения.
Начнем с первого пункта. Прежде всего необходимо вспомнить о том, что все мы испорчены интуитивно понятным и душераздирающе простым интерфейсом множества продуктов, ориентированных на потребителя, таких как Twitter или iPhone. Однако все эти технологии – товары широкого потребления, а отнюдь не профессиональные инструменты; освоить большинство умных машин, двигающих Великое преобразование, окажется значительно сложнее.
Возьмем Нейта Силвера, которого мы ранее приводили в пример как человека, добившегося успеха благодаря плодотворной работе со сложными технологиями. Если мы пристальнее вглядимся в применяемые им методы, то обнаружим, что прогнозировать результаты выборов на основе баз данных – далеко не то же самое, что впечатать в поисковое окно запрос «Кто наберет больше голосов?». Чтобы получить желаемый результат, ему пришлось собрать большую базу данных по результатам опросов избирателей (тысячи опросов более чем от 250 проводивших опросы), а затем обработать их с помощью программы Stata — популярного программного продукта для статистического анализа данных, производимого компанией StataCorp. Профессионально работать с такими инструментами не так уж просто. Для примера приведем одну из команд, без понимания которых невозможно работать с современными базами данных наподобие тех, что использует Силвер:
CREATE VIEW cities AS SELECT name, population, altitude FROM capitals UNION SELECT name, population, altitude FROM non_capitals;
Базы данных такого типа создаются на языке, называемом SQL. Чтобы получить доступ к информации, вы посылаете им команды наподобие показанной выше. Работа с базами данных требует непростых умений. Так, например, приведенная выше команда создает «представление» (view) – виртуальную БД-таблицу в которую собираются данные из множества существующих таблиц и к которой затем можно обращаться с помощью SQL-команд как к стандартной таблице. Сложность в том, чтобы определить момент, когда именно следует создавать представления и как это делать с наилучшим результатом; и это лишь один из множества трудных пунктов, в которые необходимо глубоко вникнуть, чтобы извлекать из баз реальных данных полезную информацию.
Продолжая рассматривать пример Нейта Силвера, взглянем на технологический продукт, который он использует, – программу Stata. Это мощный профессиональный инструмент, с которым едва ли можно научиться работать интуитивно, немного в нем покопавшись. Вот, например, как звучит описание новых компонентов, представленных в последней версии программы: «В Stata 13 добавлены многие новые компоненты: эффекты условий обработки данных, многоуровневая библиотека GLM, инструменты величины мощности и объема выборки, генерализованное кодирование данных SEM, прогноз, размер эффекта, „Менеджер проектов“, длинная строка, массивы данных BLOB и многое другое». Силвер использует сложные электронные инструменты – все эти генерализованные SEM'ы и BLOB'ы – для построения многоуровневых моделей со взаимопересекающимися частями, множественных регрессий, опирающихся на заданные параметры, которые затем соотносятся с заданными весовыми функциями, используемыми в вероятностных выражениях, и так далее.
Мы приводим все эти подробности, чтобы подчеркнуть, насколько сложно устроены умные машины и как трудно научиться ими управлять[1]. Для того чтобы войти в число тех, кто умеет плодотворно работать с такими машинами, вы должны отточить свою способность справляться со сложными задачами. И поскольку современные технологии постоянно меняются, этот процесс овладевания сложными инструментами не имеет конца – вы должны быть способны решать все новые и новые задачи сразу же, по мере их возникновения.
Разумеется, способность быстро обучаться сложным вещам необходима не только для того, чтобы успешно управлять умными машинами; она также играет ключевую роль в попытках стать суперзвездой практически в любой области, даже не имеющей отношения к высоким технологиям. Так, чтобы стать преподавателем йоги мирового класса, вам необходимо будет освоить множество уровней физического мастерства все повышающейся сложности. Другой пример: чтобы преуспеть в медицине, вы должны быстро схватывать суть последних исследований в той области, на которой специализируетесь. Подводя краткий итог этим соображениям, можно сказать так: вы никогда не добьетесь успеха, если не умеете учиться.
Теперь давайте рассмотрим вторую важнейшую способность, упомянутую в списке выше, а именно способность выдавать продукцию высочайшего уровня. Если вы хотите стать суперзвездой, овладевать нужными умениями необходимо – но этого недостаточно. Вы должны уметь преобразовывать свой дремлющий потенциал в конкретные результаты, ценные для людей. К примеру, многие разработчики умеют хорошо программировать, но один лишь Давид Ханссон сумел воспользоваться этой способностью, чтобы создать Ruby on Rails — проект, который принес ему известность. Для успешного решения задачи Ханссону пришлось развить до предела свои способности и добиться неоспоримо ценных и значимых результатов.
Умение выдавать результаты важно и для тех, кто желает научиться управлять умными машинами. Для Нейта Силвера было недостаточно обучиться обрабатывать большие массивы данных и производить статистический анализ; вслед за этим он должен был показать, что может при помощи своих умений извлекать из машин информацию, важную для большого количества людей. Во времена своей работы в Baseball Prospectus Силвер сотрудничал со многими профессиональными статистиками, однако только он один приложил усилия, чтобы адаптировать свои навыки к новой и более многообещающей области – предсказанию результатов выборов. Таким образом мы пришли к еще одному обобщающему наблюдению, которое поможет вам влиться в ряды победителей в новой экономике: тот, кто не выдает результатов, успеха не добивается – независимо от того, насколько он одарен или искусен в своем деле.
Определив эти два фундаментальных качества, нужных для продвижения вперед в новом, раздираемом технологиями мире, перейдем к следующему вопросу: каким образом можно развить в себе эти ключевые способности? И здесь мы подходим к центральной идее этой книги: два важнейших качества, описанные выше, зависят от вашей способности погружаться в работу с головой.
Если вы не овладели этим ключевым умением, обучение сложным вещам или выполнение задач на высочайшем уровне потребует от вас невероятных усилий.
То, что эти способности зависят от углубленной работы, не сразу становится очевидным – для этого необходимо более внимательно взглянуть на искусство обучаться, сосредоточиваться и выдавать результаты. Последующие разделы предлагают как раз такой внимательный взгляд, с помощью которого вы сможете проследить связь между углубленной работой и экономическим успехом, превратив ее из неожиданной в неоспоримую.
Углубленная работа помогает быстро обучаться сложным вещам
«Пусть твой ум станет линзой благодаря сходящимся в одну точку лучам внимания; пускай душа твоя вся будет сосредоточена на том, что установлено в уме как главнейшая, полностью поглощающая тебя идея».
Такой совет дает Антонен-Далмас Сертийянж, доминиканский монах и преподаватель этики, написавший в начале XX века тоненькую, но ставшую известной книжку «Жизнь интеллекта» (The Intellectual Life). Сертийянж рассматривал свою книгу как путеводитель по «развитию и углублению ума» для тех, кто зарабатывает себе на жизнь в мире идей. На протяжении всей книги Сертийянж отстаивает необходимость овладения сложным материалом и готовит читателя к этому испытанию. Вот почему его книга оказывается полезной и для нас в нашем стремлении понять, как людям удается быстро освоить сложные навыки (в сфере познания).
Чтобы понять смысл совета, который дает Сертийянж, давайте вернемся к процитированной фразе. Этими словами, которые в той или иной форме повторяются в книге раз за разом, Сертийянж подчеркивает, что для того, чтобы глубже изучить область своей деятельности, вы должны систематически работать с соответствующей тематикой, чтобы ваши «сходящиеся в одну точку лучи внимания» смогли раскрыть истину, лежащую за каждым из предметов рассмотрения. Другими словами, он говорит нам: «Для того чтобы учиться, требуется сосредоточенность». Как оказалось, эта идея опередила свое время. Сертийянж обнаружил, как следует подходить к задачам, требующим интеллектуального напряжения, когда размышлял о деятельности ума в 1920-х годах, – у академической науки ушло еще 70 лет на то, чтобы сформулировать тот же факт.
Вопрос о формулировке этой задачи по-настоящему встал лишь в 1970-х годах, когда одна из областей психологии, иногда называемая психологией деятельности (performance psychology), начала систематически исследовать, что же отличает специалистов (в самых разнообразных областях) от всех остальных людей. В начале 1990-х годов профессор Флоридского университета К. Андерс Эрикссон, собрав вместе все наработки, пришел к единому непротиворечивому ответу, согласовавшемуся с растущим числом исследовательских статей. Это открытие он оформил в лаконичный тезис: «методичная практика» (deliberate practice).
Свою основополагающую книгу, посвященную данному вопросу Эрикссон открывает веской фразой: «Мы отрицаем, что эти различия [между профессиональными работниками и обычными людьми] невозможно преодолеть… С нашей точки зрения, различия между специалистами и всеми остальными лишь отражают долгий период упорных усилий, прилагаемых к улучшению качества работы в определенной области».
В американской культуре, в частности, широко распространены истории разного рода вундеркиндов («Если бы вы знали, как это для меня просто!» – восклицает герой Мэтта Деймона в фильме «Умница Уилл Хантинг» после того, как выдает стремительную серию доказательств, ставящих в тупик лучших математиков мира). Направление исследований, предложенное Эрикссоном и сейчас принятое повсеместно (с некоторыми оговорками[2]), развенчивает эти мифы. Для того чтобы справиться с задачей, требующей интеллектуального напряжения, необходима специфическая форма практики – природные таланты составляют лишь немногочисленные исключения. (В этом вопросе Сертийянж также, по всей видимости, опередил свое время. В своей книге «Жизнь интеллекта» он писал: «Даже гении стали великими лишь потому, что прилагали все свои способности, устремляя их в ту точку, где решили выказать себя в полноте своего таланта». Сам Эрикссон не мог бы сформулировать лучше.)
Это подводит нас к вопросу о том, чего в действительности требует методичная практика. Ее главные составляющие обычно определяются следующим образом:
1) ваше внимание должно быть пристально сосредоточено на конкретном умении, которым вы пытаетесь овладеть, или идее, которую хотите понять;
2) вы должны получать отклик, чтобы вносить поправки и направлять внимание в точности туда, где оно приносит наилучшие результаты.
Первый компонент представляет для нас особенный интерес, поскольку он означает, что методичная практика не может сочетаться с перерывами и требует ничем не нарушаемой концентрации. Как подчеркивает Эрикссон: «Рассеянное внимание является почти полной противоположностью сосредоточенному вниманию, требующемуся для методичной практики» (выделено мною. – Авт.).
Эрикссон и другие психологи-исследователи в этой области не ставили вопрос, почему методичная практика может быть действенна; они попросту отмечали, что такой подход эффективен. Однако за десятилетия, прошедшие со времени публикации первой большой работы Эрикссона по данному предмету, нейробиологи изучили физиологические механизмы, позволяющие людям лучше справляться со сложными задачами. Как пишет журналист Дэниел Койл в своей вышедшей в 2009 году книге «Код таланта»[3], все больше ученых полагают, что ответ так или иначе связан с миелином – слоем жироподобных тканей, облекающим нейроны и играющим роль прокладки, которая позволяет нервным клеткам быстрее и четче передавать сигналы. Чтобы понять, какое значение может иметь миелин для усовершенствования наших умений, достаточно вспомнить, что любое из них, будь оно интеллектуальным или физическим, в конечном счете сводится к импульсам в электросхемах нашего мозга. Согласно уже упомянутой новой науке о человеческой деятельности, мы более полно овладеваем умениями, когда вокруг нужных для этого нейронов нарастает миелиновая оболочка, что позволяет соответствующим нервным цепям передавать сигнал более легко и эффективно. То есть для того, чтобы продвинуться в какой-либо области, нам необходимо как следует миелинизироваться.
Понимание этого аспекта необходимо, потому что оно подводит нейробиологический базис под вопрос, почему методичная практика оказывается действенной. Интенсивно сосредоточиваясь на определенном навыке, мы вынуждаем определенные, связанные с этим навыком цепи передавать сигнал, снова и снова, внутри миелиновой изоляции. Повторяющееся использование одной и той же цепи возбуждает клетки, называемые олигодендроцитами, которые начинают окружать составляющие цепь нейроны новыми слоями миелина, тем самым закрепляя тренируемый навык.
Вот почему так важно интенсивно сосредоточиваться на стоящей перед нами задаче, избегая пауз, – это единственный способ выделить соответствующую нейронную цепь настолько, чтобы дать толчок к ее дополнительной миелинизации. И напротив, если вы пытаетесь обучиться новому и сложному умению (допустим, управлению базами данных на языке SQL), но плохо сконцентрировались (может быть, у вас открыта лента новостей на Facebook), это значит, что вы одновременно и беспорядочно передаете сигналы через разные цепи, не давая клеткам мозга выделить именно ту группу нейронов, которую вы хотите усилить.
За столетие, прошедшее с тех пор, как Антонен-Далмас Сертийянж впервые написал об уме как о линзе для фокусировки лучей внимания, мы продвинулись от этой возвышенной метафоры к значительно менее поэтичному объяснению, выраженному на языке олигодендроцитов. Однако эта последовательность – размышление о том, как мы размышляем, – приводит нас к неизбежному заключению: чтобы быстро обучаться сложным вещам, мы должны уметь концентрировать внимание и не отвлекаться. Говоря другими словами, суть обучения – в углубленной работе. Если вы легко в нее погружаетесь, вы так же легко сможете овладевать все более сложными системами и навыками, необходимыми, чтобы достигнуть успеха в условиях современной экономики. Если же вы по-прежнему будете оставаться одним из многих, у кого сосредоточение вызывает дискомфорт, а отвлекающие моменты встречаются на каждом шагу, вам вряд ли следует ожидать, что такие системы и навыки дадутся вам без труда.
Углубленная работа помогает выдавать результаты на высочайшем уровне
Адам Грант – специалист экстра-класса. Когда я познакомился с Грантом в 2013 году, он был самым молодым преподавателем на постоянном контракте в Уортонской школе бизнеса при Пенсильванском университете. Год спустя, когда я начал писать эту главу (и как раз начинал подумывать о собственном постоянном преподавательском месте), его статус обновился – теперь он был самым молодым уортонским профессором[4].
Причина, по которой Гранту удалось так быстро продвинуться в своей научной нише, очень проста – он выдает результаты. В 2012 году Грант опубликовал семь статей, все из них в крупных журналах. Это невероятно высокий уровень производительности для его области (в которой профессора, как правило, стремятся работать поодиночке или небольшими коллективами, а не собирают большие команды студентов и постдоков для участия в своих исследованиях). В 2013 году количество статей понизилось до пяти – по-прежнему поразительно много, но ниже его прежнего стандарта. Впрочем, Гранта можно извинить за снижение планки, поскольку в этот же год он выпустил книгу под названием «Брать или отдавать?» (Give and Take), где в популярной форме излагаются результаты его исследований, касающихся взаимоотношений в сфере бизнеса. Сказать, что эта книга имела успех, – значит ничего не сказать. Она появилась на обложке журнала «Нью-Йорк таймс мэгэзин» и стала бестселлером. К моменту, когда Гранту в 2014 году предложили профессорскую должность, на его счету, в дополнение к нашумевшей книге, было уже более шестидесяти публикаций, получивших одобрение специалистов.
Вскоре после нашего знакомства, имея на уме собственную научную карьеру, я не мог не спросить его о секрете такой высокой производительности. К счастью для меня, молодой ученый был рад поделиться своими мыслями на этот счет. Как оказалось, Грант много размышлял о механизмах, позволяющих выдавать высококачественные результаты. В качестве примера он прислал мне подборку слайдов PowerPoint с мастер-класса, на котором он присутствовал вместе с несколькими другими преподавателями в своей области. Темой обсуждения были основанные на конкретных данных наблюдения относительно того, как проводить научные работы на оптимальном уровне. Среди этих слайдов были детальные секторные диаграммы, показывавшие распределение времени по сезонам, блок-схемы развития отношений с сотрудниками, а также список рекомендуемой литературы, включавший более двадцати наименований. Эти бизнес-профессора никак не соответствовали распространенному представлению о рассеянном ученом, который зарылся в книги и время от времени выдает какую-нибудь грандиозную идею; они рассматривали производительность труда как научную проблему, требующую систематического решения. И Адам Грант, по всей видимости, сумел достичь поставленной цели.
Хотя производительность Гранта зависит от многих факторов, есть один конкретный принцип, который, по-видимому, занимает центральное место в его методе: сложные, но ответственные интеллектуальные задачи Грант группирует в долгие непрерывные сессии. Такую группировку он производит на многих уровнях. Так, если говорить о годовом цикле, для преподавательской работы он отводит осенний семестр, на протяжении которого уделяет максимум внимания обучению студентов и общению с ними. (По всей видимости, этот подход оказывается действенным, так как Грант имеет наиболее высокий рейтинг среди уортонских преподавателей и успел собрать множество преподавательских наград.) Благодаря тому что преподаванием занят только осенний семестр, весной и летом Грант может полностью переключиться на исследовательскую работу, и выполняет ее, уже ни на что не отвлекаясь.
К такой же группировке Грант прибегает и на более коротких отрезках времени. В пределах семестра, отведенного на научную работу, он чередует периоды, когда его двери открыты для студентов и коллег, с периодами полной изоляции, когда он полностью сосредоточен на конкретной исследовательской задаче и ни на что не отвлекается. (Как правило, он разделяет работу над научной статьей на три отдельные задачи: анализ данных, написание черновика и затем его редактирование до состояния, пригодного к изданию.) Во время таких периодов, которые могут длиться до трех-четырех дней, он часто включает на своем почтовом адресе автоуведомление «нет на работе», чтобы корреспонденты не ждали немедленного ответа. «Порой это сбивает с толку моих коллег, – рассказывал он мне. – Они говорят: „Как это тебя нет на работе, когда я вижу тебя за твоим рабочим столом!“». Но для Гранта важно обеспечить себе строгую изоляцию до тех пор, пока текущая задача не будет благополучно решена.
Я подозреваю, что Адам Грант проводит за работой не намного больше часов, чем любой профессор элитного исследовательского учреждения (хотя в целом эта социальная группа имеет склонность к трудоголизму), однако же он умудряется делать больше, чем почти любой его коллега. У меня нет сомнений, что парадокс объясняется именно его методом группировки задач. В частности, объединяя свою работу в напряженные, ничем не прерываемые периоды, он претворяет в жизнь следующий закон производительности труда:
Выработка высококачественной продукции = (Затраченное время) × (Интенсивность сосредоточения).
Если доверять этой формуле, то рабочие привычки Гранта приобретают смысл: увеличивая напряженность своей работы, он тем самым увеличивает объем результата, выдаваемого им за затраченную единицу рабочего времени.
Мне неоднократно приходилось сталкиваться с этой концепцией производительности труда. Впервые она привлекла мое внимание много лет назад, когда я проводил исследования для второй своей книги – «Как стать круглым отличником» (How to Become a Straight-A Student). В ходе своих изысканий я побеседовал с пятьюдесятью самыми успешными студентами из нескольких наиболее престижных вузов страны. И в этих интервью я заметил кое-что интересное: зачастую самые лучшие ученики тратили на учебу меньше времени, чем те, что отставали от них по среднему баллу. Одним из объяснений этого феномена как раз и оказалась формула, приведенная выше. Лучшие из учащихся понимали значение интенсивности работы для ее производительности и соответственно изо всех сил старались повысить свою концентрацию, тем самым радикально уменьшая количество времени, необходимого для подготовки к тестам или выполнения заданий без снижения качества результатов.
Пример Адама Гранта показывает нам, что приведенная формула интенсивности применима не только к успехам в учебе, но и к большинству задач, требующих интеллектуального напряжения. Но почему это так? Интересное объяснение предлагает Софи Лерой, преподаватель бизнес-дисциплин в Университете Миннесоты. В своей книге 2009 года, интригующе озаглавленной «Почему мне так трудно выполнять мою работу?», Лерой вводит понятие остаточного внимания. Во вступлении к книге она отмечает, что в то время как другие исследователи изучают, как на качество работы влияет многозадачность (одновременное выполнение нескольких задач), на реальном рынке интеллектуального труда (по крайней мере, на его высоких уровнях) большинство людей предпочитают работать над проектами последовательно. «Они переходят от одного заседания к следующему, начинают работать над одним проектом, но вскорости вынуждены переключаться на другой; это обычная рабочая ситуация для современной организации», – объясняет Лерой.
Она доказывает, что такой подход к работе вызывает проблему: когда человек переходит от некой задачи А к следующей задаче Б, его внимание не переключается моментально – некий остаток внимания остается занят предыдущей задачей. Объем такого остаточного внимания особенно велик, если работа над задачей А была не ограничена во времени и выполнялась с низкой интенсивностью. Однако даже если эту работу удается закончить перед тем, как двигаться дальше, внимание все равно на какое-то время останется разделенным.
Лерой изучала влияние остаточного внимания на качество выполнения работы, экспериментируя с вынужденной сменой заданий у себя в лаборатории. Например, в одном из таких экспериментов она сперва предлагала своим подчиненным потрудиться над решением кроссвордов. В одном варианте эксперимента она прерывала их и говорила, что теперь они должны перейти к новой ответственной задаче: прочитать подборку резюме и решить, кого из гипотетических работников нанять. В других вариантах она позволяла им закончить с кроссвордами и только потом давала следующее задание. В промежутке между первым и вторым заданиями она вводила короткую игровую лексическую задачу чтобы оценить объем остаточного внимания, оставшегося задействованным после первого задания[5]. Результаты этого и других подобных ее экспериментов были однозначны: «Люди, у которых сохраняется остаточное внимание после перехода к следующему заданию, хуже с ним справляются», причем чем больше объем остаточного внимания, тем ниже становится качество работы.
Концепция остаточного внимания помогает понять, почему верна приведенная выше формула интенсивности, а следовательно, и объяснить высокую производительность Гранта. Работая над одной сложной задачей долгое время без переключений, Грант минимизирует негативное воздействие остаточного внимания и таким образом добивается наивысшего качества. Другими словами, когда Грант на несколько дней изолирует себя от мира для работы над очередной статьей, он выполняет эту работу эффективнее, нежели любой обычный профессор, следующий более свободному графику, когда работа постоянно прерывается другими событиями, расходующими остаточное внимание.
Даже если у вас нет возможности обеспечить себе настолько полную изоляцию, к какой прибегает Грант (мы рассмотрим различные подходы к планированию углубленной работы во второй части этой книги), концепция остаточного внимания не теряет своего значения, поскольку она подразумевает, что распространенная привычка работать в полурассеянном состоянии способна разрушительно сказаться на качестве вашей работы. Вам может казаться, что нет ничего страшного в том, чтобы по-быстрому заглядывать в почтовый ящик каждые десять-пятнадцать минут. Фактически многие оправдывают такое поведение, утверждая, что это лучше, чем прежняя практика, когда окно почты оставалось открытым постоянно (фиктивный аргумент, поскольку так уже почти никто не делает). Однако Лерой учит нас, что на самом деле ничего хорошего в таком усовершенствовании нет. Быстрые и частые проверки указывают нашему вниманию новую цель. Хуже того: когда вы видите в почте письма, на которые не можете сразу же ответить (а так оно чаще всего и бывает), вам приходится оставлять эту задачу незавершенной и возвращаться к изначальной. В результате накапливается остаточное внимание, мешающее вам выполнять свою работу как следует.
Если мы посмотрим со стороны на все эти частные наблюдения, то станет очевидна суть скрывающегося за ними правила: чтобы выдавать результат на высшем возможном для нас уровне, нам необходимо работать на протяжении длительных периодов с полной концентрацией на конкретной задаче, не отвлекаясь. Говоря другими словами, чтобы выполнять работу качественно, необходимо в нее углубиться. Если вам сложно погрузиться в работу надолго, то будет сложно добиться высокого качества и производительности, без которых успех в наше время невозможен. Ваши конкуренты, способные работать сосредоточенно, всегда будут выдавать лучшие результаты, разве что ваши таланты и умения значительно выше, чем у них.
А как насчет Джека Дорси?
Итак, я высказал свои доводы в пользу того, что углубленная работа помогает развить способности, все более востребованные в условиях современной экономики. Однако прежде, чем мы согласимся с этими умозаключениями, необходимо разобраться с еще одним типом вопросов, которые часто возникают, а именно: «А как насчет Джека Дорси?»
Джек Дорси был одним из людей, основавших Twitter. После своего ухода с поста ответственного руководителя он учредил компанию по обработке платежей Square. Согласно его биографии в журнале Forbes, это «…ниспровергатель и нарушитель всех мыслимых правил». Помимо названного, Дорси – человек, который не проводит много времени в состоянии сосредоточенной работы. Он не может себе позволить роскошь длительного погружения в размышления, поскольку на тот момент, когда была написана его биография в Forbes, он одновременно оставался председателем совета директоров в Twitter и руководил Square. Ввиду этого у Дорси чрезвычайно плотное расписание, обеспечивающее размеренный «недельный ритм» функционирования обеих компаний – но одновременно приводящее к тому, что время и внимание Дорси разбиты на мелкие кусочки.
Например, по утверждению Дорси, в конце каждого дня он просматривает и обрабатывает протоколы тридцати-сорока дневных заседаний. В течение коротких перерывов между заседаниями он доступен для общения, поскольку верит в интуитивные прорывы. «Я часто работаю за стойкой, к которой может подойти любой, – говорит Дорси. – И я слежу за всем, что говорится в компании».
Такой стиль работы нельзя назвать сосредоточенным. Если прибегнуть к терминологии нашей предыдущей главы, остаточное внимание Дорси скорее всего размазано толстым слоем по всем этим заседаниям, между которыми он мечется, еще и позволяя кому угодно беспрепятственно отвлекать его во время недолгих свободных промежутков. И тем не менее работу Дорси нельзя назвать поверхностной, поскольку поверхностная работа, как было указано в предисловии, имеет небольшую ценность и легко воспроизводима. То же, что делает Джек Дорси, пользуется невероятным спросом и высоко вознаграждается в нашей экономике, – на момент написания этой книги он числился среди тысячи самых богатых людей в мире; его состояние оценивалось больше чем в 1,1 миллиарда долларов.
Пример Джека Дорси важен для нашего обсуждения, поскольку он представляет группу, которую мы не можем игнорировать, – людей, которые добиваются успеха без погружения на глубину. Ставя в заголовке этого раздела вопрос «Как насчет Джека Дорси?», я хотел конкретным примером обозначить более общую проблему, а именно: если погружение в работу так важно, почему же существуют люди, работающие беспорядочно и тем не менее достигающие хороших результатов? Мне хотелось бы разобраться с этим вопросом прямо сейчас, чтобы он не занимал ваше внимание, когда мы погрузимся в тему погружения в работу на последующих страницах.
Для начала следует отметить, что Джек Дорси – руководитель высокого уровня в крупной компании (точнее, даже в двух компаниях). Люди, занимающие подобное положение, преобладают среди тех, кто достиг процветания без углубленной работы, поскольку образ жизни таких руководителей, как широко известно, неизбежно становится беспорядочным. Здесь уместно вспомнить ответ Керри Трейнора, главы компании Vimeo, на вопрос, как долго он может прожить без электронной почты: «Да, я могу практически всю субботу обходиться без… э-э… ну да, почти целый день могу обходиться без… ну то есть я, конечно, проверю ее, но не обязательно стану отвечать на письма».
Разумеется, такие руководители получают большее вознаграждение и играют более важную роль в нынешней американской экономике, чем когда бы то ни было в истории. Успех Джека Дорси без всякой сосредоточенной работы типичен для руководящей элиты его уровня. Однако, оговорив этот момент, мы должны затем отступить на шаг назад и напомнить себе, что он никоим образом не принижает общую значимость углубленной работы. Почему? Потому что неизбежные отвлечения в графике таких руководителей составляют узкую специфику именно их работы. Хороший руководитель предприятия – это, по сути, машина для принятия решений, которые трудно полностью автоматизировать, что-то наподобие системы Watson компании IBM, умевшей отвечать на вопросы телевикторины Jeopardy!. Эти люди тяжким трудом накопили опыт ведения бизнеса, отточили и проверили в деле деловое чутье в своем сегменте рынка. И теперь они целыми днями сталкиваются с новой информацией – в виде электронных писем, совещаний, приема посетителей и так далее, которую должны обработать и принять решение о дальнейших действиях. Требовать от руководителя крупной компании проводить по четыре часа в сосредоточенных размышлениях об одной-единственной задаче – значит расходовать впустую те его качества, которые как раз и придают ему ценность. Лучше нанять трех толковых подчиненных, передать им задачу для углубленного обдумывания, а потом представить их выводы руководителю, чтобы он мог принять окончательное решение.
Эти оговорки необходимы, поскольку из них следует, что если вы руководитель высокого уровня в крупной компании, то, скорее всего, вам не пригодятся советы, приведенные на нижеследующих страницах. С другой стороны, теперь вы должны понимать, что стиль работы таких руководителей нельзя распространять на все остальные рабочие позиции. Тот факт, что Дорси поощряет, когда его отвлекают от работы, или что Керри Трейнор постоянно проверяет почту, еще не значит, что вы разделите их успех, если будете поступать так же, – их поведение характерно для их исключительной роли.
Это правило о специализации следует применять и к другим таким же контрпримерам, которые, возможно, будут приходить вам на ум при дальнейшем чтении этой книги. Мы должны постоянно помнить, что существуют такие ответвления нашей экономики, где глубина не имеет большой ценности. Помимо ответственных руководителей, сюда также следует отнести, например, торговых агентов, журналистов и политических деятелей, для которых постоянная связь с людьми становится наиболее ценной валютой. Существуют даже те, кто, оставаясь рассеянным, умудряется добиваться успеха в таких областях, где сосредоточенность обычно бывает кстати.
Но в то же время не торопитесь делать вывод, что ваша работа совсем не требует погружения. Если ваши нынешние привычки не позволяют вам делать свое дело сосредоточенно, это далеко не значит, что отсутствие глубины действительно необходимо для того, чтобы ваша работа выполнялась хорошо. Например, в следующей главе я расскажу об одной группе деятельных консультантов по вопросам управления, которые были уверены, что им необходимо иметь постоянный доступ к электронной почте, чтобы обслуживать своих клиентов. Когда один гарвардский профессор принудительно заставил их чаще отключаться от Интернета (в целях проводимого научного исследования), они обнаружили, к своему немалому изумлению, что электронная почта далеко не так важна, как они предполагали. На самом деле их клиентам было совсем не обязательно постоянно оставаться на связи с консультантами, а качество их работы только улучшилось благодаря тому, что их внимание стало менее рассеянным.
Еще один пример: я знал нескольких менеджеров, которые пытались убедить меня, что их работа имеет наибольшую ценность, когда они могут мгновенно откликаться на проблемы своей команды, предотвращая застои в проекте. Они видели свою задачу в том, чтобы повышать производительность других людей, а не заботиться о своей собственной. В ходе последующих дискуссий, однако, довольно быстро выяснилось, что на самом деле для их целей совсем не требовалась отвлекающая внимание постоянная связь с коллегами. Собственно говоря, многие интернет-компании сейчас прибегают к методике управления проектами Scrum: вместо множества спонтанных обменов сообщениями внедряются регулярные, жестко структурированные и высокоэффективные статусные совещания (которые часто проводятся стоя, чтобы избежать искушения пускаться в разглагольствования). Такой подход освобождает для руководителей больше времени на углубленное обдумывание проблем, с которыми сталкивается их команда, и часто увеличивает общую ценность производимого продукта.
Подойдем к вопросу с другой стороны: умение сосредоточенно работать – не единственное из качеств, важных в нынешних экономических условиях; действительно, вполне возможно добиться успеха, и не развивая в себе эту способность, однако позиции, где такой подход бывает целесообразен, чрезвычайно редки. Если у вас нет веских доказательств в пользу того, что рассеянное внимание необходимо для вашей деятельности, вы окажете себе хорошую услугу, если примете мои аргументы и освоите навык углубленной работы.
Глава 2
Углубленная работа редко встречается
В 2012 году компания Facebook объявила о своих планах переехать в новое здание, построенное архитектором Фрэнком Гери. В центре этого сооружения находилось то, что глава компании Марк Цукерберг назвал «самым большим открытым рабочим пространством на всей планете». Более трех тысяч служащих располагались в помещении площадью свыше четырех гектаров, без стен и с передвижной меблировкой. Конечно же, Facebook был не единственным среди тяжеловесов Кремниевой долины, кто принял к действию концепцию опенспейс. Когда Джек Дорси, с которым мы уже встречались в конце предыдущей главы, приобрел бывшее здание газеты San Francisco Chronicle для своего нового проекта Square, он структурировал рабочее пространство так, чтобы группы программистов работали в одном помещении за длинными общими столами. «Мы призываем людей работать в открытом пространстве, поскольку верим в интуицию и в то, что люди, находясь в одном помещении, могут учить друг друга чему-то новому», – объяснял Дорси.
В последнее время еще одним популярным трендом в деловых кругах стал мгновенный обмен сообщениями. В одной из статей в газете Times отмечалось, что эти технологии перестали быть «уделом болтливых тинейджеров» – теперь они «повышают производительность и качество выполнения заказов, ускоряя их выполнение». Главный менеджер по продукции компании IBM отмечал: «Мы пересылаем внутри компании по 2,5 миллиона сообщений в день».
Одним из наиболее успешных недавних нововведений в сфере обмена мгновенными сообщениями стал Hall – стартап-проект из Кремниевой долины, позволяющий работникам выйти за пределы обычного чата и осуществлять «сотрудничество в реальном времени». Мой знакомый программист из Сан-Франциско рассказывал, как выглядит работа в компании, использующей технологию Hall. По его словам, самые «производительные» служащие настраивали свой текстовый редактор на вывод на экран уведомлений каждый раз, когда в аккаунте компании размещается новый вопрос или комментарий. В таком случае они могли, посредством отработанного сочетания «горячих» клавиш, перейти в Hall, написать, что они думают по данному вопросу, и затем снова вернуться к написанию своей программы практически без задержки. По словам моего друга, скорость их работы произвела на него глубокое впечатление.
Третий популярный тренд состоит в стремлении производителей контента любого типа поддерживать свое присутствие в социальных сетях. New York Times, этот бастион информационных ценностей старого мира, теперь поощряет своих сотрудников публиковать твиты – намек, принятый к сведению более чем восемьюстами авторов, редакторов и фотографов газеты, которые завели в Twitter собственный аккаунт. И это уже не что-то из ряда вон выходящее, наоборот, новый поведенческий стандарт. Когда писатель Джонатан Франзен написал статью для Guardian, в которой утверждал, что Twitter «насильственно внедряется» в литературный мир, его подняли на смех как потерявшего связь с реальностью. Онлайн-журнал Slate назвал жалобы Франзена «войной одиночки против Интернета», а его коллега, писательница Дженнифер Винер опубликовала в журнале The New Republic ответную статью, где писала: «Франзен представляет собой группу, состоящую из одного человека; одинокий голос, провозглашающий ex cathedra эдикты, применимые лишь к нему одному». Саркастический хэштег #JonathanFranzenhates («Джонатан Франзен ненавидит») очень быстро набрал популярность.
Я заговорил об этих трех трендах в мире бизнеса потому, что они подчеркивают распространенный парадокс. В последней главе я доказывал, что углубленная работа имеет сейчас большую ценность, чем когда-либо прежде в нашей меняющейся экономике. Однако в таком случае следовало бы ожидать, что это умение будут развивать не только амбициозные одиночки, но и целые организации, стремящиеся получить от своих сотрудников как можно больше. Как видно из приведенных примеров, ничего подобного не происходит. На первое место в деловом мире ставится множество других концепций, считающихся более важными, нежели углубленная работа, – как мы только что видели, в их число входит плодотворное сотрудничество, возможность постоянно быть на связи, а также активное присутствие в социальных сетях.
Мало того что столь многие вещи ставятся выше умения сосредоточенно работать, – многие из этих трендов еще ухудшают положение, активно снижая способность к сосредоточению. Так, например, офисы открытого типа, вероятно, и правда создают большие возможности для сотрудничества[6], но это происходит за счет «массового отвлечения», – цитируя результаты исследования, проведенного для специального выпуска британского телевидения, озаглавленного «Тайная жизнь офисных зданий» (The Secret Life of Office Buildings). «Если вы только-только углубились в работу и тут где-то на заднем плане звонит телефон, это нарушает вашу концентрацию, – говорил ученый-нейробиолог, проводивший эксперименты. – Даже если вы не осознаете этого непосредственно, ваш мозг откликается на отвлекающие факторы».
Аналогичные претензии могут быть предъявлены набирающему популярность мгновенному обмену сообщениями. Электронный почтовый ящик, в теории, отвлекает вас от работы только тогда, когда вы сами решите заглянуть в него, в то время как системы мгновенной передачи сообщений устроены так, чтобы быть постоянно активными, тем самым усиливая отвлекающее воздействие. Глория Марк, профессор информатики в Калифорнийском университете в Ирвайне, специализируется на изучении раздробленности внимания. В своей часто цитируемой работе Марк с коллегами описывает наблюдения за работниками интеллектуального труда на их рабочем месте. Согласно выводам исследования, даже короткие перерывы в рабочем процессе значительно увеличивают время, необходимое на выполнение текущей задачи. «По мнению обследуемых, такие случаи весьма нежелательны», – с типичной для ученого сдержанностью подытоживает исследовательница.
Если производителей контента вынуждают выходить в социальные сети, это также негативно воздействует на их способность погружаться в работу. Например, серьезным журналистам необходимо концентрироваться на серьезной журналистике – углубляться в изучение сложных источников, прослеживать взаимосвязи, сочинять убедительные тексты, – и требование, чтобы они по десять раз на дню прерывали этот сосредоточенный процесс и принимали участие в пустом сетевом щебете, кажется в лучшем случае неуместным (и в чем-то оскорбительным), в худшем – губительным для их работы. Уважаемый штатный автор журнала New Yorker Джордж Пэкер удачно выразил это опасение в своем эссе о том, почему он не участвует в обмене твитами: «Twitter – наркотик для адептов социальных сетей. Меня он пугает не потому, что я считаю себя выше этого, но потому, что я не уверен, что сумею с ним справиться. Боюсь, это может закончиться тем, что мой сын будет голодать». Примечательно, что в то время, когда Пэкер опубликовал упомянутое эссе, он писал книгу «Амортизация» (The Unwinding), которая вскоре вышла и тут же завоевала Национальную книжную премию – несмотря на то (или, возможно, как раз благодаря тому) что он не пользовался социальными сетями.
Итак, главные тренды сегодняшней деловой жизни активно снижают способность людей работать сосредоточенно, даже несмотря на то что выгоды, проистекающие из этих трендов (а именно повышение вероятности случайных прорывов, более быстрый отклик на запросы и большая открытость), по-видимому, несопоставимы с выгодами от умения глубоко погружаться в работу (которые состоят в возможности быстро обучаться сложным вещам и выдавать результаты на высочайшем уровне). Цель данной главы в том, чтобы объяснить этот парадокс. Я готов утверждать, что сосредоточенность в работе встречается столь редко не из-за какого-либо фундаментального изъяна в таком подходе. Если мы внимательно посмотрим на то, почему мы с такой готовностью пользуемся любой возможностью отвлечься на рабочем месте, то обнаружим, что причины этого по сути случайны – они основываются на погрешностях нашего мышления вкупе с неоднозначностью и путаницей, часто сопровождающими интеллектуальный труд. Моя цель – убедить вас, что хотя мы и правда склонны к отвлечениям, эта склонность основывается на непрочном фундаменте и ее нетрудно преодолеть, если вы решитесь культивировать в себе навык углубленной работы.
Черная дыра измерений
Осенью 2012 года Том Кокран, главный технический директор компании Atlantic Media, начал тревожиться, что слишком много времени тратит на электронную почту, и, как подобает любому хорошему технарю, решил количественно измерить свое беспокойство. Наблюдая за собственным поведением, он подсчитал, что за одну неделю получил 511 и отослал 284 электронных сообщения. В среднем это составило около 160 сообщений в день за пятидневную рабочую неделю. Продолжая вычисления, Кокран обнаружил, что даже если считать, что у него уходит на одно сообщение в среднем лишь тридцать секунд, это все равно означает, что он тратит почти полтора часа в день на перераспределение информации, словно живой маршрутизатор. Он решил, что это чертовски много времени, учитывая, что оно расходуется на вещи, не являющиеся первостепенным пунктом в его должностной инструкции.
Как вспоминает Кокран в записи в своем блоге, где он описывал эксперимент для Harvard Business Review, полученная простая статистика навела его на размышления о том, что это означает для всей компании. Сколько именно времени тратят сотрудники Atlantic Media на обмен информацией, вместо того чтобы сосредоточиться на конкретных задачах, для выполнения которых их наняли? Решив ответить на этот вопрос, Кокран собрал со всей компании статистику относительно того, сколько электронных писем отсылается в день и сколько слов содержит сообщение. Затем он сопоставил эти цифры со средней скоростью набора и чтения текста у сотрудников компании, а также с их заработной платой. Результат поражает: Atlantic Media тратит значительно больше миллиона долларов в год на оплату отсылаемой и получаемой сотрудниками электронной почты, причем каждое письмо обходится компании примерно в 95 центов из денег, выделяемых на оплату труда. «Способ сообщения, считавшийся бесплатным и не требующим усилий, – подытоживает Кокран, – в действительности требовал неявных издержек, которых хватило бы на содержание небольшого корпоративного лайнера Learjet».
Эксперимент Тома Кокрана дал любопытный результат, демонстрирующий истинную стоимость безвредных с виду действий. Однако настоящее значение этой истории заключается в самом эксперименте и, в частности, в его сложности. Оказывается, совсем непросто ответить на такой, казалось бы, невинный вопрос: «Каково итоговое воздействие наших текущих привычек, связанных с электронной почтой?». Кокрану пришлось провести исследование в рамках всей компании и собрать статистику с корпоративной компьютерной сети. Также он должен был принять во внимание данные по окладу служащих и информацию о скорости их набора и чтения текста, а затем прогнать весь массив через статистические модели, чтобы добраться до полученного конечного результата. И даже при всем этом его выводы оказались неоднозначными, поскольку невозможно выделить, скажем, объем ценностей, произведенных за счет столь частого и затратного использования электронной почты, но все же частично компенсирующих израсходованные на него средства.
Этот пример можно перенести на большую часть деятельности, потенциально препятствующей или способствующей углубленной работе. Даже если мы в принципе принимаем идею о том, что отвлекающие факторы затратны, а погружение в работу имеет свою ценность, эти влияния, как выяснил Том Кокран, сложно измерить. Это касается не только аспектов, связанных с отвлечениями и глубиной, – в общем и целом, поскольку интеллектуальный труд предъявляет более комплексные запросы к работникам, становится все труднее определять ценность вклада каждого из участников. Французский экономист Тома Пикетти раскрыл этот тезис в своем исследовании чрезмерного роста окладов руководящих работников. Коренное положение, на которое опираются его рассуждения, сводится к тому, что «сложно осуществить объективную оценку индивидуального вклада работников в производительность фирмы». Отсутствие же такой оценки может вызывать иррациональные последствия, например заоблачные оклады руководящих работников, несоразмерные их производительности. Даже несмотря на то что некоторые детали теории Пикетти выглядят спорно, стоящее за ними утверждение о возрастающей сложности оценки индивидуального вклада работников, по общему мнению, является «непреложной истиной», если воспользоваться выражением одного из его критиков.
Поэтому не следует ожидать, что можно легко определить итоговое воздействие деятельности, нарушающей рабочую концентрацию. Как обнаружил Том Кокран, такие значения попадают в непроницаемую область, сопротивляющуюся простому измерению, – я называю эту область черной дырой измерений. Разумеется, один лишь факт, что измерения, связанные с углубленной работой, трудно осуществимы, не приводит автоматически к выводу, что компании должны отказаться от этой идеи. У нас есть множество примеров таких моделей поведения, для которых сложно определить их итоговое воздействие и которые тем не менее весьма популярны в нынешней деловой культуре – вспомните хотя бы те три тренда, с которых я начал эту главу, или непомерные оклады руководителей предприятий, столь озадачившие Тома Пикетти. Однако любая деловая поведенческая модель, не основанная на точных показателях, подвержена случайным влияниям постоянно изменяющихся внешних сил, и в этом хаотическом ворохе дел сосредоточенная работа занимает особенно плачевное положение.
Существование этой «черной дыры» служит фоном для всех дальнейших рассуждений, приведенных в данной главе. В последующих разделах я собираюсь описать различные склонности и предпочтения, которые оттолкнули деловой мир от сосредоточенной работы в сторону более отвлекающих альтернатив. Ни одна из этих моделей поведения не смогла бы долго просуществовать, если бы было очевидно, что они наносят вред конечному результату, однако из-за пресловутой «черной дыры измерений» такая очевидность недостижима, и возникает уклон в сторону рассеянных моделей поведения, с которыми мы все чаще встречаемся в профессиональном мире.
Принцип наименьшего сопротивления
Когда речь заходит об отвлекающих моделях поведения, насаждаемых на рабочем месте, пальму первенства следует отдать повсеместному теперь культу всеобщей связи — когда от работника требуется безотлагательно читать и отвечать на электронную почту (и прочие подобные сообщения). Исследуя этот вопрос, профессор Гарвардской школы бизнеса Лесли Перлоу вычислила, что специалисты, бывшие объектами ее наблюдений, проводят от 20 до 25 часов в неделю вне своего кабинета, а именно просматривая электронную почту, поскольку считают важным, чтобы на любое письмо (независимо от того, внутреннее оно или от внешнего адресата) был дан ответ в течение часа.
Вы можете возразить, как делают многие, что такой подход необходим для многих предприятий, работающих в быстром темпе. Однако вот что интересно: Перлоу проверила эту гипотезу. Говоря конкретнее, она убедила руководящий состав Бостонской консультационной группы – активно действующей фирмы, занимающейся менеджмент-консалтингом, с глубоко укорененной культурой мгновенной связи – позволить ей поэкспериментировать с режимом работы служащих одного из отделов. Она задалась целью проверить одну простую идею: действительно ли быть постоянно на связи необходимо для эффективной работы? Чтобы ответить на него, она предприняла нечто из ряда вон выходящее, а именно вынудила каждого из сотрудников отдела на один день в течение рабочей недели полностью отключаться от Сети – не иметь никакой связи ни с кем, как внутри, так и вне компании.
«Вначале сотрудники сопротивлялись эксперименту, – вспоминает она один из этапов. – Одна из руководительниц, вначале горячо поддерживавшая идею, внезапно обеспокоилась, когда поняла, что ей придется сообщить клиентам, что каждый из членов ее команды будет вне доступа один день в неделю». Сами консультанты нервничали не меньше – они боялись, что тем самым «ставят под удар свою карьеру». Однако команда не потеряла ни одного клиента и ни один из служащих не лишился места. Более того, работники поняли, что получают большее удовлетворение от своей работы, более плодотворно общаются друг с другом и лучше обучаются (как мы могли бы предсказать, учитывая взаимосвязь между сосредоточенностью на работе и развитием мастерства, описанную в предыдущей главе), и, пожалуй, самое важное – «клиенту предоставлялся продукт лучшего качества».
Это подводит к любопытному вопросу: почему же столь многие следуют примеру Бостонской консультационной группы, насаждая у себя культуру мгновенной связи, даже несмотря на то что, как показала Перлоу в своем исследовании, это вредит благополучию и работоспособности сотрудников, а также, скорее всего, плохо сказывается на конечном результате? Думаю, ответ можно найти в следующей закономерности рабочего поведения:
Принцип наименьшего сопротивления: когда нет явных признаков влияния той или иной поведенческой модели на конечный результат, мы склонны отдавать предпочтение тем моделям, которые на данный момент проще реализовать.
Возвращаясь к вопросу о том, почему культура мгновенной связи не сдает своих позиций: ответ, в соответствии с изложенным принципом, состоит в том, что это всего-навсего проще. Тому имеются по крайней мере две существенные причины. Первая из них связана с оперативностью отклика на нужды клиента. Если вы работаете в окружении, где можете получить ответ на свой вопрос или необходимую вам информацию немедленно, это облегчает вашу жизнь, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Если же вы не можете рассчитывать на столь скорый отклик, тогда вам придется загодя планировать свою работу, становиться более организованным, быть готовым что-то на время отложить и переключить внимание на другие дела, пока вы ждете ответа на свой запрос. Все это усложнит вашу повседневную рабочую жизнь, даже если в конечном итоге вы получите большее удовлетворение и более качественный результат. Описанный выше всплеск популярности мгновенного обмена сообщениями в профессиональной среде говорит о том, что такой подход стал предельно популярен. Если получение ответа на электронное письмо на протяжении часа облегчает работу то получение ответа посредством службы мгновенных сообщений, менее чем за минуту, увеличивает выгоду на несколько порядков.
Вторая причина, благодаря которой культура всеобщей взаимосвязи облегчает жизнь, состоит в том, что она создает такую среду, где становится нормой целый день не вылезать из почтового ящика: расторопно отвечать на последнее сообщение, в то время как накапливается гора следующих, и все это время радоваться своей продуктивности (об этом я вскоре скажу более подробно). Если бы почта внезапно оказалась на периферии вашего рабочего времени, то вам пришлось бы более внимательно продумывать, что вам предстоит сделать и сколько времени это займет. Такой вдумчивый подход дается нелегко. Посмотрите, например, на методологию планирования задач, представленную Дэвидом Алленом в его книге «Как привести дела в порядок» (Getting Things Done), – это вполне уважаемая система разумного планирования конкурирующих рабочих обязательств. Методика Аллена предлагает блок-схему из пятнадцати пунктов, которая помогает решить, какую задачу выполнять следующей! Конечно же, куда легче просто присоединиться к общей беседе, ответив на последнюю пересланную цепочку сообщений.
В своих рассуждениях я выбрал привычку постоянно быть на связи только как пример – это лишь один из многих частных случаев делового поведения, противоположного сосредоточенной работе и с большой вероятностью снижающего итоговую ценность производимого продукта. Компания в любом случае будет добиваться определенных успехов, поскольку в отсутствие измеримых показателей большинство сотрудников следуют принципу наименьшего сопротивления.
Можно привести и другие примеры: возьмите хотя бы распространенную практику назначать регулярные деловые совещания по каждому из проектов. Такие совещания громоздятся одно на другое и разбивают рабочий график до такой степени, что поддерживать концентрацию на задаче становится невозможно. Почему же эта практика сохраняется? Потому что так проще. Для многих людей такие летучие совещания становятся простым (хотя и малоэффективным) способом организации личного графика. Вместо того чтобы пытаться самим распланировать свое время и взятые на себя обязанности, они полагаются на то, что неизбежное еженедельное совещание вынудит их предпринять какие-то действия относительно текущего проекта, а в более общем плане – создаст видимость продвижения вперед.
Взгляните также на общепринятую, к сожалению, практику пересылать электронное письмо одному или нескольким коллегам, сопроводив его короткой, ни к чему не обязывающей фразой типа: «Какие мысли?». Чтобы написать такое сообщение, у посылающего уходят считаные секунды, но оно отнимает много минут (а то и часов, в наиболее сложных случаях), сил и внимания у адресатов, которым приходится придумывать внятный ответ. Если бы отправитель проявил чуть больше заботы, это могло бы на немалую долю сократить общее время, затраченное всеми участниками переписки. Так почему же столь часто мы видим подобные письма, если они отнимают время и негативного эффекта так легко избежать? Потому что для посылающего так проще. Это способ хоть немного очистить папку «Входящие», пусть даже временно, с минимумом затраченной энергии.
Принцип наименьшего сопротивления, защищаемый от внимательного исследования «черной дырой измерений», поддерживает такую культуру работы, которая избавляет нас от сиюминутной неприятной обязанности концентрироваться и что-то планировать – за счет дальнейшей потери удовлетворения от работы и возможности создания настоящих ценностей. Тем самым этот принцип толкает нас в сторону поверхностной работы – в экономической ситуации, все больше поощряющей глубину. Однако это не единственный тренд, связанный с черной дырой измерений. Следует также рассмотреть вечно присутствующее и вечно мешающее работать требование «высокой производительности труда» – тема, к которой мы обратимся в следующей главе.
Деловая активность как замена продуктивности
Работа профессора в исследовательском институте сопряжена с множеством трудностей. Однако у нее есть и положительные стороны, и одна из них – это ясность. Насколько хорошо или плохо вы показываете себя как ученый, можно определить, задав лишь один простой вопрос: сколько у вас опубликовано значительных работ? Более того, ответ сводится к одному числу – так называемому Л-индексу. Эта формула, названная по имени ее изобретателя Хорхе Хирша, переводит количество ваших публикаций и цитирований в единый показатель, определяющий величину вашего влияния в своей области. Например, в области вычислительной техники индекс Хирша выше 40 труднодостижим, и если кому-то удается добиться такого результата, это считается предвестием долгой и успешной карьеры. И наоборот, если ваш Л-индекс на момент, когда работодатель изучает ваше личное дело, выражается всего лишь одной цифрой, скорее всего, вам ничего не светит.
Инструмент Google Scholar, широко используемый в научной среде для поиска по текстам опубликованных статей, способен автоматически вычислить ваш индекс Хирша и впоследствии напоминать вам по несколько раз в неделю, на какой в точности позиции вы находитесь. (Если кому-то интересно, мой индекс на момент написания этой главы составляет 21.)
Благодаря такой ясности проще понять, какие рабочие привычки для профессора полезны, а от каких стоит отказаться. Вот, например, как последний нобелевский лауреат по физике Ричард Фейнман объяснял в интервью одну из своих нестандартных методик по повышению производительности работы:
Чтобы сделать в физике что-то действительно стоящее, необходимо обеспечить себе абсолютно ничем не прерываемые периоды времени… нужна большая концентрация… если от вас требуется чем-то там руководить, у вас уже не хватит на это времени. Поэтому я изобрел еще один миф про самого себя: что я безответственный человек. Я активно безответственен! Я всем говорю, что не способен что-либо делать. Если меня просят поучаствовать в какой-нибудь комиссии, я так и отвечаю: «Нет, я слишком безответственный».
Фейнман всегда был тверд как камень в своем уклонении от административных обязанностей, поскольку знал, что они могут только уменьшить его способность к тому единственному, что имело наиважнейшее значение в его профессиональной жизни, а именно «сделать в физике что-то действительно стоящее». Как мы можем предположить, Фейнман вряд ли очень аккуратно отвечал на электронные письма и, вероятнее всего, перешел бы в другой университет, если бы его попробовали посадить в общий офис открытого типа или потребовали, чтобы он ежедневно писал твиты. Ясность в том, что действительно имеет значение, порождает ясность в том, что значения не имеет.
Я привожу в пример профессоров, поскольку они представляют собой своего рода исключение среди интеллектуальных работников, большинство из которых далеко не так ясно отдают себе отчет, насколько хорошо они выполняют свою работу. Вот как социальный критик Мэтью Кроуфорд описывает эту неоднозначность: «Менеджеры сами живут в сложной психологической обстановке и испытывают беспокойство по поводу туманных распоряжений, которым они должны следовать».
Хотя Кроуфорд говорил об обязанностях не всех интеллектуальных работников, а конкретно менеджеров среднего звена, употребленное им выражение «сложная психологическая обстановка» может относиться ко многим позициям в этом секторе. Как упоминает Кроуфорд в своей оде ремеслам, вышедшей в 2009 году, книге «Уроки труда для души» (Shop Class as Soulcraft), он сам оставил место руководителя исследовательской группы в Вашингтоне и открыл мастерскую по ремонту мотоциклов как раз для того, чтобы справиться с этой запутанностью. Переживаемые ощущения – когда ты берешь сломанный механизм, сражаешься с ним, а затем наконец получаешь осязаемое подтверждение того, что ты добился успеха (отремонтированный мотоцикл выезжает из мастерской), – давали ему то чувство удовлетворения от выполненной задачи, которого он тщетно пытался добиться в те дни, когда тонул в отчетах и стратегиях онлайновых коммуникаций.
С подобными же проблемами сталкиваются и многие другие работники умственного труда. Они хотят доказать, что продуктивно работают в команде и не зря едят свой хлеб, однако не вполне ясно представляют, как этого добиться. У них нет растущего индекса Хирша или стойки с отремонтированными мотоциклами, куда можно ткнуть пальцем в доказательство своей ценности. Чтобы решить эту проблему, многие из них готовы вернуться к тем временам, когда производительность труда была более очевидна для всех, – к индустриальной эпохе.
Чтобы понять, о чем идет речь, вспомним, что вместе с распространением сборочных конвейеров расцвело «движение за эффективность», неотделимое от своего основателя Фредерика Тейлора, который был известен тем, что нередко стоял с таймером в руке, замеряя эффективность движений работников и ища способы ее повысить. В эпоху Тейлора продуктивность была показателем вполне однозначным: количество единиц продукции, произведенных за единицу времени. Судя по всему в современном деловом ландшафте многие работники умственного труда, перепробовав другие идеи, вновь обращаются к этому старому определению, пытаясь утвердить свою ценность в лишенной других ориентиров среде. (Дэвид Аллен, например, для описания продуктивного рабочего процесса даже прибегает к особому словосочетанию – «завести штуковину».) Я имею в виду, что интеллектуальные работники все больше склоняются к визуальному выражению своего труда, поскольку лишены лучшего способа подтвердить свою ценность. Давайте же дадим этой тенденции название.
Деловая активность как замена продуктивности: в отсутствие четких индикаторов того, что значит быть продуктивным и ценным на своем рабочем месте, многие интеллектуальные работники возвращаются к индикаторам продуктивности времен индустриальной эпохи, а именно пытаются производить большое количество материала максимально наглядным образом.
Такой образ мышления тоже объясняет распространенность многих поведенческих моделей, разрушительных для сосредоточенной работы. Если вы в любое время готовы получать электронную почту и отвечать на нее, постоянно планируете и посещаете различные совещания, вступаете в обсуждение в системе мгновенных сообщений (наподобие сервиса Hall) буквально через несколько секунд после того, как был задан новый вопрос, бродите из конца в конец общего рабочего пространства, заваливая идеями всех, с кем доведется столкнуться, – все это создает в глазах окружающих видимость вашей деловой активности. Если вы подменяете продуктивность подобным поведением, оно становится привычным способом убедить себя и других в том, что вы действительно выполняете свою работу.
Такой образ мышления не обязательно иррационален. Для некоторых работников их место в фирме действительно требует подобного стиля поведения. Например, в 2013 году новый главный исполнительный директор Yahoo Марисса Майер запретила служащим компании работать на дому. Это решение она приняла после того, как проверила журнал регистрации событий виртуальной частной сети, которую служащие Yahoo использовали для удаленного подключения к серверам компании. Майер обеспокоило то, что служащие, работавшие на дому, недостаточно часто выходили в сеть на протяжении дня. В определенном смысле, она наказывала работников за то, что они не тратят больше времени на просмотр электронной почты (одна из основных причин подключаться к серверу). Она как бы сигнализировала им: «Если я не буду видеть вашу занятость, то сделаю вывод, что вы недостаточно продуктивны».
С объективной точки зрения, однако, такой подход устарел. Интеллектуальный труд – не конвейерная лента, и извлечение ценностей из информации – такой род деятельности, которому деловая активность зачастую только мешает. Вспомним, к примеру, Адама Гранта, упомянутого в прошлой главе ученого, который стал самым молодым профессором в Уортоне благодаря тому, что регулярно закрывался от внешнего мира, чтобы сосредоточиться на своей работе. Такое поведение являет собой прямую противоположность публичной деятельности. Если бы Грант работал в Yahoo, Марисса Майер, скорее всего, уволила бы его. Однако такая глубинная стратегия в результате привела к созданию большого количества ценной продукции.
Разумеется, давно можно было бы избавиться от этой устаревшей ориентации на деловую активность, если бы мы могли наглядно продемонстрировать ее негативное воздействие на конечный результат, однако здесь на сцену выходит «черная дыра измерений», препятствующая ясной оценке. Разрушительная смесь неоднозначности рабочих обязанностей и невозможности измерить эффективность различных поведенческих стратегий позволяет таким моделям поведения, которые показались бы смехотворными при объективном взгляде, расцветать пышным цветом в лишенной ориентиров атмосфере нашей повседневной рабочей жизни.
Тем не менее, как мы увидим далее, даже тех, кто ясно понимает, что необходимо для успеха их интеллектуальной работы, можно увести в сторону от углубленного подхода. Все, что для этого требуется, – это идеология, достаточно соблазнительная, чтобы убедить человека отринуть здравый смысл.
Культ Интернета
Рассмотрим пример Алиссы Рубин. Сейчас она возглавляет парижское отделение New York Times, а до этого возглавляла такое же отделение в Кабуле (Афганистан), где вела репортажи с мест боевых действий о послевоенной реконструкции страны. Приблизительно в то время, когда я писал эту главу она опубликовала серию критических статей, обвинявших французское правительство в пособничестве геноциду в Руанде. Другими словами, Рубин – серьезная журналистка, преуспевшая в своем ремесле. Также она – как я могу лишь предположить, под давлением своих нанимателей – ведет блог в Twitter.
Если посмотреть на профиль Рубин в Twitter, то можно увидеть колонку регулярных, но несколько бессвязных сообщений, разделяемых периодами от двух до четырех дней, как если бы журналистка получала постоянные напоминания из отдела социальных сетей своей газеты (такой отдел действительно существует), что ей необходимо ублажать читателей своего микроблога. За небольшими исключениями, ее твиты состоят из скупых упоминаний прочитанных в последнее время статей, которые ей понравились.
Алисса Рубин – репортер, а не медийная персона. Ее ценность для газеты состоит в ее способности работать с важными источниками, связывать друг с другом разнородные факты и писать на их основе статьи, имеющие отклик. Именно из таких вот Алисс складывается репутация New York Times, а на этой репутации основывается коммерческий успех газеты в эпоху повсеместной приверженности к щелканью мышкой. Так почему же Алиссу Рубин вынуждают постоянно прерывать свою необходимую для работы сосредоточенность на текущих задачах, чтобы предоставлять – задаром – никому не нужный контент для службы, которая управляется посторонней медиа-компанией, базирующейся в Кремниевой долине? И, возможно, еще более важный вопрос: почему эта ситуация большинству людей кажется нормальной? Если мы сумеем ответить на эти вопросы, то сможем лучше понять последний тренд, который я хочу обсудить в связи с тем, что сосредоточенная работа столь парадоксально редко встречается в современной жизни.
Основание для нашего ответа можно найти в предостережении, с которым выступал специалист по теории коммуникации, профессор Нью-Йоркского университета, ныне покойный Нил Постман. Еще в 1990-х годах, когда революция персональных компьютеров только брала разгон, Постман доказывал, что наше общество вступило на путь сомнительных взаимоотношений с технологиями. Речь больше не идет, отмечал он, о системе уступок, окружающих внедрение любого новшества, когда взвешиваются получаемые выгоды и неизбежно возникающие новые проблемы. Теперь вопрос стоит так: если это хай-тек, значит, это хорошо. Конец разговора.
Такую культуру он называл технополией и не жалел слов, предостерегая против нее. «Технополия уничтожает все альтернативы себе самой в точности тем самым способом, который предсказывал Олдос Хаксли в „Дивном новом мире“, – писал он в 1993 году в своей книге, посвященной этому вопросу. – Она не пытается сделать их нелегальными. Она не выставляет их аморальными. Она даже не стремится сделать их непопулярными. Она попросту делает их невидимыми и потому не имеющими значения».
Постман умер в 2003 году, но если бы он дожил до сегодняшнего дня, то наверняка поразился бы, насколько быстро его опасения, высказанные в 1990-х, стали реальностью. Этот процесс ускорился благодаря непредвиденному и внезапному развитию Интернета. К счастью, у Постмана имеется интеллектуальный наследник, который продолжил начатый им спор в эпоху Интернета, – я говорю о весьма часто цитируемом социальном критике Евгении Морозове. В своей книге 2013 года «Сохранить все: кликните сюда» (То Save Everything, Click Here) Морозов предпринимает попытку сорвать покровы с нашего технополитического помешательства на «интернете» – слово, которое он намеренно помещает в иронические кавычки, чтобы подчеркнуть его идеологическую сущность. Вот что он пишет: «Именно эта склонность видеть в „интернете“ источник мудрости и политических советов и превращает его из довольно непримечательной путаницы кабелей и сетевых роутеров в соблазнительную и волнующую идеологию – вероятно, суперидеологию нашего времени».
По словам Морозова, мы превратили «интернет» в синоним революционной будущности нашего бизнеса и правительства. Сделать свою компанию немного более «интернетной» означает идти в ногу со временем, а игнорировать эти тренды – все равно что заниматься изготовлением кнутов в век автомобилей. Мы больше не видим в интернет-сервисах продукты, выпущенные коммерческими организациями, которые существуют на деньги заинтересованных в прибыли инвесторов и управляются парой десятков человек, зачастую придумывающих невесть что ради процветания фирмы. Вместо этого мы спешим поклониться любой цифровой безделушке, провозглашая ее признаком прогресса и предвестником (смею сказать – дивного) нового мира.
Такой интернет-центризм (используя еще одно выражение Морозова) представляет собой сегодняшнее лицо технополии. Очень важно, чтобы мы признали эту реальность, поскольку она отвечает на вопрос, заданный в начале этого раздела. Газета New York Times содержит отдел социальных сетей и заставляет своих авторов, таких как Алисса Рубин, отвлекаться от непосредственных задач, поскольку в интернет-центричной технополии правильность таких действий не обсуждается. Альтернатива – не принимать все, что связано с Интернетом, – является, как сказал бы Постман, «невидимой и потому не имеющей значения».
Этой невидимостью объясняется упомянутая выше шумиха, которая поднялась, когда Джонатан Франзен осмелился предположить, что писателям вовсе не обязательно вести блог в Twitter. Люди почувствовали возмущение – не потому, что хорошо разбирались в книгоиздательском деле и не были согласны с выводами Франзена, но потому, что их удивило: как это кто-то может всерьез оспаривать значимость социальных сетей. В интернетцентричной технополии подобное заявление оказалось эквивалентом сожжению государственного флага – святотатство, а не полемика.
Возможно, почти повсеместное распространение такого типа мышления ярче всего иллюстрирует один случай, произошедший со мной недавно, когда я ехал привычной дорогой в Джорджтаунский кампус, где я работаю. В ожидании зеленого света на перекрестке с Коннектикут-авеню я пристроился позади колонны грузовиков-рефрижераторов, принадлежащих компании сетевых поставщиков. Перевозка замороженных товаров – сложная, конкурентная область, этот бизнес требует мастерства как в работе с профсоюзами, так и в разработке маршрутов. Отрасль чрезвычайно старорежимна и во многих аспектах являет собой противоположность минималистичным, ориентированным на потребителя технологичным стартапам, которым в настоящее время уделяется столько внимания. Однако когда я ждал своей очереди тронуться с места позади этого грузовика, меня в первую очередь поразила не сложность или величина компании, но графическое изображение, сделанное на заказ и нанесенное – вероятно, за большие деньги – с задней стороны каждого из грузовиков в этой колонне. Оно гласило: «Жми „нравится“ на нашей странице в Facebook!».
Углубленная работа встречается в технополии с серьезными препятствиями, поскольку она основывается на таких ценностях, как качество, мастерство и владение предметом, а это понятия определенно старомодные и нетехнологичные. Больше того, серьезное погружение в работу зачастую требует отбросить многое из нового и высокотехнологичного. Углубленная работа изгнана с рабочих мест в пользу более отвлеченных, «хай-тековых» моделей поведения, таких как использование профессионалами социальных сетей, совсем не потому, что она ниже их по эффективности. Если бы у нас имелись точные способы измерить воздействие этих подходов на конечный результат, ныне существующая технополия была бы наверняка повержена. Однако «черная дыра измерений» мешает внести ясность в данный вопрос, и в итоге все, что относится к Интернету, возводится в ранг «суперидеологии», которой так боялся Морозов. Пока существует подобная культура, нет ничего удивительного, что углубленная работа с трудом может соревноваться со сверкающим балаганом твитов, лайков, меток на фотографиях, микроблогов, постов и прочих подобных поведенческих моделей, которые мы теперь считаем необходимыми без какой-либо иной причины, кроме той, что они существуют.
Плохо для бизнеса, хорошо для вас
Углубленная работа должна иметь приоритет в нынешней деловой жизни, однако им не обладает. Выше я привел различные объяснения этого парадокса. Еще раз назову основные: углубленная работа дается тяжело, а поверхностная – намного проще; в отсутствие четко обозначенных задач видимость деловой активности, окружающая поверхностную работу, работает на самосохранение; также в современной культуре распространено представление, что любой стиль поведения, как-либо связанный с «интернетом», по определению предпочтителен – независимо от его воздействия на нашу способность производить ценный продукт. Все эти тренды стали возможны, поскольку сложно непосредственно измерить значимость углубленной работы или ту цену, которую приходится платить за отказ от нее.
Тому, кто верит в значимость углубленной работы, должно быть ясно, что такой оборот событий не предвещает ничего хорошего для всех деловых предприятий в целом, поскольку мешает им расти и производить новые ценности. Однако для вас лично в этом может скрываться и нечто хорошее. Близорукость ваших конкурентов и работодателей дает вам большое личное преимущество. Если предположить, что намеченные здесь тренды продолжат существовать, углубленный подход со временем будет встречаться все реже, а следовательно, иметь все большую ценность. Поскольку мы уже установили, что в углубленной работе нет ничего изначально порочного, а в заменивших ее «рассеянных» поведенческих моделях – ничего изначально необходимого, вы можете с уверенностью продолжать добиваться конечной цели, намеченной в книге, а именно систематически развивать свои личные способности к сосредоточению, – и благодаря этому достичь огромных успехов.
Глава 3
Углубленная работа имеет значение
Рик Фаррер – кузнец. Он специализируется на древних и средневековых техниках работы по металлу которые с немалым трудом воспроизводит в своей мастерской, носящей название Door County Forgeworks («Кузнечная мастерская округа Дор»). «Всю свою работу я делаю вручную, с помощью инструментов, которые умножают мою силу, но не ограничивают творческий потенциал или взаимодействие с материалом, – объясняет он в своем буклете. – То, на что у меня уходит сто ударов молотом, могло бы быть сделано за один прием с использованием большой ротационно-ковочной машины. Но это противоречит моим целям; именно поэтому всегда видно, что мои изделия изготовлены вручную».
Документальный фильм, снятый компанией PBS в 2012 году, дает нам возможность заглянуть в мир Фаррера. Мы узнаем, что мастер работает в переоборудованном амбаре в сельскохозяйственной части штата Висконсин, недалеко от побережья живописного залива Стерджен озера Мичиган. Фаррер часто оставляет двери амбара открытыми (очевидно, для того, чтобы выветрился жар от кузницы), так что он работает на фоне вспаханных полей, простирающихся до горизонта. В таком идиллическом окружении его труд может на первый взгляд показаться чересчур грубым. В фильме показано, как Фаррер пытается воссоздать меч эпохи викингов. Он начинает с древнейшей методики выплавки тигельной стали — необычайно чистой (для того периода) разновидности этого металла. В результате получается слиток размером не намного больше трех-четырех сложенных стопкой смартфонов. Затем плотный слиток расковывается в нужную форму и полируется, пока не выходит длинный и изящный клинок.
«Этот этап – первоначальная проковка – самый ужасный», – признается Фаррер; камера показывает, как он методично нагревает слиток, бьет по нему молотом, поворачивает, снова бьет, после чего вновь возвращает в огонь, чтобы начать все сначала. Голос за кадром сообщает, что ему потребуется восемь часов такой ковки, чтобы довести заготовку до нужной формы. Однако, наблюдая за работой Фаррера, вы начинаете чувствовать, как ваше отношение к его работе изменяется. Понемногу становится ясно, что он не просто тупо колошматит по куску металла, как шахтер киркой, – каждый удар, несмотря на всю его мощь, тщательно выверен. Мастер внимательно вглядывается в заготовку через интеллигентские очки в тонкой оправе (которые так странно сочетаются с его окладистой бородой и широкими плечами), поворачивая ее перед очередным ударом ровно настолько, насколько нужно. «Здесь нужно действовать очень осторожно, чтобы ее не расколоть», – поясняет он. Еще несколько ударов молотом, и он добавляет: «Ее нужно как бы подталкивать, тогда она понемногу расковывается как надо; и тогда ты начинаешь получать удовольствие».
В какой-то момент, примерно посередине процесса ковки, после того как Фаррер закончил придавать заготовке желаемую форму, он начинает осторожно вращать ее в узком желобе, заполненном горящими углями. Он вглядывается в клинок, и что-то щелкает: «Готово!». Он поднимает красный от жара меч, держа его на расстоянии от себя, быстрыми шагами направляется к бочке, наполненной маслом, и погружает туда меч, чтобы охладить его. Испытав мгновенное облегчение от того, что клинок не раскололся на куски – что часто случается на этом этапе, – Фаррер снова вытаскивает его из масла. От оставшегося в металле жара масло загорается, так что клинок по всей длине охватывают оранжевые языки пламени. Фаррер могучей рукой вздымает горящий меч над головой и одно мгновение смотрит на него, прежде чем загасить пламя. Во время этой краткой паузы огонь освещает его лицо, и зритель может ощутить переполняющее мастера восхищение.
«Сделать его как положено невероятно сложно, – объясняет Фаррер. – И этот-то вызов как раз меня и заводит. Меч мне не нужен. Но я не могу их не делать!»
* * *
Рик Фаррер – мастер-ремесленник, чья работа требует, чтобы он большую часть дня проводил в состоянии полной концентрации; даже небольшое отвлечение внимания может погубить усилия многих часов. Также очевидно, что это человек, находящий огромный смысл в том, что он делает. Эта связь между сосредоточенной работой и высоким качеством жизни явственна и несомненна для многих, когда речь заходит о мире ремесленников. «Известно, что радость самовыражения через искусство своих рук делает человека спокойным и легким», – говорит Мэтью Кроуфорд. И ему нельзя не верить.
Но когда мы обращаемся к интеллектуальному труду, такая связь становится менее очевидной. Отчасти дело тут в наглядности результата. Мастеровые, такие как Фаррер, имеют дело с профессиональными задачами, которые несложно обозначить, хотя и нелегко выполнить. Если нужна ясная цель, такой дисбаланс оказывается только на пользу. Интеллектуальный труд теряет эту четкость, заменяя ее неоднозначностью: бывает трудно определить, чем в точности занимается тот или иной интеллектуальный работник и чем его работа отличается от работы другого. Порой может показаться, что весь интеллектуальный труд сводится к одному и тому же изнуряющему водовороту электронных писем и презентаций, в которых меняются лишь использованные в слайдах диаграммы. Сам Фаррер охарактеризовал эту безликость такими словами: «Мир информационных скоростных трасс и киберпространств оставил во мне чувство холодности и разочарования».
Есть еще одна причина, делающая неочевидной связь между сосредоточенной работой и чувством осмысленности в сфере интеллектуального труда, – это какофония голосов, убеждающих интеллектуальных работников тратить больше времени на поверхностную деятельность. Как было развернуто показано в предыдущей главе, мы живем в эпоху когда все, связанное с Интернетом, по умолчанию считается новаторским и необходимым. Не дающие сосредоточиться поведенческие модели, такие как привычка немедленно отвечать на электронные письма или активно присутствовать в социальных сетях, повсеместно восхваляются, в то время как уклонение от подобных вещей вызывает подозрение. Никто не станет винить Рика Фаррера за то, что он не пользуется Facebook, однако если такое же решение примет интеллектуальный работник, его тут же заклеймят как эксцентрика (как я узнал на личном опыте).
Однако хотя связь между углубленной работой и значимостью в интеллектуальном труде и не столь очевидна, это еще не значит, что ее не существует. Цель этой главы как раз и состоит в том, чтобы убедить вас, что углубленная работа действительно может приносить не меньшее удовлетворение на информационном рынке, чем на рынке ремесленном. В последующих разделах я приведу три аргумента в поддержку своих слов. Если обобщить, эти аргументы выстраиваются от концептуально узких до более широких: начиная с нейробиологического подхода, затем переходя к психологическому и заканчивая философским. Я хочу показать, что независимо от точки зрения, с которой мы рассматриваем вопрос глубины интеллектуальной работы, если мы признаем приоритет сосредоточенности над поверхностностью, мы сможем открыть для себя ту же сокровищницу смысла, откуда черпают вдохновение такие мастера, как Рик Фаррер. Соответственно основной тезис этой главы, завершающей первую часть книги, состоит в том, что углубленный подход не только экономически выгоден, но и делает жизнь более наполненной.
Нейробиологический довод в пользу глубины
Писательница и ученый Винифред Гэллахер натолкнулась на связь между вниманием и счастьем после неожиданного и ужасного опыта, когда ей был диагностирован рак: «И не просто рак, – поясняет она, – а особенно злокачественная, далеко распространившаяся его разновидность». Как вспоминает Гэллахер в своей книге «Сосредоточенность» (Rapt) 2009 года, когда она вышла из больницы с поставленным диагнозом, у нее возникло внезапное и сильное интуитивное прозрение: «Болезнь хочет полностью завладеть моим вниманием, но насколько возможно, я не дам ей этого сделать, а буду фокусироваться на моей жизни». Последовавшее за этим лечение оказалось изнурительным и кошмарным, однако Гэллахер не могла не заметить какой-то частью своего разума, отточенного многолетним опытом написания научных книг, что решение фокусировать внимание на светлых моментах – «кино, прогулки и мартини в полседьмого» – приносило на удивление богатые плоды. Она в тот период, казалось, должна была увязнуть в страхе и саможалости, однако вместо этого, замечает писательница, жизнь зачастую оказывалась весьма приятной.
Заинтересовавшись этим явлением, Гэллахер поставила перед собой задачу лучше понять ту роль, которую внимание, а именно то, на чем мы выбираем фокусироваться, и то, что предпочитаем игнорировать, играет в определении качества нашей жизни. После пяти лет научных наблюдений она пришла к убеждению, что познала «великую единую теорию» разума:
Подобно пальцам, указывающим на луну, самые разнообразные дисциплины – от антропологии до теории образования, от поведенческой экономики до семейной психологии – в один голос утверждают, что искусное управление вниманием является необходимым условием благополучной жизни и ключом к усовершенствованию буквально каждого из аспектов нашего жизненного опыта.
Эта концепция переворачивает вверх дном представление большинства людей об их субъективном переживании жизни. Как правило, мы ставим основной акцент на наших обстоятельствах, предполагая, что именно они определяют то, как мы себя чувствуем. С этой точки зрения мелкие детали нашей повседневной жизни не кажутся такими уж важными, поскольку для нас важны масштабные события – получим мы или нет новую должность, переедем ли в более удобную квартиру. Согласно Гэллахер, десятилетние исследования противоречат такому пониманию. Как выясняется, наш мозг формирует наш взгляд на мир на основании того, на что мы обращаем внимание. Если вы сосредоточены на поставленном вам роковом диагнозе, вся ваша жизнь становится несчастливой и мрачной, однако если вместо этого вы концентрируетесь на ожидающем вас в конце дня мартини, то и жизнь становится более приятной – даже несмотря на то, что обстоятельства в обоих сценариях одни и те же. Гэллахер подводит итог: «То, кем вы являетесь, что вы думаете, чувствуете и делаете, что вы любите, есть сумма того, на чем вы фокусируете свое внимание».
В «Сосредоточенности» Гэллахер делает обзор публикаций, подтверждающих такое понимание работы ума. Так, она цитирует Барбару Фредриксон, психолога из Университета Северной Каролины – исследовательницу, специализирующуюся на когнитивной оценке эмоций. Работы Фредриксон показывают, что после отрицательного или разрушительного опыта в жизни именно то, на чем фокусирует внимание человек, может дать мощную поддержку для дальнейшего движения вперед. Простые ежедневные выборы оказываются «кнопкой перезапуска» для эмоций. Фредриксон приводит в пример супружескую ссору из-за несправедливого распределения домашних обязанностей. «Вместо того чтобы продолжать концентрироваться на эгоизме и лени своего партнера, – предлагает она, – попробуйте думать о том, что по крайней мере вы дали выход назревавшему конфликту, а это первый шаг к разрешению проблемы и, следовательно, к улучшению вашего настроения». Это может показаться обычным призывом смотреть на светлую сторону вещей, однако Фредриксон обнаружила, что такое искусное использование эмоциональных «опорных точек» может привести к значительно более позитивному исходу после негативных событий.
Ученые постоянно наблюдают этот эффект в действии на нейробиологическом уровне. Приведем один пример: стэнфордский психолог Лора Карстенсен при помощи МРТ-сканера исследовала поведение мозга испытуемых, которым предлагались позитивные и негативные образы. Она обнаружила, что у молодых людей миндалевидное тело (центр эмоций) активно реагирует на оба типа изображений, в то время как при сканировании пожилых миндалевидное тело обнаруживало реакцию только на положительные изображения. По гипотезе Карстенсен, предлобная часть коры головного мозга пожилых людей научилась сдерживать работу миндалевидного тела при появлении отрицательных стимулов. Такие пожилые люди были счастливы не потому что обстоятельства их жизни сложились лучше, чем у молодых, – они были счастливы, потому что сумели перенастроить свой мозг так, чтобы игнорировать негативное и наслаждаться позитивным. Искусно управляя собственным вниманием, они смогли улучшить свой мир, не изменяя в нем ничего по существу.
* * *
Теперь давайте отступим на шаг назад и попробуем применить великую теорию Гэллахер, чтобы лучше понять роль углубленной работы в улучшении качества жизни. Эта теория говорит нам, что наш мир – результат того, на что мы обращаем внимание, поэтому рассмотрим, что происходит, когда мы посвящаем значительное количество времени сосредоточенным занятиям. Углубленной работе присущи основательность и чувство осмысленности – будь вы Риком Фаррером, кующим очередной меч, или компьютерным программистом, оптимизирующим алгоритм. Теория Гэллахер, следовательно, предсказывает, что если вы будете проводить достаточно долгое время в таком состоянии, ваш ум начнет воспринимать окружающий мир как насыщенный смыслом и значимостью.
Существует еще одна неочевидная, но не менее важная выгода в том, чтобы культивировать сосредоточенное внимание в повседневной рабочей жизни: такая углубленная концентрация перехватывает механизм вашего внимания, не давая ему замечать множество мелких неприятностей, неизбежно и непрерывно осаждающих нас. (Психолог Михай Чиксентмихайи, о котором мы узнаем больше из следующего раздела, наглядно демонстрирует эту выгоду, когда подчеркивает преимущества «концентрации настолько интенсивной, что уже не остается внимания на то, чтобы думать о чем-либо несущественном или волноваться из-за каких-то проблем».) Такая опасность наиболее ярко проявляется в интеллектуальной работе, которая из-за требования всегда быть на связи снабжает нас целым меню разрушительно-соблазнительных отвлекающих факторов – большинство из которых, если уделять им достаточно внимания, будут вытягивать смысл и значимость из мира, создаваемого вашим умом.
Чтобы сделать это утверждение более конкретным, приведу самого себя в качестве контрольного примера. Возьмем, допустим, пять последних электронных писем, отосланных мной перед тем, как я начал писать первую заготовку этой главы. Ниже я привожу строки заголовков этих писем и далее кратко пересказываю их содержание.
> Re: URGENT calnewport Brand Registration Confirmation. Это письмо было ответом на стандартную мошенническую схему, когда владельцев веб-сайтов пытаются убедить, что им необходимо зарегистрировать свой домен в Китае. Мне надоело, что они постоянно присылают мне спам, я потерял самообладание и написал ответ (разумеется, впустую), в котором сообщил им, что их попытка могла бы быть более убедительной, если бы они научились писать слово «веб-сайт» без орфографических ошибок.
> Re: S R. Переписка с одним из моих родственников о статье, которую он прочел в Wall Street Journal.
> Re: Important Advice. Переписка об оптимальной стратегии пенсионных сбережений.
> Re: Fwd: Study Hacks. Переписка, в которой я пытался договориться о встрече с одним моим знакомым, ненадолго приехавшим в наш город, – задача усложнялась тем, что у него было чрезвычайно плотное расписание и нам никак не удавалось найти удобное время.
> Re: just curious. Переписка с коллегой, где мы обсуждали некоторые острые вопросы, касающиеся наших служебных интриг (проблемы подобного рода возникают часто и типичны для научных учреждений).
Эти пять писем представляют собой неплохую выборку, которая иллюстрирует различные типы поверхностных дел, претендующих на наше внимание во время умственной деятельности. Тематика одних посланий вполне безобидна (обсуждение интересной статьи), другие несколько напряженны (разговор о пенсионных сбережениях – такие беседы всегда сводятся к тому, что ты все сделал не так, как надо), некоторые раздражают (попытка найти время для встречи двух занятых людей), а какие-то откровенно негативны (гневный ответ мошенникам или беспокоящий разговор о служебных интригах).
Множество интеллектуальных работников проводят большую часть рабочего дня в подобных поверхностных заботах. Из-за привычки постоянно проверять почтовый ящик эти вопросы остаются на первом плане, даже когда перед человеком стоит более важная задача, требующая внимания. Согласно Гэллахер, это очень бездумный способ проводить свое время, поскольку наш ум выстраивает представление о том, что в нашей работе доминируют стресс, раздражение, замешательство и скука. Другими словами, мир, порожденный вашим почтовым ящиком, – не самое приятное место для обитания.
Даже если все ваши коллеги доброжелательно к вам относятся и ваше общение всегда исполнено оптимизма и позитива, позволяя своему вниманию уплывать к соблазнительным берегам поверхностности, вы рискуете попасть в другую нейробиологическую ловушку, на которую указывает Гэллахер: «Пятилетние наблюдения за вниманием подтвердили некоторые общеизвестные истины, – сообщает исследовательница. – [Одной из них является представление, что] „праздный ум – мастерская дьявола“… когда вы теряете фокус, ваш ум склонен фиксироваться в первую очередь на том, что в вашей жизни может пойти не так, а не на том, что хорошо». С нейробиологической точки зрения рабочий день, наполненный поверхностной активностью, скорее всего, окажется изнуряющим и утомительным, даже если большая часть тех маловажных вещей, которые привлекали ваше внимание, казались вполне безобидными или веселыми.
Значение этих открытий очевидно. В работе, особенно интеллектуальной, увеличивать количество времени, проведенного в состоянии глубокого погружения, – значит использовать сложные механизмы человеческого мозга способом, который по различным нейробиологическим причинам усилит чувства осмысленности и удовлетворения, ассоциирующиеся у вас с рабочим процессом. «После моего жесткого эксперимента [с онкологическим диагнозом]… у меня сложился план на остаток жизни. Я буду тщательно выбирать свои цели… после чего стану уделять им все внимание. Коротко говоря, я буду жить сосредоточенной жизнью, поскольку лучше такой жизни нет ничего», – так заканчивает Гэллахер свою книгу. С нашей стороны будет разумно последовать примеру писательницы.
Психологический довод в пользу глубины
Второе доказательство того, что углубленная работа порождает чувство осмысленности, мы находим в работах одного из известнейших в мире психологов (и обладателя наиболее часто перевираемой фамилии) Михая Чиксентмихайи. В начале 1980-х годов Чиксентмихайи вместе со своим молодым коллегой Ридом Ларсоном из Чикагского университета изобрел новую методику, позволяющую распознавать психологическое воздействие повседневных моделей поведения. В то время было затруднительно точно измерить психологическое воздействие той или иной деятельности. Если вы приводили испытуемую к себе в лабораторию и просили ее вспомнить, что она чувствовала в определенный момент, произошедший много часов назад, она едва ли могла вам помочь. Если же вы давали ей дневник и просили записывать свои ощущения на протяжении дня, нельзя было рассчитывать, что она станет выполнять задачу с достаточным усердием, – это попросту требовало слишком много труда.
Новаторский подход Чиксентмихайи и Ларсона заключался в использовании новой (для того времени) технологии постановки вопроса перед испытуемым именно в тот момент, когда это имело значение. Проще говоря, каждому из участников эксперимента выдавался пейджер. Он подавал сигналы через случайно выбранные промежутки времени (в современном воплощении методики ту же роль играют приложения для смартфона). Когда раздавался сигнал, испытуемый должен был зафиксировать, чем он в данный момент занимается и как себя чувствует. В некоторых случаях подопытным выдавался журнал, в который они должны были заносить эту информацию, в других им следовало позвонить по телефону и ответить на вопросы лаборанта. Поскольку сигналы раздавались не так уж часто, но их было трудно проигнорировать, участники смогли честно довести эксперимент до конца. А поскольку испытуемые фиксировали эмоциональный отклик на свою деятельность в тот самый момент, когда занимались ею, их ответы были более точными. Чиксентмихайи и Ларсон назвали свой подход «методом выборки переживаний» (experience sampling method, ESM), и он сделал возможным беспрецедентное понимание того, как мы в действительности ощущаем пульс нашей повседневной жизни.
Среди многих других открытий работа Чиксентмихайи помогла подтвердить теорию, которую он развивал на протяжении всего предшествующего десятилетия: «Лучшие моменты в жизни, как правило, случаются тогда, когда тело или ум человека до предела напряжены в добровольном усилии при выполнении какой-либо трудной и достойной задачи». Чиксентмихайи называет такое состояние потоком (flow) – термин, который он популяризировал в 1990 году выпустив книгу с тем же названием. На тот момент такое открытие противоречило общепринятым представлениям. Большинство людей предполагало (как предполагают и до сих пор), что счастливыми их делает отдых. Мы все хотим меньше работать и проводить больше времени в гамаке. Однако результаты, полученные Чиксентмихайи при помощи «метода выборки переживаний», доказывают, что большинство людей понимают это неправильно:
Как ни парадоксально, наслаждаться работой в действительности проще, чем свободным временем, поскольку, будучи потоковой деятельностью, она имеет заранее заданные цели, механизмы обратной связи и установленные задачи – все это поощряет человека к вовлечению в работу, к концентрации и потере себя в ней. Для свободного же времени, с другой стороны, никаких инструкций не задано, оно требует гораздо больших усилий по формированию из него чего-то такого, чем можно наслаждаться.
Эмпирические измерения показывают, что люди, вопреки их представлениям, более счастливы, когда работают, и менее счастливы, когда отдыхают. И, как подтвердили исследования с помощью «метода выборки переживаний», чем больше таких потоковых ощущений случается за неделю, тем большее удовлетворение от жизни испытывает человек. Судя по всему, человеческие существа находятся в наилучшей форме, когда глубоко погружены в решение сложных задач.
Несомненно, существует взаимное пересечение между теорией потока и идеями Винифред Гэллахер, обрисованными в предыдущем разделе. В обоих случаях постулируется приоритет глубины перед поверхностностью, однако причины ученые объясняют по-разному. В работах Гэллахер подчеркивается, что важно содержание того, на чем мы фокусируем свое внимание: если мы уделяем наше сосредоточенное внимание значительным вещам и благодаря этому игнорируем поверхностное и негативное, то переживаем рабочий процесс как нечто более значимое и позитивное. Чиксентмихайи же в своей теории потока, напротив, по большей части безразличен к содержанию того, на что направлено наше внимание. Хотя он, скорее всего, согласился бы с исследованиями, приводимыми Гэллахер, его теория состоит в том, что ощущение погруженности само по себе дает большое удовлетворение. Нашему уму нравится сама задача, независимо от ее предмета.
* * *
К этому моменту должна быть ясна связь между сосредоточенной работой и потоком: сосредоточенная работа способна порождать потоковое состояние (Чиксентмихайи указывает, что состояние потока связано с предельным напряжением умственных способностей, концентрацией и растворением в текущей активности, – все это также применимо и к сосредоточенной работе). И, как мы только что узнали, поток порождает счастье. Соединив эти два понятия, мы получаем мощный психологический аргумент в пользу глубины. Десятилетние исследования, берущие начало от экспериментов Чиксентмихайи с «методом выборки переживаний», подтвердили, что сам акт погружения в работу упорядочивает сознание, придавая жизни ценность. Чиксентмихайи доходит даже до утверждения, что современные компании должны взять эту идею на вооружение, и настаивает на том, что «рабочие задания должны быть переформулированы так, чтобы как можно больше напоминать потоковую деятельность». Отмечая, однако, что такая переработка способна вызвать трудности и конфликтные ситуации (см., например, мои доводы из предыдущей главы), Чиксентмихайи тут же объясняет, что гораздо важнее, чтобы сами люди учились отыскивать благоприятные возможности для потока. В этом, в конечном счете, и состоит урок, который мы должны вынести из нашего краткого экскурса в мир экспериментальной психологии: необходимо строить свою трудовую деятельность на переживании потока, возникающем на основе сосредоточенной работы, и тогда это станет прямым путем к глубочайшему удовлетворению.
Философский довод в пользу глубины
Наш последний довод в пользу связи между глубиной и смыслом требует от нас отойти на шаг от нейробиологии и психологии и посмотреть на вопрос с философской точки зрения. И тут я обращусь за помощью к двум ученым, хорошо знакомым с данным предметом, – Хьюберту Дрейфусу, который более сорока лет был профессором философии в Беркли, и Шону Доррансу Келли, на момент написания этой главы возглавляющему философский факультет в Гарварде. В 2011 году Дрейфус и Келли опубликовали книгу «Сплошное сияние» (All Things Shining), где исследуется эволюция понятий священного и значимого на протяжении истории человеческой культуры. Ученые задались целью реконструировать эту историю, поскольку их беспокоило то, что она заканчивается. «Прежде мир, в его различных формах, был миром священного, сияющего, – поясняют Дрейфус и Келли в начале книги. – Теперь это сияние, кажется, ушло безвозвратно».
Что же случилось в промежутке между тогда и теперь? Как утверждают авторы, можно ответить коротко: Декарт. Из декартова скептицизма произошло радикальное представление о том, что индивид, ищущий точного знания, превосходит Бога или короля, наделяющего истиной. Последовавшая за этим эпоха Просвещения, несомненно, привела к концепции прав человека и освободила от гнета многих людей. Однако, как подчеркивают Дрейфус и Келли, невзирая на все благо, достигнутое на политической арене, в области метафизического такое мышление изгнало из мира порядок и понятие священного, порождавшие смысл. После эпохи Просвещения человек был вынужден сам определять, что значимо, а что нет, – практика, которая может показаться слишком свободной и постепенно ведущей к нигилизму. «Метафизическое приятие Просвещением человека как независимого индивидуума приводит нас не просто к скучной жизни, – пишут Дрейфус и Келли, – оно почти неизбежно приводит к жизни, непригодной для проживания».
Эта проблема поначалу может показаться слишком далекой от наших попыток понять, как углубленная работа приносит удовлетворение, однако если мы перейдем к предлагаемым Дрейфусом и Келли решениям, то обнаружим новое глубокое понимание источника смысла в профессиональной деятельности. Связь между этими двумя предметами покажется не столь неожиданной, когда мы откроем, что ответ Дрейфуса и Келли на современный нигилизм опирается на ремесленное мастерство – то самое, с которого мы начали эту главу.
Мастерство ремесленника, доказывают Дрейфус и Келли в заключении своей книги, дает ключ к новому открытию чувства священного в ответственном подходе к своему делу. Чтобы проиллюстрировать это утверждение, они приводят в качестве примера ремесло колесника – ныне утраченное искусство изготовления деревянных колес для фургонов. «Ведь каждый кусок дерева отличается от другого, имеет свои неповторимые особенности, – пишут они в завершении пассажа, описывающего детали колесного ремесла. – Мастер, работающий с деревом, развивает глубокое понимание материала. Он должен оценить и использовать все его незаметные достоинства». Именно в этой заботе о «незаметных достоинствах» материала, отмечают авторы, ремесленник сталкивается с феноменом, который приобрел важнейшее значение после эпохи Просвещения: источником смысла, находящимся вне человека. Колесник не может произвольно решать, какие из достоинств дерева, с которым он работает, имеют ценность, а какие нет, – эта ценность уже заключена в материале и в той задаче, для которой он предназначен.
Согласно объяснению Дрейфуса и Келли, такое чувство священного является общим для всех ремесел. Задача мастерового, подытоживают они, «заключается не в создании смысла, но скорее во взращивании в себе самом навыка распознавать смыслы, которые уже существуют». Это освобождает ремесленника от нигилизма, присущего автономному индивидуализму, создавая упорядоченный мир, исполненный смысла. В то же самое время такая осмысленность кажется более надежной, нежели упомянутые источники из предыдущих эпох, – авторы имеют в виду что колесник едва ли станет использовать качества, неотъемлемо присущие сосновому брусу, для оправдания деспотической монархии.
* * *
Возвращаясь к вопросу о профессиональном чувстве удовлетворения: предлагаемая Дрейфусом и Келли интерпретация ремесленного мастерства как пути к осмысленности открывает глубинное понимание того, почему работа таких людей, как Рик Фаррер, находит отклик в столь многих из нас. Как могли бы сказать эти философы, радость на лице Фаррера, когда он работает, создавая произведение искусства из куска металла, есть признак наслаждения тем, что в современном мире существует лишь мимолетно, но имеет большую ценность: проблеск священного.
Поняв это, далее мы можем объединить чувство священного, укорененное в традиционном ремесленничестве, с миром интеллектуального труда. Сперва необходимо сделать два ключевых наблюдения. Первое может показаться очевидным, но все же следует подчеркнуть: нет ничего неотъемлемо присущего именно ручным ремеслам, когда речь заходит об этом конкретном источнике смысла. Любое занятие, относится оно к физическому труду или к умственному, требующее высокого уровня мастерства, может порождать чувство священного.
Развивая это утверждение, давайте отойдем от старины с ее работой по дереву и ковкой металла и возьмем более современный пример – компьютерное программирование. Вот цитата из интервью компьютерного гения Сантьяго Гонсалеса, описывающего свою работу:
Красивый код всегда краток и лаконичен, так что если вы его покажете другому программисту, он скажет: «О, вот это здорово написано!» Все равно, как если бы вы писали стихи.
Гонсалес говорит о компьютерном программировании точно так же, как работники по дереву отзываются о своем ремесле во фрагментах, цитируемых Дрейфусом и Келли.
В книге «Программист-прагматик»[7], пользующейся большим уважением в сфере компьютерного программирования, он проводит параллель между программированием и старинными ремеслами более непосредственно, цитируя в предисловии кредо средневековых каменотесов: «Обтесывая камни, думай о соборах, которые будут из них строиться». После этого в книге утверждается, что программист должен представлять себе свою работу таким же образом:
В общей структуре проекта всегда найдется место индивидуальности и мастерству… Через сотню лет современные методы программирования, возможно, будут казаться не менее архаичными, чем сегодня кажутся методы строительства средневековых соборов, но наше мастерство по-прежнему будет в почете.
Говоря другими словами, вовсе не обязательно трудиться в амбаре на открытом воздухе, чтобы ваши усилия можно было считать мастерством, порождающим значимую вещь, о чем говорили Дрейфус и Келли. Не меньший потенциал можно найти и в большинстве высококвалифицированных работ в сфере информации. Будь вы писателем, специалистом по маркетингу, консультантом или юристом, ваша работа – это ваше мастерство, и если вы станете оттачивать свои способности и относиться к ним уважительно и внимательно, то, подобно искусному колесному мастеру, сможете привнести смысл в каждое усилие своей повседневной профессиональной жизни.
Здесь кто-то возразит, что его интеллектуальная работа никоим образом не может стать подобным источником смысла, поскольку связана со слишком обыденными вещами. Однако в таком подходе таится ошибка, и обращение к примеру традиционных ремесел поможет нам ее исправить. В современном обществе придается чересчур большое значение содержанию работы. Наше маниакальное стремление «следовать за своей страстью» (служащее предметом рассмотрения моей предыдущей книги), например, опирается на идею (ошибочную), что удовлетворение от работы зависит в первую очередь от того, какую именно работу вы выберете. Создается впечатление, будто есть какие-то особенные занятия, которые способны приносить радость, – возможно, работа в некоммерческой организации или построение компании по разработке программного обеспечения, – в то время как все остальные бездуховны и пресны. Философия Дрейфуса и Келли помогает нам освободиться из подобной ловушки. Ремесленники, о которых они пишут, не имели «особенных» профессий. На протяжении почти всей человеческой истории в ремесле кузнеца или колесного мастера не было ничего столь уж привлекательного. Но это и не имело значения, поскольку конкретное содержание работы было несущественно. Смысл, раскрывающийся в труде, возникает благодаря мастерству и наслаждению, изначально присущим ремесленному делу, – результат работы здесь ни при чем. Иначе говоря, в деревянном колесе нет ничего благородного, но может быть благородным труд по его созданию. То же самое применимо и к интеллектуальному труду. Вам вовсе не нужна «особенная» работа – вам необходим особенный подход к своему делу.
Второе ключевое наблюдение состоит в том, что достижение мастерства в своем деле обязательно требует глубокого подхода, а следовательно, готовности к погружению в работу. (Вспомним мои доводы в первой главе о том, что углубленная работа необходима для оттачивания своих умений и их последующего применения на высочайшем уровне, – это основные условия любого мастерства.) Поэтому углубленная работа играет ключевую роль в извлечении смысла из вашей деятельности, как это было описано Дрейфусом и Келли. Отсюда следует, что, работая в своей области углубленно и разви�
Серия «Библиотека программиста»
Права на издание получены по соглашению с Grand Central Publishing
© 2016 by Cal Newport
© Перевод на русский язык ООО Издательство «Питер», 2017
© Издание на русском языке, оформление ООО Издательство «Питер», 2017
© Серия «Библиотека программиста», 2017
Вступление
В швейцарском кантоне Санкт-Галлен, близ северного берега Цюрихского озера, есть деревушка под названием Боллинген. В 1922 году ученый-психиатр Карл Юнг избрал это место для строительства своего убежища. Вначале это было двухэтажное каменное здание, получившее название Башня. Затем, вернувшись из поездки по Индии, где принято иметь при жилище специальное помещение для медитации, Юнг расширил постройку, добавив к ней личный кабинет. «В моей комнате для уединения я полностью принадлежу себе, – говорил Юнг. – Ключ всегда при мне, в кабинет никому не дозволяется входить без моего разрешения».
В своей книге «Ежедневные ритуалы» журналист Мейсон Карри, исследуя различные источники, воссоздает рабочий график знаменитого психиатра в его Башне. Юнг, пишет Карри, вставал в семь часов утра и после сытного завтрака проводил два часа в личном кабинете, где писал, ни на что не отвлекаясь. Его вечерние часы часто занимала медитация или долгие прогулки по окрестностям. В Башне не было электричества, так что, когда солнце садилось, дом освещали лишь масляные лампы и огонь в камине. В десять часов вечера Юнг отходил ко сну. «С самого начала в этой башне меня не покидало сильнейшее чувство покоя и отдохновения», – говорил он.
Однако не стоит думать, что Башня в Боллингене была местом отдыха. Если мы примем во внимание деятельность Юнга на тот момент, то ясно поймем, что пристанище на берегу озера строилось не для того, чтобы отлынивать от работы. В 1922 году, когда Юнг приобрел этот участок земли, он не мог себе позволить удалиться на покой. Всего лишь годом раньше, в 1921-м, он опубликовал свои «Психологические типы» – основополагающий труд, где были собраны и сформированы все различия во взглядах Юнга и его прежнего друга и учителя Зигмунда Фрейда. Для того чтобы в 1920-х годах не соглашаться с Фрейдом, требовалась немалая смелость. Юнгу было необходимо не терять хватку и подкреплять свою книгу оригинальными статьями и публикациями, где он формулировал и разъяснял основные положения аналитической психологии — такое название получило в конечном счете созданное им новое направление мысли.
Лекции и консультационная практика предоставляли Юнгу обширное поле деятельности в Цюрихе, это несомненно. Но одной работы было для него недостаточно. Он стремился изменить само наше понимание бессознательного, а эта цель требовала от него более глубокого, более тщательного изучения предмета, чего он не мог добиться в сутолоке городской жизни. Поэтому Юнг удалился в Боллинген – не для того, чтобы убежать от своей профессиональной деятельности, но для того, чтобы еще больше погрузиться в нее.
Впоследствии Карл Юнг стал одним из наиболее влиятельных мыслителей двадцатого столетия. Достигнутый им успех, безусловно, имеет не одну причину. В этой книге, однако, меня интересует лишь его преданность принципу, несомненно сыгравшему ключевую роль в его дальнейших достижениях, а именно:
Углубленная работа – профессиональная деятельность, выполняемая в состоянии безраздельной концентрации, для чего требуется предельное напряжение мыслительных способностей. Такое усилие приводит к созданию новых ценностей и увеличивает мастерство исполнителя, его результаты трудно воспроизводимы.
Погружение в работу абсолютно необходимо, если мы хотим извлечь из интеллектуальных способностей, которыми на данный момент обладаем, все до последней капли. Сейчас, после многолетних исследований в области психологии и нейробиологии, нам известно, что состояние умственного напряжения, сопровождающее углубленную работу, необходимо также для расширения наших возможностей. Другими словами, погружение в работу – как раз такой тип усилия, который был нужен, чтобы выделиться в области, требующей интеллектуальных способностей, каковой являлась академическая психиатрия в начале двадцатого столетия.
Употребленный мной термин «углубленная работа» не принадлежит Карлу Юнгу – сам ученый никогда им не пользовался; однако его деятельность, относящаяся к тому периоду, показывает, что он прекрасно понимал стоящий за этими словами смысл. Юнг выстроил в лесу каменную башню, чтобы с головой погрузиться в работу, – задача, требовавшая времени, усилий и денег. Помимо прочего, пребывание в Башне помогало ему отвлечься от более повседневных занятий. Мейсон Карри пишет, что регулярные отлучки Юнга в Боллинген происходили в ущерб его работе с пациентами, и добавляет: «Несмотря на множество пациентов, полагавшихся на его искусство, Юнг не стеснялся брать лишний выходной». Предпочесть погружение в работу всему остальному – непростое решение, но оно было необходимо, чтобы достичь целей по преобразованию мира, которые поставил перед собой ученый.
В самом деле, если посмотреть на жизнь других известных людей, сыгравших роль как в древней, так и в новейшей истории, можно обнаружить, что погружение в работу было для всех них общей чертой. Писателя XVI века Мишеля де Монтеня, к примеру, в этом смысле можно назвать предтечей Юнга – он также работал в своей личной библиотеке, которую устроил в южной башне, возвышавшейся над каменными стенами его французского шато; а Марк Твен написал большую часть «Приключений Тома Сойера» в хижине на территории фермы Куорри в штате Нью-Йорк, где проводил лето. Рабочий кабинет Твена был настолько изолирован от основного здания, что его домашним приходилось трубить в рожок, чтобы позвать писателя к обеденному столу.
Возвращаясь к нашему времени, можно рассмотреть пример кинорежиссера и сценариста Вуди Аллена. За сорокачетырехлетний период, с 1969 по 2013 год, он выступил сценаристом и режиссером сорока четырех фильмов, двадцать три из которых удостоились премии «Оскар», – невероятная производительность. За все это время Аллен ни разу не воспользовался компьютером; все свои работы он отпечатал вручную, на немецкой машинке Olympia SM3, не отвлекаясь на электронные устройства. В неприятии компьютеров Аллена поддерживает и Питер Хиггс, физик-теоретик, который занимается своей работой в таком уединении, что журналисты даже не смогли его отыскать, когда он был объявлен лауреатом Нобелевской премии. Джоанна К. Роулинг, с другой стороны, хотя и пользуется компьютером, но известна тем, что во время работы над всеми книгами о Гарри Поттере воздерживалась от социальных сетей и интернет-общения, хотя в то время интернет-технологии стремительно развивались и становились все популярнее среди деятелей медиа. В конце концов сотрудники Роулинг завели от ее имени аккаунт в Twitter — это произошло осенью 2009 года, когда она работала над «Случайной вакансией», – и за первые полтора года там появилась единственная запись: «Это действительно я, но боюсь, вы вряд ли будете часто меня видеть, поскольку в настоящий момент моими приоритетами являются ручка и бумага».
Разумеется, говоря о погружении в работу, нельзя ограничиваться только историческими примерами или случаями технофобии. Глава компании Microsoft Билл Гейтс, как известно, дважды в год устраивал себе «неделю размышлений» (Think Week), на протяжении которой не делал ничего, только читал и обдумывал глобальные проблемы. Именно во время такой «недели размышлений» в 1995 году Гейтс написал свой знаменитый меморандум «Приливная волна Интернета» (Internet Tidal Wave), обративший внимание сотрудников на недавно созданную компанию под названием Netscape Communications. И как это ни парадоксально, прославленный писатель в жанре киберпанк Нил Стивенсон, благодаря которому, в частности, сформировалось распространенное сейчас представление об эре Интернета, почти недостижим средствами электронной связи – на его веб-сайте не указано никаких адресов электронной почты, зато есть заметка, объясняющая, почему писатель целенаправленно избегает пользоваться социальными медиа. Вот как он сам это объясняет: «Если я смогу организовать свою жизнь таким образом, чтобы она состояла из долгих, последовательных, ничем не нарушаемых периодов времени, то смогу писать романы. [Если же меня все время будут прерывать], что из этого получится? Вместо романа, который проживет долго… останется лишь кучка электронных сообщений, отосланных мной нескольким отдельным людям».
Подчеркнуть, насколько распространен такой подход к работе среди людей, значимых для общества, представляется особенно важным, поскольку это резко контрастирует с образом жизни большинства современных интеллектуальных работников – группы, стремительно забывающей о том, насколько важно сосредоточение.
Причина, по которой люди, занятые интеллектуальным трудом, разучились погружаться в работу, хорошо известна: это сетевые технологии. В эту широкую категорию входят и средства связи, такие как электронная почта и SMS-сообщения, и социальные сети наподобие Twitter и Facebook, и сверкающий клубок информационно-развлекательных сайтов, таких как BuzzFeed или Reddit. Развитие этих технологий, в совокупности с повсеместным доступом к ним посредством смартфонов и подключенных к сети персональных компьютеров, раздирает внимание в клочья. Исследование, проведенное Маккинси в 2012 году, показало, что современный работник интеллектуального труда в среднем проводит более 60 % рабочего времени за сетевым общением и интернет-поиском, причем почти 30 % рабочих часов приходится только на чтение электронной почты и написание ответов.
Такое состояние фрагментированного внимания не может сочетаться с углубленной работой, требующей долгих периодов ничем не прерываемого обдумывания. Однако в то же время нельзя сказать, что современные интеллектуальные работники бездельничают. Фактически, согласно отчетам, они заняты не меньше, чем прежде. В чем же состоит различие? Многое прояснится, если ввести понятие, противопоставленное идее погружения в работу:
Поверхностная работа – не требующие интеллектуального напряжения задачи вычислительного типа, часто выполняемые в состоянии рассеянного внимания. Как правило, такие усилия не приводят к созданию в мире новых ценностей и легко воспроизводимы.
Другими словами, в эпоху сетевых технологий работники интеллектуального труда все чаще заменяют углубленную работу ее поверхностным вариантом, без конца обмениваясь электронными посланиями, словно очеловеченные маршрутизаторы, с частыми перерывами на быстрые дозы развлечений. Более масштабные проекты, которые требуют серьезных размышлений, такие как формирование новой деловой политики или написание заявки на важный грант, раздергиваются на разрозненные куски, в результате чего страдает их качество. Есть еще одна плохая новость: поступает все больше доказательств того, что сдвиг в сторону поверхностности – не тот выбор, от которого можно в любой момент отказаться. После того как достаточное количество времени проведено в маниакально-поверхностном состоянии, способность глубоко погружаться в работу теряется навсегда. «Похоже на то, что Интернет лишает меня способности к концентрации и глубокому размышлению, – признается журналист Николас Карр в своей широко цитируемой статье 2008 года в журнале Atlantic. – И я такой не один». Впоследствии Карр развил это положение в своей книге «Пустышка» (The Shallows), номинировавшейся на Пулитцеровскую премию. Вполне объяснимо, что для написания «Пустышки» Карр был вынужден переселиться в отдельную хижину и не выходить в Сеть.
Мысль о том, что сетевые технологии выталкивают качество работы с глубины на поверхность, далеко не нова. «Пустышка» была лишь первой из целого ряда современных книг, исследующих воздействие Интернета на наш мозг и трудовые навыки. В этой связи можно упомянуть такие названия, как «Blackberry для Гамлета» (Hamlet's BlackBerry) Уильяма Пауэрса, «Тирания электронной почты» (The Tyranny of E-mail) Джона Фримена и «Приверженность к отвлечениям» (The Distraction Addiction) Алекса Суджан-Ким Пэнга, – все упомянутые авторы в большей или меньшей степени согласны в том, что сетевые технологии отвлекают нас от задач, требующих безраздельной концентрации, одновременно подрывая нашу способность к сосредоточению внимания.
Учитывая уже существующий массив данных, я не буду тратить время на дальнейшие попытки акцентировать этот момент в своей книге. Полагаю, мы можем с полным правом принять за данность, что сетевые технологии оказывают отрицательное влияние на углубленную работу. Также я уклонюсь от обсуждения различных веских доводов относительно социальных последствий такого сдвига в долгосрочном прогнозе, поскольку в подобных дискуссиях, как правило, зияют огромные дыры. На одной стороне находятся техноскептики вроде Джарона Ланье и Джона Фримена, подозревающие, что пресловутые технологии, по крайней мере в их нынешнем виде, разрушают общество; на другой стороне – технооптимисты вроде Клайва Томпсона, которые доказывают, что новшества действительно изменяют общество, но в чем-то нам от этого станет только лучше. Так, например, не исключено, что наша память слабеет из-за пользования Google, но хорошая память нам больше и не нужна, поскольку теперь мы можем в несколько мгновений найти в Сети все необходимое.
У меня нет своей позиции в этом философском диспуте. Мой интерес в данном вопросе может быть более или менее выражен тезисом гораздо более прагматического и индивидуального характера, а именно: происшедший в нашей культуре труда сдвиг в сторону поверхностного, независимо от того, считаете вы его злом или благом, открывает огромные экономические и персональные возможности для тех немногих, кто осознает потенциал сопротивления этому тренду и выберет глубину. Именно этой возможностью не так давно воспользовался заскучавший молодой консультант из Вирджинии по имени Джейсон Бенн.
Существует множество способов обнаружить, что вы не имеете большой ценности для экономики страны. Джейсон Бенн усвоил этот урок, когда, вскоре после вступления в должность финансового консультанта, осознал, что подавляющее большинство его рабочих обязанностей может быть автоматизировано при помощи состряпанного «на коленке» скрипта для Excel.
Фирма, в которую устроился Бенн, занималась подготовкой отчетов для банков, специализирующихся на сложных сделках. («Насколько интересным было это занятие, можно понять уже по тому, как оно звучит», – пошутил Бенн в одном из наших интервью.) Процесс подготовки отчета включал в себя многочасовые манипуляции вручную с данными, представленными в виде таблиц Excel. Поначалу у Бенна уходило до шести часов на каждый отчет (наиболее продвинутые и закаленные сотрудники выполняли эту же задачу приблизительно вдвое быстрее). Легко понять, что Бенну это было совсем не по душе.
«В том виде, в каком мне его показали, этот процесс выглядел громоздким и требующим больших усилий», – вспоминает Бенн. Ему было известно, что программа Excel включает в себя функцию под названием «макрос», позволяющую пользователям автоматизировать однообразные задачи. Почитав статьи по теме, Бенн в скором времени смог подготовить новую электронную таблицу, напичканную макросами, благодаря которым шестичасовой процесс ручной обработки данных сводился к нескольким щелчкам мыши. Написание отчета, на которое прежде уходил полный рабочий день, теперь занимало у Бенна меньше получаса.
Бенн был сообразительный парень. Он закончил элитный Университет Вирджинии с дипломом экономиста и, подобно многим своим однокурсникам, имел далеко идущие профессиональные планы. Однако он быстро сообразил, что у этих планов нет никаких шансов на осуществление, пока его рабочие обязанности могут быть выполнены макросом для Excel. Бенн понял, что ему необходимо повысить свою значимость для окружающего мира. Потратив некоторое время на исследования, Бенн пришел к решению: он объявил своей семье, что больше не хочет работать электронной таблицей и собирается уйти с работы, чтобы стать программистом. Однако, как часто бывает с подобными грандиозными планами, здесь имелась одна неувязка: Джейсон Бенн понятия не имел, как пишутся программы.
Будучи ученым-специалистом в области вычислительной техники, я могу подтвердить то, что и так очевидно: написание компьютерных программ – задача не из легких. Большинство начинающих разработчиков тратят по четыре года на обучение в университете, чтобы разобраться что к чему, прежде чем получат первую работу – и даже после этого их ждет жесткое соревнование за лучшие места. У Джейсона Бенна не было на это времени. После прорыва с Excel он ушел со своей работы в финансовой конторе и окопался дома, чтобы подготовиться к следующему шагу. Его родители радовались, что у него есть план, но им не нравилась перспектива того, что его пребывание дома может оказаться долговременным. Бенну предстояло обучиться сложному мастерству – и сделать это быстро.
Тут-то Бенн и столкнулся с той же проблемой, которая мешает многим интеллектуальным работникам выйти на тропу стремительного карьерного роста. А именно: для обучения такому непростому искусству как программирование, необходимо пристальное, безраздельное сосредоточение на концепциях, требующих интеллектуального напряжения – сосредоточенность такого типа, какой привел Карла Юнга на берег Цюрихского озера. Говоря другими словами, эта задача требовала погружения в работу с головой. Однако большинство интеллектуальных работников, как я уже говорил выше, потеряли способность к такому погружению, и Бенн не был исключением из этого правила.
«Я постоянно вылезал в Интернет проверить электронную почту; я не мог удержаться. Это не зависело от моей воли», – так описывал Бенн свое состояние в период, предшествовавший его уходу из финансовой конторы. Чтобы подчеркнуть, с какими трудностями он сталкивался при попытке сосредоточиться, Бенн рассказал мне об одном проекте, который ему как-то поручил его непосредственный начальник. «От меня требовалось составить бизнес-план», – пояснил он. Бенн понятия не имел, как составляются такие документы, поэтому он решил предварительно ознакомиться с пятью существующими бизнес-планами, сравнивая и сопоставляя их друг с другом, чтобы понять, в чем заключается его задача.
Идея была правильная, но имелась одна проблема. «Я все время терял нить», – признавался Бенн впоследствии. На протяжении этого периода случались целые дни, когда он едва ли не все свое время («девяносто восемь процентов моего рабочего дня») тратил на сидение в Интернете. Порученный Бенну проект – возможность отличиться в самом начале его карьеры – так и не был доведен до завершения.
Ко времени своего ухода из фирмы Бенн уже прекрасно осознавал свои трудности с погружением в работу поэтому когда он решил посвятить себя программированию, он знал, что одновременно ему придется обучить свой ум глубоко сосредоточиваться на предмете. Методику он избрал суровую, но эффективную. «Я заперся на замок в комнате, в которой не было компьютера – только учебники, карточки для заметок и маркер». Он подчеркивал важные места в книгах по программированию, переносил идеи на карточки, а затем вслух зачитывал получившееся. Вначале такие периоды свободы от электронных отвлечений давались нелегко, но Бенн не оставил себе иного выбора: усвоить материал было абсолютно необходимо, и он позаботился о том, чтобы в комнате ничто не могло сбить его с мысли. Однако со временем концентрация стала даваться ему лучше, и в конце концов он дошел до того, что регулярно проводил по пять или более часов в день в своем кабинете, безраздельно сосредоточившись на обучении новому трудному предмету. «К тому моменту, как я закончил, я прочел, наверное, около восемнадцати книг по теме», – вспоминает Бенн.
После двух месяцев, проведенных взаперти и посвященных занятиям, Бенн принял участие в известном своей сложностью учебном курсе Dev Bootcamp, представляющем собой обучающую программу по вебпрограммированию, рассчитанную на работу по сто часов в неделю. (Во время изучения программы Бенн познакомился с принстонским выпускником со степенью PhD, который признавался, что Dev — самое трудное, что ему доводилось преодолеть в своей жизни.) Благодаря своей подготовке, а также новоприобретенной способности погружаться в работу Бенн одолел курс. «Иногда люди приходят неподготовленными, – рассказывал он. – Они не могут сосредоточиться. Не могут быстро обучаться». Лишь половина тех, кто взялся за курс, сумели пройти его в установленный срок. Бенн был в их числе. Он не только прошел курс – он оказался лучшим в своем потоке.
Умение погружаться в работу оправдало себя. Прошло немного времени, и Бенн нашел себе место разработчика программного обеспечения в сан-францисском технологическом стартапе с венчурным капиталом в 25 миллионов долларов и собственным штатом сотрудников. Когда всего лишь полугодом раньше Бенн покидал свою должность финансового консультанта, он зарабатывал 40 тысяч долларов в год. Новая работа принесла ему 100 тысяч долларов – и эта сумма продолжала расти вместе с уровнем его мастерства; по сути, на рынке Кремниевой долины заработок хорошего программиста не ограничен ничем.
Когда я в последний раз беседовал с Бенном, он процветал на новом месте. Будучи новоявленным адептом углубленной работы, он снял себе квартиру напротив офиса, что позволяло ему появляться на месте пораньше, пока никто еще не пришел, и поработать не отвлекаясь. «Бывали дни, когда мне удавалось урвать четыре часа концентрации до первой деловой встречи, – рассказывал он мне. – И потом еще, может быть, три-четыре часа вечером. Причем я имею в виду настоящую концентрацию: никакой электронной почты, никаких „Hacker News“ [название популярного среди компьютерщиков веб-сайта], только программирование». Если вспомнить, что речь идет о человеке, который, по его собственному признанию, на старой работе порой до 98 % рабочего времени проводил в Интернете, трансформация Джейсона Бенна не может не показаться поразительной.
История Джейсона Бенна иллюстрирует важнейший урок: углубленная работа – это не какая-то надуманная ностальгическая концепция, изобретенная писателями и философами начала XX века, наоборот, это умение, имеющее величайшую ценность прямо сейчас.
Тому есть две причины. Первая из них относится к процессу обучения. Наша информационная экономика зависит от комплексных систем, которые быстро изменяются. Так, например, некоторые из компьютерных языков, выученных Бенном, не существовали десять лет назад и, скорее всего, через десять лет устареют. Точно так же те, кто пришел в сферу маркетинга в 1990-е годы, скорее всего, не имели представления о том, что сегодня им придется овладевать цифровой аналитикой. Таким образом, для того чтобы сохранить свою ценность в нынешней экономике, необходимо овладеть искусством быстро обучаться сложным вещам. Такая задача требует погружения в работу. Если вам не удастся выработать у себя эту способность, скорее всего, вы не будете поспевать за развитием технологий.
Вторая причина заключается в неоднозначных последствиях революции цифровых сетей. С одной стороны, если вы сможете создать что-либо нужное людям, доступная вам аудитория (будь то работодатели или покупатели) окажется практически бесконечной, что в значительной мере увеличит ваше вознаграждение. С другой стороны, если ваш продукт будет среднего качества, то вы выходите из игры, поскольку для аудитории не составит никакого труда найти в сети лучшую альтернативу. Будь вы программистом, писателем, маркетологом, консультантом или предпринимателем, вы сейчас находитесь в той же ситуации, что и Юнг, когда он пытался помериться силами с Фрейдом, или Джейсон Бенн, завоевывавший место в престижном стартапе: чтобы достичь успеха, вам необходимо выдать самый лучший результат, на какой вы только способны. А такая задача требует углубленной работы.
Потребность в углубленной работе стала расти лишь недавно. В промышленной экономике существовал низкоквалифицированный труд и класс профессионалов, для которых концентрация на своем деле была жизненно необходима; однако большинство работников могли прекрасно существовать и без способности концентрироваться. Им платили за то, чтобы они двигали рычаги, – и год от года содержание их работы не особенно менялось. Однако по мере нашего перехода к информационной экономике все большая часть населения начинает заниматься интеллектуальным трудом, и углубленная работа становится основной валютой, даже если многие до сих пор и не осознали этого факта.
Другими словами, углубленная работа не есть некое старомодное искусство, давно потерявшее свое значение, – это ключевое умение для любого, кто надеется продвигаться вперед в условиях общемировой соревновательной информационной экономики, готовой разжевать и выплюнуть любого, кто не оправдывает свою зарплату. Настоящая награда ожидает не тех, кто способен пользоваться Facebook (легковыполнимая и воспроизводимая задача), но тех, кто способен разрабатывать инновационные распределенные системы, управляющие этим сервисом (несомненно сложная и трудновоспроизводимая задача). Углубленная работа настолько важна, что мы вполне можем, вслед за бизнес-писателем Эриком Баркером, назвать ее «суперспособностью XXI века».
Итак, мы рассмотрели две концепции: одна отмечала растущую нехватку в углубленной работе, а другая ее растущую ценность, – которые теперь можем объединить в одну идею, являющуюся основой для всего, что будет сказано в этой книге, а именно:
Теорема углубленной работы: способность погружаться в работу становится все более редкой как раз в то время, когда она приобретает все большую ценность для экономики. Следовательно, те немногие, кто сможет выработать в себе это умение и затем сделать его основой своей трудовой жизни, добьются успеха на своем поприще.
Эта книга имеет две цели, которые рассматриваются каждая в своем разделе. Первая, излагаемая в первой части: убедить вас в том, что теорема углубленной работы действительно верна. Вторая, которой посвящена вторая часть, должна научить вас, как воспользоваться существующим положением вещей, тренируя свой мозг и трансформируя свои рабочие навыки так, чтобы сделать углубленную работу основой вашей профессиональной деятельности. Однако прежде, чем переходить к конкретным деталям, я хотел бы потратить несколько минут на объяснение того, как я стал таким ярым приверженцем концентрации.
На протяжении последних десяти лет я развивал свою способность концентрироваться на сложных предметах. Для того чтобы понять, откуда взялся этот интерес, следует знать, что моя область знаний – теоретические основы вычислительной техники, и я готовился к написанию своей докторской диссертации в составе знаменитой группы теории вычислений при Массачусетском технологическом институте (MIT). В таком профессиональном окружении способность фокусироваться на проблеме считалась необходимым навыком.
На протяжении этих лет я работал в кабинете, отведенном для аспирантов, а дальше по коридору размещался человек, выигравший макартуровский «грант для гениев» – профессор, которого пригласили читать лекции в MIT еще до того, как ему было официально разрешено употреблять спиртные напитки. Этого ученого нередко можно было застать в общем кабинете – он сидел, уставившись на исписанную доску, в окружении группы студентов, которые так же безмолвно сидели вокруг и смотрели туда же. Такое могло продолжаться часами. Я уходил на обеденный перерыв, возвращался – они все сидели. Связаться с этим профессором неимоверно трудно. Его нет в Twitter, и если вы с ним не знакомы, то он вряд ли ответит на ваше электронное письмо. За прошлый год он опубликовал шестнадцать статей.
Такого рода яростной концентрацией была пропитана атмосфера моих студенческих лет. Неудивительно, что вскоре и у меня возникла не меньшая приверженность к сосредоточению. К досаде как моих друзей, так и многочисленных издателей, с которыми мне довелось иметь дело во время работы над моими книгами, у меня никогда не было аккаунта на Facebook, в Twitter или в других социальных сетях, за исключением собственного блога. Я не имею привычки лазить по Интернету и узнаю новости в основном по Национальному общественному радио и из Washington Post, которую мне приносят на дом. Как правило, до меня трудно достучаться: на моем личном сайте не указан адрес электронной почты, а первый смартфон появился у меня лишь в 2012 году (тогда моя беременная жена поставила мне ультиматум: «Ты должен обзавестись телефоном, по которому можно дозвониться, прежде чем у нас родится сын!»).
С другой стороны, моя преданность сосредоточенной работе принесла свои плоды. За десятилетний период после окончания университета я выпустил четыре книги, защитил докторскую диссертацию, написал некоторое количество научных работ, высоко оцененных специалистами, и получил должность преподавателя в Джорджтаунском университете с перспективой бессрочного продолжения контракта. Причем этих весомых результатов я достиг, лишь изредка засиживаясь за работой позднее пяти-шести часов вечера на протяжении рабочей недели.
Такое сжатое расписание оказалось возможным благодаря тому, что я приложил значительные усилия, чтобы исключить из своей жизни все мелочное, одновременно стараясь выжать из освободившегося времени как можно больше. Я всегда тщательно обдумываю, чем должен заняться, и строю свой рабочий день на основе сосредоточенной работы, а ту поверхностную деятельность, которой никак не избежать, я распихиваю небольшими порциями по краям своего графика. Как выяснилось, трех-четырех часов в день (при пятидневной рабочей неделе) ничем не прерываемой и тщательно направляемой концентрации вполне достаточно, чтобы получить значительные и ценные результаты.
Моя ориентация на глубину принесла свои плоды и вне профессионального поля. Я чаще всего не притрагиваюсь к компьютеру с того момента, как прихожу домой с работы, до следующего утра, когда начинается новый рабочий день (главным исключением являются посты в моем блоге, которые я люблю писать после того, как мои дети отправляются спать). Такая способность полностью отключаться – в противовес более общепринятой практике постоянно заглядывать в Интернет, чтобы проверить почту или просмотреть обновления в социальных сетях, – дает мне возможность проводить вечера с семьей, а также прочитывать поразительное количество книг, учитывая мою занятость и наличие двоих сыновей. Если говорить в более общем ключе, отсутствие отвлекающих факторов в моей жизни снижает тот шумовой фон, который, по всей видимости, все больше наполняет повседневную жизнь большинства людей. Я ничего не имею против того, чтобы поскучать, – и это умение может приносить немалое удовольствие, особенно в сонный летний вашингтонский вечер, когда по радио неспешно разворачивается очередная игра «Нэшнлс».
Эту книгу будет правильнее всего определить как попытку формализовать и объяснить, чем так привлекательно для меня погружение на глубину в противоположность поверхностному подходу, а также описать конкретные техники, помогавшие мне действовать в соответствии с этой моей приверженностью. Я изложил свои соображения в словах частично для того, чтобы помочь вам перестроить вслед за мной свою жизнь, взяв за основу углубленную работу, – но это еще не все. Мне хотелось вычленить и прояснить эти идеи для самого себя, чтобы усовершенствовать собственную практику. Открытие «теоремы углубленной работы» помогло мне добиться жизненного успеха, но я убежден в том, что еще не исчерпал свой потенциал. Сражаясь и в конечном счете торжествуя благодаря изложенным в дальнейших главах идеям и правилам, вы можете быть уверены, что я занимаюсь тем же самым – беспощадно отсеиваю все поверхностное и усердно культивирую способность к интенсивному погружению. (Насколько мне это удалось, вы сможете узнать из заключительной главы этой книги.)
Когда Карл Юнг захотел устроить революцию в области психиатрии, он построил себе убежище в лесу. Башня Юнга в Боллингене оказалась местом, где он мог сохранять свою способность к сосредоточенному мышлению, и именно благодаря этому умению он затем сумел выдать работу настолько изумительную по своей оригинальности, что она изменила весь мир. В последующих главах я постараюсь убедить вас присоединиться ко мне в попытке построить свою собственную боллингенскую башню – выработать в себе способность производить настоящие ценности в мире, все больше подверженном отвлечениям, и признать истину, которую разделяли самые творчески плодовитые и известные личности прошлых поколений: «Сосредоточенная жизнь – хорошая жизнь».
Часть I
Идея
Глава 1
Углубленная работа имеет ценность
По мере приближения дня выборов 2012 года количество посещений веб-сайта New York Times быстро росло, как это обычно бывает, когда в стране происходит что-то важное. Однако этот случай оказался особенным. Непропорционально большая доля трафика – по некоторым данным, более 70 % – приходилась на посещения одной-единственной страницы во всем огромном домене. И это не была заглавная страница с изложением последних новостей или комментарии одного из газетных обозревателей – лауреатов Пулитцеровской премии. Это был обычный блог, который вел некий компьютерщик по имени Нейт Силвер, раньше занимавшийся бейсбольной статистикой, а затем переключившийся на предсказания результатов выборов. Прошло меньше года, и агентства ESPN я ABC News переманили Силвера из Times (газета пыталась его удержать, обещая штат более чем в дюжину авторов); согласно заключенному соглашению, Силвер мог участвовать во всех новостных разделах – от спорта до погоды, от сетевых новостей до, представьте себе, трансляций присуждения премии «Оскар». И хотя методологическая точность силверовских доработанных вручную моделей порой оспаривается, лишь немногие могут отрицать, что в 2012 году этот тридцатипятилетний статистик-вундеркинд сорвал большой куш.
Другим таким победителем стал Давид Хейнемейер Ханссон, блестящий программист, создавший веб-фреймворк Ruby on Rails, на котором в настоящее время основываются многие из наиболее популярных веб-сервисов, включая Twitter и Hulu. Ханссон является партнером влиятельной компании по разработке программного обеспечения Basecamp (до 2014 года она носила название 37signals). Ханссон предпочитает не обсуждать размеры своей доли от продаж Basecamp или другие источники своего дохода, однако можно предположить, что они достаточно прибыльны, учитывая, что он делит свое время между Чикаго, Малибу и испанским городом Марбелья, где участвует в непрофессиональных автогонках.
Нашим третьим и последним примером явного победителя в национальной экономике является Джон Доэрр, главный партнер знаменитой в Кремниевой долине венчурной компании Kleiner Perkins Caufield & Byers. Доэрр помогал финансировать многие ключевые компании, возглавившие современную технологическую революцию, включая Twitter, Google, Amazon, Netscape и Sun Microsystems. Прибыль от капиталовложений была астрономической: капитал Доэрра на момент написания этой книги составлял более 3 млрд долларов.
Что же помогло Силверу, Ханссону и Доэрру добиться такого успеха? Ответы на этот вопрос можно разделить на два типа, исходя из масштаба. Первые мы назовем «микро»: в них уделяется внимание в первую очередь чертам характера наших трех героев и тактическим приемам, которые помогли им в продвижении. Второй тип – скорее «макро»; они меньше концентрируются на самих личностях и больше на характере выполняемой ими работы. Хотя для нас важны оба подхода к этому ключевому вопросу, «макро»-ответы весомее, поскольку лучше объясняют, какие именно качества позволяют добиться успеха в современных экономических условиях.
Для того чтобы исследовать эту «макро»-перспективу обратимся к паре экономистов из Массачусетского технологического института, которых зовут Эрик Бриньйолфссон и Эндрю Макафи. В своей нашумевшей книге 2011 года «Наперегонки с машиной» (Race Against the Machine) они высказывают интригующую мысль, что среди других разнообразных сил, участвующих в игре, именно развитие цифровых технологий в первую очередь способно неожиданным образом трансформировать рынок труда. «Мы находимся на ранней стадии „Великого преобразования“, – разъясняют Бриньйолфссон и Макафи в начале своей книги. – Технология стремительно развивается, но многие из наших умений и организационных навыков не поспевают за ней». Для бесчисленных работников такое отставание не сулит ничего хорошего. По мере усовершенствования умных машин сокращается расстояние между возможностями машины и человека, и работодатели все чаще предпочитают поручать задачи «новым машинам», а не «новым людям». А там, где человеческий труд незаменим, усовершенствование средств связи и технологий сотрудничества делает все более простой и удобной удаленную работу, что побуждает компании передавать ключевые позиции «звездам» со стороны, оставляя местные таланты без рабочих мест.
Описываемая авторами реальность, однако, не так уж абсолютно безжалостна. Как подчеркивают Бриньйолфссон и Макафи, грядущее «Великое преобразование» не уничтожит все рабочие места, но лишь разграничит их. Хотя многие люди пострадают от этой новой экономики, поскольку их работа достанется машинам или сторонним специалистам, найдутся и другие, которые не только выживут, но и будут процветать – их труд станет еще более востребованным (а следовательно, и более высокооплачиваемым), чем прежде. Подобную бифуркацию в экономике будущего предсказывают не только Бриньйолфссон и Макафи. Так, например, в 2013 году экономист Тайлер Коуэн из Университета Джорджа Мейсона выпустил книгу «Среднего более не дано» (Average Is Over), где развивал тот же тезис о цифровом разделении будущего. Однако анализ, предложенный Бриньйолфссоном и Макафи, особенно ценен тем, что вслед за вышеизложенным они выделяют три конкретные группы людей, которые выиграют в результате такого разделения и пожнут большую часть благ, дарованных Эрой умных машин. Стоит ли удивляться тому, что именно к этим трем группам принадлежат Силвер, Ханссон и Доэрр? Давайте же по очереди рассмотрим каждую из них, чтобы лучше понять, почему они внезапно оказались столь востребованными.
Высококвалифицированные работники
Группа, которую представляет Нейт Силвер, у Бриньйолфссона и Макафи носит название «высококвалифицированные работники». Такие достижения прогресса, как робототехника и распознавание речи, позволяют автоматизировать многие низкоквалифицированные рабочие обязанности, однако, как подчеркивают цитируемые экономисты, «другие технологии – визуализация данных, аналитика, скоростные способы связи и быстрое построение моделей – увеличили потребность в абстрактном мышлении и умении работать с данными, тем самым повысив ценность таких работ». Другими словами, те, кто умеет работать со сложными машинами и добиваться от них значительных результатов, смогут достичь успеха в новом мире. Тайлер Коуэн еще более жестко высказывается о грядущей реальности: «Ключевым вопросом станет – умеете вы эффективно работать с умными машинами или нет».
Разумеется, Нейт Силвер, при той легкости, с которой он собирает сведения в огромные базы данных, а затем выводит из них свои загадочные модели по методу Монте-Карло, являет собой идеальный образчик такого высококвалифицированного работника. Умные машины не препятствие его успеху – напротив, они его необходимое условие.
Суперзвезды
Гений-программист Давид Хейнемейер Ханссон может служить примером второй группы работников, которые, по предсказаниям Бриньйолфссона и Макафи, смогут добиться успеха в новой экономике – группы «суперзвезд». Высокоскоростные сети передачи данных и новые инструменты для совместной работы, такие как электронная почта и программы для виртуальных совещаний, уничтожили региональный подход во многих областях интеллектуального труда. Больше нет смысла, например, нанимать штатного программиста на полный рабочий день, не говоря уже об аренде офиса и выплате страховых пособий, когда есть возможность вместо этого поручить задачу одному из лучших программистов в мире – например, Ханссону – оплатив лишь то время, которое у него уйдет на завершение проекта. Такой подход позволит вам получить лучший результат за меньшие деньги, в то время как сам Ханссон сможет обслуживать в год большее количество заказчиков, а следовательно, тоже окажется в выигрыше.
Тот факт, что Ханссон будет работать удаленно, находясь в испанском городе Марбелья, в то время как ваш офис расположен в Де-Мойне, штат Айова, никак не скажется на работе вашей компании, поскольку последние достижения в области средств связи и технологий сотрудничества позволяют выполнять такие процессы практически без задержки. (Однако ощутимо скажется на жизни местных, менее искусных программистов в Де-Мойне, которые нуждаются в постоянном заработке.) Тот же самый тренд наблюдается во многих областях, где технологические достижения сделали возможной продуктивную удаленную работу – консалтинга, маркетинга, написания текстов, дизайна и так далее. Когда доступ к рынку талантов открыт из любой точки мира, те, кто находится на вершине этого рынка, процветают, в то время как остальные оказываются в убытке.
Экономист Шервин Розен в своей программной статье 1981 года исследовал математическую подоплеку подобных рынков, где победителю достается все, а остальным ничего. Одной из его ключевых идей было детальное моделирование таланта – качества, которое Розен в своих формулах обозначил переменной q как фактор, обладающий свойством «неполного замещения». Экономист объясняет это правило следующим образом: «Если вы прослушаете ряд номеров, исполняемых посредственными певцами, это никогда не станет одним выдающимся концертом». Другими словами, талант – не товар, который можно закупать оптом и комбинировать для достижения необходимого уровня, – награду получают самые лучшие. Следовательно, если потребитель имеет доступ ко всем исполнителям на рынке и их значение q не скрыто, потребитель всегда будет выбирать самых лучших. Даже если разница в величине таланта у них и у тех, кто стоит ступенью ниже, невелика, суперзвезды всегда смогут завоевать основной объем рынка.
В 1980-х годах Розен изучал этот эффект в первую очередь на таких примерах, как киноиндустрия и музыкальный бизнес, где существовали прозрачные рынки – музыкальные магазины и кинотеатры, в которых аудитория имела доступ к различным исполнителям и возможность точно оценить степень их таланта прежде, чем принять покупательское решение. Быстрое развитие средств связи и технологий сотрудничества превратило многие из прежних локальных рынков в такой же общемировой гипермаркет. Небольшая компания, ищущая программиста или консультанта по связям с общественностью, теперь имеет доступ к международному рынку талантов. Точно так же некогда появление грампластинок позволило меломанам даже в глубинке покупать альбомы лучших мировых исполнителей, в обход местных музыкантов. Иными словами, «эффект суперзвезд» распространился гораздо шире, чем мог бы предсказать Розен тридцать лет назад. В нынешней экономике исполнителям все чаще приходится соревноваться с «рок-звездами» в своих отраслях.
Владельцы
И наконец, символом последней группы людей, которых ждет процветание в новой экономической модели, может служить Джон Доэрр. Эта группа состоит из владельцев капитала, инвестируемого в новые технологии, которые и служат двигателем «Великого преобразования». Со времен Маркса мы знаем, что доступ к капиталу дает немалые преимущества. Однако не менее справедливо и то, что в некоторые периоды эти преимущества могут оказываться куда значительнее, нежели в другие. Как указывают Бриньйолфссон и Макафи, послевоенная Европа могла послужить примером времени, когда сидеть на куче денег было совершенно невыгодно, поскольку сочетание стремительной инфляции и агрессивного налогообложения уничтожало старые состояния с невероятной скоростью (то, что мы могли бы назвать «эффектом аббатства Даунтон»).
В отличие от послевоенного периода «Великое преобразование» дает отличный шанс тем, кто имеет доступ к капиталу. Чтобы понять, почему это так, прежде всего следует вспомнить один из тезисов теории переговоров, основополагающей для стандартного экономического мышления. Если прибыль поступает благодаря сочетанию инвестиций капитала и труда, вознаграждение выплачивается, грубо говоря, пропорционально вкладу каждой из сторон. Поскольку цифровые технологии снижают запрос на труд во многих отраслях, вознаграждение, возвращаемое владельцам умных машин, пропорционально возрастает. В сегодняшней экономике венчурный капиталист может финансировать такую компанию, как Instagram, которая в итоге была продана за миллиард долларов, – имея в штате всего лишь тринадцать человек. Был ли в истории хоть один момент, когда столь ничтожно малое количество работников позволило создать столь крупную стоимость? При таком небольшом трудовом вкладе пропорциональное количество дохода, получаемого владельцами машин – в данном случае венчурными инвесторами, – оказывается беспрецедентным. Стоит ли удивляться, что один из венчурных капиталистов во время интервью для моей последней книги признался мне с некоторой озабоченностью: «Каждый хочет получить мою работу».
Давайте соберем вместе те нити, которые нам удалось проследить до сих пор. Современная экономическая наука, как я уже упоминал, полагает, что беспрецедентный масштаб развития и влияния новых технологий ведет к массовой реструктуризации нашей экономики. В новом мире особым преимуществом будут пользоваться три группы людей: те, кто способны успешно и творчески сотрудничать с умными машинами, те, кто являются лучшими профессионалами в своей области, а также те, кто имеют доступ к капиталу.
Необходимо пояснить, что модель «Великого преобразования», предлагаемая такими экономистами, как Бриньйолфссон, Макафи и Коуэн, – не единственный значительный тренд в современной экономической науке, и группы людей, могущих рассчитывать на успех, не сводятся к трем упомянутым выше; однако в рамках этой книги важно понять, что эти тренды, хоть они и не единственные, тем не менее важны, и такие группы, хоть есть и другие, все же будут иметь успех. А следовательно, если вы сможете присоединиться к одной из этих трех групп – вы будете в выигрыше. Если нет – есть вероятность, что вы все равно будете в выигрыше, но ваше положение окажется менее надежным.
Вопрос, к которому мы теперь подошли, напрашивается сам собой: каким образом можно попасть в число таких победителей? Рискуя угасить ваш растущий энтузиазм, я тем не менее должен первым делом признаться, что не владею секретом того, как быстро сколотить капитал и стать следующим Джоном Доэрром. (Если бы даже я и знал такой секрет, то едва ли стал бы делиться им в книге.) Доступ в две другие группы победителей, однако, остается открытым. Оказаться в числе этих людей – вот задача, к исследованию которой мы теперь приступим.
