Пропавшая пропащая бесплатное чтение
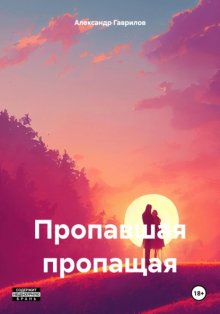
1
Когда Квашнин сказал Лене, что хочет отправиться за озеро к своим родичам-неандертальцам, она спросила: «А я как же?..» – и приготовилась плакать. «Ты что, малявка, разве ж я тебя брошу? Я обязательно вернусь», – ответил он ей тогда. Лена ему, конечно, поверила, и вопрос был исчерпан.
И вот двадцать три года спустя Квашнин возвращался – правда, не из-за озера, а из подмосковной Лобни – и думал именно о том, что Лену ему придётся бросить. Ещё не рассвело, пассажиры дремали; по окнам автобуса постукивала снежная крупа. Квашнин смотрел в темноту и продолжал думать о Лене.
Первый раз он увидел её в школе. Он перешёл в шестой класс и, разумеется, глазом бы не повёл в сторону девочек-первоклашек, появившихся в школе первого сентября. Однако Лену он приметил сразу: наряд праздничный, косички крендельком уложены и эскорт из родственников на месте, а она точно щеночек брошенный – такой неприкаянный у неё был вид. Вот эта щенячья неприкаянность и привлекла Квашнина; в чём, в чём, а в неприкаянности он разбирался. Распознав родственную душу, он возликовал и – на него напал смех: так неожиданно детонировала в нём радость. Весь день он, обычно замкнутый и немногословный, вертелся юлой, тормошил товарищей и дурачился без меры. «Чего это с Лёхой, взбесился что ли?» – дивились одноклассники. А он радовался: предчувствие большой, крепкой дружбы веселило ему сердце.
Жили они в разных деревнях – Лена в Плотниково, центральной усадьбе колхоза (где и располагалась школа), Квашнин в соседних Соломенцах – и из-за разницы в возрасте друг друга не знали. Знакомство их состоялось приблизительно через неделю после первого сентября. В тот день с утра зарядил дождь; Квашнин скучал на предпоследнем уроке, смотрел в окно и видел, как высыпали из школы отучившиеся своё первоклашки. Одних малышей встречали на машинах, других просто с зонтами, а те, кто жили поближе, разбежались по домам сами. Лена жила неподалёку от школы и дошла до своей улицы быстро, но на краю дороги остановилась (всё это время Квашнин не упускал её из вида). Потом она походила туда-сюда, потыкала перед собой сапожком и встала, понурила голову. Квашнин понял, что остановила её разбитая, раскисшая от дождя дорога. Он попросил разрешения выйти и поспешил на выручку. «Ну что, застряла? – сказал он и, присев на корточки, добавил: – Залазь». Лена без колебаний забралась ему на спину. Он перенёс её через дорогу, проводил до дома и представился:
– Меня Лёшкой зовут, если что…
– Я знаю.
– Откуда же ты знаешь?..
– У девочек ваших, соломенских, спросила.
На вопрос Квашнина, зачем ей понадобилось узнавать его имя, она пожала плечами. Так он узнал, что не только он её приметил, но и она его. Школьные насмешники над их странноватым союзом, как водится, позубоскалили, но вскоре привыкли и перестали обращать внимания. Взрослые пытались вспомнить, в какой степени родства находятся Квашнины с Пименовыми. Вспомнить не могли, только путались. А с лёгкой руки Валентины Сергеевны, матери Лены, к Квашнину прилипло прозвище Зятёк. «Вон, Зятёк наш идёт», – завидев Квашнина, хмыкали плотниковские мужики.
И Квашнину и Лене с семьями не посчастливилось. Отец Лены беспробудно пил, пока не утонул на лесосплаве в возрасте двадцати девяти лет. Мать – молодая красивая и чрезвычайно энергичная – долго не горевала, принялась налаживать личную жизнь. Налаживала так самозабвенно, что для дочери времени почти не оставалось. Дедушек-бабушек и других родственников у девочки было негусто, да и те вечно пребывали в каких-то застарелых дрязгах. Так она и росла – принцессой кукольного бессловесного царства.
У Квашнина было по-другому. Несмотря на проказливость, за всё своё детство он получил не более пары-тройки оплеух; всегда был вовремя накормлен, одет не хуже других, но – не мог припомнить случая, чтобы мать его поцеловала или хотя бы словесно приласкала. Никаких «сыночков» или «Лёшенек» он от неё не слышал. Лёшкой звала. С прохладцей встречали его и дед с бабкой – родители матери. Так уж, видно, у них было заведено.
Отец – мрачный, нелюдимый молчун – другой раз ерошил маленькому Квашнину волосы, скалил в усмешке крупные прокуренные зубы и спрашивал: «Ну что, охота, небось, девок пощупать?..» И хотя дальше этого общение их заходило редко, Лёшку к отцу тянуло. Он жалел его: чувствовал, что за отцовской сумрачностью скрыта большая тайная печаль.
Родителей отца Квашнин не видел ни разу, знал только, что живут они в глухой деревне за озером. Поговаривали, что отец в юности по неосторожности застрелил из ружья младшую сестру, из-за чего от него отвернулась вся родня. Когда в сорок неполных лет он умер от рака лёгких, на похороны из-за озера приехал только его двоюродный брат – неолитического вида мужичина, – чем-то неуловимо похожий на покойного. После поминок родственник подозвал одиннадцатилетнего Лёшку, погладил по голове и спросил: «Ну что, племяш, девки-то не дают ещё?..»
После смерти отца крохи семейственного тепла улетучились из пятистенка Квашниных окончательно, и Лёшка стал зябнуть. Как мать ни старалась – топила печь, пекла пироги, блины с оладьями, говорила с Лёшкой громко и весело – теплее ему не становилось. Он чувствовал себя заброшенным. Спасаясь от неприкаянности, Лёшка пристрастился к чтению. Однажды ему случилось прочитать книжку о приключениях доисторического мальчишки, благодаря чему он сделал открытие: всё указывало на то, что его отец – выходец из схоронившегося в заозёрных лесах племени неандертальцев. Проштудировав древнейшую историю, он в своей мысли утвердился и даже сочинил теорию, по которой выходило, что неандертальцы (они представлялись Лёшке грубоватыми, но простодушными, милыми существами) вовсе не исчезли с лица земли, а живут себе, поживают бок обок с людьми и крепко хранят свою тайну. Лёшка был горд родством с древним стойким народом и настолько этой идеей проникся, что даже ходить стал, как когда-то ходил отец и как, по его мнению, должны были ходить неандертальцы – сутулясь и косолапя. Только вот зеркало его огорчало: сколько Лёшка в своё отображение не всматривался, никакой первобытной дремучести он в себе не находил. Долгоносый светлоглазый мальчишка – каких кругом пруд пруди – разве что челюсть крепкая, квадратом, да шрам над губой (с берёзы упал) чуть-чуть суровости придавали.
Именно тогда, когда Лёшка готов был отправиться в заозёрные леса на поиски родственных душ, ему и встретилась Лена. Он менял девочке надетые не на ту ногу тапочки, подвязывал шарфик, на закукорках переносил через лужи, а в зимние метели обязательно провожал до дома. А она без тени сомнения протягивала ему руку – веди, мол, куда захочешь.
Так продолжалась, пока Квашнин не окончил школу и не ухал в Тверь учиться в техникум. Видеться они стали совсем редко и порядком друг от друга отвыкли, зато после окончания техникума стали встречаться каждый день. Было это в августе месяце. Обычно в сумерках они прогуливались где-нибудь за околицей, потом возвращались в деревню, усаживались на первую подвернувшуюся скамейку и сидели там до глубокой ночи. Странные это были встречи: со стороны посмотреть – влюблённая парочка, а приглядеться – нет, не похоже. Не то что поцеловаться или там обняться – за руки не взялись ни разу. Так и ходили: она – истомлённая созреванием, он – придавленный сводом надуманных «этических принципов». (Никак не мог взять в толк, что девочка давно выросла и требует внимания другого рода, нежели первоклашка.) Август был на исходе, небо полнилось звёздами; а они, безрадостные, всё кружили в романтических сумерках, кружили, да так ничего и не выкружили – измучились только оба. Не сумели преодолеть барьера братско-сестринской любви, хотя всего-то и нужно было – руку протянуть. А осенью Квашнина забрали в армию.
Сразу после демобилизации он махнул в Сургут на заработки (мечтал вернуться в родное захолустье на авто премиум класса). Отработал полтора года и когда вернулся домой, узнал, что Лена вышла замуж за грека (российского) и укатила куда-то в южном направлении. Квашнин сильно тогда расстроился: глупость несусветная – замуж в восемнадцать лет, да ещё за грека. Ни с одним греком он знаком не был – знал только, что народ этот любит повеселиться, – но тут как-то вдруг проникся к ним недоверием.
Потом Квашнин снова уезжал (в деревне на жизнь было не заработать), не бывал в Соломенцах по полгода, а другой раз и больше. В один из таких приездов, он узнал, что Лена с греком развелась, вернулась домой и начала попивать. Он тут же пошагал в Плотниково. Последний раз Квашнин видел Лену девушкой-подростком, поэтому увидев молодую женщину, слегка смутился. В растянутом вороте кофты ключицы полочкой, округлости в лице, да и во всём прочем как не бывало, но – всё равно красивая. Просидели до ночи, выпили бутылку вина. Лена предложила переночевать у неё, но Квашнин отказался, ушёл. Хоть на первый взгляд и обрадовалась она ему и улыбалась, и смотрела ясно, однако ж видно было, что и улыбки, и ясность её нездорового свойства, с сумасшедшинкой – того и гляди в истерику сорвётся. Расспрашивать он её ни о чём не стал: побоялся хрупкое равновесие нарушить.
На другой день с утра снова пошёл. Всё-таки решил выяснить, что её гложет. Подходил к дому, когда Лена усаживалась в коляску «Урала». За рулём – пьяненький мокроносый мужичок.
– Куда собралась? – спросил Квашнин.
– Извини, Лёша. Надо в одно место съездить, – сказала Лена. Мокроносый газанул, и они уехали.
Так она и каталась – то на шабашку (питаться всё ж таки было нужно), то к очередному «жениху», то просто пьянствовать. Попадала, разумеется, в истории. Капитан уголовного розыска Глеб Баринов, местный уроженец и друг детства Квашнина, предупреждал: «Смотри, Ленка, допрыгаешься: грохнут кого-нибудь твои кореша по пьяному делу – соучастницей пойдёшь». «Пропащая! – цокали старухи. – А ведь кака девчоночка была: пригоженька, складненька, да умненька – вот они, греки-то…»
Со временем грек забылся. Квашнин всё так же уезжал, а когда возвращался, первым делом шёл в Плотниково. Застать Лену дома удавалось не всегда: в запое она моталась по округе, меняя места дислокации, как какая-нибудь нелегалка-подпольщица. Приходилось искать; телефоны у неё долго не задерживались, теряла. Если Лена была в запое, Квашнин добросовестно пытался её «вытащить» (с переменным успехом), если же выпадали дни «завязки», они устраивали дружеские посиделки. Пили чай, но другой раз Квашнин позволял себе рискнуть и покупал бутылку вина. Личных тем в разговоре они по давно заведённому обычаю избегали и, несмотря на длинные паузы, обоим было легко и просто. Правда, так было не всегда. Временами она встречала его с прохладцей. Смотрела в окно, спрашивала что-нибудь вроде: «Как дела? Есть хочешь?» – и смолкала. Ничего тягостней таких встреч и придумать было нельзя. Квашнин списывал это на раздражённость, расшатанность нервов и прочие последствия пьянства, хотя и сам в это не очень верил.
Лет десять кряду после того, послеармейского заезда в Сургут, колесил Квашнин по промороженным весям Сибири и Поморья. Поначалу работал на лесопильнях, стройках, даже на лесоповале себя испытал, потом прибился к нефтяникам и на том остановился. Привык, освоился, зарабатывал неплохо и, возможно, так бы всё и продолжалось, если бы не случай. Проснувшись как-то под утро в общажном бараке на окраине таёжного посёлка Малый Кряж, Квашнин вышел по нужде и – не смог зайти обратно. Вроде и не новичок и концентрация спящих тел в помещении была в допустимой норме – восемнадцать человек на пятьдесят с лишним квадратов – ан нет, показалось невозможным зайти обратно. Померещился ему страшный запах распада, запах скотомогильника; началась рвота. Куски жгучей кислятины вылетали из него на снег, и снег сделался чёрным. Тогда Квашнин понял, что запас его прочности подошёл к концу.
Через сутки он был в областном центре, а вечером того же дня улетел в Москву. Домой решил не заезжать, созвонился с одним земляком, который уже несколько лет подвизался в столице, и переночевал у него на съёмной квартире. На другой день он подыскал недорогой, но вполне приличный хостел и принялся за поиски работы.
Устроился кладовщиком на хладокомбинат. Невеликая по московским меркам зарплата компенсировалась доступностью уценённых, в том числе и деликатесных продуктов (была даже возможность приторговывать, но Квашнин этим не занимался – натура претила). Арендовать квартиру в одиночку выходило накладно, точнее сказать, никак не выходило, поэтому приходилось кооперироваться по несколько человек. Квашнина это не устраивало: та же выходила общага. Позвонил в риэлторскую контору, где ему подыскали недорогую комнату в Лобне. Приблизительно через месяц он познакомился с Верой и вскоре перебрался к ней.
Вере тогда было тридцать шесть (на два года старше Квашнина), хотя, пожалуй, выглядела она моложе его. Высокая, фигуристая, миловидная блондинка, но – подать себя не умела совершенно. Одевалась, как бог на душу положит; при ходьбе сутулилась; разговор вела сбивчиво, причём смотрела не на собеседника, а куда-то вниз и вбок – как бы бычилась – отчего выглядела немножечко дефективной.
Жили они на редкость мирно и, в общем, не скучно. Летом, обычно по будням, ездили на дачу. Домик с участком в нецелые пять соток располагался рядом с озером Круглое, в двадцати минутах езды от Лобни. Когда Квашнину удавалось пораньше освободиться с работы, они на Верином «Фольксвагене» отправлялись туда искупнуться. На выходные выезжали в Москву – гуляли на ВДНХ, бывали на концертах и даже в театре.
Квашнин был доволен: тихий ухоженный городок; уютная квартирка; славная, милая женщина – чего ещё желать? И он старался: устроился на вторую работу – на том же хладокомбинате – и зарплату получал завидную для многих. За полтора года, что они с Верой прожили, была обновлена мебель и полностью заменена бытовая техника – всё на деньги Квашнина.
Несмотря на всю эту лобненскую благодать, на Квашнина временами накатывало: и его планы по карьерному продвижению (метил на место завсклада), и мечты о «трёшке» в новом краснокирпичном доме, и даже мысль о будущем отцовстве, – всё начинало казаться бессмысленным, зряшным вздором. Невнятная застарелая неудовлетворённость оживала в нём вдруг и принималась его глодать, лишала покоя. Он становился похож на лунатика: сбивался со счёта; отвечал невпопад; застывал посреди рабочего дня на пандусе и стоял так столбом, пока не окликали. (Быстрая, вёрткая мысль-догадка о причине приступов у Квашнина мелькала изредка, дразнила его – вот-вот осенит – однако не давалась, пряталась.)
В деревню Квашнин ездил один, без Веры, за что она на него каждый раз дулась. Последний раз он был там в начале лета и в ближайшее время поездок не планировал. Но в середине ноября позвонила мать (она уже давно перебралась в райцентр) и сказала, что в их доме кто-то выбил стёкла, и возможно, побывал внутри. Попеняла, что он до сих пор не законсервировал дом как положено. Взяв на пятницу отгул, Квашнин собрался ехать. (Ездил автобусом, не желая по какой-то странной прихоти пользоваться машиной.)
Собирая саквояж в дорогу, Вера вздыхала: «Странный ты всё-таки, Лёша, и охота тебе на автобусе тащиться, да ещё с пересадкой. Не понимаю…» – «А тебе понимать не к чему – солдатское дело слушать и исполнять», – шутил Квашнин.
По стёклам автобуса постукивала снежная крупа; Квашнин думал о Лене и морщился как от кислого. Бросить, отстраниться от неё окончательно было решением благоразумным – с одной стороны, с другой – это выглядело если и не предательством, то чем-то вроде того. Квашнин в таких вопросах был щепетилен, поэтому думал, морщился и не мог ничего решить.
2
В картузе, телогрейке и валенках дед Тимофей восседал на завалинке чуть не по окна осевшей в землю избушки. Лёшка стоял на обочине дороги и смотрел на рот старца. Уж больно ему хотелось взглянуть на волшебную лягву, которую, как было известно, дед проглотил, чтобы никогда не умирать (и, правда, не умирал). Вот Лёшка и караулил, выжидал момент – может, зевнёт старик или чихнуть захочет, а жаба тут как тут – тоже, небось, ждёт не дождётся…
Так и не открыв рта, Тимофей заклубился дымом и пропал вместе с избушкой. Его сменил Сашка Смирнов, товарищ детских игр, который, по слухам, томился в очереди в «Форбс», жил то ли в Германии, то ли в Америке и в Соломенцах не появлялся уже лет пятнадцать. Сашка щурился слезливо (похоже, пьян) и говорил: «Может, выпьешь стопочку, а, старичок?.. Глядишь, и полегчает…» Он приподнимал голову Квашнина с подушки и пытался влить в него отвратительно пахнущую жидкость. Пощипывая потрескавшиеся губы, жидкость скатывалась по подбородку. «Сашка, отстань ты от меня Христа ради…» – просил Квашнин, но скоро понимал, что не говорит, а просто шевелит губами.
После Смирнова являлась тётя Катя Мишинкина, одинокая хромая вдова, над которой Квашнин ещё подростком «взял шефство» – помогал ей по хозяйству. Что-то неразборчиво шепелявя, старуха поправляла ему подушку и – оборачивалась могучей усатой женщиной в белом халате. Усатая богатырша вертела Квашнина как куклу и больно колола в зад.
Прошли сутки, как Квашнин впал в беспамятство. Вышло так: по приезду в Соломенцы он натаскал в избу воды, затопил печь и занялся стёклами (разбитым оказалось только одно стекло в сегменте наружной рамы). Закончив с этим, принялся за приборку. Потом заварил чай и сел у окна. Решал: идти к Лене или не идти.
От размышлений его отвлёк Женька Виртанен, друг детства, наезжавший временами из районного центра. Принёс бутылку водки. Пожалуй, Квашнин отказался бы от выпивки – даже наверняка отказался бы – приди кто другой, но с Женькой, кудрявым весельчаком и рубахой парнем, не выпить было грешно. Выпили бутылку, и так стало Квашнину уютно, тепло на душе, что в обход своего правила придерживаться нормы, он полез в подпол за заначкой. А когда ополовинили вторую бутылку, оба, почти синхронно, уткнулись в окна: мимо дома проходила ладная, пригожая молодуха. Евгений стукнул в стекло; девушка взглянула, улыбнулась и – свернула к крыльцу. Через минуту Ксюша – так представилась гостья – сидела за столом.
Только подняли стаканчики «за знакомство», как за окном промелькнули тени. «А вот и мои идут!» – пискнула девица. Когда «мои» зашли в дом, Квашнин про себя выматерился: это были Худяки – мерзопакостнейшая семейка, а лучше сказать, шайка под водительством известного на всю округу пропойцы и вора Константина Худякова. Тут Квашнин и Ксюшу узнал запоздало, вспомнил: видел её, когда она была ещё замарашкой-подростком.
Вот таких гостей накликал милейший финн. Накликал и вскоре смылся, прихватив с собой девку. Продолжать посиделки с Худяковым Квашнин, хоть и был пьян, не стал бы – брезговал. Но глядя на Елизавету, мать Ксюши, которую помнил ещё по школе, размягчел, повёл беседу. Пили принесённый гостями медицинский – по их заверениям – спирт, пока не стемнело. Как расходились, Квашнин уже не помнил. Проснулся под утро и сразу понял: дело плохо. В темноте, зная по опыту, что свет будет непереносим, доковылял до ведра с водой, выпил, не отрываясь, литровую кружку. Вода показалась тёплой, противной. Собрался с силами и отправился к колодцу. На обратной дороге, в сенях, хлопнул по лбу: телефон, деньги, – всё упёрли сучье отродье! Наверняка упёрли! Пошарил по карманам – всё на месте. Не иначе как чудом пронесло. Позвонил Вере, потом на работу. И там и там предупредил, что задержится, приболел, мол.
Всё утро, весь день и всю ночь Квашнин тушил горящее нутро ледяной водой, но вода вылетала обратно. Тошнота отпускала только во время сна. Спал всё дольше, видения детства сменились бредом. Он блуждал по ломким, обесцвеченным от зноя местам под перекрёстным огнём сразу двух светил: одно солнце палило с неба, другое – жгло изнутри. Всплывающие картинки прошлой жизни желтели по краям, сворачивались в комки и, испустив язычок пламени, рассыпались прахом. Квашнин чувствовал, что и сам он желтеет, скукоживается и готов был окончательно испепелиться, как вдруг – прикосновение: влажное, прохладное, живительное. Ко лбу и губам. Он очнулся, открыл глаза, и увидел Богородицу: склонённая к плечу голова, абрис лица, глаза – всё как на образах, только взгляд живой – с бликами от близких слёз. И столько в этом взгляде было сострадания и любви, что Квашнин заплакал и сказал, вернее, отстукал языком-деревяшкой: «Матушка, спасибо тебе…» – «Спи, миленький, засыпай», – сказала Богородица голосом Лены. И он уснул – крепко, без сновидений.
Проснулся от шума – кто-то возился у печки. По шепелявому бормотанью Квашнин узнал тётю Катю Мишинкину. Лежал, морщил лоб: пытался сообразить, сколько времени он провалялся. Не сообразил и спросил у старухи. «Оклемался, слава те господи… – заморгала тётя Катя. – Вторник сегодня. Я ить и не знала, что ты тут свалился. Ладно Сашка Смирнов зашёл, сказал. Он и за фельдшерицей сходил. Ругался с ней: как хочешь, говорит, в больницу его вези. Да ей что: хоть ссы в глаза – всё божья роса. Нет, говорит, мест и всё тут…»
Поблагодарив тётю Катю за заботу и, особенно за прохладные компрессы (помогли, мол), Квашнин спросил, не навещал ли его ещё кто, не считая Смирнова? От компрессов старушка открестилась: примочками, дескать, нутряную хворь не вылечишь. Никаких других посетителей кроме Смирнова и медички она не видела.
Тётя Катя затопила печь и, пригласив Квашнина пообедать, ушла. Он поднялся. Посуда после пьянки убрана, на столе блюдо с водой и аккуратно сложенное вафельное полотенце. Квашнин дотронулся – влажное. Значит, всё-таки не ошибся – были компрессы. Неужели Лена заходила?
Он оделся, вышел на улицу. Постоял у крыльца, глянул в небо: хмарь… Заулком прошёл в припорошённый снегом сад, остановился у колодца. Потрогал позеленевший ворот; вспомнил как в юности, возвращаясь с гулянья, шёл меж цветущих яблонь к колодцу, пил, а в ведре покачивались белые лепестки…
Затопил баню. Печка покапризничала, откашливая из устья дым, потом загудела исправно. Присев в предбаннике у окошечка, Квашнин призадумался: была Лена или приснилась? Если не приснилась – уехать её не повидав, никак нельзя. Последние год – два казалось, что редкие его визиты её раздражают, что терпит она его только из деликатности, в память о прежней дружбе. И вдруг (если не приснилось) такой взгляд. Только однажды она так на него смотрела – давно, в детстве. Как-то в середине лета – Квашнин уж и не помнил к кому и зачем – он пришёл в Плотниково. И ему крикнули: беги, мол, невесту свою спасай – тонет на пруду. Крикнули-то смехом, но Квашнин, не разобравшись, припустил бегом (пруд был за околицей). Бежал и ругал себя за паникёрство: пруд невелик, а Лена – ей тогда было лет десять – неплохо плавала (сам учил). Добежал. На крохотном накренившемся посреди пруда плотике Лена утешала хнычущую подружку, которая, как видно, плавать не умела. Квашнин разделся до трусов, подплыл и отбуксировал плотик к берегу, но уже на выходе из воды напоролся ногой на стекло. Кровь шла волной, пришлось порвать футболку и бинтовать. Пока он этим занимался, Лена, присев рядом на корточки, поглаживала его по спине. Вот тогда она так на него смотрела – сияла сквозь слёзы, точно расплакаться хотела, и запеть одновременно. Смутила его. И он послал её поискать какую-нибудь палку, чтобы опираться при ходьбе.
Не только влюблённый взгляд Лены смутил тогда Квашнина – прикосновение её ладошки. Вдруг кольнула его иголочка вожделения, да так остро, так явственно, что, растерявшись от подлого фортеля организма, он едва не потянулся к причинному месту, чтоб прикрыть. Вовремя опомнился и ошарашенный, оглушённый стыдом замер. Кое-как сообразил отослать девчонку за палкой. И ковыляя в свои Соломенцы, весь исплевался: «Сука! Урод! Извращенец проклятый!..» – шипел он, выпячивая челюсть. Так с тех пор, при малейшем намёке на подобный позыв (Лена-то подрастала), Квашнин и выпячивал челюсть, ярился, негодуя на плоть, и воли себе не давал. И давно уже Лена выросла, а ему всё слышался писк необъяснимого зуммера, как бы предупреждающего о недопустимости инцеста, точно и вправду она была его маленькой сестрёнкой.
Решился: позвонил на работу и, сославшись на форс-мажорные обстоятельства, попросил отпуск. Для Веры вариант с форс-мажором не годился. Пришлось врать: сказал, что выздоровел, но должен задержаться из-за судебного разбирательства по поводу земельного участка (вспомнилось на счастье что-то подобное). Уладив с Верой, вздохнул свободнее и уже в сумерках отправился к Смирнову.
Тот одевался в прихожей. «Дружище! Выздоровел?.. А я как раз к тебе собирался. Проходи, я сейчас, мигом…» – захлопотал бизнесмен. Первым делом взялся за бутылку (видно, что под хмельком). Квашнин пить отказался, попросил чая. Сидели: хозяин пил водку, гость – чай. Высокий, атлетичный, красивый Александр рассопливился: «Ты не представляешь, старичок, как подло всё… Только и слышишь – дай, дай, дай! Домой придёшь – и там тоже дай! К чёрту всё: разведусь, бизнес продам, буду просто жить – вот как сейчас…» – грозился он. О многом ещё говорил богач-горемыка, не забывая опрокидывать стопки. Говорил, что нашёл здесь обронённую в детстве душу; говорил о Боге, до которого тут рукой подать, но который почему-то не спешит выказывать ему, несчастному, своего благоволения.
Квашнин слушал, однако сочувствовать не спешил. Звякнут завтра – и умчится, чтоб очередь к «Форбсу» не проворонить. Хотя, кто его знает: чужая душа – потёмки. Собравшись уходить, он поблагодарил Смирнова за медичку и за компрессы.
– Да брось, старичок, мы же как братья… – сказал тот и добавил: – А компрессами я, кажется, не занимался. Тётя Катя, наверное, позаботилась. Прекраснейшей души человечек, согласись, брат…
– А больше никто ко мне не заходил?
Смирнов ответил – снова прибавив «кажется», – что кроме тёти Кати он никого не видел. Квашнин попрощался и вышел. Постоял у крыльца, глядя на редкие огоньки Плотниково, подумал и двинулся к большаку.
Одиннадцатый час вечера; Плотниково в дрёме. Светящихся окон по пальцам перечесть, на улице – ни души. Пенсионеры и фермеры ложатся рано. Пустынной улицей Квашнин дошагал до дома Лены. Окна тёмные; на снегу – у калитки и за ней – ни следа. На двери замок. Минуту Квашнин прислушивался, не долетят ли откуда звуки хмельной пирушки, однако было тихо. Двинулся дальше. Остановился у ветхого двухэтажного коттеджа, подёргал дверь – заперто. Постучал. Через пару минут послышались шаги. «Кто?» – едва слышно спросили из-за двери. «Я это – Лёха», – сказал Квашнин.
