Куколка для монстра бесплатное чтение
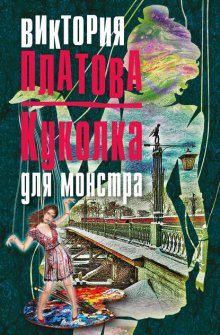
© Виктория Платова, текст, 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
Я не могу опознать его. Я не могу опознать ее.
Я никогда не видела этих лиц. Так же как и лица человека, который показывает мне одни и те же фотографии – их ровно одиннадцать (какое облегчение – в прошлой жизни, которая навсегда отрезана от меня, я умела считать, во всяком случае, до одиннадцати). Но ни одна из этих фотографий ничего не говорит мне…
Впрочем, на меня нельзя положиться.
Я не могу опознать даже себя.
Кто я?..
Я не могу опознать его. Я не могу опознать ее.
Женщина на фотографиях мертва. Короткие черные волосы, такая же черная кровь, которая залила ей лицо. Лицо чересчур спокойное для автокатастрофы. Лицо чересчур красивое, чтобы быть настоящим.
Мужчина на фотографиях жив. Он похож на ласку. Или на хорька – из тех, что отираются на плечах занюханных хиппи (откуда я знаю о занюханных хиппи?). Откуда я знаю, что существуют ласки и хорьки и что мужчина, изображенный на снимках, похож именно на них, а не на гризли или опоссума? Я занималась зоологией? Или случайно посмотрела видовой фильм, сидя на кухне и перебирая подгнившие яблоки?..
Если я знаю, что такое «кухня» и что такое «подгнившие яблоки», то почему, черт возьми, я не знаю, кто такая я сама?!.
Мужчина на фотографиях, должно быть, знал. Но он погиб в катастрофе, так же как и женщина с короткими черными волосами. Возможно, все другие, знавшие меня, умерли еще раньше, или так же потеряли память, или эмигрировали из страны – ко мне никто не приходит. Никто, кроме этого парня с фотографиями. Фотографии одни и те же – человек, похожий на ласку.
Два снимка вызывают во мне глухой протест (откуда я знаю, что такое «протест»?); еще три – здоровый скепсис (откуда я знаю, что такое «скепсис»?). И только на одном, любительском, – без дешевой вспышки – ласка так хороша, что я, не раздумывая, переспала бы с ней.
Переспать. Как мило. Кажется, я знаю, что такое «переспать», но это знание не касается меня, как и все остальные знания.
Я знаю, что где-то должен быть Бог, и вот он уж действительно не похож ни на хорька, ни на опоссума.
Я даже знаю, что существуют два вида гильотин – один для подрезки сигар, а другой – для головы Марии-Антуанетты. Бог существовал задолго до Марии-Антуанетты, он наверняка видел, как ее голова скатилась в корзину…
Кто я?..
Я не могу опознать его. Я не могу опознать ее.
Была ли я любовницей мужчины? Была ли я подругой женщины? Была ли я их случайной попутчицей, севшей в машину за пятнадцать минут до катастрофы или за двадцать минут до мокрого снега (в ту ночь шел мокрый снег, слава богу, я знаю, что такое «снег»)? Была ли я причиной катастрофы или ее следствием? Кстати, он говорит, что следствие все еще идет, – этот парень, который приносит мне одни и те же фотографии. У меня даже сняли отпечатки – теперь все десять пальцев, включая мизинцы, могут смело фигурировать в суде. Но у меня стопроцентное алиби, если двухмесячную кому и следующую за этим амнезию можно считать алиби.
Мне не хочется расстраивать его, мне не хочется говорить ему, что как раз алиби у меня нет… Иначе я никогда не была бы осуждена. А я осуждена и отбываю наказание в одиночной камере своего беспамятства.
…Сегодня дежурная сестра принесла цветы.
Сегодня я опять не вспомнила ничего, кроме названия цветов, – гвоздики… Я даже не знаю, нравились ли мне гвоздики, когда я была собой и все знала о себе. Мне нынешней они не нравятся. Но я ничего не сказала сестре – она так добра ко мне. Ее зовут Анастасия… А как зовут меня?
Кто я?..
Часть первая
Анна
… – У вас появился поклонник? – Это была ревнивая заинтересованность оперативного работника, не больше. Он даже не пытался скрыть ее, этот мой постоянный утренний собеседник. Вот и теперь он рассматривал уже успевшие мумифицироваться лепестки ничего не значащих, с точки зрения улики, цветов, недостающего звена, вытянув которое он наконец-то загонит меня в угол… Все эти восемь дней – с тех пор как я пришла в себя, очнулась в логове капельниц – он пытался загнать меня в угол. Все для него было блефом – и мое беспамятство, и гвоздики, принесенные молоденькой медсестрой.
Если бы из-под его дешевого свитера так настойчиво не лезли бы милицейские погоны (почему-то мне казалось, что он лейтенантишка-неудачник, не больше, – такие ретивые типы редко дослуживаются даже до майора), я бы обязательно ответила ему расплывчато-кокетливым тоном: «Да, поклонник, почему нет, в этой образцово-показательной клинике самый широкий спектр поклонников – от ведущего нейрохирурга с самым распространенным грузинским отчеством до чемпиона Европы по греко-римской борьбе, который зализывает здесь последствия черепно-мозговой травмы…»
Но эти невидимые погоны (я надеялась не увидеть их никогда) так раздражали меня, что я сказала просто:
– Не стоит обольщаться на мой счет. Это всего лишь дежурная медсестра. Надеюсь, что ее невинный жест не будет преследоваться в судебном порядке.
Он хмуро посмотрел на меня:
– «Невинный жест», надо же! Для только что вышедшей из комы дамочки вы неплохо справляетесь с речью. А как насчет всего остального?
Я уже знала, что такое все остальное, – чертовы одиннадцать фотографий, которые он через минуту бросит мне на одеяло. Я знала и все равно ждала их – и это было единственным, чего я по-настоящему ждала. Может быть, я наконец-то увижу что-нибудь новое на зернистом, плохо пропечатанном заднем плане – что-нибудь, что поможет мне вспомнить этого человека, а вместе с ним – и себя…
Но мой лейтенантишка-неудачник не торопился с очередной экскурсией по фотографическому глянцу.
– А зачем она принесла вам цветы?
– Не знаю. Думаю, просто так. Кто вы по званию?
Он коснулся жестких полуживых лепестков такими же жесткими пальцами, машинально оборвав один из них, – и я вдруг подумала о том, что в детстве, с тем же машинальным наслаждением, он обрывал крылья бабочек… Наверняка в его детстве были бабочки. О себе я ничего не могла сказать наверняка.
Я не помнила своего детства, как не помнила всего остального.
– Эти цветы называются гвоздиками. Вы знаете, что такое «цветы»? Вы знаете, что такое «гвоздики»?
– Да.
В его глазах вдруг вспыхнул охотничий азарт, – если я знаю, как называются цветы, то логично предположить, что мне известно и собственное имя.
Мне неизвестно собственное имя.
Я терпеливо внушаю ему это каждое утро. Но он не верит мне – ни его мутные зрачки фокстерьера (фокстерьер – собака, я знаю это точно), ни жалкие милицейские погоны, которых я никогда не видела, не верят мне. Амнезия, синдром Корсакова – все это для него уловки хитрой дамочки (кстати, сколько мне лет и выгляжу ли я дамочкой?..); амнезия, синдром Корсакова – все это для него лишь движущая сила латиноамериканских мыльных опер, не более…
Стоп.
Ты знаешь, что такое мыльные оперы, дамочка под капельницей, поздравляю! Что еще ты знаешь – не о мыльных операх, а о себе?
Ничего, ничего, ничего больше.
– Кто вы по званию?
– Капитан.
Вот как, стало быть, я ошиблась. Не лейтенантишка-неудачник, а капитанишка-неудачник. Никому другому не поручили бы такой безнадежный случай, как я.
Я – безнадежный случай.
Я безнадежна. Это все, что я могу сказать о себе.
Я безнадежна, а его зовут Константин Лапицкий, – во всяком случае, именно эта фамилия вписана в его удостоверение, которое я даже толком не рассмотрела. Имя идет ему. Людям вообще идут имена.
Но только я могу понять это. Потому что собственного имени у меня нет. Я надеюсь, что пока. Я все еще надеюсь вспомнить – и именно поэтому жду каждого утра с капитаном Лапицким. У капитана тонкие решительные губы и сколотый передний зуб, придающий ему сходство с узкотелым хищным зверьком, – если вспомнить человека на фотографиях, то можно прийти к выводу, что фауна правоохранительных органов не очень разнообразна…
– Сходите к дантисту, – сказала вдруг я опостылевшему за неделю капитану. – Вам нарастят недостающую часть зуба, вы женитесь на дочери вашего начальника, получите новое звание и перестанете таскаться ко мне, как на работу.
– Сейчас моя работа – это вы, – он даже не обиделся, он оказался терпелив. Далеко пойдет, так что я, кажется, ошиблась насчет перспектив его карьерного роста. – Не будем откладывать.
Я прикрыла глаза. Одиннадцать фотографий, он лишь иногда меняет их порядок, в надежде, что пасьянс сложится, – чем черт не шутит. Поздравляю, «пасьянс» – новое слово в моем лексиконе – интересно, какие еще открытия меня ждут? Мария Стюарт – не Мария-Антуанетта, но именно она раскладывала пасьянсы… Кажется, именно за это ей отрубили голову. А впрочем, я не помню… Но зато помню название карт – от двойки до туза и все четыре масти…
– Пики, черви, бубны и крести. Или вам больше нравится, когда их называют трефами?
– О чем это вы?
– Ни о чем… Давайте сюда ваши фотографии.
…Но сегодня это были другие фотографии. Первым в стопке лежал польский актер Збигнев Цыбульский.
– Знаете этого человека? – невозмутимо спросил капитан, психолог чертов, доморощенный Иуда.
– Да. Это актер. Польский актер. Он носил очки, белый шарф и погиб. Кажется, в конце шестидесятых…
– В шестьдесят седьмом, если быть совсем точным, – он удовлетворенно хмыкнул. – А сейчас какой год, вы знаете?
Я молчала. Действительно, какой сейчас год?..
– Избирательная у вас память, как я посмотрю, – капитан остался профессионально вежливым, хотя больше всего ему хотелось съездить мне по физиономии.
По лицу, которого я даже не видела.
Эта мысль вдруг обожгла меня – я еще не видела своего лица. Может быть, все дело в этом: я увижу свои собственные, только мне принадлежащие глаза и складки у губ (почему я уверена, что у моих губ обязательно должны быть складки?) – и наконец-то вспомню себя.
– Мне нужно зеркало. У вас есть зеркало?
– Нет… Но если вы хотите…
Хочу ли я? Его тон не мог обмануть меня: в присутствии представителя власти любой флирт с зеркалом смахивал бы на опознание. А для опознания необходимы как минимум еще двое – я когда-то читала об этом? Видела в кино? Или мне приходилось принимать в этом участие?.. И вдруг на этом опознании я приму себя за кого-то другого?..
– Нет, пожалуй, нет… Не нужно.
– Тогда продолжим.
Он пододвинул мне оставшиеся снимки – небрежным жестом, в котором чувствовалось едва скрытое напряжение (за восемь дней я изучила этот жест). И я знала, что сейчас увижу: женщину, установить имя которой не могут (так сказал капитан). И человека по имени Олег Марилов. Капитан назвал его имя только на третий день, когда потерял надежду услышать его от меня.
Это имя мне ничего не говорило. В моей опустевшей, как город в период летних отпусков, голове не было ни одного имени, связанного с прошлой жизнью. Збигнев Цыбульский не в счет, но вряд ли он имеет какое-то отношение ко мне… Я взяла в руки принесенные фотографии мужчины – и не увидела ни одной из тех, которые мне показывали раньше. Те – вчерашние, позавчерашние, любительские, профессиональные, снятые со вспышкой и без – были полны жизни. Во всяком случае, человек, изображенный на них, был жив. В отличие от женщины, которую я видела на снимках только мертвой.
Но на этих снимках и он был мертв. Видимо, их сделали сразу же после катастрофы: искореженная груда металла, бывшая когда-то машиной; искореженная груда плоти, бывшая когда-то человеком. Мертвая женщина выглядела лучше.
– Кто это? – бессмысленно спросила я, хотя уже знала – кто.
Капитан молчал, и это было молчание разочарованного человека – видимо, он надеялся, что эти жестокие снимки встряхнут за плечи мою атрофированную память, надают ей по щекам, заставят вспомнить.
Он все еще надеялся.
Надежда не оставляла его, пока я безучастно перебирала снимки.
– Нет, я не знаю его. Я не помню… Это имеет какое-то отношение ко мне?
Он вынул из папки еще одну стопку фотографий – и снова на них, осененная тем же заревом катастрофы, была заснята женщина. Но не та, снимки которой он показывал мне все это время. В беспомощном изгибе фигуры все еще теплилась жизнь.
– Кто это? – бессмысленно спросила я, хотя уже знала – кто.
– Это вы. Третья участница драмы. Вы живы. Поздравляю.
– Я… Ну да. Я… Может быть. Но чего вы хотите от меня?
Он нагнулся ко мне – впервые за восемь дней он оказался так близко; от него исходил резкий запах дешевого одеколона.
Откуда я знаю, что это – дешевый одеколон?..
– Я хочу, чтобы ты все рассказала мне.
– Я ничего не помню. Я ничем не могу вам помочь.
– Я не верю тебе. Может быть, ты начиталась дурацких книжек по психиатрии, попрактиковалась на периферии и теперь водишь меня за нос. Знавал я таких умников. Некоторые накалывали не одну экспертизу. Вот только со мной такие номера не проходят. Я вижу тебя насквозь.
– Тогда, может быть, вы скажете мне, кто я такая?
– Никто, – он сказал это со сладострастием, пригвоздив меня к больничной койке, – никто.
Мгновенная боль пронзила меня. Я – никто. И все, что у меня есть, – это больничная койка и клетка казенной палаты, украшенная букетиком дешевых цветов. Таких же дешевых, как и одеколон капитана Лапицкого. Это было слишком, и я выдохнула ему в лицо:
– Это неправда. Этого не может быть. Кто-то же должен знать меня. Кто-то еще, кроме этих снимков. Не смейте больше приносить их мне.
– Что же ты сделаешь? Пожалуешься прокурору? Напишешь заявление? Вот только от чьего имени ты напишешь заявление, а?!
– Замолчите.
Но его уже невозможно было остановить.
– Никто. Ты никто. Как тебе нравится такая перспектива?
– Я хочу поменять следователя.
– Пиши заявление. Только не забудь подписаться. Своим настоящим именем. Мне наплевать, каким оно будет. Согласна?
Я медленно собрала все фотографии, сложила их в аккуратную стопку и швырнула ее в лицо капитану. И тут же поняла, что все это время хотела сделать это – бросить ему в лицо жизнь, которую он хотел навязать мне и которая не имела ко мне никакого отношения. Уголок одного из снимков ударил его по щеке – я видела, как он поморщился от боли.
– Я сейчас уйду, – тихо сказал он, но я знала, что это всего лишь уловка, обходный маневр, что он никогда не покинет поле боя вот так, за здорово живешь, – я сейчас уйду, но боюсь, что больше к тебе никто не придет. Тебя даже некому будет забрать из клиники, если ты останешься жива. Или из морга, если надумаешь умереть. Так что будем считать, что я пока единственный человек, который в тебе заинтересован.
– Почему?..
То, что он сделал потом, можно было бы расценить как жест особого расположения, если бы не огонь ненависти, который полыхал в его глазах. И эта ненависть была направлена даже не на меня, а на него самого. Он так и не смог стать хозяином ситуации. Не смог, хотя и пытался.
Капитан крепко обхватил мой подбородок жесткими пальцами (бедные цветы, которых он касался, – им тоже, должно быть, пришлось несладко!). Теперь мое лицо покоилось в его руке, как холодная рукоятка какого-нибудь табельного оружия.
Другой рукой он, не глядя, вытащил из середины стопки снимок и придвинул ко мне. Глянцевая поверхность фотографии мгновенно запотела от моего прерывистого дыхания.
Документально зафиксированная смерть нависла надо мной. Так близко, что я не могла разглядеть ее. Смерть вообще невозможно разглядеть, если она подходит слишком близко.
– Ты видишь? Это все, что осталось от моего друга. От моего лучшего друга. Мне казалось, что я знал о нем все.
– Все знать невозможно, – странно, как можно дослужиться до капитана и не понимать таких прописных истин.
– Хорошо, – он нехотя согласился. – Все знать невозможно, ты права. Но ничто не мешает знать всех. Мы много лет проработали с ним в одной связке. Я знал его женщин. Все они были похожи друг на друга – маленькие натуральные блондинки с большой грудью, обязательно близорукие – минус четыре по зрению, никак не меньше. Ему нравилось, как они прищуриваются, прежде чем сказать ему, что останутся на ночь. Это его умиляло. Ты не похожа ни на одну из них. Ты – не одна из них. Ты не в его вкусе. Тебя бы он не взял даже в качестве осведомительницы.
– А ту, другую?
– Мне бы тоже хотелось с ней побеседовать, но она уже ничего не скажет. У меня осталась только ты.
– В качестве случайной попутчицы я бы вас не устроила? – За восемь дней я уяснила для себя обстоятельства дела: мокрое предзимнее шоссе, машина, снесшая ограждение, два трупа, одна чудом оставшаяся в живых пассажирка, благополучно потерявшая память – и об аварии, и обо всем остальном…
Капитан грустно покачал головой:
– Этот вариант устроил бы меня. Вы даже представить себе не можете, как бы он меня устроил. – Он наконец-то выпустил мое лицо из ладони, отодвинулся: сразу же появилась дистанция, а вместе с ней вернулось и устало-вежливое «вы». – Но есть маленькая проблема: никто не знает – кто вы. Никто не делает попыток вас найти. Нигде нет даже упоминания о вас. При вас не нашли ничего, что хоть как-то могло объяснить ваше существование. Только отпечатки пальцев.
– Это была неприятная процедура. Хотя надо признать, что работаете вы оперативно.
– Мы работаем оперативно. Знаете, мне бы очень хотелось найти ваши пальчики еще где-нибудь. Это бы многое объяснило.
– Где, например?
– Например, в одном симпатичном доме. В доме, где произошло тройное убийство.
– Убийство?..
Кажется, я знаю, что такое убийство.
Убийство Кеннеди, убийство кротких морских котиков в высоких широтах, убийство доктора Джекила мистером Хайдом… Или это было самоубийство? Или это был несчастный случай?.. Во всяком случае, все это всегда заканчивается одинаково. То, что по неведению называют душой, бросается вон без оглядки, оставляя после себя бесполезные проломленные головы, стоячие лужи крови, разорванные, как подгнившая пряжа, сухожилия, их состояние произвольно, как комбинация игральных костей…
Игральные кости – залитые краской дырки от единицы до шестерки. Краска держится прочнее, чем кровь в подготовленном для убийства теле. Я играла в кости или прочитала о них в дешевых романах?.. О Кеннеди я тоже читала? Во всяком случае, доктор Джекил и мистер Хайд похожи на все буквы, которые я знаю. Сколько букв и какого языка я знаю?..
Это переводная литература. Перевод с английского, на котором убили Кеннеди. А смерть происходит оттого, что внутренностям всегда стыдно и страшно показаться на свет, уж слишком мрачный вид они имеют. Такой же, какой имела я, – почему я думаю именно так? – я ведь еще не видела себя. Я видела только фотографии мертвого друга капитана Лапицкого, фотографии мертвой женщины, на которых меня нет. А существуют ли фотографии, на которых я есть?
– …Кажется, я знаю, о чем вы говорите, – сказала я капитану.
– Вот и отлично, – он заметно оживился, – если вы готовы… Я имею в виду, если вы чувствуете себя достаточно хорошо, мы можем снять показания прямо сейчас.
– Показания?..
Неожиданный поворот. Я готова порассуждать о превратностях жизни на свету разорванных внутренних органов, но давать показания по этому поводу… Я не патологоанатом.
Слава богу, я не патологоанатом, я знаю это точно. Никаких познаний о строении хрупкого человеческого тела.
Тогда кто я?
Он ничем не может помочь мне, этот капитан, он знает обо мне не больше, чем я сама, – отпечатки пальцев не в счет, они ничего не скажут, во всяком случае, мне. Но ведь он чего-то хочет от меня, иначе зачем тогда весь этот разговор о тройном убийстве?
– Какого рода показания? – Я смотрю на него невинным взглядом страдающей амнезией. Черт возьми, я действительно страдаю амнезией, не стоит об этом забывать. Если не помнишь всего остального… – Показания о несчастном случае на шоссе?
– Это было все, что угодно, только не несчастный случай. У нас еще будет время поговорить об этом. И вам нужно хорошо подготовиться, чтобы выглядеть убедительной.
Он снова терпелив и снова ищет лазейку в высоком глухом заборе моей памяти, он собирается подкинуть в нее кое-что – кое-что из того, чего я еще не видела. Он извлекает на свет еще одну тоненькую пачку фотографических вещественных доказательств. И я рассматриваю их – вынуждена рассматривать по правилам игры, которые навязал мне капитан.
…Три варианта трех разных тел; я даже не пытаюсь сосредоточиться на лицах убитых, все они кажутся мне на одно лицо. Я безучастно отмечаю про себя, что у одного из трупов – аккуратная дырка в голове, у двух других разворочена грудь, раны беспорядочные, насколько я могу судить…
Насколько точно я могу судить?
– Ничего не можете сказать по этому поводу? – спрашивает меня капитан.
– Отвратительное зрелище.
– И больше ничего? – Ноздри его вибрируют.
Я могла бы сказать о том, что большое количество крови делает людей невыносимо грязными, их тела хочется сунуть под душ, и тогда – может быть – все образуется. Но я понимаю, что он ждет от меня совсем другого, и потому молчу.
– Значит, и этих людей вы не знаете? – Он продолжает настаивать.
– Нет.
– Что ж, очень жаль… Если что-нибудь вспомните… Вот номер моего телефона, – он вынимает из кармана заранее приготовленную визитку сомнительного качества и сует ее мне. Не глядя на нее, я машинально кладу визитку в карман халата. Чтобы тотчас же забыть о ней.
…Ничего, ничего не шевелится в стоячей мутной воде моего полумертвого мозга. Никаких зацепок. Почему, черт возьми, у всех этих милицейских фотографий такое отвратительное качество?.. И все равно я никогда не видела этих людей. Проклятый капитан, его присутствие изматывает меня, его фотографии убивают меня снова и снова; его каждодневное присутствие не дает мне забыть о себе… Это он, он во всем виноват…
– Уходите! Уходите, вы, милицейская ищейка!!! Уходите, слышите!..
Я бросила в него банку с цветами; я даже не помнила, как дотянулась до них, вырвавшись из цепких объятий каких-то трубок, которые сковывали меня. Вырвавшись из мерцающего света каких-то медицинских приборов, которые исподтишка все еще следили за мной…
Кажется, я потеряла сознание.
…Когда я пришла в себя, капитана в палате не было.
А на стуле, на котором еще совсем недавно сидел он, расположилась медсестра, птичка на жердочке. Та самая, что принесла мне цветы.
Кажется, ее зовут Анастасия. Настя. Я уверена в этом. Одно из немногих имен, в которых я уверена.
Несколько секунд я рассматривала ее, прикрыв глаза, – ничего особенного, это лицо вполне могло быть и моим собственным: я так же могла бы шевелить пухлыми легкомысленными губами, читая книгу.
А она читала книгу, птичка на жердочке. Книгу, слишком внушительную для ее легкомысленных губ.
Почему я знаю все о книгах, губах и птичках на жердочке – и не знаю самого главного?.. Почему никто не хочет помочь мне?
– Что вы читаете? – тихо спросила я медсестру.
От неожиданности она выронила книгу.
– Как вы себя чувствуете? – В ее голосе было больше участия, чем в голосе ведущего нейрохирурга с непроизносимым грузинским отчеством, и намного больше, чем в вибрирующих ноздрях капитана Лапицкого.
– Отвратительно. Гораздо лучше я чувствовала себя, когда была без памяти. – Что я говорю? Я ведь и сейчас без памяти, но не стоит об этом думать, иначе можно просто сойти с ума. – Так что вы читаете?
– Вообще-то эта книга для вас. Я принесла ее для вас.
Я совсем забыла, что мне уже можно читать; мне можно есть яблоки, очищенные от кожуры; мне можно общаться с врачами и представителями закона; мне скоро можно будет выходить на воздух – прямо под небо, которое я вижу в окно своей палаты каждый день.
– Мне не хочется читать. Но все равно спасибо. Вы очень добры.
По лицу медсестры пробегает тень застенчивого удовлетворения. Вместе со стулом она пододвигается к моей постели, заложив страницу книги забинтованным пальцем.
– Вы порезались? – так же участливо, как полминуты назад она, спрашиваю я.
– Пустяки. Просто собирала стекла…
Должно быть, это стекла от банки, в которой стояли цветы. Я смотрю на ту часть застеленного линолеумом пола, которая видна с моего места, и вижу еще не просохшее пятно и болтающийся в нем мертвый лепесток гвоздики.
– За цветы тоже спасибо.
– Их пришлось выкинуть. Но я принесу еще, если они вам нравятся.
– Мне они нравятся, – невозможно сказать ничего другого этой птичке на жердочке. – Не уходите. Посидите со мной.
Она никуда и не собиралась уходить – это было видно по ее лицу. Она была единственной, кто проявлял ко мне чисто человеческое участие. В этом участии не было профессионального любопытства врачей и оперативников; скорее – сострадание. С другой стороны – сострадание это тоже любопытство, но совсем иного рода. Оно может подразумевать и цветы, и книги, и даже забинтованный палец…
Несколько минут мы молчали – она разглядывала меня, а я – ее.
– Сколько вам лет? – спросила я.
– Двадцать один.
Интересно, мы ровесницы или я старше? Скорее всего – старше…
– А я? – Мне давно хотелось задать этот вопрос. – На сколько выгляжу я?
Она пожала плечами. Она не разбиралась в возрасте. Или просто жалела меня.
– Не знаю. Вам может быть двадцать. Или тридцать. Болезнь обычно меняет человека.
Очень дипломатично.
– Вы давно здесь работаете?
– Два года.
– И что, часто здесь бывают такие безнадежные случаи, как я?
– Бывают. Здесь все бывает. Поверьте, вы не самый безнадежный случай.
– А что говорят обо мне врачи? Я… Есть надежда, что все когда-нибудь встанет на свои места?
– Конечно, – медсестра оживилась, – вы только не волнуйтесь. Совсем не обязательно стараться вспомнить. В том смысле, если это доставляет вам постоянную боль… Лучше расслабиться, закинуть руки за голову и плыть по течению. Обязательно куда-нибудь приплывете.
– Что? Что вы сказали?
Неожиданно в самой глубине моей заснувшей души тенью мелькнула смутная, смазанная картинка – руки, закинутые за голову. Они покоятся на затылке. Это мой затылок и мои руки, запутавшиеся в моих волосах. Длинные волосы сменяются короткими, но мне кажется, что это не последнее и не самое главное изменение. Что-то происходило со мной в прошлой жизни, что-то заставило сменить длину волос – пронзительная, как молния, мысль мгновенно исчезает, так ничего и не высветив…
– Что с вами?! – Я слышу голос медсестры Насти. – Вы побледнели… Вы что-то вспомнили?
Ее рука касается моей, обнадеживающе обхватывает мою взмокшую ладонь: жест дружеского участия и острое желание стать единственной свидетельницей пробуждения сознания – все смешалось…
– Нет… Я не могу. Я не могу вспомнить…
– Тогда не стоит и пытаться, я же говорила вам. Все должно произойти само собой, если верить нашим врачам.
– А им можно верить?
– Вполне. У нас отличные специалисты. Вы можете на них положиться. Вы можете проснуться однажды утром и все вспомнить. Вы можете выпить стакан воды и все вспомнить. Вы можете увидеть носки чьих-то ботинок и все вспомнить. Вы можете услышать какую-нибудь мелодию и все вспомнить…
– Какую мелодию? – Я с надеждой посмотрела на нее.
– Лично мне нравится Эннио Морриконе… Эта тема из «Однажды в Америке». Вам нравится этот фильм?.. А книгу я действительно принесла вам.
– Спасибо, – я наконец-то сжалилась над наивной маленькой медсестрой, – давайте сюда вашу книгу.
…Ничто не могло ударить меня больнее, – книга называлась «Тайна имени». Самое актуальное название в моем положении.
– Ну и что я должна с ней делать? Прочитать от корки до корки?
– Вы можете найти имя, которое вам понравится. Которое вам подойдет, – медсестра постаралась быть убедительной, насколько вообще может быть убедительным младший медицинский персонал. – Не исключено, что выбранное имя окажется вашим.
– Обычно человеку не нравится его собственное имя. Впрочем, меня бы устроило любое. Любое, только бы оно оказалось настоящим.
– Давайте просто посмотрим, – она уговаривала меня. Легкомысленные губы уговаривали меня. Я впервые за восемь дней заметила, что глаза у нее разного цвета – один зеленый, а другой – карий…
– Как вы себе это представляете? Вы будете зачитывать имена вслух, а я должна постукивать хвостом на подходящее для меня сочетание букв?
– Примерно так, – она легко засмеялась. У нее был хороший смех. Я улыбнулась ей в ответ. – Можно начинать?
– Валяйте.
Она склонила голову над книгой, забинтованный палец пробежался по оглавлению. Все имена были расположены в алфавитном порядке, начиная с древнееврейских и древнегреческих; их носили миллионы женщин, которые прожили свою жизнь иначе, чем я. Их любили, их насиловали, их завоевывали; они рожали детей и давили виноград. Я знала о них все – и ничего конкретно. Я знала обо всем все – и ничего конкретно, и это сводило меня с ума. Холод пронизывал трубы моего позвоночника, заставлял их гудеть, как орган: должно быть – почти наверняка – я несколько раз прошла мимо своего собственного имени и так не узнала его, как не узнала всех мертвых людей на фотографии…
Все бесполезно.
– Хватит. Прекратите, – почти приказала я Насте.
– Хорошо. Если хотите – я уйду. Если так вам будет легче.
– Мне не будет легче в любом случае… Почему вы принимаете во мне такое участие, Настя?
Ее лицо сморщилось от жалости и сразу постарело на несколько лет. Даже глаза показались мне одинакового цвета: один стал темнее, а другой – светлее. Забавно, должно быть, иметь девушку с разными глазами. Интересно, что думает по этому поводу ее муж? Или ее парень…
– Не знаю. Я не умею объяснить, я только чувствую… Вы просыпаетесь утром или ночью совсем одна, в палате, в которой даже толком не закрываются двери… А в коридоре целую ночь горит свет… Я, например, вообще не могу спать при свете. Когда-то давно, еще в восьмом классе, я подцепила воспаление легких. Жутко неприятная болезнь, особенно если учесть, что ничего выдающегося с тобой не происходит. В больнице я тоже просыпалась по ночам и думала о разных вещах. О том, что полностью завалю алгебру. Больше всего почему-то я боялась алгебры, ну, как живого человека, который может мне чем-то угрожать… Потом я думала о маме. По сравнению с алгеброй это было безопасно. Потом – о своей собаке. У нас была замечательная собака, колли, она умерла от рака. Но тогда еще она была здорова, и я думала о ней, я очень ее любила… Потом о парне, который мне ужасно нравился – он единственный не дразнил меня за разные глаза… А вы? О чем думаете вы? Вы пытаетесь кого-то вспомнить – и у вас ничего не получается, – на глазах Насти показались быстрые легкие слезы, – значит, нужно, чтобы кто-то был рядом с вами… Чтобы вы не думали, что вы совсем-совсем одна…
– Можно я вас поцелую, девочка? – вдруг сказала я, и сердце мое сжалось от благодарности к медсестре.
Настя наклонилась, и я поцеловала ее в беззащитно-нежную щеку – единственный человеческий порыв за восемь дней кошмара; единственное, что оказалось в моем беспросветном настоящем.
– Все будет хорошо. Вы мне верите? – серьезно сказала она.
– Верю. Только я не одна. Кроме вас, меня навещают разные серьезные люди. Похоже, что у них накопились вопросы ко мне.
– Я знаю. Мне не нравится этот тип. Чего он хочет от вас?
Я вспомнила фотографии, которые мне показывал капитан Лапицкий; чего они от меня хотят – хороший вопрос. Чего хотят от меня трупы на снимках? Или они не могут простить мне, что я оказалась жива?.. Как только я вспомнила о крови на фотографиях, у меня разболелась голова, – если верить капитану, я была каким-то образом причастна к убийству. Вот только в роли кого я выступала? Куда и откуда шла женщина, которую капитан представил мне как меня самое?
– У вас есть зеркало, Настя? – дважды за сегодняшний день я попросила зеркало. И если струсила в первый раз, то теперь не собиралась отступать.
– Да. От пудреницы. Вас устроит? Вы ведь хотите посмотреть на себя, правда?
Правда, правда, девочка.
Настя вытащила из кармана халата пудреницу и протянула ее мне.
– Знаете, – бесхитростно сказала она, – я ношу зеркало в кармане уже неделю. Очень неудобно, у меня в пудренице защелка ненадежная… Но я ждала, что вы попросите зеркало. Я думала, вы сделаете это в первый день, как только придете в себя… но вы попросили только сейчас. Даже странно.
Действительно странно. Я вдруг поймала себя на этой мысли: почему я попросила зеркало только сегодня? Ни одна нормальная женщина так бы не поступила, она бы начала жизнь после комы с обнюхивания себя. Неужели в прошлом мне было так наплевать на свою внешность, неужели я так боялась ее? Или – наоборот – была так в ней уверена? Или – наоборот – не хотела иметь ничего общего с собой, сбросить ее, как змея сбрасывает кожу?..
– Скажите, Настя, я очень некрасивая? – спросила я медсестру, вертя в руках пудреницу и не решаясь взглянуть в нее.
– Я не знаю… – видимо, она была слишком молода, чтобы соврать мне. – Очень трудно определить сразу. Иногда вы кажетесь мне красивой. Когда не думаете о том, кто вы. Или когда вы не приходили в себя целых два месяца. Я видела вас. И думала – как жаль, что такая красивая женщина может умереть…
Я щелкнула замочком пудреницы и отчаянно-смело поднесла маленькое, запорошенное мелкой терракотовой пылью зеркальце к глазам. Сердце мое отчаянно колотилось – «возвращение памяти, возвращение прежней жизни может произойти внезапно». А хочу ли я знать о своей прежней жизни? Что, если глаза в зеркале скажут мне такое, о чем я предпочла бы никогда не узнать?
Но отступать было глупо – Настя, не отрываясь, смотрела на меня: будь ее воля, она бы сама влезла в зеркало, чтобы ничего не пропустить.
Ты слишком плохо думаешь о ней. Посмотри-ка лучше на себя… Ты делаешь это впервые за два месяца, и неизвестно, что тебя ждет…
Ничего необычного.
В зеркале не оказалось ничего необычного. Оно было слишком маленьким, чтобы вместить мое лицо, я увидела лишь глаза и часть носа – до тонких ноздрей. Его восковые крылья свидетельствовали лишь о долгом заточении в четырех стенах, не больше. Я провела по нему пальцем и прижала ноздри к выпятившимся губам – только для того, чтобы ощутить мой собственный запах, слишком ненадежный для того, чтобы что-то вспомнить. Я проделывала это неоднократно, наедине с собой; теперь – совершила то же самое в присутствии зеркала…
Ни запах, ни кожа никого мне не выдали.
Оставались только глаза, в которые я все еще боялась взглянуть. Я вдруг поймала себя на мысли: если бы они были такими же разными, как у медсестры Насти, мне было бы намного легче. Маленькая деталь, по которой кто-то может опознать меня, вызов симметричной природе человека.
…Но глаза были самыми обычными, только цвет был мутно-неопределенным – должно быть, оттого, что я слишком долго пребывала в беспамятстве. Свет не проходил в их глубину.
Или это они не выпускали свет из меня?
Они тоже стоят на страже. Все против меня. Вот и отлично.
Я вдруг отбросила жалкую чужую пудреницу в сторону, приподнялась и ухватила ничего не подозревающую медсестру за лацканы накрахмаленного халата. Но от этого мне стало только хуже. Выпустив гремящую, как жесть, ткань, я протянула Насте свои открытые ладони.
– Скажи мне, пожалуйста, чьи это руки?! Чьи они? Кому они принадлежат на самом деле?!. И эти глаза? – Я изо всех сил ударила себя по глазам. – Что они видели раньше?!. Скажи мне, что? Я больше не могу… Не могу так… Не могу, не могу…
Она крепко обняла меня за плечи, встряхнула и снова прижала к себе:
– Ну, успокойся, успокойся, прошу тебя… Прошу тебя… Все будет хорошо, нужно только подождать… Все обязательно вернется, вот увидишь… Ты проснешься и вспомнишь… Или вспомнишь просто так…
Ее руки очень хотели успокоить меня – и не успокаивали. Никто никогда не сможет меня успокоить. «Никто» и «никогда» – это единственные слова, которые принадлежат мне по праву.
– Все-все. Все в порядке, – мне стало стыдно за глупую, но неизбежную истерику, я молча высвободилась из рук медсестры. – Простите меня.
– Ничего. Хотите сигарету?
Сигарета. Это что-то новенькое. Я даже не думала о куреве (откуда только это слово – «курево»?), ни разу об этом не вспомнила…
– Хочу. Давайте сюда ваши сигареты.
Настя вытащила из карманов, казавшихся бездонными, целую россыпь сигарет. Удобно устроившись у меня в ногах, она аккуратно разложила сигареты перед собой – ни дать ни взять маленькая девочка с фантиками…
– Какие предпочитаете? – весело, даже чересчур весело спросила она.
– Все равно. Я даже не знаю, курила ли я когда-нибудь раньше.
– Вот сейчас и узнаем, – Насте очень хотелось поддержать меня. – Во всяком случае, одной вашей тайной станет меньше. Выбирайте – есть «Мальборо», «Житан» для особо продвинутых и «Беломор» для особо стильных…
– Даже не знаю.
– Или вот еще – гордость коллекции. Очень крутые сигареты, такие не продаются, их презентуют нашему Теймури в знак особой благодарности за удачно склеенные черепа. Я даже названия не могу прочесть. Берите…
– Теймури – это кто? – Я осторожно, двумя пальцами, взяла длинную тонкую сигарету и поднесла к лицу: ореховый запах мог бы пообещать мне что угодно.
– Наш ведущий нейрохирург. Мировой мужик. Это он вас собрал. Давайте я вам прикурю…
Настя щелкнула зажигалкой.
Ничего себе испытание. Я осторожно затянулась и тотчас же закашлялась. Очарование легкого орехового запаха сразу ушло, но я мужественно продолжала вдыхать дым и спустя минуту почувствовала себя лучше.
– Ну как? – спросила Настя, испытующе глядя на меня.
– По-моему, неплохо. По-моему, я была заядлой курильщицей, – я позволила себе улыбнуться, ведь еще никто не запрещал мне маленькие радости.
Голова с непривычки кружилась, я даже почувствовала легкое опьянение и стала исподтишка наблюдать за Настей, которая искусно выпускала дым через ноздри.
– Здорово у тебя получается, – одобрила я. – Теперь будем курить вместе…
– Я не против.
Мы рассмеялись, довольные друг другом.
– А теперь расскажи мне об этом твоем нейрохирурге, – должно быть, это тот самый врач с труднопроизносимым грузинским отчеством. Отчество было первым, что я не запомнила, но имя оказалось вполне ласковым, похожим на неумелую, но старательную трель флейты – «Теймури»… За неделю я уже несколько раз общалась с ним – обстоятельные разговоры с умолчанием диагноза и риторическими вопросами; невинные на первый взгляд ловушки – то, чего я боялась больше всего.
– Потрясный мужик! Умница и красавец, и потом, такая борода! Тебе нравятся бородатые грузины?
– Не знаю… – я действительно не знала.
– Первые полгода я пыталась его закадрить, но он неприступен, как витязь в тигровой шкуре. Ты почему улыбаешься?
– Не знаю… Твой витязь в тигровой шкуре, ты сама, этот дурацкий капитан из органов – круг знакомых растет, мне пора заводить записную книжку, ты не находишь?
Я легкомысленно произнесла это и тотчас же осеклась: тогда в эту же записную книжку стоит внести и погибшего Олега Марилова. И погибшую женщину, имени которой не знаю. Была ли у меня в прошлой жизни записная книжка? И если да – то кто в ней отирался?
…Додумать я не успела – дверь палаты резко распахнулась, и на пороге, как будто материализовавшись из Настиного необязательного трепа, появился высокий бородатый человек в халате нараспашку.
Я уже видела его – в самый первый день, когда пришла в себя, и потом. Видела смутно, как сквозь пелену, как сквозь слюдяное оконце дома, в котором я никогда не была. Он приходил ко мне нечасто, во всяком случае – реже, чем другие врачи (все они были для меня на одно лицо). Но оставался надолго – особенно в первые дни.
Нейрохирург мгновенно оценил обстановку – мизансцена была еще та: медсестра и пациентка, расположившись в непосредственной близости друг от друга, самозабвенно курят сигареты.
– Привет, девчонки, – хмуро сказал он. – Это что еще за посиделки?
Настя густо покраснела – то ли от смущения, то ли от еще не до конца изжитой влюбленности. Но, несмотря на румянец, она спокойно затушила сигарету и вполне независимо произнесла:
– Так виделись уже, Теймури Шалвович.
– Ты, я смотрю, времени зря не теряешь, приобщаешь пациентов к здоровому образу жизни. Гляди, уволю без выходного пособия.
– Давайте-давайте, посмотрим, где вы еще таких дур найдете с вами работать… А будете третировать – в онкологию уйду, на спокойное место.
– Ну-ка, брысь отсюда, твое дежурство кончилось, домой пора, баиньки.
У врача был акцент, сильно смахивающий на его бороду, – такой же густой и мягкий.
– Уже ушла, – сказала Настя, не двигаясь с места.
Теймури прошелся по палате, подошел к окну и так и остался стоять там, покачиваясь с пятки на носок. Теперь я видела только его спину, обтянутую почти щегольским халатом, и буйно заросший затылок.
– Ты еще здесь? – спросил наконец он.
– А вы как думаете?
– Думаю, что вора я все-таки поймал. Ясно теперь, кто крадет у меня сигареты. Еще раз застукаю – голову откушу, клептоманка.
– Самому же пришивать придется, – с готовностью ответила Настя, а мне только оставалось следить за тем, как упругий теннисный мяч их необязательного и привычного диалога перескакивает с поля на поле.
– Ладно, пошутили, и хватит. Мне нужно осмотреть нашу пациентку. Твое присутствие необязательно. И еще один совет на сон грядущий – в следующий раз можешь принести коньяк. Только покупай его за свой счет…
Настя нехотя встала, ободряюще сжала мне плечо:
– Держитесь. До завтра. Я обязательно загляну.
…Спустя секунду мы остались в палате одни.
Теймури по-прежнему стоял возле окна, не оборачиваясь. Он даже начал что-то тихонько насвистывать. Черт возьми, даже свистел он с акцентом!..
– Обещали холодный февраль. Опять обманули. Как вы себя чувствуете?
– Что я должна сказать? – Его затылок вдруг стал меня раздражать.
– Правду.
– Все требуют от меня какой-то правды. Я не знаю, что такое правда.
– Я вам верю. И все-таки, как вы себя чувствуете?
– А как бы вы чувствовали себя на моем месте? – Мне вдруг захотелось, чтобы он повернулся, подошел бы к моей постели. – Помогите мне, пожалуйста… Вы же можете мне помочь…
Он услышал, отошел от окна, уселся на стул и стал методично раскачиваться на нем, сунув руки в карманы. Некоторое время мы молчали – я думала о том, как, должно быть, он устает каждый день вытаскивать такие безнадежные случаи, как я; как, должно быть, он устает не вытаскивать такие безнадежные случаи, как я… И что бы он сказал себе, если бы я умерла? И что бы он сказал другим, если бы я умерла?..
Я гоняла одни и те же мысли по кругу, как взмыленных цирковых лошадей, пока не заметила, что стул под Теймури перестал раскачиваться, – грозный бородатый нейрохирург спал.
Очень мило.
Он спит, а я даже не могу подняться, чтобы разбудить его. А почему, собственно, я не могу подняться?
Я села на кровати, осторожно высвободила ноги из-под одеяла – смелее, смелее, – и спустила их на холодный линолеум. Холодный линолеум – значит, тело, в отличие от меня самой, прекрасно помнит, что существует холод. Значит, должно существовать тепло и много других вещей… Значит, можно встать и уйти.
Никуда ты не уйдешь.
Для тебя даже не предусмотрено никакой обуви – и намека нет на стоптанные больничные тапочки. Но – если бы они и были – куда бы ты пошла?.. Но я все-таки сделала первый шаг по казенной медицинской тверди – он дался неожиданно легко – и осторожно потрясла спящего Теймури за плечо.
Он мгновенно открыл еще не успевшие провалиться в сон глаза:
– Что?
– Ничего. Вы, кажется, заснули.
– Простите. Устал. Зачем вы встали? Ложитесь-ка обратно и не смейте высовывать нос из-под одеяла до моего особого распоряжения.
– Не разговаривайте со мной как с идиоткой. – А, собственно, ты и есть идиотка, жалкое многолетнее растение, вывороченное с корнем…
– Простите…
– Что со мной будет, доктор? – Я перевела тему, мне не хотелось, чтобы он извинялся передо мной.
– Подождем. Подождем. В вашей ситуации нужно только ждать.
– Сколько?
– Я не знаю, – искренне сказал он.
– А если не произойдет ничего такого, – слова давались мне с трудом, но все-таки я произнесла их, – если я ничего не вспомню. Что тогда?
– Вы производите впечатление умного человека. – Вот как! Лучший комплимент, который мне пришлось выслушать в этих стенах. – Мозг в целом не поврежден, заявляю вам это ответственно, как нейрохирург. А амнезия – вещь прихотливая и до конца не изученная… В вашем случае, как мне кажется, это скорее психологический фактор. Могло случиться, что вашей психике почему-то просто не хватило запаса прочности, она сломалась, как игрушка, отказалась вам служить. Такое тоже бывает.
– Но кто-то же может ее починить, – я не хотела отпускать врача, я все трепала и трепала его за холку. – Кто-то же может помочь мне…
– Окрепнете немного, и вами займутся психиатры. Вам снятся сны?
Вопрос застал меня врасплох. Снятся ли мне сны? Я вдруг поняла, что ни разу – с тех пор, как пришла в себя, – не видела ни одного сна. Ни одного намека даже на легкую цветную рябь – сплошная чернота, сплошной провал.
– Нет. Я не вижу снов.
– Тогда караульте их, позвольте им подойти близко. Если что-то появится, будем считать это маленькой победой. А сейчас сойдемся на том, что ваша психика просто взяла тайм-аут. Позволю себе повториться – никаких серьезных повреждений нет. В медицинском плане ваш случай даже трудно классифицировать, – он нагнулся ко мне, – мне кажется, что вы так сильно хотели забыть что-то в своем прошлом, что даже подбили на это свой собственный организм, сделали его соучастником…
– О чем вы говорите?! – Я с ужасом смотрела на Теймури. – В чем вы подозреваете меня?
Боже мой, боже мой, – капитан Лапицкий, ужасающие фотографии; трупы, кружащие, как стервятники, над моим беспамятством, – неужели все это действительно связано со мной и сейчас этот милый, немного циничный грузин предъявит мне обвинение?..
Но он не предъявил обвинения, он просто попытался лениво успокоить меня. Скорее всего Теймури был болезненно честолюбив, как все южане (не была ли война между Севером и Югом войной честолюбий? – какие только мысли не забираются в опустевшую голову, – но хоть обрывок мировой истории тебе известен…). Выйдя из комы, я вышла и из-под его опеки. И перестала представлять для него интерес – так, отработанный материал, уже прошедшая головная боль. Настолько прошедшая, что можно случайно забрести ко мне в палату и даже прикорнуть на минутку на стуле по этому поводу…
– Да ни в чем я вас не подозреваю. Это не моя компетенция, успокойтесь. – Он не хотел задеть меня и все же задел: наверняка он знает, что ко мне ходит этот мрачный капитан из органов; наверняка они даже говорили обо мне.
– Вы говорили обо мне с капитаном?
– Каким капитаном? – Нет, врать он положительно не умеет, мне показалось, что даже борода у него вспыхнула.
– С тем, что ходит ко мне, как на работу.
– Я прав, вы действительно умны. – Теймури помедлил, подбирая слова. – Умная девочка. Мы действительно говорили, и довольно откровенно.
– О чем?
– О том, что судебно-медицинской экспертизы вам не избежать. Я пытался убедить его, что вы действительно страдаете амнезией… Насколько профессионально я могу судить…
– Вы сами-то в это верите? – перебила я его.
– Да, – серьезно ответил Теймури. – Да. И природа вашей амнезии – в защитной реакции психики, которая не хочет быть разрушенной… Не волнуйтесь, этого я не сказал, вы мне симпатичны… И потом, за те два месяца, что вы были в коме, я привык к вам, – он обезоруживающе улыбнулся, – как к жене привыкают. Грузинские мужчины очень привязчивы… Но это так, беллетристика. Кстати, о беллетристике, – что это вам притащила наша сумасшедшая медсестра?
Не дожидаясь ответа, он взял книгу, оставленную Настей, повертел в руках, потом беспечно полистал, не углубляясь в содержание:
– Решила принять участие в вашей судьбе, девчонка! Гоните ее в шею, если будет надоедать. И мой вам совет – не стоит курить. Насчет коньяка я тоже пошутил. Когда-нибудь выпьем с вами хорошего грузинского вина…
– Когда? Когда станут известны результаты судебно-медицинской экспертизы?..
Он постарался сохранить невозмутимость и сделал вид, что пропустил мое замечание мимо ушей.
– Я уезжаю. Всего лишь на три недели. Домой, в Грузию. Еще два месяца назад должен был уехать. Но вы казались мне тяжелым случаем, я не мог вас оставить… Теперь вы пришли в себя и…
– И больше не кажусь вам тяжелым случаем.
– Во всяком случае, в чувстве юмора вам не откажешь… Думаю, что за три недели ничего не произойдет.
– Ну, если до сих пор ничего не произошло…
– Вы действительно хорошо себя чувствуете? – Он пристально смотрел на меня. – Никаких необычных ощущений? Что-то вроде тошноты или чего-нибудь подобного?
– По-моему, я стоик; и на такие вещи стараюсь не обращать внимания, – не стоит раскисать перед этим вальяжным баловнем судьбы. – А что?
– Нет, ничего… Когда приеду – у нас будет время поговорить… Есть одно обстоятельство, очень важное… Но вы к нему не готовы – вы еще слишком слабы. И останетесь в клинике ровно столько, сколько понадобится. Я обещаю вам, что с вами ничего не случится. Вы мне верите?
– Да. Тем более что ничего другого мне не остается. Вы выглядите очень усталым…
Теймури попытался улыбнуться мне, нагнулся к кровати, осторожно укрыл меня одеялом до самого подбородка и посмотрел мне в глаза:
– Как же все-таки вас зовут, хотелось бы мне знать…
– Мне тоже, представьте себе, – сказала я, и впервые эта мысль не доставила мне боли. – Вы очень странно действуете на меня. Я действительно чувствую себя в безопасности с вами… Как будто мы давно знакомы.
– А мы действительно давно знакомы, – Теймури был серьезен, – целых два месяца. Я же говорил, что успел привязаться к вам. Мы продолжим эту тему после моего приезда.
– Да-да… Должно быть, трудно общаться с человеком, у которого даже нет имени?
– Я тоже думал, что трудно. Но оказалось – легко…
…Настя по-прежнему приносит мне книжки. Теперь это совсем другие книжки – «беллетристика», как сказал бы уехавший Теймури; или нет – «бэлэтрыстика», именно так, с грузинским акцентом, презрительно-оценочный вариант… Яркие обложки захватаны нетерпеливыми наивными руками, мягкие переплеты надорваны, и обязательно не хватает нескольких страниц в начале. Иногда в конце, но мне плевать. Если финал не вырван с мясом – я вполне обхожусь им одним. Все книжонки похожи друг на друга, имена авторов и имена героев меняются местами без всякого ущерба для действия; единственное, что привлекает меня, – почти животный жизнерадостный идиотизм ситуаций. Но нужно отдать им должное – всем этим картонным героинькам: с утра им еще удается убедить меня в фальшивой мысли, что все будет хорошо. Вечера проходят тяжелее – в ожидании снов, которые не наступают. Я бесцельно шляюсь по пустынным коридорам своей стерильной памяти, надеясь натолкнуться хотя бы на что-нибудь: никакого мусора, в котором можно порыться и что-то выудить для себя, никакой смятой жести, никаких обрывков воспоминаний.
У меня нет привычек.
У меня нет пристрастий.
У меня нет любимых сигарет. У меня нет любимых блюд, хотя, объективности ради, нужно отметить, что кухня клиники не блещет разнообразием. У меня нет любимого времени суток; мне все равно, как спать: на животе или спине, со светом или без. Медицинские процедуры не раздражают меня; электроды, обсевшие мою бедную голову, как пиявки, не раздражают меня; даже капитан Лапицкий – самая большая, самая вдохновенная пиявка – не раздражает меня… Он по-прежнему приходит ко мне почти каждый день, изматывая повторяющимися вопросами. Он все еще расставляет мне силки и ловушки, в которые я не попадаю: приманки, лежащие в них, безотказно действуют на любого нормального человека, но меня не привлекают. Я равнодушно обнюхиваю их и бреду мимо.
Но я знаю, что где-то должен быть конец пути.
Что будет ждать меня там?
Закрытая психиатрическая больница для неопознанных преступников? Закрытая психиатрическая больница для неопознанных жертв? А если я все-таки опознаю себя или меня все-таки опознают другие?
Я так устала бояться произошедшего со мной, что согласна на любой исход, только бы он был определенным, только бы он назвал мое настоящее имя. А если этого не случится, успею ли я обрасти привычками, привязанностями и любимыми сигаретами до того, как сойду с ума окончательно?..
Никто не может ответить мне ни на один вопрос – так почему же все требуют каких-то ответов от меня? Мне не нравится эта игра.
…Сегодня он изменил себе первый раз – капитан Лапицкий.
Я, как всегда, ждала его с утра – обычное время для утомленного правосудия, – но утром он не явился. Я даже не смогла по-настоящему обрадоваться этому, хотя ежедневная игра в вопросы и ответы утомляла меня. Так утомляла, что я всерьез начала подумывать о том, чтобы облегчить ему работу, признаться во всех смертных грехах. Сказать то, что он так хочет от меня услышать. Подтвердить любые снимки, любые убийства и взять на себя что-нибудь еще, если это доставит ему удовольствие. Эта мысль пришла мне в голову совсем недавно и даже развлекла меня. Почему нет – тем более что капитан успел рассказать мне о своем друге Олеге Марилове множество маленьких милых историй. Я догадывалась, что он делает это, следуя четким инструкциям относительно моего диагноза: даже случайно упомянутая фраза, даже ничего не значащая деталь могли вернуть мне память.
Может быть, женщина, сидевшая со мной в машине и погибшая, была моей подругой? Может быть, она была моей соперницей? Кого из нас выбрал Олег для ближайшей ночи? И выбрал ли он кого-нибудь, ведь ему нравились блондинки… Была ли случайной попутчицей я? Была ли случайной попутчицей она? Я стараюсь не думать об этом: все во мне вызывает зависть – и ее красота, и ее конец…
Но я с удивлением обнаруживаю, что часто думаю о мужчине, с которым была рядом во время катастрофы, – неожиданно это придало моей нынешней жизни какой-то смысл. Во всяком случае, он был единственным реальным человеком, о котором я могла судить. Я вдруг поняла, что не одобряю влечения погибшего к подслеповатым блондинкам, подержанным иномаркам и здоровому образу жизни. А вот его страсть к черно-белым американским детективам пятидесятых годов мне импонировала.
Именно с фильмами происходили странные вещи. Почему-то именно о кинематографе я знала больше всего. Возможно, я была старой девой, обожающей утренние киносеансы для пенсионеров. Я набрела на кино, гнездившееся в моей голове, случайно. И теперь развлекалась тем, что целыми днями прокручивала в воображении самые разные ленты, отдавая предпочтение черно-белым американским детективам пятидесятых годов. Может быть, мы сошлись с погибшим оперативником именно на этой почве и посещали один и тот же кинотеатр повторного фильма…
Кино – это зацепка. Сегодня я скажу об этом капитану, пусть порадуется.
Но сегодня утром капитан Лапицкий не пришел.
Я почувствовала легкий укол сожаления по этому поводу. Призрак судебно-медицинской экспертизы витал в воздухе, но капитан ни разу не позволил себе заговорить об этом.
Более того, в последнее время наши отношения даже можно было назвать дружескими. Во всяком случае, прежде чем начать изматывающие душу допросы (они всегда проходили под видом непринужденных бесед, но не могли обмануть ни его, ни меня), он вполне искренне спрашивал о моем самочувствии. А однажды (это было верхом галантности) спросил, нравятся ли мне пожарские котлеты.
Я понятия не имела о пожарских котлетах, о чем и сообщила ему с милой улыбкой. Я вообще старалась почаще ему улыбаться.
Наивная дурочка, потенциальный кандидат в психушку.
Но только не для него. Однажды он задержался у меня дольше, чем обычно. В тот день впервые выглянуло солнце, слишком яркое для февраля (я уже знала, что сейчас – февраль, а все произошедшее со мной относилось к декабрю). Оно осветило стерильные стены палаты, и я даже отпустила несколько жизнерадостных реплик по этому поводу. Жизнерадостных и вполне осознанных: конец зимы, весна, потом будет лето, – неизменный, никогда не меняющийся цикл. Никому в голову не придет роптать на него, остается принять как должное. Эти вздорные рассуждения вызвали у капитана странную реакцию: по его лицу пробежала тень, он нахмурился и начал сосредоточенно потирать переносицу. Почти так же, как Мэй Уэст в каждом фильме на закате своей карьеры.
Холеная бездарная актриса, потерявшая чувство времени.
Меня удивляла моя осведомленность в кино, но еще больше удивляла осведомленность капитана. Возможно, он заразился ею от своего покойного друга, возможно, специально изучал его пристрастия, во всяком случае, клуб любителей старых фильмов разрастался… Почесывание переносицы означало: «я все равно загоню тебя в угол, чего бы мне этого ни стоило». Вот и теперь, почесывая переносицу, освещенную солнцем, он сказал мне: «Черт возьми, вы ведь совсем не тот человек, каким хотите казаться. Вас не ухватишь. Пока не ухватишь. Сложная штучка. Но вы у меня заговорите, и не только о смене времен года…»
А сегодня утром он не пришел…
Ничего особенного, только легкий укол сожаления и наивная вера в то, что меня оставили в покое. Значит, вместо утомительных пустых бесед можно попытаться заснуть и наконец-то увидеть сон. Завтра – Настино дежурство, еще несколько книжек в мягких переплетах, которые я возвращаю ей непрочитанными… А потом приедет Теймури. Я скучала по уехавшему грузину. Когда он вернется и проведет со мной хотя бы один нейрохирургический допрос с пристрастием, все станет на свои места…
…Я провела ничего не значащий обычный день в своей палате. Я даже никуда не выходила, хотя с некоторых пор мне были разрешены короткие прогулки. Их легко можно было превратить в длинные – с отъездом Теймури я избавилась от назойливой опеки медперсонала. Нет, она никуда не ушла, постоянные напряженные процедуры напоминали о ней, да и любопытные взгляды коллег Теймури – тоже. Я относила это к своей амнезии. И в то же время – я перестала быть коматозницей. Я перестала быть тяжелым случаем.
Но первое посещение запущенного зимнего парка клиники произвело на меня тягостное впечатление. Сырой воздух так кружил мне голову, что, если бы не Настя – верная Настя! – которая поддерживала меня, я бы упала.
Я помнила этот запах сырости близкой весны!
Я не знала, к чему конкретно он относится, я просто помнила, и все. И это раздавило меня – оказывается, ни одно ощущение не было забыто. Я разглядывала стволы деревьев и знала, какие они на ощупь. Я знала вкус ноздреватого рыхлого снега, я знала запах прелой листвы под этим снегом – вот только вспомнить, когда конкретно я столкнулась с ними, было невозможно. И именно это сводило меня с ума – упоминание обо всем и ни о чем одновременно. Собственная палата, которая ни с чем у меня не ассоциировалась, казалась куда более безопасной. И я решила оставаться в безопасности.
Но вечером – оказавшимся страшно непохожим на другие вечера – стало ясно, что никакой безопасности в ближайшем будущем меня не ожидает.
…Он появился внезапно, мой капитан. Я даже успела подумать о том, что наши утренние встречи из высших соображений начальства капитана Лапицкого перенесены на более позднее время: в сумерках всегда притупляется жгучее чувство выйти сухим из воды, они располагают к убийственным откровениям. Логика вполне в духе карательных органов, насколько я могу судить… Я не была готова к подобным сменам тактики и собиралась прямо сказать об этом капитану, когда он бросил на мою койку ворох каких-то тряпок.
Ни следа от обычной утренней галантности.
– Одевайтесь, – сказал он тоном, не предвещающим ничего хорошего.
– Зачем? – трусливо спросила я. И поняла, что все наши дружеские посиделки ничего не стоили перед его короткой репликой.
– Ничего страшного, – он попытался успокоить меня, он уже сожалел о жестком тоне, – просто съездим в одно место, и все… Возможно, кое-что из этого получится. Вы ведь хотите знать правду о себе?
– Мне не во что одеться, – наивная уловка, если учесть принесенное капитаном.
– Одевайтесь, здесь вполне приличные вещи.
– Это не моя одежда.
– Это ваша одежда. Она пострадала в аварии меньше вас. Так что одевайтесь.
– Отвернитесь, – единственное, что я нашлась сказать ему, – я все-таки женщина.
Капитан хмыкнул:
– Вы все-таки женщина, но уж поверьте, не первая, чьи прелести я видел. Я не отвернусь.
– В интересах следствия?
– Именно в интересах следствия.
Конечно же, все, что он делал, было в интересах следствия.
Я спустила ноги с кровати, еще до конца не осознав того, что мне сейчас предстоит: облачиться в потрепанную шкурку своей прежней жизни. Очная ставка в присутствии официального свидетеля – разве это не волнующий момент?..
…Джинсы, рубашка, свитер, ботинки – все действительно было в приличном состоянии, во всяком случае на первый взгляд. Но этому не стоит доверять – я и сама на первый взгляд в приличном состоянии. Только внимательно рассмотрев вещи, я заметила наспех зашитые дырки и совсем уже неразличимые бурые пятна. Нет, я не могла носить этих вещей, они мне не нравятся. Ни одна женщина не наденет то, что ей не нравится. Эти шмотки подошли бы той, погибшей, с короткими черными волосами, это как раз в стиле ее бесшабашной и мгновенной смерти… Остановись, остановись, это твое воображение разыгралось. В последнее время я пользовалась им по поводу и без повода, катала его, как китайские шары в руках… Несколько оторванных пуговиц на рубашке, несколько спущенных петель на свитере, вырванный «язык» замка на джинсах… И никакого запаха, который бы выдал в них долгое присутствие человека. Вещи были абсолютно стерильны.
– Вы их в автоклаве выпаривали? – спросила я, оттягивая момент облачения.
– Вроде того, – равнодушно сказал капитан.
– А до этого?
– Проходили в качестве вещдоков.
Я сунула палец в дырку на рукаве свитера:
– Я это не надену.
– Ничего другого предложить не могу, – капитан начал терять терпение, – нету у нас денег вам новую одежонку справлять.
Я подчинилась. Ничего другого мне не оставалось. Я даже не стеснялась своего бледного, усохшего за время болезни тела. Только грудь победно возвышалась над этим кладбищем ребер и почти атрофированных мышц. Краем глаза я заметила, что капитан пристально посмотрел на меня, – черт возьми, вот и первая чисто мужская оценка. Капитаны, даже работники органов, – тоже люди, кто бы мог подумать… Взгляд его скользнул выше, и я пошла за ним как привязанная. Эта дорога привела меня к нескольким шрамам под ключицами – видимо, мою грудную клетку все-таки потрошили.
Так же как и голову…
– Не нужно на меня пялиться, – сказала я, прикрываясь рубашкой.
Он неожиданно покраснел:
– Я не пялюсь, с чего вы взяли? Тоже мне, царица Савская!..
– Здесь нет белья, – я наконец-то взяла себя в руки.
– О, черт! – Он досадливо сморщился. – Ладно, без белья обойдетесь. Не на прием едем.
– А куда?
– Увидите.
– Следственный эксперимент? – спросила я только для того, чтобы что-то спросить.
– Вы – моя сплошная головная боль, – глаза его заметались загнанными зверями. – Меньше будете знать – крепче заснете.
– Я и так сплю крепко. Спасибо.
Я медленно одевалась. Наверное, это можно было назвать одеванием только в первом приближении. Я примеряла на себя свою прошлую жизнь, но даже это не вызвало у меня никаких эмоций, кроме легкой тошноты. Впрочем, на тошноту я старалась не обращать внимания, в последнее время ее приступы мучили меня довольно часто. Но я старалась справиться с этим… Ничего другого не оставалось.
Рубашка и штаны болтались на мне как на палке – за время болезни я сильно сдала, как оказалось.
– Меня нашли без ремня в штанах? – спросила я у капитана, поддерживая джинсы.
– Светлая головка, – похвалил меня капитан, – ремень затерялся в недрах управления.
– Жаль-жаль… Может быть, этот ремень был вашим единственным шансом. Той зацепкой, которая вернула бы мне память. Халтурите, капитан! А впрочем, носите на здоровье.
– Пошевеливайтесь, – капитан Лапицкий скрипнул зубами.
Это было похоже на сдержанное хамство, и я решила не оставаться в долгу. Я поставила перед собой ботинки и невинно посмотрела на капитана, склонив голову набок и шевеля пальцами ног. Пальцы были хорошей формы, нужно признать. Хоть это радует, если учесть, что о носках капитан не позаботился, впрочем, то же самое можно было сказать и о белье.
– Ну, что еще не слава богу? – раздраженно спросил капитан.
– Мне тяжело надеть ботинки. Помогите мне.
– В смысле?
– Помогите мне надеть, – я не собиралась отступать. Пора поставить милицейского хама на место. Пусть потрудится.
Капитан смотрел на меня, ожидая подвоха.
– Мне просто трудно наклоняться, – успокоила я его, – последствия травмы, знаете…
Ему ничего не оставалось делать, как подчиниться. Он присел передо мной на корточки, сунул в ботинки сначала мою правую ногу, а затем – левую. Потом поднял голову и посмотрел на меня.
– Теперь завяжите шнурки, – скомандовала я.
– Не многовато?
– Теряем время, капитан.
Когда он сделал и это, я пошевелила пальцами в ботинках. Довольно удобно.
– Теперь, надеюсь, все? – Он по-прежнему сидел передо мной на корточках, и я не смогла побороть искушение. Я сделала то, что хотела сделать все это время, – двинула ему носком ботинка в беззащитно выдвинутый вперед, лживо-раздвоенный подбородок, основную гордость их бесславного следственного управления, где воруют ремни жертв автокатастроф.
Удар получился не сильным, но унизительно-ощутимым. Капитан не удержался на ногах и плюхнулся на задницу.
– Теперь все, – констатировала я, – считайте, что мы квиты, капитан.
– Сучка! – удовлетворенно сказал он, потирая ушибленный подбородок. – Ты у меня еще наплачешься, симулянтка!
Он подошел к двери, приоткрыл ее и осторожно выглянул в коридор. Тотчас же полоску приглушенного света из коридора перекрыла чья-то громоздкая фигура. Капитан о чем-то пошептался с коридорной тенью и обернулся ко мне.
– Ну, поехали, – его лицо расплылось в предвкушении близкого реванша.
Только теперь я почувствовала опасность. Черт возьми, почему с такими предосторожностями он забирает меня из клиники, да еще вечером, когда нет никого из ведущих врачей?..
– Надеюсь, все согласовано с руководством клиники? – Я старалась сохранять спокойствие.
– Конечно, – ни один мускул не дрогнул на его лице, и это убедило меня в том, что он лжет. – Пойдемте, нам уже пора.
– Я никуда не пойду. Только в присутствии врача…
Капитан легко поднял меня с кровати, легко подтолкнул к двери и злорадно шепнул мне в затылок:
– Пойдешь, никуда не денешься. Или ты думала, что я до второго пришествия буду с тобой вошкаться?
…Мы вышли в полуосвещенный по причине позднего времени коридор. Где-то в самом конце маячила тяжелая фигура напарника капитана. Я нарочно шла медленно, цепляясь глазами за плотно прикрытые двери палат: в одной из них лежит чемпион Европы по греко-римской борьбе, я даже знаю, где именно… Его помощь сейчас бы не помешала.
– Передвигай ноги поживее, – шепнул мне в спину капитан.
– Не могу. Ботинки жмут…
Неожиданно руки капитана настигли мои плечи, сжали их, и я оказалась прижатой к стене.
– Если ты не заткнешься, если не перестанешь ныть, – хрипло прошептал он, – то времена, проведенные в коме, покажутся тебе райскими кущами. Эти ботинки не могут тебе жать, потому что это твои ботинки. Ты поняла?
– Отпусти меня, сволочь, – снова этот жуткий приступ тошноты, с которым все труднее справляться, снова ощущение невесомой тяжести в животе от близкого лица капитана, – иначе так врежу по яйцам, что не обрадуешься!
– А ты, оказывается, не все забыла, – он все-таки отпустил меня, и мы продолжили бесконечный путь по бесконечному коридору.
…Сейчас будет поворот направо, черный ход, который закрывается только на ночь, потом пост дежурной медсестры, возле которого я постараюсь задержаться. Перспектива ехать куда-то с капитаном на ночь глядя никак не прельщала меня: я помнила, как воровато, как плотно он закрыл дверь моей палаты… Самого же капитана, видимо, не прельщала встреча с дежурной медсестрой. Хотя сегодня – я знала точно – дежурила Эллочка Геллер, милейшее существо с курчавыми висками и тихой влюбленностью в Питер – город, в котором она никогда не была. Я даже знала, что сейчас читает интеллигентная близорукая (вполне во вкусе Олега Марилова) Эллочка: «Вверх по лестнице, ведущей вниз» Бэл Кауфман…
А дальше случилось то, о чем я смутно подозревала, – капитан легонько подтолкнул меня к оказавшейся незапертой двери на черную лестницу. Мы быстро спустились вниз и спустя минуту оказались в парке клиники, прямо посередине смутного февральского неба. Капитан уверенно вел меня по только ему известному маршруту. Я еще цеплялась взглядом за черные силуэты деревьев, которые видела при свете дня, – эта территория уже была помечена мной. Сейчас будет частокол ограды, а за ней – город, который я помню только по названию…
Мы вышли из парка клиники через маленькие ворота, о существовании которых я даже не подозревала. Капитан, несмотря на непроглядную тьму, вел меня уверенно – видимо, он неплохо подготовился к сегодняшней ночной мистерии.
– Это похищение? – спросила я у него.
– Что-то вроде, – даже в темноте я чувствовала его надменную, острую, как лезвие ножа, улыбку.
…Несколько раз зажглись и погасли фары – нас уже ждали.
Капитан ласково втолкнул меня в машину, где сидели еще двое. Одного я сразу же узнала по глыбообразным расплывшимся плечам – тот самый силуэт в проеме дверей моей палаты. Еще один тип, похожий на всех типов, отирающихся в салонах машин в ночное время, сидел за рулем.
– А вот и мы, – по-домашнему промурлыкал капитан Лапицкий. – Трогай, Виталик. По трассе и к Бронницам.
Черт возьми, что это еще за Бронницы? Материк, глубоководная впадина, железнодорожная станция, запавшая за подкладку магистральных путей, место моего рождения, место смерти Олега Марилова?.. Этот вариант показался мне самым приемлемым. Они решили устроить следственный эксперимент, совсем как в безмозглых книжках, которыми снабжала меня Настя. Вот только какой смысл везти меня туда ночью, когда мрак шоссе благополучно совпадет с мраком в моей памяти?..
– Все экспериментируете, капитан? Только этот ваш следственный эксперимент – полная дешевка, – прокомментировала я с невесть откуда взявшимся веселым энтузиазмом.
– Заткнись, – посоветовал мне капитан, – еще успеешь наговориться.
Машина резко рванула с места, и спустя несколько минут мы уже мчались по пустынной трассе. Капитан сидел рядом со мной, я видела его хищный профиль в свете фар одиноких встречных машин. В смазанной пляске огней, остающихся далеко позади. Этот профиль не предвещал для меня ничего хорошего. Он хранил верность погибшему другу. В своем подозрительном, извращенном милицейском воображении он придумал для себя историю обо мне. Историю, в которой я была причиной смерти его друга, не более.
Не более, но и не менее. Меня было за что ненавидеть. Та женщина, погибшая вместе с Олегом в катастрофе, не в счет. С мертвых все взятки гладки.
В полном молчании мы скоротали полчаса на стылой трассе, пока наконец машина не остановилась. Шофер Виталик подогнал ее к самому кювету, заглушил мотор и так и остался сидеть с прямой спиной, в полном молчании.
– Ну, идем, – сказал мне капитан. – Сейчас посмотришь, где все произошло. Ботинки не жмут?
– А вы, я смотрю, зуб вставили, – я заметила это еще в палате, когда оскалившийся капитан потирал подбородок, стараясь снять легкую боль от моего удара. – Поздравляю, очень симпатично.
– Идем, – он протянул мне руку.
Сейчас я выйду из машины и, возможно, все узнаю о себе. Меня прошиб пот, затея капитана уже не казалась безмозглой.
… – Это здесь, – сказал он, когда мы выбрались из автомобиля, пересекли шоссе и оказались на противоположной стороне.
– Мы ехали в Москву? – спросила я. Это место ничего не говорило мне.
– Да. Видишь эту эстакаду? Он врезался в бетонное ограждение… Трасса была скользкой, к тому же пошел снег… Ты сидела рядом с ним? Или рядом с ним сидела она? – не глядя на меня, спросил он.
Даже здесь, на месте гибели друга, он пытался в чем-то уличить меня. Я пожала плечами:
– Я же говорила вам – я ничего не помню.
– Да-да, я знаю, – он старался не раздражаться, но у него это плохо получалось. – Ты ничего не помнишь. Твоя башка забита всякой всячиной, как старый чердак, но главного ты не помнишь, черт возьми! Я даже не знаю, как к тебе обращаться, потому что не знаю, как тебя зовут… Неестественно, чтобы у человека не было имени, а тебе даже в голову не приходит взбунтоваться по этому поводу…
– Бессмысленно бунтовать по этому поводу, – тихо сказала я, – я просто надеюсь… Вы ведь надеетесь, что дослужитесь до майора?
– Больше всего я надеюсь на то, что все-таки узнаю, кто ты.
– Зачем? – Я внимательно рассматривала парапет эстакады, надеясь найти там следы катастрофы, в которую попала. – Ведь то, что случилось два месяца назад, – несчастный случай, только и всего. Вы понимаете? Произошел несчастный случай, и ваш друг погиб. Никто не виноват.
– Почему ты так упорно пытаешься убедить меня в том, что произошел несчастный случай? – Он продолжал испытывать меня. – Ты слишком категорична для человека, потерявшего память. Или ты забыла, о чем я говорил тебе? Или ты придерживаешься линии людей, которые хотели бы выдать это за несчастный случай? Может быть, ты сдашь мне этих людей, и я обещаю провести дело с минимальными потерями для тебя.
– Каких людей?
– Тех, кто был в машине, которая преследовала вас.
– Я ничего не помню.
– Удобная позиция. Мужчина, который ничего не скажет, потому что мертв, и женщина, которая ничего не говорит, потому что, видите ли, у нее не все в порядке с головой. Но ты не учитываешь одной вещи. У наших экспертов башка варит, и установить, что вас преследовали, не составило большого труда.
Я молчала. Мне нечего было сказать.
– Тормозной путь – не ваш, нет… Машины, которая шла за вами. И вмятина на правом крыле. На правом, хотя ваша машина ударилась лбом, и именно этой вмятины именно в этом месте не должно было существовать. Но даже не это главное. В вас стреляли. Это несложно было определить. У Олега было несколько скользких дел, каждое из которых неприятно пахло. У меня есть версии, и ты легко вписываешься в любую из них, уж прости. Думаю, если бы Олег был один, он бы смог уйти от кого угодно. Он классный водила… Был классным водилой, – поправился капитан. – Тебе только нужно сказать, кто преследовал вас.
Я устала. Я опустилась на мокрые камни эстакады и закрыла глаза.
– Я не знаю. Неужели вы не можете понять, что мне гораздо тяжелее, чем вам. И что в моей нынешней ситуации я предпочла бы участь вашего друга.
– Участь моего друга… Очень хорошо. Вот здесь вас и нашли, запаянных в груду металла. Он умер сразу. Та, другая, тоже умерла сразу. А вот тебе не повезло.
– Да. Я им завидую, – сейчас, здесь, посреди пустого шоссе, это было правдой.
– Вы действительно не узнаете этого места? – Его тупая настойчивость клонила меня в сон, несмотря на пронизывающий ночной холод.
– Нет. Я замерзла.
– Пойдемте в машину, там бутерброды и кофе, – бесцветным голосом сказал капитан, но остался стоять.
Не дожидаясь его, я отправилась к машине.
– Эй! – Он нагнал меня в два прыжка и, задыхаясь, бросил: – Я все равно не верю тебе. Даже если бы все врачи мира выстроились бы передо мной в очередь и начали бы убеждать меня белым стихом или каким-то там гребаным верлибром, что ты не знаешь, что творишь, и не помнишь, что творила, – я бы и тогда им не поверил…
– Белый стих и верлибр – одно и то же, – безразлично заметила я. Мне было совершенно все равно, что еще он мне скажет. – А вы – просто полный кретин. Даже странно, что я села в машину человека, который был вашим другом…
Я почувствовала его жесткие руки на своем затылке, они ухватили меня за шиворот, как нашкодившего щенка, с единственной целью – утопить меня в целях высшей справедливости.
– Не нужно испытывать милицейского терпения, – бросил он моему затылку. – Обычно это неважно заканчивается. А для тебя может кончиться совсем плохо.
– Отвезите меня обратно, – равнодушно ответила я. – Неужели вы не видите, что мне нечего вам сказать?
Он ослабил хватку, а потом и вовсе отпустил меня. Приступ ярости прошел так же внезапно, как и начался.
– Хорошо. Черт с тобой. Хорошо.
Мы вернулись к машине.
Водитель Виталик меланхолично крутил ручку настройки автомагнитолы – ни одна из радиостанций, похоже, не удовлетворяла его. Второй (кажется, его звали Вадимом) так же меланхолично жевал бутерброд с сыром. Оба с любопытством воззрились на нас.
– Ну что, шеф? – с развязной почтительностью промурлыкал Виталик, остановившись наконец на растрескавшемся от времени голосе Ива Монтана. – В порядке?
– В полном, – капитан поморщился. – Трогаем.
– Согласно утвержденному оперативному плану? – не унимался Виталик, скосив на меня прозрачный от дерзости взгляд.
– Согласно, – коротко ответил Лапицкий. Провал плана с местом катастрофы у эстакады сделал его немногословным.
– Понял, – Виталик завел машину, и спустя несколько секунд мы уже мчались по шоссе.
Но не в сторону Москвы.
С каждой минутой мы отдалялись от нее, а вместе с ней и от клиники. От моей маленькой палаты с полом, покрытым прохладным линолеумом. Я даже вспомнила узор на линолеуме – чередующиеся квадраты, созданные для игры в классики…
Интересно, играла ли я в детстве в классики?
И где прошло мое детство?.. Странно, что я еще не думала об этом. О каких вещах я не успела подумать?
Не успела подумать, лежа на больничной койке, моем единственном ненадежном убежище на сегодняшний день… Эти люди, которые вполуха слушают Монтана и жуют плебейские бутерброды с толстыми ломтями сыра, – эти люди могут сделать со мной все, что угодно. И никто, никто не защитит меня…
Возможно, меня защитило бы воспоминание об отце, если бы я помнила его… Возможно, меня бы защитило воспоминание о матери, если бы я помнила ее… Тогда можно было бы смело сунуть сжатый кулак в рот и прошептать: «Мамочка, помоги мне, пожалуйста…» Но даже этой, обязательной для всех, малости я была лишена. В моей нынешней жизни было только два человека, проявивших во мне участие: медсестра Настя и Теймури, который обещал мне вино и сны… Но Теймури сейчас в Грузии, он ничем не может мне помочь. И Настя в ее всегда восхитительно мятом халате ничем не может мне помочь.
Есть от чего прийти в отчаяние.
– Куда вы меня везете? – спросила я Лапицкого, стараясь не разрыдаться.
– Заедем в одно местечко, – расплывчато пояснил капитан. – Много времени это не займет. Отметимся – и сразу назад, в теплую больничную коечку.
– Не самое подходящее время для визитов, – держать себя в руках становилось все труднее. Но больше всего я боялась сломаться в присутствии этих людей.
– А она у вас разговорчивая, – вклинился в разговор водитель Виталик. Голос его звучал с веселым равнодушным одобрением. – Вы бы нас познакомили, герр капитан. Все-таки столько времени вместе провели с симпатичной дамочкой, а я даже не знаю, как ей кофе предложить.
– Я бы и сам познакомился, да она не колется. Ни имени, ни номера телефона не выдает. С родителями не знакомит. Как зовут ее собаку, понятия не имею. В общем, тяжелый случай для возможных поклонников, – лениво ответил капитан. Он не забыл слова «кретин» в своем контексте и решил отыграться за унижение на эстакаде, ясно.
– Может, вы не на той козе подъехали, герр капитан, а? – не унимался Виталик. – Может, вы вообще не в ее вкусе? Может, я бы ей больше понравился…
– За дорогой следи, Казанова! – поморщился капитан. – И не гони так, а то к праотцам отправимся раньше времени.
– Не-а… К праотцам скучно. Ни тебе кровищи, ни тебе терпил, ни тебе расчлененки. Одни ангелы законопослушные с инвентарным номером на крыльях, двинуться можно…
Странно, но этот циничный треп даже не задел меня. Я сидела на заднем сиденье рядом с капитаном и прислушивалась к себе. Это началось еще тогда, когда я пришла в себя, – я вернулась из небытия с ощущением набегающих волн в самой глубине живота; приливы чередовались с отливами, они не зависели ни от времени суток, ни от полной луны, они жили во мне постоянно. Я привыкала к ним и не могла привыкнуть. Это было похоже на легкое головокружение, на маленькую карусель в самой сердцевине организма: деревянные облупленные лошадки и олени со сломанными рогами, мерно покачивающиеся в такт моим бредущим по кругу мыслям.
Вот и сейчас – отлив, который обнажит подгнившие остатки снастей, забытых на самом дне моего измученного болезнью тела…
– Остановите машину, – слабеющим голосом попросила я. – Я неважно себя чувствую.
Виталик вопросительно повернулся к капитану, я впервые увидела его смазанный, нерезкий, почти женский профиль. Мужчины с таким профилем вынуждены всю жизнь самоутверждаться, гонять по шоссе с предельной скоростью и отбивать жен у своих лучших друзей…
Были ли в моей прошлой жизни такие мужчины?..
– Тормозни, – бросил капитан, – а то еще кони двинет, отвечай потом за нее… Не разгребемся.
Виталик послушно остановил машину, и я почти вывалилась из машины, хватая ртом загустевший от холода февральский воздух. Капитан вышел вслед за мной, остановился в отдалении и закурил.
– Можно сигарету? – Я пришла в себя настолько, что даже почувствовала неловкость оттого, что эти враждебные мне люди стали свидетелями моей слабости.
– А вам можно? – проявил запоздалое участие капитан.
– Мне все можно, – взяла на себя смелость установки диагноза я.
– Без фильтра, – неожиданно смутился он.
– Один черт. Валяйте без фильтра.
Капитан протянул мне сигарету и щелкнул зажигалкой. Я затянулась и тотчас же решила, что с сигаретой без фильтра я погорячилась: в рот сразу же набились кислые крошки табака, и запершило в горле. Я судорожно сплюнула и отбросила сигарету в снег. Капитан с интересом проследил за траекторией ее полета и одобрительно покачал головой:
– И правильно. Вот Олег вообще никогда не курил. Был адептом здорового образа жизни. Так и погиб, а ни одной сигареты не выкурил. Таким вот образом обстоят дела. А я дымлю как паровоз. Бросать надо.
– Да.
– А как это – ничего про себя не помнить? – вдруг совсем по-детски спросил он и с любопытством посмотрел на меня.
Вопрос застал меня врасплох, я и сама не знала, как ответить на него.
– Кое-что я помню… Или думаю, что помню.
– Что? – Капитан внутренне подобрался.
– Ну, например, мне нравятся старые американские черно-белые детективы. Так же, как вашему другу.
– И все? – разочарованно вздохнул капитан.
– Да.
– А все-таки – что значит не помнить ничего, кроме черно-белых детективов?
– Не знаю… Это… Это как будто быть женой Синей бороды. Открыты все двери, кроме одной, в которую до смерти хочется попасть. А можно не попасть до самой смерти… Тебе нужна только эта дверь, и можно сколько угодно биться в нее головой. А где чертов ключ – неизвестно…
Почему я вспомнила вдруг о Синей бороде? И не к нему ли везет меня капитан Лапицкий?
– Куда мы все-таки едем? – Э-э, детка, тебе нужно научиться справляться с отчаянием, иначе ты просто сойдешь с ума.
– Чертов ключ искать, – серьезно глядя на меня, ответил капитан.
…Этот маленький уснувший дачный поселок ни о чем не говорил мне. Еще одно место, которое ни о чем мне не говорит.
Виталик легко ориентировался в непроглядной тьме каменных и деревянных заборов – чувствовалось, что здесь он был не раз. В салоне машины царило напряженное молчание, я даже не заметила, как оно сменило необязательную, немного нервную болтовню водителя и капитана.
Я ждала конца этого ночного пути, и он наступил.
– Приехали, герр капитан, – скромно возвестил об этом Виталик и заглушил мотор.
– Совсем тебя стажировка в Германии испортила, дурила, – мягко пожурил подчиненного капитан. – Сколько раз просил – прекращай эти свои бундесовые штучки…
– Можно, конечно, в русском стиле – «майн херц», – не унимался водитель. – Но это уже нарушение субординации.
– Посидите пока, – вежливо обратился ко мне капитан, – сейчас за вами придут.
Лапицкий и Виталик вышли из машины, и их тотчас же поглотила ночь. Я осталась сидеть в салоне автомашины с равнодушным, как сфинкс, оперативником (кажется, его звали Вадим). Минуту я наблюдала за его неподвижным тяжелым затылком. Подобные затылки обычно намертво привязаны к коротким борцовским стрижкам… (Господи, откуда такие мысли о стрижках? Может быть, я невинная племянница заведующего мужским залом какой-нибудь провинциальной парикмахерской?)
Я все смотрела и смотрела на этот затылок – бессмысленно долго, как смотрят на дождь. И лишь когда под жесткой скобкой волос оперативника проступили контуры родимого пятна, поняла, что привыкла к темноте, что ночь перестала сопротивляться глазам.
Самое время осмотреться.
…Виталик подогнал машину вплотную к прочному основательному забору. Наискосок от меня чернела железная дверь, ощетинившаяся видеокамерой. Неужели именно так выглядят конспиративные особняки следственного управления? Я приоткрыла дверцу машины.
– Вам же сказано было – сидеть, пока за вами не придут, – едва слышно пробубнил оперативник. Очевидно, он стеснялся своего голоса, несерьезно-тонкого для такого внушительного затылка. – Закройте дверь.
Пришлось повиноваться. Но на секунду, перед тем как захлопнуть дверцу, я услышала лай и басовитое поскуливание за забором.
Собаки. Только этого не хватало. Я поймала себя на том, что составляю перечень пород собак. Самыми симпатичными мне казались ризеншнауцеры. Интересно, любила ли я ризеншнауцеров, когда была собой?.. И вообще, существует ли кто-то, кого я любила? Эта мысль вдруг пронзила меня острой горечью; нет, черт возьми, лучше думать о собаках.
…Когда я дошла до ирландского сеттера, появился капитан Лапицкий.
– Идемте, – сказал он и придержал меня за локоть, помогая выбраться из машины.
Спустя несколько секунд мы уже были возле железной двери. Мутный зрачок видеокамеры следил за нами – я физически ощущала это бесцеремонное разглядывание. Неожиданно я почувствовала, что покрываюсь испариной, – этот механический оценивающий взгляд был странно знаком мне. Гораздо более знаком, чем глаза всех тех, кто общался со мной в последнее время… Как будто он сопутствовал мне всю жизнь в самых разных местах. Я даже зажмурилась от близости разгадки: стоит только напрячь позвоночник, вытянуть шею – и шрамы на ключицах вытянутся в тонкую линию и я обязательно что-то вспомню…
Нет, черт возьми, нет. Я свернула не в тот проход, и лабиринт закончился тупиком. Да и наваждение видеокамеры исчезло, не успев укрепиться в сознании.
– Нет, нет, я не могу вспомнить…
– Что – «вспомнить»? – Капитан странно оживился. – Что-то кажется вам знакомым?
– Не знаю… Нет.
– Звоните, – почти приказал мне капитан, подбородком указывая на кнопку звонка.
Я подняла руку и сильно надавила на черную блестящую пуговицу. Автоматически щелкнул засов. Капитан галантно толкнул дверь, она приоткрылась. В образовавшуюся щель я увидела, как какая-то женщина в старом пуховике загоняет в дом двух собак.
Кажется, это были ротвейлеры… Когда несколько минут назад я перебирала породы, я даже не вспомнила о них. Теперь это показалось мне странным, я вдруг почувствовала, что именно эту злобную, в рыжих подпалинах породу должна была вспомнить прежде всего. Но почему, почему, господи?..
И снова пот заструился по моему заиндевевшему от предчувствия позвоночнику, и я почувствовала такую слабость в коленях, что уцепилась за руку капитана.
– Вам плохо? – спросил у меня капитан. Но теперь в его голосе не было и следа участия. Он изучал, препарировал мои реакции; более того, он находил их вполне естественными, он как будто ждал их. Это ожидание предполагало знание. Знание, которого я была напрочь лишена.
Нельзя давать ему повод торжествовать.
– Зачем вы приносили мне тогда фотографию Цыбульского? – совершенно невпопад спросила я, только для того, чтобы не молчать, только для того, чтобы не слышать приглушенного неистового лая собак в доме.
– А мне он вообще очень симпатичен. Белый шарф, очки, настоящий интеллектуал в настоящем времени. Вам нравятся шестидесятые?
Я пожала плечами.
– Но актера-то помните?
Я повернулась к нему, переступила с пяток на носки, стоя прямо в середине расчищенной от снега дорожки:
– Капитан. Я не помню, а знаю. В этом вся разница. Я знаю многое, но не помню ничего…
– А мне нравится этот поляк, – Лапицкий пропустил мое откровение мимо ушей. – Он стильно играл работников моей профессии и всегда справлялся с такими дамочками, как вы.
Кто бы мог подумать, что милицейские дуболомы апеллируют к слову «стильно» и у них тоже есть маленькие сентиментальные слабости…
– Не называйте меня дамочкой.
– Могу называть девушкой, но это предполагает более близкое знакомство и совсем другие обстоятельства встречи.
– Я вас ненавижу, – устало сказала я.
– Радостное совпадение наших чувств. Можно хоть сейчас под венец, – не остался в долгу капитан.
Мы поднялись по ступенькам крыльца, и Лапицкий толкнул дверь. Она с трудом поддалась и открылась только наполовину. Лай собак стал невыносимым. Капитан протиснулся первым и уже из-за двери сказал мне:
– Смелее!
Я последовала за ним и у самого порога наткнулась на что-то мягкое, лежащее на полу. Это было так неожиданно, что я не смогла удержаться на ногах и оказалась в комнате на полу, больно ушибившись коленкой. Впрочем, я тотчас же забыла о боли, – возле двери лежало неестественно скорчившееся тело человека. Оно и загораживало проход в дом. Я не успела ничего сообразить, когда прямо надо мной раздался спокойный голос капитана:
– Не ушиблись? Вставайте.
Нет, это не было телом, скорее – большая, почти в человеческий рост, небрежно собранная тряпичная кукла. Она вдруг странно испугала меня, внушила почти мистический ужас. Сидя на полу и держась за ушибленное колено, я не могла оторвать взгляда от плохо простроченного шва, делившего ее голову на две части.
– Что это? – одними губами спросила я.
Никто не ответил мне, хотя в комнате, кроме капитана, еще были люди: шофер Виталик и женщина в расстегнутом пуховике, – именно она загоняла собак… Женщина сидела в глубоком кресле, закинув ногу на ногу, и со жгучим любопытством наблюдала за мной… Потом хмыкнула, тряхнула крашенными перекисью волосами и достала из кармана мятую пачку сигарет.
Сейчас она закурит. От этого вдруг разболелась голова. Я опустилась на пол и обхватила виски руками. Вставать мне не хотелось. Я даже не знала, сколько времени прошло.
– Иди помоги мне поднять ее, – властно сказал капитан Виталику.
Шофер беспрекословно подчинился. Вдвоем они попытались оторвать меня от пола, за который я цеплялась как за последнюю надежду. Если бы у меня хватило сил, я бы забилась в какую-нибудь щель и пролежала бы там до конца времен. Лицом вниз и с тонкими горячими иглами в шейных позвонках…
– Ты смотри, упирается, – ленивым кошачьим голосом промурлыкал Виталик, – а тяжелая какая, кто бы мог подумать… Никогда не буду носить ее на руках, если женюсь…
– Заткнись и делай свое дело, – процедил капитан.
– Да какие у меня дела, – не унимался Виталик. – Делов у меня, как у барабанщика в струнном оркестре.
Когда они поставили меня на ноги, я почти теряла сознание. Только узкое тело шофера, обвившее мой позвоночник, как плеть, не давало мне уйти в блаженный мир небытия окончательно. И я вдруг доверилась этому телу, решила положиться на него – и сразу же почувствовала себя в безопасности. Знакомое ощущение, которое я тщетно пыталась вспомнить, – видимо, раньше, когда я была собой, я только то и делала, что полагалась на чужие тела…
Но ощущение безопасности сразу же прошло, стоило только Виталику повернуть меня лицом к капитану Лапицкому. Теперь я видела не только самого капитана, но и всю комнату. Отличная, основательно и со вкусом подобранная обстановка не могла сбить меня с толку – в этом доме уже давно никто не жил. Это было заметно по многим приметам, они сразу же бросались в глаза: пыль с палец толщиной на всех предметах, неряшливый, запущенный пол, безвольно висящие на противоположной стене винтовки… Вещи опускаются и перестают за собой следить, когда их лишают хозяев… Впрочем, это не относилось к винтовкам на стене. Только они казались здесь на месте, как будто только сегодня были специально принесены в дом.
Может быть, именно для меня.
Капитан Лапицкий сидел на столе и вертел в руках маленький пистолет.
– Это «браунинг», – пояснил капитан, перехватив мой взгляд. – Разбираетесь в оружии?
– Нет.
– Хорошая штука. Можно хранить в дамском концертном ридикюле. Бьет поточнее «макарова»…
– Именно, – подтвердил Виталик. – «Макаров» – это лажа. Я бы вообще всех «макаровых» оптом отправил на Берег Слоновой Кости в качестве пламенного пролетарского привета аборигенам. Пусть из них кокосы сшибают…
Капитан поморщился. Видимо, Виталик портил ему всю игру.
Я, не отрываясь, смотрела на пистолет в руках Лапицкого: он завораживал меня, как магический кристалл.
– Хотите подержать? – спросил капитан, легко спрыгнул со стола и, не дожидаясь ответа, сунул «браунинг» мне в руку.
И почти тотчас же Виталик отпустил меня, мягко отскочив в сторону. Я бы не удержалась на ногах, если бы не невесомая тяжесть пистолета, которая удерживала меня, как якорь. Прошло несколько томительных секунд. «Браунинг» согрелся в моей руке, и я вдруг почти перестала замечать его. Нет, «замечать» было не тем словом, – я с ужасом поняла это.
Пистолет показался мне привычным. Не этот пистолет конкретно, а вообще пистолет. Я имела к нему отношение.
– Ну как? – улыбнулся прорезью губ капитан. – Приятная тяжесть?
И снова сотни игл впились мне в шею. И снова я увидела плохо простроченный шов, который делил голову манекена, лежащего на пороге, на две части.
– Смотрите в правильном направлении, – одобрил меня капитан. – В декабре прошлого года, чуть больше двух месяцев назад, на этой даче произошел неприятный инцидент. Мелкая склока, в результате которой мы получили на руки три трупа…
– Двоих четвероногих друзей не считаем, – добавил Виталик.
Собаки, вяло подумала я, собаки. Значит, убили еще и двух собак. Но если их убили – почему они так лают? Может быть, кто-нибудь успокоит их?..
– Эти трупы – сплошная головная боль. Люди довольно уважаемые, каждый в своем бизнесе. Вы их знаете.
– Я никого не помню, – в отчаянии выдохнула я.
– Заметьте, я не сказал «помните». Я сказал – «знаете», – поднял палец капитан, он не забыл ничего из сказанного мной на эстакаде. – Вы их знаете, а если не знаете – должны помнить: я показывал вам их фотографии в клинике. Так вот, у двоих из них не было ни малейшего повода убивать друг друга. Они никогда не делили сфер влияния. Они никогда не пересекались. Даже если предположить, что один из них перешел дорогу другому, – они убрали бы друг друга чужими руками. Солидные люди, что и говорить. Итак, явного повода не было… Или все-таки был?
Я затравленно смотрела на капитана, я не могла понять, чего он от меня хочет.
– Фамилии Сикора и Кудрявцев вам ничего не говорят?
«Сикора» – какая странная фамилия… Нелепо быть убитым, имея такую фамилию…
– Нет, они ни о чем мне не говорят.
Капитан погрустнел.
– Жаль. Значит, ничего из окружающей обстановки не припоминаете?
– Нет.
– И никогда здесь не были? Ни намека на присутствие?
– Я не помню. Я ничего не помню. Оставьте меня в покое…
– При каких обстоятельствах вы оказались в машине майора Марилова? – Капитан сжимал кольцо вопросов, и мне на секунду показалось, что оно сейчас сомкнется у меня на горле. Погибший Олег, любитель блондинок и старых фильмов, был майором, вот как…
– Не помню.
– Кто была женщина, которая ехала вместе с вами?
– Не помню.
– Вам что-нибудь говорит фамилия Сикора?
– Не помню.
– Вам что-нибудь говорит фамилия Кудрявцев?
– Не помню.
– При каких обстоятельствах вы оказались в машине майора Марилова?
– Не помню.
– Александр Шинкарев был связан с Сикорой?
– Не помню.
– При каких обстоятельствах вы оказались в машине майора Марилова?
– Не помню.
– Как звали вторую женщину в машине?
– Не помню.
– Сколько раз вы выстрелили из «браунинга»?
– Не помню.
– Вы стреляли из «браунинга»?
– Не помню…
– Меня зовут капитан Лапицкий. Повторите, – его голос был так резок и настойчив, что мне захотелось поднять пистолет и выстрелить прямо в самую сердцевину этого голоса…
– Капитан Лапицкий, – вместо этого послушно повторила я.
– Как зовут вас?
– Не помню.
– Сколько раз вы выстрелили из «браунинга»?
– Не помню, не помню, не помню…
– Кудрявцев и Сикора были убиты из одного пистолета. Того, что вы держите в руках. Вы стоите примерно на том же месте, с которого стреляли в Сикору. Покажите, как это было. Вы выпустили в него всю обойму?
– Нет! – вдруг закричала я.
– Значит, вы помните, что не убивали? Не стреляли из пистолета?
– Я не помню…
– Как вас зовут?
Я вдруг начала истерически смеяться – я смеялась и просто не могла остановиться. Как легко, оказывается, ответить на все вопросы… Нужно только не отвечать, и все, прикрывшись универсальной формулой, как щитом. Так-то, Костя Лапицкий, капитанишка-неудачник, близок локоток, да не укусишь… С меня все взятки гладки, и любая судебно-медицинская экспертиза это подтвердит. Я подняла пистолет, наклонила голову к плечу и весело спросила у Лапицкого:
– Куда, говорите, я выпустила всю обойму? Вот в этого человека? – Я указала пистолетом на манекен, лежащий на полу. – Проведем следственный эксперимент, или как там это у вас называется?!
– Проверка показаний на месте, – с ненавистью поправил капитан. Его лицо дробилось на несколько лиц, они парили надо мной, и в каждое хотелось выпустить пулю из незаряженного пистолета.
Незаряженного, я это знала.
– Костя, что ты делаешь? – Я впервые услышала голос женщины, резкий и прерывистый. – У нее же истерика, разве ты не видишь? Захотелось неприятностей на наши бедные головы? И так влезли по самую маковку…
– Иди лучше собак успокой. Я знаю, что делаю, – яростно рявкнул капитан.
– Правда, шеф, чего-то мы заигрались, – Виталик неожиданно принял сторону женщины. – Это же подсудное дело… Видишь, как заходится? Она еще ласты склеит здесь от нервного напряжения. А я из-за этой безмозглой личинки шелкопряда под статью идти не намерен…
– Все чистенькие, да? – Капитан уже не считал нужным сдерживаться. Ярость ломала и корежила черты его лица: весь продуманный план рушился, я видела это, выглядывая из-за своего надежного щита. – Ты же видишь, она наверняка была здесь, она все помнит, только прикидывается, издевается над нами. Ведь ты помнишь, да?! – Капитан снова перекинулся на меня.
– В кого стрелять, капитан? – с наслаждением спросила я. – Кого еще я отправила на тот свет?
– Да успокоит кто-нибудь этих чертовых псов или нет? – Капитан явно потерял контроль над собой, и мне на секунду стало даже жаль его: бедный, заблудившийся во взрослой карстовой пещере мальчик…
– Иди и сам успокой, – устало сказала женщина. – Я к ним не подойду.
– Ну и сотруднички… С вами хорошо говно есть на пленэре, а не серьезными делами заниматься. Пошли вон отсюда, к собакам!..
И Виталик, и женщина с видимым облегчением подчинились. Но метнулись не в комнату к собакам, а к входным дверям, туда, где их ждала холодная и ясная февральская ночь. Я отдала бы душу, чтобы сейчас оказаться на месте любого из них… Они еще успели споткнуться о лежащую на полу куклу, а потом плотно прикрыли за собой дверь.
Я и капитан остались одни.
Одни, не считая истеричного лая собак.
Колени мои подломились, и я села на пол, опустив перед собой пистолет. Лицом к только что захлопнувшейся двери, к неправдоподобному муляжу человека, лежащему на пороге. Кем ты только не был, вдруг отстраненно подумала я о манекене, каких только имен ты не носил, как только тебя не убивали… А ведь в конечном счете тебя убивали всегда, честная милицейская лошадка…
– Вставай, – беспощадно сказал мне капитан, – вставай, чего расселась?
– Да пошел ты со своими психологическими экзерсисами, экспериментатор хренов, – мне захотелось грязно выругаться – новое, совершенно неизвестное и пугающее своей дерзостью состояние: я знаю и такие слова, кто бы мог подумать. – У себя в курилке будешь выступать с такими заявлениями. Плевать мне на тебя, понял?
Нет, он не стал поднимать меня, он так и не решился ко мне прикоснуться: слишком велико было желание ударить, вмазать, врезать – я это видела. Но капитан не сделал ни того, ни другого. Он просто повторил все то, что за несколько секунд до этого сделала я: сел на пол, против меня, близко придвинувшись. И с силой раскрутил на полу «браунинг», лежавший между нами. Мы следили за этим блестящим, бешено вращающимся волчком, как завороженные.
И когда он наконец-то остановился, капитан снова спустил всю свору гончих для последней королевской охоты. Эти гончие были поумнее ротвейлеров, запертых в соседней комнате. Они не лаяли почем зря. Они все пытались рассчитать.
– Если ты сама не попытаешься защититься, я не смогу защитить тебя. Может быть, и тогда ты защищалась?
– Не понимаю, о чем вы говорите.
– Ты была здесь… Ты сама косвенно это признала. Ну давай, сделай один только шаг, и я обещаю помочь тебе. Это несложно – сделать шаг. Один маленький шажок в нужном направлении.
– Вы забыли добавить – в нужном вам направлении. Попробуйте обвинить меня.
– Я ни в чем не обвиняю тебя. Обвинять не так интересно, как может показаться на первый взгляд. Я печенкой чую, что ты как-то связана с этим домом и этими убийствами. Хотя бы и в качестве свидетеля, черт с тобой… Перестань запираться и все мне расскажи.
– Возьмите в свидетели собак. Может быть, они помогут вам больше.
– Это совсем другие собаки. Они только похожи.
Конечно, только похожи. Все это – только имитация, не совсем удачный спектакль со вводом второго состава. И собаки за дверью комнаты, в которой я никогда не была, и манекены были бездарными статистами… Да, именно манекены, потому что в комнате находился еще один, у стены с винтовками. Его я не заметила сразу, но это было уже неважно.
– Это совсем другие собаки, – снова повторил капитан. – А тем, настоящим, в свое время перерезали горло. Их хозяином и хозяином дома был Кудрявцев. Тебе о чем-нибудь говорит эта фамилия?
– Это он? – Я показала подбородком в сторону второго манекена, старательно уложенного в позу, в которой, видимо, его и застигла смерть.
– Соображаешь, – капитан грустно улыбнулся. – Собак Кудрявцев взял в свое время в спецпитомнике. Он сам натаскивал их, он был большой специалист. И хватка у него была – будь здоров.
– В таком случае странно, что он не запасся бультерьерами, если уж вы заговорили о хватке.
– Ты и о бультерьерах знаешь… Ты все знаешь, – впервые по лицу капитана промелькнула грустно-понимающая улыбка. – Кто же ты все-таки?
– Я бы и сама хотела это вспомнить…
– Очень хочется тебе верить.
Он вдруг поднял руку и коснулся моей щеки; жест неопытного любовника, судя по влажным кончикам его пальцев. Их прикосновение не было неприятным, скорее – наоборот. Я прикрыла глаза и подумала о том, касался ли кто-нибудь моего лица так, как касается сейчас капитан… Могло ли у нас получиться что-нибудь при других обстоятельствах? В конце концов, он не так уж плох, этот Костя Лапицкий, если отбросить этот по-детски вероломный и бессмысленный следственный эксперимент…
Его пальцы по-прежнему изучали мое лицо, которое не помнило ни одного конкретного прикосновения ни одного конкретного человека. И только когда они, обогнув скулы, добрались до мочек ушей, я почувствовала смутное беспокойство: капитан затеял эту игру с лицом не просто так, он движется к конкретной цели. Этой цели я не знала, но внутренне подобралась. И все-таки он нанес удар неожиданно:
– Забавная вещь получается… Мой друг погибает в катастрофе. Как это произошло – пока опустим, не об этом речь. Но в его машине оказываются две женщины: одна живая, другая – мертвая. Обе очень даже ничего, между прочим. Обе не в его вкусе. Две подружки, которых он решил подвезти из чувства сострадания к ближнему? Такой вариант может быть, вполне-вполне. Пока ничего криминального. Вот только потом случается эта авария. Олег был отличным водилой: в юности он даже грешил автогонками. Какой-то там гололед для него – дерьмо собачье. Но он с ходу влипает в эстакаду. Влипает только потому, что кто-то прижимал его. Но даже не в этом суть. Две женщины в машине – и не одну никто не ищет, ни живую, ни мертвую. Никто не может их опознать. Для одной подержанной «Шкоды», разбившейся на шоссе, многовато, ты не находишь?..
– Чего вы от меня хотите? – Я наконец-то открыла глаза и увидела его лицо совсем близко – ни следа от влажной нежности неопытного любовника, только циничное торжество.
– Думаю, кто-то из вас оказался в машине Олега не случайно. Кто? Или вы обе там наследили?
– Я ничего не знаю.
Пальцы капитана коснулись мочек моих ушей и скользнули дальше. Наконец они удовлетворенно замерли.
– Не знаешь? Зато я знаю. Все так, как мне сказали. Они там есть, рубчики за ушами.
– Рубчики?
– Именно. Шрамы для непосвященных. Ты делала пластическую операцию.
– Пластическую операцию? – К этому я не была готова и ухватилась за плечи капитана, чтобы не шлепнуться на близкий пол. – Какую пластическую операцию?..
– Это у тебя нужно спросить – какую. Я был бы круглым идиотом, если бы не успел обнюхать всех твоих лечащих врачей, они-то подошли к тебе совсем близко, они хорошо изучили твою анатомию. Эти живчики мне и сказали, что твое лицо полностью изменено. Полностью. Если бы тебя не устраивал нос… Или форма глаз… Или губы… А ведь у тебя милые губы, приятной полноты, такие нравятся мужчинам, поверь мне… Но, похоже, тебя не устраивало в себе все. Так не бывает, а? Если, конечно, тебя зовут не граф Монте-Кристо… А как тебя зовут?
– Я не помню…
– Рубцы за ушами – их не видно, но можно определить на ощупь, – кажется, он совсем не слушал меня, ослепленный своими собственными теориями. – До век я не добрался, прости, но там тоже должны остаться следы… Зачем ты изменила лицо?
– Я не знаю… Я ничего не знаю… Пожалуйста…
Он уже не слушал меня, он перехватил мои руки, все еще неосмотрительно лежавшие на его плечах, и повалил меня на пол – только для того, чтобы самому упасть рядом. Теперь мы лежали лицом друг к другу под неумолчный хрип собак, запертых в соседней комнате. Он по-прежнему больно ощупывал мое лицо, как будто хотел сорвать его. Ничего, кроме животного ужаса, я не чувствовала – все дело было во мне…
– Зачем ты изменила лицо? Кто ты? – Капитан уговаривал меня с ласковой ненавистью. – Давай, скажи мне… Что ты делала в этом доме? Скажи мне, что? Что произошло? Как ты оказалась в машине Олега? Как вы – ты и она – оказались в машине Олега? Вы ведь разбились в ту ночь, когда здесь произошли все эти убийства, с интервалом в час… Вы разбились на очень удобной трассе, ведущей прямиком из этого милого местечка. И почему я нашел в его бумажнике вот это?..
Он вытащил из кармана смятый листок, вырванный из записной книжки. Листок потерся на сгибе, его края обтрепались, буквы были расплывчаты и залиты выцветшей кровью, но я сумела прочитать, капитан заставил меня прочитать…
Одна из фамилий была написана достаточно крупно, задумчивым каллиграфическим почерком. Она была окружена целым выводком вопросов и стайкой других фамилий, поменьше. Их я так и не заставила себя разобрать, но эту все-таки прочитала.
Сикора.
– Ну что скажешь? Совпадение, правда?
Я пыталась закрыть уши руками, но ничего не получалось – то ли меня останавливал глухой голос капитана, то ли эти рубцы от пластической операции, о которой я не имела ни малейшего понятия. А он с остервенением прижимал меня к себе и говорил, говорил… Совсем близко я видела его рот, забитый запахом дешевых сигарет.
– Я смотрю, сучка, тебя ничем не пронять! Тебе даже наплевать на то, что тебя не существует… Ну и черт с тобой, черт с тобой… Только учти, я не оставлю тебя в покое, я все равно тебя поломаю…
Неожиданно я почувствовала острую боль, которая взорвала мою несчастную голову. Боль шла волнами, от затылка к вискам, сметая все на своем пути, застилая глаза пеленой… А потом эта острая волна боли встретилась с другой волной – длинной и тихой, идущей из самой глубины живота… И когда они сошлись, сомкнулись надо мной, я почувствовала, что умираю. Тошнота, мучившая меня последний час, вырвалась наружу, и я уже почти не слышала крика капитана, обращенного ко всему пустому дому:
– Черт, она меня облевала… Черт возьми, остановит это кто-нибудь… Ах ты, дрянь…
…Я хотела прийти в себя и не могла. Не знаю, видели ли что-то мои закатившиеся глаза: обрывки теней, обрывки разговоров… Собаки наконец-то успокоились, но и это не принесло мне облегчения. Я лежала на самой границе сознания и беспамятства и не могла сделать шаг ни в одну из сторон. Теперь их снова было трое. Инициативу взяла на себя женщина. Она упорно пыталась привести меня в чувство, все лицо мое было мокрым от воды, которую она непрерывно лила на меня.
– Доигрались, – все время повторяла женщина. – Она же подыхает, не видите. Не могу понять, жива она или нет… Нужно увезти ее отсюда… Если довезем…
– Облевала меня, сволочь, – все время зло повторял капитан. – Специально это сделала… Лежит теперь и радуется.
– Ты что с ней сделал? – Женщина снова вылила на меня порцию холодной воды.
– Может быть, ей нитроглицерину скормить? – вклинился Виталик. – У Вадика, кажется, есть…
– Своей покойной бабушке будешь скармливать… Увозим ее отсюда. Может, обойдется.
– Ты смотри, что сотворила… А я только свитер купил… Дай-ка ей по морде, Виташа, – с ледяным спокойствием сказал капитан. – Пусть в себя придет.
– Я бы с удовольствием. А вдруг и вправду помрет? – Виталик чувствовал себя в относительной безопасности.
И я, облитая водой, ни на что не реагирующая, чувствовала себя в относительной безопасности. Больше всего мне хотелось вернуться в состояние комы – теперь она была моим единственным пристанищем, единственным местом, где меня ждали… Голоса удалялись от меня, пока не исчезли совсем.
…Я пришла в себя от яркого света ламп. Он проникал сквозь веки, отражался и дробился в тусклом замызганном кафеле приемного покоя. Было холодно, и я почти сразу же вспомнила, что сейчас февраль, что капитан Лапицкий заставил меня пройти через бессмысленное испытание, которое ничего не дало. Мне не хотелось думать, мне хотелось поскорее остаться одной. Сознание медленно возвращалось ко мне. Наконец оно прояснилось настолько, что я смогла открыть глаза.
Спиной ко мне стоял человек в белом халате. Я никогда не видела его спины, но голос, молодой и наглый, показался мне знакомым. Должно быть, это коллега Теймури, один из тех, кто два месяца возился со мной. Циничный воздыхатель Насти (все молодые врачи и ординаторы были циничными воздыхателями ее разных глаз, им ничего не стоило предложить ей совокупление на дежурной кушетке; я уже знала это, как знала невинные тайны своей маленькой медсестры).
Врач что-то выговаривал человеку, которого я не видела. Сосредоточься и слушай, может быть, почерпнешь для себя что-то новенькое…
– Да тебя распять нужно, старичок, – лениво перекатывал слова коллега Теймури, имени которого я не знала. – Чуть нам девицу не угробил. А мы, между прочим, с ней два месяца возились, кучу денег вбухали в любопытный медицинский случай. Есть за чем наблюдать… Хорошо, что наш абрек только через неделю приезжает, а то бы он тебя кинжалом заколол. Я не заколю – я добрый славянофил, и кинжала у меня нет, только скальпель. Но придется донос на тебя строчить, подметную бумажонку твоему начальству. Пациентов из палат вынимаешь без согласования с руководством. А ведь это нигде не приветствуется…
Врач явно куражился, а его собеседник молчал. Я знала, кто был его собеседником, и сейчас была полностью на стороне человека в белом халате. Наконец-то я вернулась в свой призрачный дом, где домовые в неглаженых халатах всегда смогут защитить меня…
– Жить-то будет? – подавленно спросил Лапицкий.
Я тихонько повернула голову и увидела его. Он сидел на краю дерматиновой кушетки, сунув руки в колени. Свитера на нем не было, только старая клетчатая ковбойка с оторванной верхней пуговицей. Мне вдруг стало невыносимо жаль его. Должно быть, те же чувства посетили и врача.
– Жить будет, куда денется, – сказал он Косте смягчившимся голосом, – а за все остальное не могу поручиться.
– Мне нужно вытащить из нее кое-что. Кое-что, о чем знает только она.
– Да-а… То-то я смотрю, ты ретиво взялся за дело, старичок. Да она вряд ли тебе поможет. У нее амнезия. Укладывается это в твоей милицейской башке или нет? Столько же об этом говорили. Пошел бы в библиотеку, книжку об этом почитал, может быть, успокоишься.
– Я ей не верю.
– Твои проблемы. – Почему глубокой ночью люди так любят лениво поговорить ни о чем? – Слушай, а что это за вонь от тебя идет?
– Пациентка постаралась, – нехотя объяснил капитан. – Она же подследственная. Она же свидетель.
– Она же – валютная проститутка, – с удовольствием включился в игру врач. Он явно издевался над сыщиком. Даже я, лежа на стылой больничной каталке, понимала это. – Она же – укротительница тигров. Она же – владелица домашнего серпентария. Она же – первая женщина, построившая дирижабль. Она может быть кем угодно. Но тебе до этого не добраться, пока она сама не доберется… Пока не очнется. Пока будет больна. Она больна, понимаешь?
– Больна-то больна, а блюет как здоровая, – мстительно сказал капитан.
– А она и должна блевать, – загадочно произнес врач, – вполне естественно в ее нынешнем положении. Мы с нашими хирургами из «травмы» даже ставки делали, что из всей этой ситуации получится. Любопытный медицинский эксперимент. И если ты нам его подгадил, старичок, в своем милицейском раже, то я тебе не позавидую. У нашего грузина приличные связи, а эта крошка ему нравится. Уж не знаю, в каком контексте. Ты спирт-то пьешь?
Капитан поднял голову и непонимающе посмотрел на врача.
– Спирт?
– Ну да. Может, хряпнем по мензурке за выздоровление владелицы домашнего серпентария? Тут от тоски по ночам загнуться можно, ненавижу я эти ночные дежурства. Хорошо еще, что ты на меня нарвался, иначе были бы у тебя неприятности. А я добрый славянофил, и кинжала у меня нет…
– А она? – Лапицкий повернул голову в мою сторону, на его лице застыло выражение позднего раскаяния. – Здесь останется?
– Еще чего не хватало. Сейчас переведем в палату. Оклемается, если ты, конечно, не применил к ней третью степень устрашения.
Вот как. Сейчас мой домовой, мой падший ангел с мензуркой спирта предаст меня и отправится пить с моим же инквизитором. Никогда еще я не чувствовала себя такой покинутой и одинокой…
…Они долго везли меня на каталке, два молчаливых, осатаневших от пустой холодной ночи санитара: маленький с лицом херувима и большой с лицом серийного убийцы. Видимо, они так опостылели друг другу, что за весь долгий путь не проронили ни слова. Как во сне я ощущала вибрацию грузового лифта и легкий, почти домашний, запах неизвестных мне медикаментов. Я понимала, что возвращаюсь в свою палату, и никогда еще я не хотела так вернуться туда. Мне совершенно необходимо было остаться одной и подумать. Меня не пугал капитан Лапицкий, нет. Меня не пугали его странные товарищи, меня не пугали собаки, лай которых до сих пор стоял у меня в ушах. Гораздо больше я боялась самой себя – я не знала, чего от себя ожидать. Этот странный бессвязный разговор о пластической операции… Сейчас я боялась поднять руку, чтобы не привлечь внимания санитаров, хотя больше всего мне хотелось сделать именно это. Нужно только добраться до палаты, и там все станет ясно…
…Наконец они привезли меня в палату и аккуратно переложили на кровать. Видимо, врач что-то все же вколол мне, во всяком случае, я ощущала неестественную легкость в теле и неестественную тяжесть в голове. Оба санитара – большой и маленький – казались мне крупными птицами с одинаковыми застывшими глазами серийных убийц, оставалось надеяться, что они не применят ко мне силу.
Они не применили силу.
Спустя несколько минут после того, как херувим ловко подключил какой-то прибор, а серийный убийца заботливо подоткнул мне одеяло, я осталась одна. Попискивание осциллографа успокаивало, как настенные ходики, и я с трудом боролась с тяжестью в голове. Нельзя, нельзя дать забытью войти в меня и овладеть мной… Эта мысль преследовала меня все последнее время: я боялась проснуться с внезапно вернувшейся памятью, я боялась проснуться и забыть то, что уже знаю. Но услышанное сегодня ночью не укладывалось ни в какие рамки.
Пластическая операция, о которой никто из персонала не сказал мне. Может быть, это только блеф милицейского капитана, желание добиться показаний любой ценой? Я вспомнила его руки под мочками ушей и почти машинально повторила этот ищущий жест.
Так и есть. Он не соврал, этот чертов капитан.
Это были чуть заметные рубчики, выступавшие над поверхностью кожи, нежные на ощупь, похожие на неразвившиеся личинки. Как он сказал, этот веселый шофер – «безмозглая личинка шелкопряда…».
У меня вдруг засосало под ложечкой, к горлу подступило уже знакомое ощущение тошноты, с которой невозможно было бороться. Веки!.. Капитан что-то говорил о подтяжках на веках. Я прижала руки к глазам – и ничего не обнаружила. Сжавшись в комок, я все еще надеялась, что тошнота пройдет, но она не проходила. Не хватало только, чтобы тебя вырвало на казенное одеяло, сказала я себе. Не хватало только, чтобы пришедшая на утреннее дежурство Настя нашла тебя беспомощной и замызганной…
Устав бороться с собой, я поднялась с кровати, легко оторвавшись от пуповины пластмассовых трубок, все еще связывающих меня. Они отделились с легким хрустом. Борясь с тошнотой, волнами в животе и головокружением, я спустила ноги с кровати.
В конце коридора должен быть туалет. Нужно дойти туда. Нужно дойти…
…Этот короткий путь занял гораздо больше времени, чем я предполагала. Но все-таки я добралась, сильная девочка, ничего не скажешь. «Девочка» – почему бы именно так не обратиться к себе, почему бы не сделать попытки полюбить себя, раз уж никого другого не остается?..
…Белый кафель, такой же, как в приемном покое; выложенный холодной плиткой пол. Довольно чисто, и почти полностью отсутствует запах. Образцово-показательная клиника, ничего не скажешь.
Но не это занимало меня.
Зеркало.
Широкое зеркало перед умывальниками. Я даже на секунду забыла о тошноте и слабости в ногах и голове. Не маленькая пудреница медсестры, а холодная поверхность, дающая полное представление о том, как я выгляжу. Нужно только приблизиться, набрать в легкие воздуха и попытаться нырнуть в эти стоячие зеркальные воды. И снова у меня возникло ощущение, что все это уже происходило со мной. Оно наполняло мое существо непонятным страхом и непонятным торжеством: я уже стояла перед зеркалом и пыталась изучить себя.
Когда? Когда же это было, черт возьми?! И с чем это связано?
С чем связано это бледное лицо, эти брови – черные на белом; эти глаза, этот нос, эти губы, растрескавшиеся от тщетных вопросов? Эта линия плеч, перечеркнутая казенным халатом?.. То, о чем мне говорил сегодня капитан, может принести только дополнительные страдания: пластическая операция. Значит, перед тем как потерять память, я потеряла и свою внешность… Может быть, именно поэтому никто не ищет меня? И я сама загнала себя в угол? Может быть, именно теперь я обречена видеть себя в каждой исчезнувшей женщине?..
Равнодушная поверхность зеркала была так соблазнительно близка, что я ударилась об нее головой. Это принесло такое облегчение, что я билась и билась своим ничего не помнящим измененным лицом, пока не потеряла сознание…
… – Боже мой… Боже мой! Что с вами?! – Голос шел издалека, он разрывал кольцо беспамятства.
Я медленно приходила в себя – и от этого голоса, и от космического холода во всем теле. Я лежала на полу под умывальниками, а медсестра Настя аккуратно и самоотверженно поддерживала мою голову. Произошло именно то, чего я боялась больше всего, – задранный халат, беспорядочно разбросанные ноги, отвратительный запах – меня все-таки вырвало…
– Зачем вы встали? – Настя прижимала меня к себе, она, кажется, не обращала внимания на всю неприглядность картины. – Зачем вы встали?! Запрокиньте голову, сейчас вам должно стать легче. Потерпите, пожалуйста…
– Ничего, все в порядке, – ответила я слабым голосом и даже попыталась улыбнуться. Ничего не получилось – улыбка оказалась вымученной.
– Вы вся в крови, – от испуга Настя совсем забыла, что все последнее время, подкрепленное прогулками по февральскому парку и краденными у врачей и пациентов сигаретами, мы были на «ты».
Действительно, я и сама почувствовала это: лицо стянула невидимая засохшая пленка. И если Настя говорит, что это кровь, – ей нужно верить…
– Зачем вы встали, господи! – Медсестра не могла успокоиться. – Хорошо еще, что я сообразила, где вас искать! Вы же могли умереть здесь! Ужасно… Вам же нельзя. Вам вообще нельзя нервничать! Полный покой… Вы еще очень слабенькая… Вы даже не знаете…
Бедная моя птичка на жердочке, это ты ничего не знаешь! Что бы ты сказала о ночном похищении и поездке за пределы не только палаты и клиники, но и города (в душе моей неожиданно поднялась глухая ярость: этот проклятый капитан попробовал распорядиться мной так же, как и своими манекенами).
И пластическая операция!.. Я вспомнила о ней и застонала. Сама Настя интерпретировала этот стон по-своему. Не выпуская моей головы из рук, она приподнялась, смочила платок под струей, бившей из умывальника, и обтерла мне лицо.
– Сейчас должно быть легче, миленькая, – в ее голосе проскользнули интонации умудренной жизнью женщины. – Вы ведь не знаете главного…
Главного? Ошибаешься, Настя! Я знаю главное. Мне уже никогда не увидеть своего настоящего лица…
Я начала смеяться, ударясь затылком о кольцо Настиных рук. Я смеялась так безудержно, что она наконец-то по-настоящему испугалась. Я видела, как ей хочется надавать мне по щекам, чтобы привести меня в чувство. Но сделать этого она не решилась, а все прижимала и прижимала мою голову к твердой и острой груди.
– Вам действительно нельзя… Полный покой. И ни одной сигареты больше, клянусь! Вы ведь ждете ребенка…
Я сначала даже не поняла того, что сказала мне медсестра, лишь спросила машинально:
– Что?
– Я сама случайно вчера узнала, правда. Мне Катя проболталась, операционная сестра, мы с ней кофе пьем. Здесь кафешка рядом, там замечательный кофе по-турецки, его на песке готовят, знаете?.. У Катьки роман с нашим анестезиологом, – Настя целомудренно хихикнула. – Я, между прочим, всегда ей завидовала. Но мне операционная не светит, так и буду по палатам скакать… А все потому, что крови боюсь, в морге три раза в обморок падала. Меня даже хотели из медучилища отчислить.
– Что ты сказала? – Я попыталась сесть и вцепилась в Настю глазами.
– Вроде все в порядке, – Настя ощупала мою голову и не нашла никаких повреждений. – Только царапина на лбу… Слава богу, удачно упали…
– Что ты сказала о ребенке?! – последнее слово далось мне с трудом.
– Вы на третьем месяце беременности. Они вам пока специально не говорили, Теймури приказал. Чтобы не было лишних потрясений, у вас и так их предостаточно… Ой! – отпустив меня, Настя зажала себе рот рукой. – И я не должна была вам говорить. Но я случайно узнала, так что не считается… Павлик, анестезиолог, тоже хорош – Катьке проговорился. Ну а она…
– Помоги мне встать, – оставаться на холодном полу было невыносимо.
Она помогла мне подняться, не переставая болтать, видимо, ей казалось, что это отвлекает меня от моего плачевного положения. Так, поддерживаемая медсестрой, я добрела до палаты. Она помогла мне лечь и накрыла одеялом до подбородка.
– Никаких фокусов, лежите смирно. А я сейчас позову кого-нибудь из врачей.
– Нет. Пожалуйста, нет. Мне уже лучше. Никого не надо. – Если сейчас появится кто-нибудь из этих экспериментаторов, которые наблюдали за мной и даже делали ставки (теперь мне стал пугающе ясен смысл ночного разговора дежурного врача с капитаном Лапицким), я просто не выдержу.
– Я посижу с вами.
Только этого не хватало! Я поморщилась, как от зубной боли:
– Нет. Хочу побыть одна. Ничего со мной не случится, обещаю вам.
– Вам правда лучше? – Настя недоверчиво посмотрела на меня.
– Да.
– И вы обещаете лежать смирно и без всяких фокусов?
– Да.
– Хорошо, – наконец решилась она, – хорошо. Я заскочу к вам через часок.
Я так хотела остаться одна (сколько раз за последние сутки мне хотелось остаться одной?), что нетерпеливо прикрыла глаза. Мне нравилась Настя, мне действительно она нравилась, но сейчас ее присутствие было невыносимо.
Я едва дождалась, пока за ней закроется дверь палаты, быстро поднялась и подошла к окну. Подоконник был достаточно широк (почему я никогда не замечала этого?) – и чтобы усесться на нем, и чтобы, раскрыв заколоченные на зиму рамы, сигануть вниз.
Четвертый этаж.
Я выбрала первое. Забравшись с ногами на подоконник, я положила руку на живот и расплющила нос по стеклу.
Если бы я точно знала, что в прошлой жизни была умна, то сейчас просто сошла бы с ума. Но ничего такого я о себе не знала, а имела сейчас то, что имела: амнезию, пластическую операцию, полностью изменившую мое лицо, и ребенка в животе. Можно было отказываться верить чему-либо в отдельности, но все вместе рождало во мне безусловную веру.
Это я, господи. Ты, должно быть, давно потерял меня. В этом запущенном парке неизвестной мне клиники, неизвестного мне города, неизвестной мне страны. Да и так ли я верила в тебя, когда была собой. Собой – католичкой или православной. Чувствовала. Что снова начинаю гонять мысли по кругу, как взмыленных лошадей. А в центре круга находилась я сама с ребенком в животе.
Ребенок.
Откровение Насти было так внезапно и простодушно, что ему нельзя было не верить. Ну что ж, еще одно испытание в ряду других испытаний, тупо подумала я. И вдруг поймала себя на мысли, что никак не отношусь к этому ребенку, что он ничего для меня не значит. Я даже не знаю, хотела ли я когда-нибудь ребенка или нет. Был ли он желанным? Был ли моей единственной любовью отец этого ребенка? Или это последствия случайной связи, одной из многих возможных случайных связей. Банальный трах в чужой постели (медсестра Настя целомудренно хихикнула бы в этом месте). Если бы я только могла знать, если бы только могла…
Даже стекло не охладило мой горячий лоб. Я бы бежала отсюда, если бы знала – куда. Я бы осталась здесь, если бы знала – зачем. Впрочем, меня скорее всего оставят. Медицинский эксперимент, как же, как же… Я догадывалась о его сути: женщина лежит в коме, а в самой глубине ее чрева зреет плод. Выживет он или нет – чем не тотализатор, ставки принимаются в любое время. И если у тебя нет имени, и нет прошлого, и некому защитить тебя – то ты вполне можешь сойти за лабораторную крысу, за красноглазого кролика, за препарированную лягушку…
На том и стоит успокоиться.
И когда Настя через час заглянула в мою палату, я лежала в кровати, положив руки поверх одеяла: пай-девочка, просто загляденье.
– Как себя чувствуешь? – спросила Настя, по-прежнему путаясь в «ты» и «вы».
– Уже лучше, – я ободряюще ей улыбнулась, – только мутит немного.
– Это ничего, – воодушевилась Настя, – обыкновенный токсикоз. Знаешь, что было с моей двоюродной сестрой? Ее просто наизнанку выворачивало. А ты молодец, держишься. Только знаешь что? Не говори никому, что я тебе сказала о ребенке… С меня тогда точно голову снимут.
Она сама принесла мне обед, от которого я, впрочем, отказалась. И даже просидела со мной до конца своей смены. Теперь я знала всю немудреную историю ее жизни, в которой было задействовано два десятка персонажей, не больше. Если учесть несостоявшегося жениха из прытких самовлюбленных ординаторов, почти мифическую тетку в Нюрнберге и недосягаемого грузина Теймури – ровно двадцать три человека. Боже мой, как я завидовала ей, ведь у меня не было даже этого. Только сама Настя, заменившая мне кормилицу, Теймури, заменивший мне мать, и капитан Лапицкий, заменивший мне все остальное… Насте не хотелось отпускать меня в мое всегдашнее одиночество, но и дежурство подходило к концу.
Выкурив все украденные сигареты, она наконец-то решила попрощаться.
– Знаешь, я теперь буду только послезавтра… Мало ли что. Я тебе свой домашний телефон оставлю, от дежурной сестры всегда можно позвонить. Сейчас принесу ручку и запишу.
– Не стоит, – сказала я, – я и так запомню.
– Ну тогда запоминай.
Она медленно проговорила телефон и заставила меня повторить его.
А потом еще о чем-то пощебетала со мной, покачиваясь на одной ножке у моей кровати, и снова заставила повторить номер. Я добросовестно повторила.
– Теперь я за тебя спокойна, – констатировала она, прежде чем исчезнуть за дверью.
И в ту минуту я даже предположить не могла, как моя маленькая птичка на жердочке была далека от истины…
…Катастрофа, которая как-то связана с домом, где произошло убийство, еще одна мертвая женщина, которую не могут опознать так же, как меня. Кома с последующей амнезией, ребенок – мальчик или девочка, – которым я беременна. Весь вечер я перебирала все это, как четки, и ни на чем не могла остановиться. Все события, произошедшие со мной, могли иметь несколько взаимоисключающих объяснений: либо в прошлой жизни я была исключительно удачливой стервой (это даже тешило мое самолюбие), либо – исключительно удачливой простачкой (и это даже тешило мое чувство самосохранения). И весь вечер меня сверлила мысль, высказанная Теймури и гвоздем засевшая у меня в голове: «Мне кажется, что вы так сильно что-то хотели забыть в своем прошлом, что подбили на это свой организм, сделали его своим соучастником».
Соучастником. Термин в духе капитана Лапицкого. Может быть, он не так уж ошибается насчет меня, этот капитан?..
И только когда в незашторенное больничное окно вплыла полная луна, я позволила себе отключиться и не думать ни о чем. Полнолуние – не самое лучшее время для мрачных мыслей, они слишком легко превращаются в оборотней с волчьими клыками. Интересно, откуда я знаю об оборотнях – наверняка смотрела какой-нибудь фильмец в прокуренном кинотеатре повторного фильма. Сидя в середине зала с той женщиной, погибшей в катастрофе… Сидя на последнем ряду. Вот только с кем? С сентиментальным любителем блондинок и просроченных детективов майором Олегом Мариловым? Или с отцом будущего ребенка?..
Я вдруг обнаружила, что держу руку на животе, подчиняясь едва слышимому плеску живой волны. Но теперь эта волна шла не от ребенка, а от меня самой. Во всяком случае, ты теперь не одинока. Тебе есть для кого жить и кого защищать. И пока ты можешь спать спокойно.
– Спокойной ночи, – неожиданно нежно прошептала я и осторожно провела рукой по животу. – Надеюсь, ты слышишь меня. Конечно, слышишь.
…Они появились среди ночи. Я проснулась на секунду раньше их появления, может быть, во всем был виноват лунный свет, сочившийся сквозь веки. Может быть, подступившая к горлу тошнота, которая не оставляла меня даже во сне. И все равно я оказалась не готовой к этому тихому вороватому вторжению. Обычно никто не тревожил меня вот так, бесцеремонно, я слишком хорошо изучила нравы клиники за все то время, что находилась здесь. Но, может быть, нравы изменились… Во всяком случае, я не проявила особого беспокойства, когда эти двое бесшумно вкатили в палату каталку с жесткой дерматиновой обивкой и остановились рядом с кроватью. Оба ночных посетителя были в белых халатах, скорее всего – санитары. В мертвенно-бледном свете луны их лица казались похожими друг на друга – одинаково усталыми и деловито-зловещими. Никогда раньше я не видела ни одного из них.
Несколько секунд они стояли и пристально разглядывали меня.
– Спит? – спросил один из них свистящим шепотом.
– Еще бы не спать, – так же тихо процедил второй. – Три часа ночи. Самый сон.
– Ну что, перекладываем?
– Может, разбудить?
– Давай так попробуем. А то возни не оберешься. Начнет расспрашивать про то да про се…
– Я не сплю, – кротко сказала я, разом прекращая их дискуссию.
Мой напрочь лишенный сна голос застал санитаров врасплох. Они синхронно хмыкнули и посмотрели друг на друга.
– Приказано отвезти, – после паузы сказал сторонник ранней побудки пациентов.
– В три часа ночи? – Я все еще не проявляла беспокойства. – Куда можно везти больного человека в три часа ночи?
– Лечиться, – невпопад ляпнул мой собеседник.
– Говорил же, возни не оберемся, – вздохнул его напарник. – Но раз уж проснулись – добро пожаловать в больничный «Мерседес». Спускайте лапки с кровати, прокатим с ветерком.
– Что это за ночное вторжение? Неужели нельзя все отложить до утра? – Я позволила себе покапризничать.
– Приказано отвезти – и все, – тупо пробубнил санитар.
Его товарищ оказался оригинальнее. Во всяком случае – убедительней.
– Слушай, голубка, наше дело маленькое. Получили распоряжение от дежурного врача. Ему можешь устраивать истерики, а с нас что возьмешь? Мы – твари подневольные. И ты у нас не первая. Так что – вперед и с песней. Сама с места снимешься или тебе помочь?
– Отвернитесь, пожалуйста, мне нужно надеть халат.
Они терпеливо подождали, пока я оделась, но тут уже мне расхотелось отправляться куда-то на этом допотопном медицинском транспорте.
– Пожалуй, это лишнее, – надменно сказала я, кивая на каталку. – Я прекрасно могу дойти и сама.
– Сама до крематория дойдешь в свое время, – так же надменно ответил один из санитаров, – у нас здесь строго насчет распоряжений.
Мне оставалось только подчиниться.
Спустя минуту мы были уже в коридоре. За столиком дежурной сестры горел свет, но самой сестры не было. Я подумала о том, что сегодня наверняка дежурит Машка Гангус: в отличие от сердобольной Насти, которая все время пропадала у меня, и Эллочки, которая все время исчезала где-то за суперобложкой Бэл Кауфман, практичная Машка предпочитала ночные приключения в одиночных палатах выздоравливающих автогонщиков. Их в отделении было двое, оба – с черепно-мозговыми травмами. И Машка, если верить Насте, находила это безумно романтичным. Ей вообще нравились мужчины с черепно-мозговыми травмами – они пили спирт, который Машка крала в невероятных количествах, особенно отчаянно…
Я забеспокоилась только тогда, когда мы благополучно миновали наше отделение, пустой этаж лабораторий и процедурных кабинетов и по застекленному переходу перебрались в то крыло клиники, в котором я никогда не была.
– Куда это мы направляемся? – спросила я у своих спутников.
Ни один из них не удостоил меня ответом.
…Я даже не подозревала, что клиника может быть такой огромной. Сейчас, ночью, она напоминала уснувший, утомившийся город. В нем существовали темные и светлые коридоры, хлопанье дверей, тихое позвякивание ведер и шприцев в автоклавах, чьи-то приглушенные голоса и территория абсолютно мертвой тишины. Несколько раз мы опускались и поднимались на грузовых лифтах. В последнем из них, тускло освещенном, я вдруг подумала о том, что могу затеряться в чреве клиники навсегда. И никто не найдет меня, и я никогда не узнаю, что кто-то все-таки меня искал…
Странно, но я даже не заметила, как кто-то из санитаров открыл своим ключом дверь пожарного выхода и мы наконец-то оказались в длинном, похожем на кишку коридоре с целым рядом дверей. Они остановились возле одной из них, пятой по счету, и уверенно толкнули ее.
Я оказалась в предбаннике операционной. Сквозь неплотно прикрытую дверь в самое операционную маячили потухшие глаза ламп. А из троих, присутствующих в комнате, я знала только одного – анестезиолога Павлика. Ни женщина, ни мужчина, которые лениво болтали с анестезиологом, были мне незнакомы. Они были незнакомы мне, но сразу же вызвали чувство стойкой антипатии. Чересчур красивая женщина с лицом преуспевающей стервы и чересчур основательный мужчина с неровной линией губ, вальяжно разлегшейся под внушительного размера носом. Мужчина курил трубку (дешевое пижонство), а женщина внимательно рассматривала какие-то рентгеновские снимки, отпуская по их поводу дежурные врачебные шутки. Все они были в светло-голубой хирургической униформе и таких же бахилах.
«Бахилы» – забавное слово. Как хорошо, что оно мне известно. Значит, не все потеряно…
– А вот и они, – приветствовал наше появление Павлик. – Все в порядке?
– Доставили в лучшем виде, – самодовольно сказал один из санитаров. – Сдаем с рук на руки.
Я вдруг поняла, чей голос слышала прошлой ночью, после безумной поездки с капитаном Лапицким.
Анестезиолог Павлик. Конечно, он мелькал у меня перед глазами, с тех пор как пришла в себя. Он был с Теймури, когда я увидела грузина первый раз. Но тогда анестезиолог не говорил ни слова, только удовлетворенно улыбался. Я отнесла это к его чрезмерной застенчивости и чрезмерному румянцу на щеках…
Вот только почему он околачивался в ту ночь в приемном покое в качестве дежурного врача? Обычно этот неблагодарный ночной хлеб не грызут специалисты его класса…
Но сам Павлик не дал мне додумать эту мысль до конца.
– Отлично, ребята. Вы свободны.
Дверь за санитарами закрылась, и мне почему-то показалось, что именно с таким звуком захлопывается мышеловка.
– Что происходит? – спросила я только потому, чтобы не думать о мышеловке.
Павлик вздрогнул, преуспевающая Стерва оторвалась наконец от своих снимков, а чересчур основательный мужчина выпустил клуб особенно густого дыма.
– Все в порядке, – анестезиолог мгновенно взял себя в руки и даже похлопал меня по плечу.
– Почему меня привезли сюда среди ночи?
– Пациентам не стоит задавать вопросов, тем более таким склочным голосом.
Мужчина бесстыдно и внимательно рассматривал меня. Стерва же отозвала Павлика в сторону и начала что-то выговаривать ему. Из всего приглушенного разговора я разобрала только слово «люминал» и «ты же сама понимаешь, экстремальная ситуация».
Я попыталась сесть, и находящиеся в комнате люди никак не отреагировали на это, предоставив Павлику объяснение со мной.
– Не стоит волноваться, – попытался он утешить меня, по-прежнему никак ко мне не обращаясь, и я вдруг с острым любопытством подумала о том, как же они называют меня, девушку без имени, между собой, – ничего такого не произошло.
– Ничего такого, что не могло бы подождать до утра? – настаивала я.
– Ничего страшного, – стушевавшись, уточнил Павлик.
– Не стоит ей ничего объяснять, – решительно прерывая наши пререкания, сказала Стерва. – Время, время, мальчик мой. Никаких проколов быть не должно.
– Это связано с моим ребенком? – Я почувствовала неизвестный мне доселе панический страх и даже попыталась прикрыть рукой живот.
Мой вопрос произвел эффект разорвавшейся бомбы. Лица у всех троих вытянулись, исказились и застыли, как африканские ритуальные маски. Мужчина даже вытащил трубку изо рта и еще пристальнее посмотрел на меня: теперь к бесстыдству присоединилось выражение плохо скрытого разочарования.
– Шит, – тихо выругалась Стерва, выразительно глядя на Павлика.
И снова я узнала это слово – «дерьмо» – на том самом развязном английском, на котором убили Кеннеди…
– Что-то с ребенком? – настойчиво повторила я. – Почему меня привезли в операционную?
Никто не отвечал. Секунды складывались в минуты, а в комнате висела гнетущая тишина. Первой пришла в себя женщина. Она подошла ко мне и участливо коснулась плеча.
– Давайте отложим тягостные объяснения до утра.
– Нет, – упрямо настаивала я, – давайте объяснимся сейчас.
– Хорошо. Последние показания обследований малоутешительны. Необходимо срочное хирургическое вмешательство.
– Это связано с ребенком?
– Лара! – не выдержав, перебил женщину Павлик. – Лара, не стоит…
Но, кажется, меня больше не занимали ни холеная стерва Лара, ни анестезиолог Павлик. Я не отрываясь смотрела на мужчину. В его лице, не слишком выразительном, но запоминающемся, была какая-то скрытая, враждебная мне сила. Его бесстрастные глаза всасывали меня, как две воронки, а легкая ухмылка, разрезающая губы – неровно, как тупой нож консервную банку, – лишала остатков сил.
– Не стоит беспокоиться, дорогая, – очень тихим голосом сказал он. – Верьте нам, все будет хорошо. Вы верите?
Я ничего не ответила. Не смогла ответить. Лицо мужчины дробилось за клубами сизого дыма, но теперь оно странно приблизилось ко мне, я даже могла различить маленькие колючие точки зрачков и несколько крупных оспин на правой щеке.
То ли от этих оспин, то ли от дыма – слишком ароматного, слишком приторного – я снова почувствовала приступ дурноты.
– Вы можете не курить? – слабым голосом попросила я.
Мужчина улыбнулся кончиками губ и аккуратно положил трубку в карман.
– Все будет хорошо, – снова повторил он. – Вы верите?
– Владлен, – обратилась к нему женщина. Все это время она тоже внимательно смотрела на меня. – Владлен, ей действительно плохо…
– Ничего страшного, – успокоил Владлен.
Он подошел ко мне. С его приближением дурнота стала невыносимой. Я прижала руку к горлу.
– Давайте, коллеги, – сказал он, – не будем терять время.
Его глаза парили надо мной, складывались в холодный мозаичный узор, завораживали.
– Если все готово, – спокойно сказал Владлен, глядя только на меня, – приступим.
…Все, что произошло потом, почти не отложилось в моей памяти. Много раз я пыталась восстановить картину происшедшего, но ничего не получалось. Свет операционных ламп сливался с холодным, нестерпимым блеском глаз Владлена, колол меня пустыми проемами зрачков… Павлик надел мне маску, и я почувствовала странное облегчение. А перед тем, как провалиться в небытие, услышала отличный джаз. Я не знала, к чему это относится, – звуки были сильными и настойчивыми.
Майлз Дэвис.
Меня не удивило то, что я узнала Майлза Дэвиса по первым аккордам (продвинутая девочка, ничего не скажешь, из всех музыкальных недоразумений предпочитаю джаз), меня удивило его настойчивое присутствие в операционной.
Кому из троих может нравиться джаз?.. Кажется, мой уставший от беспамятства в предыдущие два месяца организм все еще сопротивляется наркозу…
Черный Майлз Дэвис торжествовал над всем остальным бледным миром.
И это было последним, что я услышала. Если не считать обрывка разговора между Владленом и Ларой, сразу же растворившегося в музыке:
– Твоя страсть к музыкальному сопровождению нас погубит, Владлен, – сказала Лара, деловито занимаясь моим обмякшим телом, которое никак не хотело идти на поводу анестезиолога и всех его профессиональных штучек. Вот только они этого не знали. – И твоя дурацкая жадность тоже. Не стоило нам светиться…
– Много разговариваешь, милая. Заткнись и занимайся инструментами.
– Все в порядке. Она отрубилась, – пергаментно прошелестел Павлик. Кажется, он отчаянно трусил. А «она» относилось ко мне.
– Не стоит так со мной разговаривать, Владлен. Все-таки мы все в одной связке.
– Мы действительно в одной связке. К сожалению для нас, если учесть, что этот кретин Павлик не умеет держать язык за зубами. От кого она узнала о беременности? Что, проболтался одной из своих шлюшек? – Вопрос относился к Павлику. – Или сам уже умудрился с ней переспать, половой гигант?.. А вообще, это не жадность, милая, а трезвый расчет. И обязательства перед клиентами. А если что нас и погубит, так это твоя неуемная страсть к рождественским турам в Париж на двоих.
– Что делать, Владлен, в Париж нужно ездить только вдвоем… С тем, кого ты любишь.
– Неужели ты любишь еще что-то, кроме браслетов на ноги и вшивых бриллиантов? Давайте приступать. Времени мало. Осталось шесть часов, а альфафэтапротеин – штука серьезная… И клиенты – штука серьезная. Очень серьезная штука…
…Я пришла в себя только в палате.
Нестерпимо светило солнце – оно могло бы показаться почти летним, если бы не резкие очертания голых макушек тополей в окне. Почему они так вытягиваются ввысь, эти тополя?.. И болеют ли они раком, как каштаны в Западной Европе?..
Мысли нехотя бродили в моей забитой остатками наркоза голове. Я с трудом восстанавливала события прошедшей ночи, но, как ни странно, не испытывала никаких эмоций. Скорее – облегчение.
Мне нужно верить, что все закончится хорошо. Верить – единственное, что мне остается.
Приступы тошноты, мучившие меня все последнее время, прошли. Я забыла о них напрочь и теперь наслаждалась покоем. Абсолютным покоем.
Мертвым покоем.
Ощущение тихих плещущихся волн в животе ушло. Ушло вместе с побережьем, на котором – вместе со своим ребенком (мальчиком или девочкой) – я могла бы быть счастлива. Мы могли бы собирать там ракушки, изъеденные приливом, или искать куриных богов. Мы могли бы строить замки из белого песка… Я осторожно положила тяжелую непослушную руку на живот. И никто не ответил мне. Никто не ответил. Я не могла, не могла этого чувствовать – и все равно чувствовала…
Что же произошло ночью?
«Необходимо срочное хирургическое вмешательство…» Для кого необходимо?
Мне захотелось крикнуть, позвать кого-нибудь на помощь, но я не могла издать ни звука, – неужели это последствия наркоза? И хотя меня больше не тошнило, нестерпимо заболел низ живота: наркоз наконец отпустил. Стараясь справиться с головокружением и болью, я села на кровати и откинула одеяло.
На простыне отчетливо проступили пятна крови…
Я поняла. Я все поняла.
Да, я всего лишь ничего не знающий о себе кусок мяса. Лакомый кусочек для усатого мясника на колхозном рынке. А они, эти милые хирурги в небесной униформе, они же не мясники!.. Но неужели они все это сделали со мной?..
Простыня не поддавалась моим слабым рукам, и я разорвала ее зубами. Меньше всего меня волновала боль. Подоткнув куском простыни низ, я заплакала…
Уже потом в палату ворвалась сдававшая дежурство и по этому случаю опухшая от спирта Машка Гангус. Она наорала на меня за разорванную простыню, тут же мимоходом по-бабски пожалела и посоветовала перцовую настойку, чтобы окончательно снять все последствия. Она же, беззлобно матерясь, принесла мне тампоны и вату. А чуть позже появился белый как полотно анестезиолог Павлик. Он что-то невразумительно объяснял мне, пряча глаза.
Но из всего сказанного им я поняла только одно – аборт был единственным выходом. Последствия аварии оказались необратимыми…
– Да, да, произошли патологические изменения, – послушно повторила я за анестезиологом, – да, я все понимаю.
– С вами все будет в порядке, – пытался он успокоить меня.
– Да, я все понимаю… Я все понимаю…
– А вы молодец. Сильная женщина. Очень хорошо все перенесли, – Павлик не нашел ничего лучшего, чем попытаться подольститься ко мне. Или он сказал это от чистого сердца? Невозможно, невозможно всех подозревать. Я почувствовала легкий укол совести.
– Да, я все понимаю… Но почему там была музыка? Джаз, кажется, хотя я плохо разбираюсь…
– А-а, это… У нашего хирурга есть маленькие слабости. Он, например, очень любит слушать музыку во время операций. Это его вдохновляет.
– Вдохновляет на что?
Павлик вздохнул. Вопрос остался без ответа.
– Уходите. Уходите, мне нужно побыть одной, – я решила сжалиться над его крутыми опущенными плечами.
Хотя на самом деле жалеть нужно было только меня…
Несколько дней я провела как будто в забытьи – теперь уже ничто не интересовало меня.
…Настю, вышедшую на дежурство, просто подкосило известие об аборте. Она даже заплакала, сидя у меня в ногах. Я страшно удивилась: сначала ей, а потом – себе. Ей – потому что она плакала так горько. А себе – потому что ни разу еще так горько, так отчаянно не плакала, хотя поводов было предостаточно. Добрая отважная Настя пообещала мне все выяснить, – очевидно, ей очень хотелось облегчить мои страдания.
То, что она узнала по каким-то своим, одной ей известным каналам, не принесло облегчения ни ей, ни мне. Она появилась в конце дня совершенно раздавленная, как всегда, села у меня в ногах и надолго замолчала.
– Я ничего не понимаю, – наконец сказала она. – У меня небольшое образование, но все-таки медучилище. Я сумела достать твою карту и снимки. Никакого оперативного вмешательства не требовалось… Не должно было быть никакого аборта… Может быть, я просто тупая медсестра… Но… Мне очень жаль…
– Как ты достала карту? – Я все еще не верила ей. Не хотела верить.
– Примерно так же, как достаю сигареты. Я просто украла ее. Стянула и посмотрела. Для меня это не составило большого труда, я ведь старая клептоманка… Но, может быть, я чего-то не поняла… Я поговорю с Павликом…
Но я так и не узнала, разговаривала ли она с анестезиологом. Я больше не увидела ее, как не увидела капитана Лапицкого после той сумасшедшей ночи.
И если исчезновение капитана даже обрадовало меня, то в день, когда моя медсестра не вышла на очередное дежурство, я почувствовала себя особенно несчастной. Я пыталась звонить ей, но телефон не отвечал. Появившаяся вместо Насти Эллочка Геллер, выглядывая из-за своего извечного книжного укрытия, робко спросила меня о том, как я отношусь к Джону Апдайку.
Я не имела насчет Апдайка никакого мнения, но нужную информацию получила: Настя Бондаренко (надо же, ее фамилия, оказывается, Бондаренко, а я даже не знала) заболела и взяла бюллетень…
Не самое лучшее время оставаться один на один с собой без всякой дружеской поддержки… Впрочем, поддержка пришла; но отнюдь не дружеская.
Я уже ничего не ждала от напрочь забытой жизни, когда меня нашел Эрик Моргенштерн…
…Сначала я даже не придала значения его появлению. Он незаметно проскочил в щель между завтраком и утренним обходом и так же незаметно просочился в палату. Уже потом, много позже, я поняла, что простодушная наглость Эрика всегда заставляла его идти по прямому пути. Этим путем никто никогда не шел, но в конечном итоге он оказывался самым выигрышным. Вот и сейчас – предчувствие утреннего обхода, как предчувствие Апокалипсиса. Более нелепого времени для личных посещений нельзя было и придумать.
Я даже не успела ни за кого принять его – уж слишком он отличался от всех, даже на первый взгляд. Тяжелый и в то же время подвижный подбородок; черты лица, предоставленные сами себе и живущие своей жизнью. Они мало заботились о синхронных действиях и смотрели на мир по-разному. Чрезмерно загеленные волосы, чрезмерно загеленные кокетливые баки. И даже на брови было вылито огромное количество геля. У Эрика был красивый, бесстыжий, четко очерченный рот и такие же бесстыжие темные глаза. В ушах торчали серебряные серьги, я насчитала три, не считая заблаговременно проколотых дырок. Два массивных перстня и легкомысленный браслет на смуглом запястье дополняли картину, придавая Эрику сходство с оседлым цыганом. Или завсегдатаем ночных клубов сомнительного качества. Откуда я только знаю о ночных клубах?..
Эрик (уже потом я узнала, что его зовут Эрик) взгромоздился на стул и долго смотрел на меня не моргая. Полная цыганщина, но я уже привыкла к разным долгим взглядам по разным поводам и потому отреагировала спокойно, как пятнистая гиена на посетителей из-за сетки вольера в зоопарке.
– Черт возьми, ты здорово сдала, – удовлетворенно сказал он, дернул кадыком и сглотнул слюну, – но все равно, такая же красотка.
Сначала я даже не поняла, к чему это может относиться. Скорее всего ко мне. Но какое отношение ко мне может иметь этот оседлый цыган, этот брутальный мачо?..
– Все равно. Такая же красотка, Анна.
Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. Я вдруг смутно почувствовала, что, как только он произнес это имя, что-то начало меняться во мне: как будто камень, брошенный с горы, потянул за собой целую лавину.
– Анна? – едва разлепив губы, прошептала я. – Кто такая Анна?
– Ну ты даешь, – сказал мне парень. – Тебя действительно крепко шарахнуло. Но теперь ты можешь быть спокойна. Твой молочный братец с тобой.
– Молочный братец?
– Ты что, старуха, действительно спрыгнула под откос? Это же я, Эрик!
– Какой Эрик? Я не знаю никакого Эрика.
– Ну-ка, открой свою прелестную пасть, нащупай второй зуб после резца. Там должна быть пломба. А соседний, между прочим, фарфоровый, между нами, девочками. Две тонны баков на него угрохали. Видишь, вляпалась, чуть жизни не лишилась, а зуб ничего, целехонек. Это тебе Эдинька Вол ставил, отличная работа. Он, между прочим, тебе привет передавал. Я, конечно, морду чайником сделал – не знаю, где ты, пропала, и все. Мало ли, у Эдиньки язык как помело, только в Пентагоне с таким языком работать на разведку МОССАД. Ну, не выпала пломба?..
Я машинально сделала то, о чем просил меня мой странный посетитель: нащупала языком зуб, второй после резца. Там действительно красовалась пломба. Откуда он это знает, если этого до последней минуты не знала я сама?
– Ну как? – нетерпеливо поинтересовался Эрик. – Все на месте, душа моя?
– Да.
– Я бы мог поведать тебе о некоторых других милых кардинальных изменениях, но оставим это для можжевеловой водки и вечера при свечах. Ты ведь по-прежнему любишь можжевеловую водку? Я тут разжился, специально для тебя. Видишь, как старина Эрик любит свою непутевую Аньку. И не бросает ее, хотя задница у нас в любой момент может вспыхнуть.
– Ничего не могу сказать о можжевеловой водке, – тихо произнесла я, даже не вслушиваясь в его треп.
– Ты что, и вправду не помнишь?
– Нет.
– Надо же, – Эрик поморщился, – никогда не думал, что после той бурной жизни, которую мы вели последние пять лет, ты вот так, за здорово живешь, выкинешь из своей прелестной головки Эрика Моргенштерна.
– Странная фамилия.
– Обыкновенная немецкая фамилия. Тебе же она нравилась, Анна. Ты ведь даже хотела выйти за меня замуж из-за фамилии. Не помнишь, что ли?
– Я ничего не помню. И раз вы здесь, то должны это знать.
– А-а… Я тут навел справки аккуратненько. Сунул кому следует, так что с тебя причитается… Но, честно говоря, думал, что ты просто пургу гонишь в своем стиле. После того, что натворила. Ты же хитрая бестия. Красивая хитрая бестия, хоть и сдала в этой собачьей клинике. Ну ничего, мы тебя быстро поправим.
– Значит, меня зовут Анна? – Я уже не слышала Эрика. Я уже не слышала всего того, что он говорил мне.
Анна, Анна… Боже мой, какое красивое, какое определенное имя. Я вспомнила книгу, которую приносила мне Настя, – «Тайна имени»… Там было это имя, в самом начале оглавления, но тогда я прошла мимо него…
– Анька, да ты с ума сошла! – Эрик хихикнул. – Откуда такой задумчивый пафос? Окстись, родная… Все документы у меня, но теперь они вряд ли тебе пригодятся. После всего, что произошло. Ладно, с этим мы что-нибудь придумаем. Теперь нужно выбраться отсюда. Ты как себя чувствуешь?
– Не очень.
– Все равно. Подлечим на нейтральной территории. Заодно и мозги вправим. Чего мне стоило тебя найти – отдельный разговор… Между прочим, ищу не только я, ты это учти и оцени мужество своего молочного братца.
– Кстати, как вы меня нашли? – Не стоит идти на поводу у первого встречного только потому, что он назвал тебя по имени, которое ты так тщетно искала.
Эрик вытянул длинные ноги и забросил их на кровать – прямо на одеяло. Несколько секунд я созерцала его тяжелые рифленые подошвы, к одной из них приклеился беззащитный прошлогодний листок. Он неожиданно напомнил мне себя самое, – пусть тебя унесет любой, возьмет и унесет…
– Как нашел, как нашел… А вот так – взял и пошел к северу через северо-запад, – Эрик лукаво посмотрел на меня и растянул в ухмылке свои бесстыжие губы.
– «К северу через северо-запад»… Это Хичкок.
– Верно, старуха, это Альфред Хичкок. Твой любимый хреновый режиссер. Ты мне им всю плешь выела. Но я человек терпимый, я даже все твои любимые видеокассеты сохранил. Перетащил к себе… И «К северу через северо-запад» тоже. А говоришь, что ни хрена не помнишь.
Я вдруг вспомнила, как все это время, лежа в бессонной больничной койке, перебирала старые фильмы. Они казались мне связанными с Олегом Мариловым. Но теперь выясняется, что и со мной они связаны тоже. Со мной и с этим странным молодым человеком. Это может убедить больше, чем пломба во втором от резца зубе. Да он и не хотел меня убедить, этот Эрик. Он просто нашел меня, и все.
– Почему же, помню, – медленно сказала я. – «Тридцать девять ступеней», «Веревка», «Спасательная шлюпка», «Окно во двор», «Марни», «Головокружение», «В случае убийства набирайте «М»…»[1]
– Вот-вот, последнее особенно актуально… Только стер я этот фильмец, извини, не чаял увидеть тебя в живых. А вместо него на кассету порнушку записал. Как раз в твоем стиле. Но все остальное в целости и сохранности. Будешь по вечерам семечки лузгать и Хичкока своего смотреть, как бывало. Только с твоей хатой, как ты сама понимаешь, лажа. Будем жить у меня, как бывало, жопа к жопе…
– Я не понимаю… Вы что, пришли забрать меня?
– Нет, лишний раз на твою мумию полюбоваться. Ты для меня столько сделала, Анька, а Эрик, он ведь не гунн какой-нибудь, он добро помнит. Да что с тобой, я не узнаю тебя! Ну-ка, обними своего братца!..
Эрик сбросил ноги с кровати и потянулся ко мне загеленной головой. Мне ничего не оставалось, как обнять его за твердые податливые плечи. Бесстыжие губы ощупали мое лицо и, кажется, остались им довольны. От Эрика пахло одеколоном, который показался мне знакомым. Неужели я все-таки знаю этого человека?.. Но, даже если бы я не знала его, я бы пошла за ним куда угодно… Он оказался единственным, кто готов был предоставить мне твердую почву под ногами.
Анна. Мне нравилось имя Анна.
– Ну, как ты здесь подыхала, девочка моя? – отстранился от меня Эрик. – Я ведь все два месяца тебя искал. Менты-то наверняка достают? Но ты молодец, выбрала верную тактику…
Он вдруг нахмурился, почесал подбородок, небрежным движением поправил четкую бровь и озабоченно прошептал:
– Надеюсь, «жучков» не повтыкали? Не очень-то они соображают, как я посмотрю. Или ты ввела их в заблуждение, умница моя?
Я вспомнила капитана Лапицкого. Возможно, он был не так далек от истины. Возможно, я ввела в заблуждение всех. И себя заодно.
– Похоже на то, – медленно произнесла я, – похоже на то, что мне ничего не остается, кроме как поверить вам.
– Только прекрати обращаться ко мне на «вы», у меня от этого камни в почках ворочаться начинают. Последний раз на брудершафт мы пили пять лет назад, а после этого столько всего было… И чем быстрее мы свалим отсюда, тем будет лучше. И если твоя тыква получила брешь, то с моей все в порядке. А с ментами нужно прекратить всякие контакты. Ты их недооцениваешь, поверь мне. Они вполне способны вывернуть тебя наизнанку и докопаться до истины. А мы столько усилий и бабок потратили на то, чтобы все скрыть…
– Что скрыть? – я с испугом смотрела на Эрика.
– Тебя, душа моя, тебя… А посему нужно тихонько поменять место дислокации. Я приехал, чтобы тебя забрать.
– Меня уже можно выписывать?
– Господи, ну о какой выписке ты говоришь? Просто спускаешься вниз, в парк. Тебе ведь уже можно выходить… А я буду ждать тебя у решетки со стороны улицы. Там, где старые ворота. Ты знаешь, где старые ворота?
Я знала, где находятся старые ворота, хотя в февральской темноте они показались мне скорее калиткой. Они вели к той стороне улицы, на которой меня ждала машина капитана Лапицкого. Все повторяется с той лишь разницей, что сейчас я готова сама идти за Эриком. И идти добровольно. Но ничего этого я не сказала ему. Я только кивнула.
– Да, я знаю, где старые ворота…
– Неважно ты выглядишь, душа моя… Ни следа от былой красоты. Но ничего, это дело мы поправим. Только обещай меня слушаться.
– Я подумаю…
– Она еще собирается думать! Как только тебя не вытащили и не пришили! Твое счастье, что ты вовремя впала в кому… Сделаем так: я сейчас уйду, а ты минут через тридцать выйдешь воздухом подышать. Устроим операцию «Леди исчезает», как у твоего толстого любимца. Это вполне невинно, тем более – погода хорошая. Тебя никто ни в чем не заподозрит, если учесть, что идти тебе некуда, здесь все это знают. Ты ведь у нас крошка без памяти. Или я ошибаюсь?
– Нет.
– Это печально, но не смертельно. Жду с нетерпением. Машину хоть помнишь? Подержанный «Фольксваген-Гольф», уж извини. Твою-то продать пришлось, я ведь не думал, что ты останешься в живых. Целую и жду, душа моя…
Он еще раз с удовольствием поцеловал меня и исчез. Так быстро, что оставил после себя смутное ощущение нереальности происходящего. Скоро начнется утренний обход – меня вполне могут навестить. И я снова останусь в палате, совсем одна, даже не зная, что делать с этим своим именем – Анна… Если бы я могла – я бы бросилась за Эриком прямо сейчас… Но я все-таки выждала положенные полчаса, которые показались мне вечностью.
Пора уходить. Пора навсегда покинуть эту нору неизвестного мне зверя. Я почувствовала, что улыбаюсь, это было похоже на сдержанное торжество победителя. Я больше никогда не вернусь сюда. Больше никто не будет делать ставок, больше никто не будет допрашивать меня и вертеть юркий «браунинг» перед носом. Сейчас я даже не придавала значения тому, что рассказал мне Эрик. Похоже, у меня была веселая насыщенная жизнь в обрамлении Хичкока. Пусть будет так…
…В коридоре я еще нашла в себе силы поболтать с Эллочкой. Теперь она читала какую-то канадку, кажется, Маргарет Этвуд. У меня не было никакого представления о ней, но роман назывался многообещающе – «Постижение». Постижение – это то, что мне предстоит. Пользуясь Эллочкиным всегдашним расположением ко всему человечеству, я попросила телефон и снова набрала номер Насти. И снова никто мне не ответил… Ничего, я позвоню позже….Незамеченной я выскочила в парк через ту самую лестницу, по которой мы спускались с капитаном. Теперь на мне были только тапочки и халат, но я была свободна.
…В парке было ветрено и холодно. Я старалась идти спокойно – тихая прогулка заключенных, только и всего, – но у самых ворот ускорила шаг. Больше всего я боялась, что Эрик не дождется меня и уедет. Больше всего я боялась, что никакого Эрика не существует в застывшем февральском мироздании, что все это только игра моего расшалившегося в отсутствие памяти воображения…
Но Эрик существовал.
Я поняла это сразу, как только оказалась на улице. Видимо, он не совсем был уверен в том, что моя бедная голова помнит, как выглядит «Фольксваген-Гольф», и потому посигналил.
Я помахала ему рукой и спустя несколько секунд уже сидела в салоне. Эрик мгновенно сорвался с места, навсегда увозя меня от места моего заточения…
…В салоне было тепло, и все-таки я не могла согреться. Я прятала руки под мышками, а Эрик смотрел на меня в зеркало заднего вида с веселым осуждением. Наконец он сжалился надо мной и радостно промурлыкал:
– Что, замерзла, деятельница? Шубу возьми, вон в пакете, рядом с тобой. Твоя любимая, соболишко. Были не лучшие времена, но ее я не продал. Цени.
– Я ценю, – машинально ответила я и вытащила шубу. Шуба была чересчур роскошной, чтобы принадлежать женщине в больничном халате не первой свежести, но чем черт не шутит… Я завернулась в нее и подумала, что вполне могу себе понравиться.
Эрик оказался лихачом. Я не успевала даже рассмотреть улицы за стеклом, но это не было обязательным: я все равно не узнала бы их. С тем же успехом я могла оказаться на всех других улицах.
– Куда мы едем? – спросила я Эрика, прислушиваясь к жизни внутри шубы.
Это была многообещающая жизнь выпавших волосков, оставшихся на подкладке. Каких-то терпких духов (принадлежавших, видимо, мне). Каких-то стойких одеколонов (принадлежавших, видимо, мужчинам, которые мне нравились). Небрежной полоски следа от помады (я сразу влюбилась в тон этой помады, хотя, наверное, уместнее было сказать не «сразу», а «заново»). В этой шубе запросто уместились все мои представления о гильотинах, занюханных хиппи, милицейских капитанах и породах собак… Не говоря уже об оседлом немецком цыгане Эрике, который весело пялился на меня в зеркало заднего вида.
– Все-таки куда? – впервые за все время выхода из комы мной овладело веселое бесшабашное любопытство. Уж теперь-то я обязательно получу ответы на все свои вопросы.
– Куда-куда… В жопу труда. Снял для нас маленькое гнездышко у Речного вокзала. Сама понимаешь, в нашем положении лучше отсиживаться, как потаскухам во время Олимпиады, за сто пятым километром. Это, конечно, не Версаль, но полутораспальная кровать в твоем распоряжении… Я перевез кое-что из твоих вещей – так, по мелочи, но на первое время хватит. Пока не сделаем тебе документы – и привет семье…
– Какие документы? – Я все еще не слышала Эрика.
Я не слышала ничего из его туманных намеков на некие обстоятельства, которые не были известны мне. Соболиная шуба, в которой не обидно умереть, и имя Анна, в котором уютно жить, мне нравились, но все остальное?.. Неужели за этим именем есть тайная двусмысленность?.. Я откинулась на сиденье и закрыла глаза: двусмысленность, почему бы и нет, ведь имя «Анна» одинаково читается слева направо и справа налево.
– Да, вижу, с башней у тебя действительно не слава богу. Сейчас приедем домой и поговорим…
Что ж, поговорим. Получим ответы на интересующие нас вопросы. После растительной жизни в клинике заднее сиденье машины Эрика казалось мне райскими кущами. А музыкой небесных сфер был его чуть гундосый, чуть хрипловатый, чуть развязный и невыносимо обаятельный голос…
– Какие сигареты я курила? – спросила я у Эрика, не открывая глаз.
– Слава богу, вспомнила… Они все в той же многострадальной сумке. Можешь достать и полюбоваться на свой пейзанский вкус.
Я выудила из сумки блок сигарет (видимо, у Эрика широкая душа, и мне это нравится, черт возьми!), надорвала его и только потом с любопытством рассмотрела вынутую пачку.
«Житан Блондз».
Совсем неплохо для начала. Я вдруг вспомнила Настю, которая приносила мне сигареты. Тогда мне очень хотелось взять «Житан»…
– Ты подкуришь? – спросила я у Эрика, выбив сигарету из пачки. И тут же поймала себя на том, что говорю с его интонациями. Похоже, информация о молочных братьях и сестрах не так уж неверна.
– Куда денусь, – не снижая скорости, он повернулся ко мне и щелкнул «Зиппо».
На Ленинградском проспекте (Эрик галантно представил меня и проспект друг другу) мы попали в пробку. Эрик нетерпеливо постукивал большими пальцами по рулю, а я, куря сигарету за сигаретой, пыталась вспомнить географию города. Пыталась – и не могла. Смутное чувство чего-то неуловимо знакомого, но ускользающего из прихотливого затуманенного сознания не покидало меня.
…Спустя полчаса Эрик уже звенел ключами у обыкновенной, обитой жалким дерматином, двери на шестом этаже девятиэтажного дома. Номер квартиры вселил в меня уверенность – 151. Именно с этих цифр начинался телефон Насти…
Прежде чем толкнуть дверь, Эрик пожевал губами и, повернувшись ко мне, виновато произнес:
– Покаюсь тебе, Анька. Микушку пришлось отправить на панель. Сама понимаешь, возиться с псом в моей ситуации было просто глупо, а хороших рук для него не нашлось. Уж слишком верным ты его сделала. Прямо под себя скроила…
Я с недоумением посмотрела на Эрика:
– Кто это – Микушка?
– Н-да… Проколец… Все забываю о твоем плачевном состоянии. Мик – это собачонка твоя комнатная. Крохотный такой ротвейлер. Семьдесят сантиметров в холке. Что, правда не помнишь? Вот оно, человеческое вероломство. И черная неблагодарность. А ведь он мог за тебя глотку перегрызть кому угодно. В этом мы с ним похожи, любовь моя.
Вот оно что – ротвейлеры… Вот почему тогда, на даче, мне показалось, что именно ротвейлеров я должна была вспомнить прежде всего. Эрик аккуратно и методично прибирался в квартире моего сознания, расставляя все вещи по их привычным местам.
Но теперь мне предстояло испытание еще одной квартирой – номер 151.
…Это было то еще зрелище. Прихожая и маленькая кухня были страшно запущены, комната, почти лишенная мебели, забита коробками и вещами, сваленными прямо на коробки. Но посреди всего этого бедлама победно возвышался отлично сервированный на двоих стол. Свечи и цветы в низкой вазе дополняли картину.
– По какому поводу праздник? – критически оглядев обстановку, спросила я. И опять в моем голосе проскользнули интонации Эрика. Ты все схватываешь на лету, девочка, поздравляю…
– По поводу твоего возвращения в родное бунгало, – Эрик поцеловал меня в щеку. – Это, правда, не совсем бунгало и не совсем родное. Но все-таки…
– Ты был так уверен, что я поеду с тобой?
– Конечно. Ведь я тебя знаю как облупленную. Ты бы никогда не осталась в этой богадельне. Свобода – и свобода передвижения в частности – для моей Аньки превыше всего. Позвольте манто, мадам!
Я скинула шубу прямо на руки Эрику и осталась в больничном халате. Эрик поморщился:
– Значит, так, девочка моя. Сначала в ванную, потом одеваться… Я приготовил для тебя твой любимый прикид. Тот самый, который так неотразимо действует на богатых папиков… Потом можжевеловая водка, потом все остальное. Устраивает тебя такой план действий?
– Вполне.
Эрик сопроводил меня в ванную и целомудренно остался за дверью. В ванной я нашла все, что нужно; все, от чего отвыкла в настоящей жизни. И может быть, к чему привыкла в прошлой.
Дорогая пена для ванн, дорогой шампунь, дорогое мыло. Судя по нерезкому, едва уловимому, девственному запаху, они действительно были дорогими… Полку под большим зеркалом занимала целая батарея баночек с кремами и лосьонами. Я пустила воду и через несколько минут с наслаждением погрузилась в нее. Сначала я от нечего делать рассматривала полки на противоположной стене, до самого потолка забитые одеколонными флаконами. Все флаконы были либо запечатаны, либо едва начаты. Похоже, Эрик экспериментировал с запахами, а может быть, для каждой части тела у него был отдельный одеколон – ведь все части его тела, как и черты лица, жили своей собственной жизнью. Я вспомнила его руки на руле, как будто бы понятия не имеющие друг о друге; носки его ботинок, как будто бы отворачивающиеся друг от друга… Я лениво думала об этом и рассматривала одеколоны. Долго. Пожалуй, слишком долго я не могла оторваться от всех этих легко читающихся и легко переводимых названий. И только потом поняла, почему делаю это: я все еще боялась посмотреть на себя.
Ну, решайся же, наконец. Вода всегда подаст тебя в выгодном свете, а пена для ванн скроет все недостатки. Но я так и не решилась. Сначала нужно побольше узнать о себе из первых рук, а уж потом придет время знакомиться с собой. Я закрыла глаза, чувствуя, как горячие, наполненные экзотическими ароматами струи (банальная химическая отдушка, только и всего, не надо обольщаться) смывают с меня и стерильную грязь образцово-показательной клиники, и двухмесячную кому. Еще полчаса, и из этой французской пены для ванн может, как Афродита, родиться и моя собственная память.
Афродита, рожденная из пены. Афина, рожденная из головы Зевса. Ты имеешь представление о древнегреческих мифах, Анна. Значит, ты не безнадежна. Я поймала себя на мысли, что уже привыкла к своему имени, хотя так и не вспомнила его. Есть чему порадоваться. Есть за что поднять первую рюмку можжевеловой водки. К ней я испытываю особую нежность, если верить Эрику. Он должен принести халат и все мне объяснить.
Я так долго и умиротворенно покоилась в толще воды, что Эрик забеспокоился. Он вкрадчиво постучал в дверь и таким же вкрадчивым голосом сказал:
– Ты не утонула там, любовь моя? Неприятности с Гарри накануне воссоединения святого семейства нам не нужны.
«Неприятности с Гарри». Еще один фильм Хичкока. Я, кажется, знаю все его фильмы, вот только не могу понять, так ли уж он мне нравится…
– Сейчас выхожу, – ответила я Эрику. – Принеси мне халат.
– Уже принес.
Эрик распахнул дверь и оказался на пороге с белым махровым халатом в руках. Странно, я не испытала никакого стеснения, когда вылезла из ванны и позволила Эрику укутать себя восхитительно свежей махровой тканью.
– А ты все такая же бесстыжая, любовь моя, – удовлетворенно констатировал он, затягивая мне пояс на талии.
– Такая же бесстыжая, как твои губы, – мне вдруг захотелось поиграть с ним в слова. Откуда что берется, черт возьми?!
– …такие же бесстыжие, как твои бедра. Сумасшедшая женщина! Почему ты не вышла за меня замуж?
– Решила остаться на своей девичьей фамилии. Кстати, Эрик, как звучит моя девичья фамилия? – Я со жгучим любопытством посмотрела на него.
– Ты и этого не помнишь? – сказал он, сосредоточенно вытирая полотенцем мои мокрые волосы. – Александрова. Во всяком случае, именно эта фамилия была записана в твоем паспорте.
– Я хочу посмотреть, – законная просьба законной владелицы.
– На что?
– На фамилию. И на паспорт заодно.
– Всенепременно. Но только не сейчас.
– Почему?
– Если ты действительно ни черта не помнишь, любовь моя, к нескольким сюрпризам тебя нужно подготовить. После семейного обеда. Надо же, как волосы у тебя отросли, – он провел рукой по моим волосам, – и прическа ни к черту. Запустили, запустили тебя… Ладно, это дело наживное. Ну, иди переодевайся. Я тебя жду.
Эрик проводил меня к дверям второй комнаты, в которой я еще не была. Толкнув дверь, он сказал:
– Твои апартаменты. Зная твою любовь к чистке перьев, даю полчаса. Торжественный сбор в гостиной. Водка, сыр, бастурма, зелень, соленые огурцы и я. Все – твое любимое. И все пребывает в нетерпении.
Я закрыла за собой дверь и осталась одна. Маленькая комната, в отличие от гостиной, где окопался Эрик со своими коробками, имела вполне пристойный вид, хотя и была довольно аскетична.
Широкая кровать, застеленная розовым покрывалом с экзотическими китайскими птицами; плюшевое кресло, трюмо, занимающее полстены, – три раскрытые створки зеркала, похожие на триптихи художников северного Возрождения…
Странно, как такие ассоциации могут возникнуть у женщины, которая предпочитает всему можжевеловую водку и соленые огурцы? И которую развязный оседлый цыган Эрик Моргенштерн называет молочной сестрой? Впрочем, если верить ему, меня еще ждет множество сюрпризов…
…На кровати, аккуратно разложенные, лежали вещи. Эрик постарался на славу, он все учел: тонкое кружевное белье, туфли на шпильках, невесомый кусок ткани соблазнительной расцветки, подозрительно смахивающий на вечернее платье.
Я встала между трюмо и кроватью, отразилась сразу в трех зеркалах и медленно сбросила халат на пол. Голенькая, только что родившаяся Анна Александрова.
Мое обнаженное тело ничего не сказало мне, но и не вызвало никакого протеста – вполне, вполне. Я взяла белье, надела его и сразу же почувствовала себя увереннее: новая жизнь начинается неплохо. Затем наступила очередь платья. Прежде чем одеться, я взяла его в руки и поднесла к лицу: оно не было новым (в отличие от белья), оно еще хранило едва уловимый, но стойкий аромат каких-то духов. Духи мне понравились (я бы выбрала именно их, если бы имела возможность выбирать), да и платье тоже. Я осторожно проскользнула в него и почувствовала себя вполне уверенно. Теперь можно обратиться к зеркалам и наконец-то оценить себя.
Платье сидело идеально. Я удивилась этому и сразу же подумала: разве может быть иначе, ведь это же твое платье! Любимый прикид, который безотказно действует на «богатых папиков», как выразился Эрик. Интересно, что это еще за богатые папики и какое отношение они имеют ко мне?..
Вяло думая об этом, я надела туфли. Они тоже не были новыми, но нога вошла в них идеально. Я удивилась этому и сразу же подумала: разве может быть иначе, ведь это твои туфли!
Какое облегчение, еще немного – и ты окончательно обретешь себя.
Я села перед зеркалом и сразу же нашла то, что искала: косметика. О ней тоже позаботился Эрик, милый молочный братец, если верить тому, о чем он говорит.
Для начала я взяла флакончик духов и осторожно понюхала его: это был тот же запах, которым пропиталось платье. Я вылила несколько капель на мочки ушей и запястья, растерла их и осталась довольна. Моя отвыкшая от посторонних ароматов, стерильно-больничная кожа ждала этого. Теперь можно заняться лицом.
Но по-настоящему накраситься не получилось. То ли я отвыкла от невинных женских хитростей, пока находилась в коме, то ли была не готова ко всему этому великолепию, во всяком случае, мне даже не удалось подвести глаза. Временные трудности, утешила я себя. С тремя кольцами, серьгами и ожерельем удалось справиться куда быстрее. Я машинально закрыла глаза и надела кольца: все сразу же стало на свои места – они подходили к моим пальцам идеально, я даже не ошиблась, надевая их, я даже не раздумывала.
От этого захотелось разбить голову – я ничего, ничего не помнила!.. Даже эти вещи знали обо мне больше, чем я сама. Дальше оставаться одной было невозможно. Почти опрометью я бросилась из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. Я надеялась, что Эрик все объяснит мне, что он поможет вспомнить…
…Эрик уже сидел за столом. Он сменил свой богемно-джинсовый прикид на строгий костюм, подпер жилистую смуглую шею стильным галстуком и находился в самом благостном расположении духа. Мое появление он приветствовал громкими хлопками в ладоши и одобрительным свистом:
– Добро пожаловать в Иерусалим, Богородица! Только ты раньше времени на пятнадцать минут. Не узнаю брата Колю!
– Я и сама себя не узнаю, – выпалила я Эрику правду с жалкой улыбкой.
– Ничего, это дело поправимое, – утешил он. – А где же знаменитая демоническая подводка глаз? Где же воспламеняющая преступные страсти губная помада? Теряешь квалификацию, любовь моя.
– Прости, пожалуйста… Надеюсь восстановить ее с твоей помощью.
– Ну, если все в сборе – приступим.
Эрик поднялся со своего места, обошел стол и жестом метрдотеля со стажем отодвинул стул, приглашая меня сесть. Почему я так легко подумала об этом? Неужели Эрик прав и я только и делала, что благосклонно принимала эти профессионально-ресторанные знаки внимания? Я тряхнула головой, чтобы избавиться от этого наваждения, и села на стул, предложенный Эриком, закинув ногу на ногу. Действительно, хорошие туфли…
Эрик разлил водку по рюмкам, положил мне на тарелку кусочки бастурмы (неужели в прошлой жизни я любила вяленое мясо?), сыра (неужели в прошлой жизни это был мой любимый сорт сыра?) и аккуратно разрезанные огурцы (неужели в прошлой жизни я была такой плебейкой?). Покончив с приготовлениями, он поднял свою рюмку, кивком приглашая меня присоединиться.
– Ну, за возвращение! – выспренне произнес он. – За возвращение вавилонской блудницы, хитрой бестии, удачливой суки, которая всегда выходила сухой из воды. За возвращение самой классной бабы этого города и этой страны. За тебя, любовь моя!
Мы чокнулись. Я залпом выпила водку, горьковато-терпкий вкус которой мне понравился. Эрик с одобрением смотрел на меня:
– Что-что, а водку ты пить не разучилась. Значит, все будет в порядке.
Я поставила локти на стол и внимательно посмотрела на Эрика:
– Ну, рассказывай.
– О чем рассказывать?
– Обо мне, – от выпитого мне стало тепло и отчаянно-весело, – только с самого начала. Я хочу все знать о себе.
– С самого начала не получится. Ни о босоногом детстве, ни о бедной провинциальной юности ничего сказать не могу, извини. Не присутствовал. Но последние пять лет твоей жизни могу живописать довольно подробно.
– Валяй подробно, – одобрила я, и мы с Эриком снова выпили. Чересчур перченная бастурма жгла мне рот, но я не замечала этого. Я вся превратилась в слух.
– Ты меня разыгрываешь, – подумав, сказал Эрик. – Неужели ты действительно ничего не помнишь?
– Нет.
– Так не бывает.
– Бывает.
– Тогда расскажи, что с тобой произошло сейчас, а потом я расскажу, что было раньше. Может быть, мы сложим какую-нибудь картину в стиле твоего любимого хренового Хичкока. – Эрик смотрел на меня так же отчаянно-весело, как и я на него: водка делала свое дело.
– Я знаю только то, что произошла автомобильная катастрофа… Я знаю только то, о чем рассказывал мне один туповатый милицейский капитан. Я его ненавижу…
– Удивила! – Эрик хмыкнул. – Я тоже ненавижу милицейских капитанов. А также сержантов патрульно-постовой службы, начальников управлений по борьбе с организованной преступностью и дешевых майоров…
Почему Эрик сказал о майорах? Олег Марилов ведь тоже был майором…
– Неважно, – перебила я Эрика. – В машине было трое: кроме меня – еще одна женщина. Или девушка. Я не знаю… Я видела ее только на фотографии. И только мертвой. За рулем был мужчина, он тоже погиб. Кстати, он майор. И, к несчастью, оказался другом этого туповатого милицейского капитана… Не очень-то приятно, когда тебя допрашивают с пристрастием, а ты ничего не помнишь.
– Да, – согласился Эрик, – хорошего мало. Кстати, что ты делала в одной машине с ментом? Ты же всегда обходила их десятой дорогой! Тот мудак-фээсбэшник, который из-за тебя по статье сел, не считается. Там была роковая страсть, а я уважаю роковые страсти.
Я во все глаза смотрела на Эрика, – он говорил какие-то запредельные вещи. Они пугали меня, но в то же время не вызывали в моей оглохшей душе никаких отголосков. Чтобы избавиться от этого ощущения, я быстро продолжила:
– Кроме того, что мне рассказали, никаких других воспоминаний. Пришла в себя, но абсолютно ничего не помню. Говорят, что в коме я была два месяца…
– Ну, я в курсе. Хотя поначалу, грешным делом, думал, что ты обвела вокруг пальца и меня, как обводишь всех… Но куда бы ты могла исчезнуть, если даже новые документы не были готовы? Ведь нелегальное положение тебя бы никогда не устроило. Слишком стильная штучка, чтобы доить коров на отдаленном хуторе… Потом решил, что тебя достали и все-таки пришили.
– Было кому? – нелепо брякнула я.
– Еще бы! – Эрик удовлетворенно засмеялся. – Так что, считай, тебе крупно повезло. Лучшего места, чтобы пересидеть последствия твоей вулканической деятельности, и придумать было невозможно.
– Ты меня пугаешь, Эрик.
– Я и сам боюсь все это время.
– Как видишь, я жива и хочу все знать о себе.
– Ладно, хряпнем еще по манюрке и начнем…
Под пристальным взглядом Эрика я проглотила водку и даже не почувствовала ее вкуса. Потом вытащила сигарету и закурила.
– Пьешь, как лошадь. Куришь, как скотина. Значит, не все потеряно, Анька. В общем, пять лет назад жил себе такой маленький альфонсик Эрик Моргенштерн. Обслуживал стареющих дамочек, подворовывал при случае копеечки из комода и фамильные вдовьи драгоценности…
Мне не понравилось слово «альфонсик», оно не шло Эрику. Я выпустила струю дыма и задумчиво сказала:
– Жиголо.
– Вот-вот, – обрадовался Эрик, – а еще говоришь, что ничего не помнишь. Слово «альфонс» ты терпеть не могла. Предпочитала – «жиголо». Оно напоминало тебе твои любимые гунявые сигареты. Ты уже тогда курила «Житан»… Так вот. Благодаря своим старушкам-процентщицам Эрик неплохо приподнялся, не настолько, конечно, чтобы совсем от них отказаться. Но ровно настолько, чтобы спать с ними как можно реже и только в случае крайней необходимости. Хотя без издержек не обошлось: гнусные старухи приучили его к дорогим одеколонам, дорогим сигаретам и ресторанам. Дорогим галстукам, кстати, тоже… Вот этот, например, – Эрик потеребил свой галстук, – стоит двести пятьдесят баксов, но не суть… Так вот, второго декабря тысяча девятьсот девяносто третьего года ужинал я в «Славянском базаре» в гордом одиночестве и в соответствующей случаю дорогой экипировке. Обычно я подснимал там стареющих бизнесвумен, они там нерестятся… Второго декабря, запомни эту дату, любовь моя. И, представь себе, рядом со мной, за соседним столиком, приземлилась парочка: он-то, конечно, престарелый козел лет эдак шестидесяти пяти, судя по репе, начинающий банкир, бывший парток. Но она, она… С трудом удержался, чтобы с ходу не сделать ей предложение. Нужно сказать, что мысли о женитьбе не посещали Эрика Моргенштерна даже в страшном сне, а тут такой казус… Но, поверь, она того стоила. О фигуре умолчим, там все было на месте, прямо тебе эбонитовая статуэтка. Но лицо, но волосы… Представь себе копну светлых волос. Для того чтобы их так небрежно разложить на плечах, нужно было просидеть в парикмахерской целый день: волосок к волоску и при этом – полная небрежность. В жизни не видел женщины красивее, хотя три года снимал хату с валютными проститутками, коллегами по цеху, так сказать… А они были девочки – закачаешься… И потом – глаза. Таких дерзких глаз, таких дивных глаз я и представить себе не мог…
Я смотрела на Эрика и никак не могла взять в толк, о ком это он говорит. А он с воодушевлением продолжал:
– Ну так вот. Смотрю я в эти глаза – искоса, конечно, чтобы не возбуждать впечатлительного папика, она тоже бросает на меня взгляд. И что же я вижу в этих неземных глазах, а?
– Не знаю.
– А вижу я в этих глазах самую обыкновенную сучью течку. И течка эта относится ко мне, скромному Эрику Моргенштерну. И все это несмотря на папика. Вот где кайф!..
– Что же было дальше?
– Ты действительно ничего не помнишь?
