Дом на городской окраине бесплатное чтение
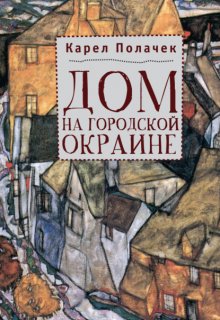
Грустный смех Карела Полачека
Если бы к литературе были применимы табели о рангах, то Карела Полачека следовало бы считать третьим по значимости чешским сатириком и юмористом – после Гашека и Чапека.
«Полачек в отличие от Карела Чапека был настоящим юмористом, то есть человеком грустным, – вспоминает чешский писатель Франтишек Кубка. – Ни у кого я не видел таких печальных глаз, как на смуглом лице Полачека. Пожалуй, только Зощенко посмотрел на меня столь же скорбно, когда я в январе 1935 года сидел рядом с ним за столом в Ленинграде.
Полачек во многом близок Зощенко и по характеру своего творчества, представлявшего собой сатирическую энциклопедию чешского мещанства».
Трудно найти чеха, который бы не читал его. Но для большей части критики творчество Поалчека долгое время как бы не существовало. Это в значительной мере объяснялось особенностями самого дарования Полачека. Его взгляд на мир казался чересчур обыденным, приземленным. Он был слишком тесно связан с жанрами литературной периферии – газетным фельетоном, бытовым анекдотом. Не так-то легко было разглядеть глубокое содержание за внешней развлекательностью, художественную новизну – за кажущейся традиционностью формы. И Полачека постигла участь его предшественника на ниве чешского юмора Ярослава Гашека: лаврами признания он был увенчан посмертно. Лучшие произведения Полачека по праву вошли в фонд национальной классики.
Родина писателя – маленький городок Рыхнов-над-Кнежной. Здесь 22 марта 1892 года у владельца бакалейной лавки родился сын Карел. Будущий сатирик помогал родителям обслуживать покупателей и вытаскивал старушкам счастливые лотерейные билеты. Автобиографическому герою одной из ранних повестей Полачека – репортеру Скальскому вспоминается такая привычная картина жизни родного городка:
«Пятница – и воздух насквозь пропитан запахом пирогов. Жарища такая, что мухи засыпают на потолке. Неожиданно во дворе раздаются булькающие звуки шарманки. Общинный нищий («Дай вам Бог здоровьица!») исполняет на своем страдающем одышкой инструменте «Дунайские волны». Дети приносят ему крейцеры и куски хлеба. Он перестает играть и гнусавит: «Дай вам Бог здоровьица!» – и дети удивляются тому, что от него исходит какой-то странный нищенский тухлый запах. Вот уже тридцать лет каждую пятницу он ходит по городу и играет «Дунайские волны». А гимназист Скальский должен зубрить неправильные греческие глаголы, иначе ему грозит переэкзаменовка. Скука». Атмосфера детства писателя еще не раз оживет на страницах его произведений.
Свою писательскую карьеру Полачек начал в пятом классе гимназии. Во время уроков он сочинял «сенсационный авантюрный роман», а на переменах давал его читать одноклассникам. Гонорар был столь щедрым, что на него можно было купить пару сосисок и булку. Затем юный издатель начинает выпускать «под партой» юмористический журнал «Вестготское ревю», программной целью которого было «воскрешение вестготской культуры».
Впрочем, предоставим слово для рассказа о себе самому Полачеку:
«Нет ничего удивительного в том, что я не пользовался славой прилежного ученика. Я часто проваливался на экзаменах, но ни в коем случае не по одному и тому же предмету. В восьмом классе нам было предложено в качестве сочинения написать фельетон, и я получил за него тройку с минусом. Когда я благополучно сдал экзамены, передо мной открылся целый мир. Я стал писарем у адвоката, но через два месяцы он дал мне понять, что охотно бы со мной расстался. Тогда я поступил на службу в фирму по производству противопожарного оборудования. Своих шефов мы никогда не видели – вскоре стало известно, что они сидят в панкрацкой тюрьме. Одним словом, с постоянными местами службы мне не везло. Должность с полным обеспечением я приобрел лишь после мобилизации».
К тому времени Полачек уже был пражанином и успел прослушать годичные курсы на юридическом факультете университета и в коммерческом училище.
Четыре военных года слились в памяти писателя в бесконечный маршевый переход. «Маршировали целую ночь, особенно когда был Gewaltmarsch,1 на марше ничего вокруг не замечаешь. Потом куда-то приходили и спали, и ты опять ничего не замечал. А потом снова шли дальше. И ты шел куда-то и где-то находился и ничего не знал о том, что тебя окружало». Трижды Полачек побывал на русском фронте, конец войны застал его в Сербии. Но в военных действиях он участвовал всего один раз. И тут же не замедлил попасть в плен. Как и большинство его соотечественников, Полачек отнюдь не жаждал «проливать кровь» за габсбургский престол. Но – увы! – через полчаса его «освободили» австрийские солдаты.
28 октября 1918 года Чехословакия была провозглашена независимой республикой. Полачек, едва сняв с себя австрийский мундир, вынужден был надеть новую форму. На собственном опыте ему пришлось убедиться, что милитаризм не умер вместе с рухнувшей Австро-Венгерской монархией. Затем Полачек поступил на службу в экспортно-импортную министерскую комиссию. Порядки, царившие в этом «учреждении для систематического истребления бумаги», были в такой степени достойны пера сатирика, что молодой чиновник не вытерпел и описал их – «для себя» – в рассказе «Карусель». Почти случайно (в дело вмешался знакомый Полачека сотрудник газеты «Реформа») рассказ был опубликован. И автору совершенно неожиданным образом представилась возможность удостовериться в чудодейственной силе печатного слова: его немедленно уволили со службы.
На Полачека обратили внимание братья Чапек. Они привлекли его к участию в сатирическом журнале «Небойса», а позднее – к сотрудничеству в газете «Лидове новины», объединившей вокруг себя большую группу талантливых писателей. Работа в газете заменила Полачеку литературный институт. Он писал заметки для местной хроники, корреспонденции с маневров, фельетоны, рассказы. Вскоре фельетоны и юморески, подписанные псевдонимом Кочкодан (Мартышка), завоевали широкую читательскую популярность.
Полачек был одним из создателей и мастеров короткого фельетона, получившего в Чехии название «слоупек» (газетный столбец, колонка). Возникновение «слоупка» писатель шутя объяснял народной склонностью отпускать критические замечания по любому поводу. Подобный насмешливый комментарий самых разных сторон человеческой жизни содержали его книги «Марьяж и другие занятия» (1924), «35 слоупков» (1925), «Вокруг нас» (1927). Книге «35 слоупков» была предпослана ироническая фраза из фельетона Карела Чапека «Легко и быстро»: «В юморесках Полачека вы не найдете того метафизического, углубленного мировосприятия, каким отличался незабвенный Новалис». В этом, вероятно, самом лаконичном во всей мировой литературе «предисловии», несмотря на его нарочитую несерьезность, метко схвачено наиболее существенное в натуре Полачека: абсолютная нетерпимость к романтической отвлеченности. Сопоставлять с ним Новалиса – мистического немецкого романтика конца XVIII века – можно было только в шутку. Повод для остроумных и часто многозначительных выводов Полачеку давали самые повседневные факты. Но тут нужна была редкая наблюдательность и умение найти непривычный угол зрения. Особенно тонко Полачек умел подметить связь между внешними чертами человеческого облика и поведения и их социально-психологической подоплекой. В своих «слоупках» он выступает и как талантливый пародист. С позиций принципиального сторонника реализма он высмеивает сентиментально-романтические идиллии, бульварные романы, формалистические литературные коктейли авангардистов. А книгу «Жизнь на экране» (1927) писатель целиком посвящает веселому и едкому «анализу» стандартных приемов массовой кинопродукции.
Другим излюбленным жанром Полачека был судебный фельетон, весьма распространенный в чешской журналистике 20–30-х годов. Под его пером «соудничка» (так судебный фельетон называется по-чешски) из сухого газетного отчета превращалась в сжатый до предела сатирический рассказ с продуманной композицией, оригинальным развитием сюжета и резко очерченными характерами. В художественном построении этих миниатюр можно обнаружить традиции разнообразных литературных форм – от новеллы с неожиданной концовкой до романа в письмах. Сами по себе жизненные ситуации. служившие материалом для маленьких комедий и трагедий, развязки которых неизменно разыгрывались в зале суда, были подчас банальны. Но умение выводить на сцену персонажей, обладающих несомненной социальной типичностью, помогало автору преодолеть ограниченность бытового анекдота. Листая «соуднички» Полачека, мы попадаем в паноптикум, где для всеобщего обозрения выставлена длинная вереница мещан и обывателей. Все эти брачные аферисты, жеманные перезрелые невесты, заботливые отцы семейств, разочарованные в своих надеждах наследники, увядшие розы общества и старые бонвиваны воистину обременяют землю. И преступники и пострадавшие одинаково скудоумны и ничтожны. Но за бесстрастной и стереотипной формулой приговора, заменяющей в каждом судебном фельетоне эпилог, мы слышим голос автора, в котором звучат нотки горького сарказма. Тесные рамки газетного столбца приучали Полачека быть скупым в обрисовке своих персонажей, и он обходился всего несколькими выразительными языковыми или портретными штрихами.
Газетные жанры были для писателя своего рода разведкой боем в его борьбе с пошлостью мещанства, преступно искажающей подлинно человеческое в человеке. Вот почему в рассказах, повестях, романах Полачека мы встречаемся с темами, персонажами и ситуациями, нередко уже знакомыми нам по его «слоупкам» и «соудничкам».
Творчество Полачека-новеллиста приходится в основном на 20-е годы: это «Рассказы пана Кочкодана» (1922), «Еврейские рассказы» (1926), сборник «Без места» (1928).
Отвечая на одну литературную анкету, Полачек шутливо заметил: «Если бы писатели были объединены в средневековый цех и мое мнение что-нибудь значило для собратьев по ремеслу, я бы предложил каждому молодому подмастерью в качестве экзамена на звание мастера написать рассказ». И далее привел следующие доводы в пользу своего «проекта»: «Рассказ – труднейшее искусство развернуться на пятачке… В рассказе персонажи должны быть абсолютно ясны и действие – тоже ясным, драматичным. Каждому автору рассказа следовало бы обладать юмором, потому что юмор прочищает зрение». Вряд ли можно считать общеобязательным и всеобъемлющим такое определение жанра. Но это очень точная автохарактеристика.
В ранних рассказах Полачека немалую роль играет комизм исключительного. Писатель часто прибегает к фантастике, гротеску, гиперболе. В основе сюжета обычно лежит сатирический парадокс (например, вор возвращает пострадавшему украденное пальто, так как считает зазорным для себя носить подобную хламиду). Во многих из них, по-гашевски гротескных и неожиданных, звучит и по-гашековски резкая издевка над бюрократами и стяжателями. А порой за смехом мы улавливаем и грустную иронию.
Впоследствии писатель уже значительно реже прибегает к гиперболе и гротеску. Он стремится увидеть и показать комическое в самой повседневности. По его мнению, «добротно сделанное» литературное произведение содержит долю юмора, так как в жизни всегда обнаруживается несоответствие между сущим и должным. Юмор рассказов Полачека – юмор самой жизни. Фабула лишь оттеняет комизм обыденных обстоятельств и характеров. Каждый раз мы как бы присутствуем при выхваченной из жизни сценке, становимся немыми участниками разговора на улице или в магазине. Юмор книг «Еврейские рассказы» и «Без места» (второе, дополненное издание этого сборника вышло в 1933 году под названием «Пан Селихар освободился») – юмор преимущественно психологический. И основным средством раскрытия алогичного, комического становится прямая речь или внутренний монолог. Часто происходит как бы саморазоблачение персонажа.
Юмор Полачека социален. Образ мысли и манера речи его героев обычно носят яркий отпечаток психологии собственничества. И эта психология враждебна писателю. Недаром Полачек писал, что подлинные носители и «потребители» юмора – бедняки и пролетарии, а у всякого начальника «лицо постное» и на нем никогда не увидишь улыбки. Впрочем абсолютно положительных персонажей в его новеллах нет. Пользуясь известными гоголевскими словами, можно сказать, что единственный положительный герой в них – это смех. Авторское отношение выражают сами оттенки смеха, то злого и беспощадного, то снисходительно сочувственного. А сочувствие писателя всегда на стороне унижаемого.
Нередко Полачека называют бытописателем чешского еврейства. Вместе со своим предшественником Войтехом Ракоусом (Альбертом Остеррайхером) он создал в чешской литературе, так сказать, шоломалейхемовскую традицию. В 1933 году он выпустил сборничек «Еврейские анекдоты», и в самой его писательской манере было что-то от грустной иронии еврейского фольклора. Но Полачек прекрасно понимал, что людей разделяют не столько национальные различия и религиозные верования, сколько общественное положение. Характерна концовка рассказа «Большой Фишман и маленький Фишман», раскрывающего глубочайшую общественную пропасть, которая может разделять двух родственников и единоверцев. Служащий городской больницы, допустивший помазание умершего в ней Фишмана-маленького, заявляет в свое оправдание богачу Фишману-большому: «Бедного еврей от бедного христианина не отличишь».2
В своем творчестве Полачек во многом опирался на опыт русской реалистической классики. Он писал: «Сейчас самое время для того, чтобы литература вернулась к реалистическому способу выражения; здесь уже не сжульничаешь; зерно отделится от плевел. Лакеи Тургенева и Гончарова, разные Захары и Егорушки, своим лакейским языком произнесли не одну мысль, которая века будет жить в памяти народов». На страницах фельетонов и дневниковых записей чешского сатирика мы находим имена Писемского, Достоевского, Льва Толстого, Куприна, Горького. В числе его прямых литературных учителей были Гоголь и Чехов.
Во второй половине 20-х и в 30-х годах Полачек от фельетона и рассказа переходит к повести, пьесе, роману.
«Юмор есть столкновение реального и нереального»; «… юмор не что иное, как вскрытие жизненной правды», – два этих высказывания писателя, относящихся к почти одному и тому же времени, казалось бы, противоречат друг другу. Но в них выражены две основные тенденции его творчества: с одной стороны, склонность к фантастике и гротеску, с другой – типизация комического в самой действительности. И в этом отражается двойственное существо комического как такового. Сама реальность в сопоставлении с идеалом сатирика выступает как нечто фантастическое, уродливо-смешное, неожиданно парадоксальное. Дело лишь в том, насколько эта сторона комического непосредственно проявляется в произведении. В повести Полачека «На пороге неведомого» и сказке для взрослых «Волшебная колбаса» (1925), в романе-пародии «Хедвика и Людвик» (1931),3 в сказочно-юмористической детской книге «Эдудант и Францимор» (1933)4 повседневность преображается в кривом зеркале карикатуры, фантастическое соседствует с реальным, а привычные представления и каноны выворачиваются наизнанку. Наряду с этим он пишет комедию «Наусники» (1926), повести «Девица легкого поведения и репортер» (1926), «Дом на городской окраине» (1928), «Судебный процесс» (1932), где герои и ситуации подчеркнуто обыденны. Часто же, как, например, в юмористических повестях «Игроки» (1931), «Люди в офсайде» (1931), в сценарии фильма «У нас в Коцоуркове» (1934), одно произведение сочетает в себе обе тенденции. Но постепенно в крупных произведениях Полачека, так же как и в его рассказах, усиливается реалистически-бытовая струя. Выражением его художественного кредо становятся слова: «… величайшая сенсация – это повседневная жизнь, и я считаю самой большой задачей писателя сделать ее актуальной и сенсационной».
Карел Чапек как-то заметил, что Полачек – это писательмонографист, каждая книга которого посвящена исследованию определенной сферы жизни, некоего «мира в себе». И действительно, уже одна из первых книг Полачека – сборник «Марьяж и другие занятия» представляла собой своеобразный опыт сатирической типологии, систематизированного описания различных категорий людей. Характерны названия отдельных очерков: «О сословии парикмахеров», «О сословии зубных врачей», «О сословии шахматистов» И так далее. «Игроки» – юмористическая монография о психологии и повадках заядлого картежника, а «Люди в офсайде» – проникнутый комизмом роман-трактат о «подклассе» футбольных болельщиков. Такая «научная» систематичность и методичность, свойственная творческой манере Полачека. была не случайна. Писатель считал художественную прозу чем-то очень близким науке. Но к какой бы жизненной сфере он ни обращался, под его исследовательским микроскопом в первую очередь оказывались микробы мещанства. Наличие этого социального заболевания он умел безошибочно угадывать по самым, казалось бы, незначительным внешним признакам.
В этом отношении очень характерна история создания сатирической повести «Дом на городской окраине». Однажды, бродя, как обычно, по городу в поисках материала для местной хроники, Полачек заметил на одном из домов надпись: «О сердце людское, не будь сердцем хищника!» Кто этот поэт-домовладелец, которого чувство собственника вдохновляет на лирику? – подумал писатель. В другом доме Полачек наше объявление: «Квартиранты должны сдавать котлы в образцово чистом виде». Вскоре он увидел и автора, «владычествовавшего над семьей, домашней птицей и квартирантами». В представлении сатирика именно такой человек с «сердцем хищника» мог украсить фасад своего дома лицемерно слащавой сентенцией. Заработала творческая фантазия, и возникла зловещая фигура старшего жандарма Яна Фактора, который, оказавшись собственником дома, установил для своих жильцов настоящий казарменный режим. Ян Фактор чуть ли не сживает со свету поселившегося у него робкого чиновника. «Дом на городской окраине» – еще одна юмористическая монография Карела Полачека. Взаимоотношения между частными домовладельцами и их жильцами получают здесь исчерпывающее освещение.
«Собственничество, – делает вывод Полачек, – срастается с человеческой индивидуальностью. И когда в доме живут чужие люди, у домовладельца такое ощущение, будто они живут в его внутренностях. Я все чаще прихожу к убеждению, что дома, населенные несколькими семьями, должны стать общественным достоянием». Многолетний опыт нашей страны показал, что и такой рецепт далеко не панацея от всех бед. Мы знаем, в какое запустение могут прийти дома, ставшие «общественным достоянием». Но нравственное предостережение, скрывающееся в повести Полачека, не утрачивает своей силы, а художественное обобщение, заключенное в образе Яна Фактора, выходит далеко за рамки взаимоотношений между домохозяевами и жильцами. Такие люди еще покажут себя в гораздо более крупных масштабах!
Комическое видение мира не покидает Полачека и в этой книге. Но пером его движут гнев и возмущение, писатель внутренне содрогается от сцен, которые сам нарисовал. Мария Пуйманова писала о «Доме на городской окраине»: «Эту юмористическую книгу нужно принимать серьезнее, чем добрых три четверти современной чешской литературной продукции». А сам Полачек, как вспоминают его друзья, порой удивлялся: «Что в моих книгах вызывает у людей смех? Ведь смеяться тут не над чем».
Но порой он прощал маленькому человеку родимые пятна мещанства. Видел в нем труженика, представителя социальных низов. И тогда едкая сатира уступала место добродушному юмору. Впрочем, добродушие это никак не проявляется в самой манере повествования. Полачек принадлежал к числу тех юмористов, которые при самом веселом повествовании сохраняют серьезную мину. Эта бесстрастность парадоксальным образом сближает его с другим знаменитым пражанином – Францем Кафкой. Чешский режиссер и критик Ян Гроссман убедительно доказал, что обстоятельное, почти протокольное и чрезвычайно конкретное описание, ровный, как бы безразличный тон повествования контрастируют у Кафки не только с трагическим, но и с комическим абсурдом. Гроссман приводит свидетельство Макса Брода о том, что, читая «Процесс», Кафка всегда смеялся. Его герои часто ведут себя совершенно несоответствующим ситуации образом. Алогизм тут граничит с анекдотичностью. А отстраненная, бесстрастная манера повествования заставляет нас необычное воспринимать как обыденное.
Подобным же образом мы воспринимаем и все, что происходит с героем юмористического романа Карела Полачека «Михелуп и мотоцикл» (1935).
«Писатель все должен брать из жизни. Но то, что он заметил вокруг себя, это лишь нераскрывшийся бутон мака. Надо осторожно развернуть его, додумать увиденное, призвав на помощь фантазию, чтобы этот бутон распустился во всей красе. Тогда выдумка становится правдивее, чем сама правда», – говорил Полачек. Из банальной истории, которая если не стала, то могла бы стать содержанием очередного судебного фельетона, писатель извлек комическую ситуацию, позволившую ему не только построить не банальный сюжет, но и ярко обрисовать черты распространенного социального типа.
По счастливому стечению обстоятельств скромный бухгалтер Михелуп выгодно покупает мотоцикл. Однако для героя Полачека это не покупка нужной вещи, а лишь удачная сделка, выгодное приобретение. Он вовсе не собирается ездить на мотоцикле. Но вскоре выясняется, что содержание мотоцикла сопряжено с большими материальными издержками; а для Михелупа любая трата – острый нож в сердце. Между тем на его голову обрушивается одно несчастье за другим: из-за мотоцикла его семья лишается возможности дешево провести часть лета у родственников; за использование мотоцикла, хоть он и стоит без употребления, нужно, оказывается, платить налог; из-за лишней уборки и тесноты в квартире уходит служанка; у Михелупа, расстроенного расходами, начинаются ссоры с женой; пытаясь избавиться от мотоцикла, несчастный бухгалтер становится жертвой мошенника. В конце концов, герою приходится искать для машины гараж, так как держать ее в квартире он больше не может, и шофера, потому что сам он управлять мотоциклом не умеет. Развязка носит трагикомический характер. На мотоцикл Михелупа налетает автомобиль богача, герой и его жена получают легкие ушибы, зато полученные супружеской парой отступные значительно превышают все понесенные убытки.
Михелуп вполне счастлив. Взамен мотоцикла он приобретает безобидный радиоприемник и, слушая речь Гитлера, самодовольно говорит: «Пан Гитлер! Бухгалтер Михелуп лишает вас слова!» Поворот рычажка – и Гитлер умолкает. Михелупу кажется, что его благополучию ничто не угрожает, политические события происходят где-то в другом мире и его не коснутся. Но читателю ясно, что именно такая позиция Михелупа и ему подобных способствовала трагедии Мюнхена, после которой многие из «маленьких людей» оказались в гитлеровских концлагерях.
Один из героев Полачека говорил: «Нравственно совершенные люди ценят лишь идеалы, но человека не видят. Для нас, грешников, человек ближе, чем идея». Вот почему идейной программой писателя было отсутствие всякой идейной программы. Не без влияния Карела Чапека он усвоил релятивистский взгляд на мир, что не мешало ему относиться к этому миру в высшей степени критически. Не идеализировал он и общественный климат в демократической Чехословацкой республике. «В этой стране, – писал Полачек не без горечи, – где слово «Отвага» является предметом повседневной необходимости и где хнычут, что нет юмористов, которые бичевали бы злоупотребления, Шоу явно пришлось бы срочно собрать свои монатки. Сатирически бичевать разрешено только злоупотребления прошлого, например, разгул иезуитской реакции в эпоху тьмы. В остальном разрешено сатирически бичевать только извозчичьих кобыл, тещ да забывчивых профессоров». Свое политическое кредо Полачек порой выражал весьма неожиданным образом. На какие социальные обобщения, казалось бы, может навести обыкновенный мужской жилет? Но вот что пишет о нем чешский юморист: «Назначение жилета заключается в том, чтобы составлять переход между визиткой и брюками. Из этого видно, что характер у него компромиссный. Жилетка не любит крайностей, отдавая предпочтение надежному среднему пути. Если бы жилет решил приобщиться к политической жизни, было бы мало правдоподобно, чтобы он руководствовался тезисами Третьего Интернационала или на худой конец заразился настроениями поднимающих головы фашистских молодчиков… я уверен, что он склоняется скорее к либеральному третьему пути… Ибо назначение честного и сознающего свои обязанности жилета – нежно обнимать купол брюшка, которое в стремительном течении событий нашего мира означает твердую точку, имея каковую Архимед сдвинул бы земной шар».
Угроза «коричневой чумы», нависшая над Европой в середине 30-х годов, заставила Полачека серьезно задуматься над большими политическими и социальными проблемами эпохи. Он примыкает к широкому антифашистскому фронту, который объединил в то время все прогрессивные силы чешской интеллигенции. В фельетоне «Сгинь!», в котором Полачек обрушил язвительную силу своего сарказма на немецких гитлеровцев, франкистских мятежников в Испании и их чешских апологетов, мы читаем: «Год 1936-й будет жить в нашей памяти, как Отец Лжи. Его властью Правда была однажды ночью схвачена, подвергнута пыткам в подземельях Коричневого Дома, заточена в концлагерь и, наконец, расстреляна при попытке к бегству. Правда была объявлена врагом человечества, хулой на честь нации и вообще историческим пережитком (…).
Когда-то давно нашими национальными цветами были красный и белый. Год 1936-й ввел иную моду: патриотическими цветами стали черный и коричневый. Черный – цвет фашистских рубашек и испанских мавров, коричневый – цвет Гитлера (…).
Год 1936-й посеял ложь. Какой урожай взрастет из этого посева? Готовьте противогазы!»
Наметившаяся в романе «Михелуп и мотоцикл» тема: «мещанство и фашизм» – получает развитие в сатирической эпопее о судьбах мелкой чешской буржуазии с кануна первой мировой войны до периода возникновения независимого чехословацкого государства. Почву, на которой в конечном счете вырос чешский фашизм, писатель видит в косной психологии провинциального мещанства. Причем психология эта, по мнению Полачека, вовсе не являлась специфической чертой глухого захолустья. Она отравляла общественную атмосферу всей довоенной Чехии, которая была тогда большой провинцией Австро-Венгрии. Полачек успел опубликовать лишь четыре тома из предполагавшейся пенталогии: «Провинциальный город» (1936), «Герои идут в бой» (1936); «Подземный город» (1937), «Распродано» (1939). Однако актуальная политическая направленность всего цикла вырисовывается в них достаточно четко. Своекорыстие и зависть, самодовольная заносчивость и трусливое раболепие, политическая беспринципность и пустое фразерство, злобный шовинизм и преклонение перед духом казармы – все это не только в прошлом. И не только в прошлом – угроза войны.
На страницах сатирической хроники Полачека война предстает в самом неприглядном обличье: «Сильные мира сего … сунули в руки «простого человека» оружие и приказали ему убивать себе подобных; если он убьет много неприятелей, будет назван героем; если он откажется убивать, поплатится собственной головой. Так ремесленники, чиновники, крестьяне и батраки вынуждены были присвоить себе славу героев, чтобы закон не преследовал их за трусость».
Между тем на Европу надвигалась новая война. После Мюнхенского сговора Чемберлена, Даладье, Гитлера и Муссолини Полачек с горечью цитировал избитую «утешительную» фразу европейской прессы: «Жертву идее мира должен принести народ малой страны», а к традиционным для чешской печати выражениям и эпитетам, когда она писала о «союзниках»: «гордый Альбион», «братская Франция» – язвительно добавляет: «… в прошлом». Вместе с тем он ни на минуту не сомневался в конечной победе народов над фашизмом, понимая, что поступательное движение истории осуществляется не прямолинейно.
После гитлеровской оккупации писатель не покинул Чехословакию. 1 сентября 1939 года он сказал одному из своих знакомых: «Война с Польшей! Это хорошо. Путь закрыт. Уже не надо бежать».
Полачек всегда считал себя чехом. Гитлеровцы напомнили ему, что он не ариец, заставили носить на одежде желтую звезду. И при встрече с друзьями он говорил, что Карела Полачека больше не существует. Ведь фашисты запретили ему печататься, вычеркнули его имя из литературы. И все же Полачек продолжал писать.
В 1941 году вышел юмористический роман Полачека «Гостиница «У каменного стола». Фиктивным автором, несмотря на связанный с этим риск, согласился стать художник и юморист Властимил Рада. Смех, звучавший в этой книге, воспринимался как вызов гнетущей атмосфере тех лет. Рукопись пятого тома своей антивоенной эпопеи Полачек отдал на хранение нескольким знакомым. Только у одного из них сохранилось ее начало. Зато в тайном издательском сейфе дождалась освобождения рукопись юмористической повести «Нас было пятеро» (впервые она была издана в 1946 году).5 Трагической действительности писатель противопоставил светлый и чистый мир ребенка. Во многом это воспоминания о его собственном детстве. На первый взгляд «Нас было пятеро» – книга безоблачная, как младенческая улыбка. Она как бы доказывает, что в радужной призме детского восприятия даже серая повседневность способна заиграть солнечными красками веселой фантазии и поэтичности. Но в этом же наивном и непосредственном ребячьем восприятии особенно ярко выступает всякая фальшь и несправедливость. Противоречие между естественными человеческими побуждениями, раскрывающимися в мыслях и поведении маленьких героев, и теми сословными и социальными рамками, в которые заключена жизнь взрослых, составляет внутренний серьезный подтекст внешне непритязательного произведения.
В повести «Нас было пятеро» обнаружились некоторые новые черты таланта Полачека. Обычно писателя интересовал не внутренний мир персонажа, а психология «социального слоя». Общее нередко заслоняло индивидуальное. Сатирическая маска мешала разглядеть за ней человека. На страницах повести «Нас было пятеро» мы тоже встречаем такие образы-маски. Однако большинство персонажей раскрываются в своей духовной неповторимости, ибо подлинная человечность всегда глубоко индивидуальна.
Полачек виртуозно владел всеми оттенками мещанского говора, различными социальными и профессиональными жаргонами, особенностями делового и газетного стиля. Речевой трафарет воспринимался им как свидетельство автоматизации мышления. Он сознательно боролся против пустозвонного фразерства, видя в нем проявление «моральной инфляции». Вот почему со страстью подлинного коллекционера собирал Полачек всякого рода языковые штампы («Журналистский словарь», «Словарь для критиков»). Стилистический шаблон становится для него любимым оружием пародиста. Комического эффекта писатель часто добивался, сталкивая разнородные стилевые пласты. В повести «Нас было пятеро» Полачек с большим тактом и чувством меры смешивает на языковой палитре школьный жаргон и местный диалект, просторечие и архаично-книжный стиль. Но здесь разговорные и литературные клише погружены в стихию живой народной речи.
«Я усердно пишу, – читаем мы в одном из писем Полачека периода оккупации, – и, кроме того, хожу по лесам и резко дискутирую с самим собой. Я понял, что лучше всего думается, когда мысленно выберешь себе оппонента и затем споришь с ним. А сейчас, право, есть о чем поразмыслить, уже давно эпоха не была так щедра на события и факты».
Последней рукописью Полачека был дневник 1943 года, который он вел в пражском гетто.6 Даже здесь он не перестает быть художником, набрасывая мимолетные портретные зарисовки, сюжеты будущих рассказов. Даже здесь он находит в себе силы для шутки… Повсюду закрываются магазины. Писатель замечает: «Вероятно, было сказано: нечего симулировать экономический расцвет…» Весна. По мостовой прыгает воробей. В дневнике – запись: «Он клюет и все время косится по сторонам, не свалится ли откуда-нибудь наказание за то, что он жив да еще вот кормится. Воробей чувствует себя на нелегальном положении». Полицейский заговорил с Полачеком на провинциальном наречии: «Поличейский и диалект? У чиновной машины собственный язык: бюрократический. Представьте себе приговор Верховного уда, написанный на ганацком диалекте». А вот еще одна запись: «Я всегда ношу с собой семена. Куда ни приду, бросаю их в землю. Я верю в чудеса. Никто не знает, что может вырасти из семени.»
3 июля 1943 года Поалчек под номером Де 541 был включен в эшелон, направлявшийся в еврейское гетто в городе Терезине. Известны темы «лекций», с которыми он выступал там: «Судебные свидетели и другие», «Из воспоминаний», «Психологические размышления о нетерпимости». Когда Полачеку грозила отправка в концлагерь, он, по свидетельству чешского драматурга Эдмонда Конрада, отказался воспользоваться представившейся возможностью спасения, потому что «не хотел … оставить ту, которая стала ему близкой. Он, с трезвостью реалиста любивший высмеивать «лирику», пошел на смерть из самых лирических побуждений». 19 октября 1944 года писатель был вычеркнут из списков узников Освенцима. Умер он в конце января – начале февраля 1945 года в концлагере Дора в Германии.
Но Полачек причислял себя к «патриотам жизни». Один из его героев говорит: «Жизнь – правда, смерть – ложь. Жизнь победит, даже если мы этого и не дождемся…» Смех Карела Полачека служил и продолжает служить победе жизни. Из семян, которые он посеял, вырастают улыбки.
Олег Малевич
Дом на городской окраине
Глава первая
На окраине Праги есть район, расположенный меж двух холмов. На вершине одного из них стоит современное здание больницы, а у подножия ютятся неприглядные лачуги, смахивающие на ласточкины гнезда под кровлей деревенского дома. Одинокое дерево – скрюченная груша с растопыренными во все стороны сучьями. Старость пригнула ее к земле, однако весной груша покрывается пышным цветом в знак того, что еще не намерена заканчиать свои дни.
Другой холм оголен. Не так давно здесь волновались колосья хлебов. Но сейчас земля отдыхает, давая жизнь лишь желтой дикой редьке, да высокому лисохвосту, жухнущему на солнцепеке. На макушке холма раскинулось заброшенное еврейское кладбище. За ним присматривают старая женщина, полуслепая собака, да несколько куриц. Надгробия врастают в землю, время стерло с них еврейские письмена, а мертвецов укрыл плющ.
По ложбине тянется белесая дорога. Громыхающие грузовики оставляют за собой облака пыли. У обочины часовенка с образком богородицы, свидетельствующая о том, что когда-то это была сельская местность, которая ныне, разделенная на участки строительным ведомством, именуется парцеллами. И еще кто-то совсем недавно украсил Деву Марию веночком – красными и синими розами из шелковистой бумаги.
По косогорам карабкаются пятнистые козы, ощипывая колючие побеги боярышника. От шеста к шесту тянутcя веревки с развешанным на них разноцветным бельем. Ветер вздувает голубые кальсоны и треплет женские лифы.
Сельская местность здесь смыкается с городом. На границе между ними и стоит часовенка, тут же – огороженное футбольное поле. Улица Гаранта относится к городу. Уже само название (гарант в переводе на русский означает «сорванец», «безобразник». Прим. пер.) говорит о том, что эта улица сплошь покрыта пылью и копотью. Ритмично пыхает фабрика металлоизделий: – эх-пф-рр-а!
На улице Гаранта жил полицейский, звали его Ян Фактор. Он обитал в доме желтовато-грязного цвета, невзрачном, как и весь квартал, несколько десятилетий тому назад выстроенный фабрикой для своих рабочих. В этих домах было множество кладовок, открытых галерей и голопузой ребятни. Из дворов несло острыми подливами и затхлым тряпьем.
Полицейский был высокий мужчина с широкими плечами, на которых сидела круглая, точно глобус, голова. В этой своей голове он вынашивал грандиозный замысел, который держал в строжайшем секрете, знала о нем лишь жена. Она относилась к разряду женщин, к которым обычно обращаются: «Тетка!».У нее были тонкие, плотно сжатые губы, а когда она их разжимала, то приоткрывались бледные, отекшие десны, какие бывают у прислуги, сидящей на хлебе и воде. Лядащая и юркая, она походила на вспугнутое насекомое, мечущееся в поисках спасительной щели. Полицейский прижил с нею двоих детей – придурковатого мальчонку, который вечно сидел на пороге, пялясь на улицу голубыми глазами, и девчушку, тоненькую, как оса, и такую же юркую, как мать; девочке исполнилось двенадцать.
По ночам полицейский патрулировал улицу, его каска блестела в свете единственного уличного фонаря. Он хватал пьяных за шиворот и тряс до тех пор, пока не вытряхивал из их тел строптивость. На воров он надевал наручники и тащил в участок, где пинком отправлял в карцер.
В остальное время, вымеряя темную улицу саженными шагами, он думал о своей тайне, и ход его мыслей был таков: «корчить из себя господина, когда у тебя есть деньги, – дело нехитрое. Я бы тоже мог корчить из себя господина, но разве в этом дело? Ведь ежели так посмотреть, что я видел в жизни хорошего? Положа руку на сердце – ничего. Ну да что говорить. Жить надо умеючи, иначе далеко не уедешь. Э, я еще покажу, на что я способен».
Днем он сидел в маленькой кухне, шил с женой галстуки и подтяжки, которые потом разносил по конторам и частным домам. В конце недели жена отправлялась в сберкассу, чтобы положить на книжку сэкономленные деньги. Иным доставляет удовольствие сорить деньгами.Но полицейский с женой экономили их изо всех сил; сколоченный ими крохотный капиталец побуждал супругов ко все более ревностному накопительству. И маленькая, пропитанная затхлыми запахами кухонька полнилась радужными мечтами.
Глава вторая
И вот однажды в жаркий воскресный день в этих местах появился чиновник Сыровы с женой. Чиновник был в дурном расположении духа, поскольку жена подняла его на ноги, не дав как следует вздремнуть после обеда. Он не мог удержаться от сетований, сокрушаясь, что ему приходится лезть в гору. Супруга на это сказала: – Я для того веду тебя на пригорок, чтобы ты лучше рассмотрел место, где будет стоять дом. – В ответ чиновник не проронил ни слова, хотя эта вылазка стояла ему поперек горла, пересохшего от жажды.
Голубое небо простиралось над ними. А внизу виднелся ряд двухэтажных домиков. В каждом втором доме была мелочная лавка, в каждом третьем – пивная. Выкрашенные в зеленый цвет двери лавок были наглухо закрыты, зато из пивных доносились возгласы гуляк, стук биллиардных шаров; слышалось также, как стучат костяшками пальцев о стол картежники.
Вдали Прага, подернутая сизой дымкой. У подножия холма расположились группками семейства фабричных. Мужчины разулись. Верещат голопузые ребятишки. И надо всем, словно телячьи мозги в витрине мясной лавки, подрагивает раскаленный воздух.
– Глянь, – произнесла жена, указывая на груду строительного материала, – вон внизу, где кирпич, там будут строить. – И она испытующе посмотрела чиновнику в глаза.
Но чиновник только вздохнул, поскольку им овладело тоскливое чувство. Он принадлежал к людям, которые с трудом переносят незнакомое окружение. Он сказал: – Но ведь я никогда не жил в здешних местах. Никогда не слышал, чтобы кто-либо из моих знакомых жил в этой округе. Нет, переезжать сюда я не согласен. Мне кажется, что отсюда я уже никогда не выберусь обратно в город. И почему, собственно, – вздохнул он, – мы должны переезжать? Лучше остаться там, где мы сейчас. Я не сторонник перемен.
На что супруга ответила: – Да ради Бога. Нас никто переезжать не заставляет. Но ведь ты сам этого хотел. Если б не ты, я и не подумала бы утруждать себя поисками квартиры…
– Но ведь я хочу переехать, – прервал ее чиновник, – я мечтаю, чтобы мы, наконец, зажили самостоятельно… Но почему именно сюда? Место глухое и люди абсолютно незнакомые…
– При чем тут люди? – возразила супруга. – Что тебе до них? Впрочем, вовсе не обязательно поселяться именно здесь. Найди теперь ты что-нибудь более подходящее.
Затем пани Сырова принялась описывать те треволнения, которые ей пришлось пережить в поисках квартиры. ее щеки пылали от негодования при воспоминании о том, как в строительном бюро с нее требовали указать приданое, называя его долевым участием в строительстве. Пани Сырова вела бесконечные тяжбы с этими господами, одержимыми одной, весьма нехитрой идеей – построить дом за чужой счет. Она вознегодовала на мужа, который, пока она вела неустанную борьбу с чиновниками, посягавшими на ее скромное состояние, отсиживался дома и, витая в облаках, решал шахматные задачи.
– Другие мужья, – заключила она, – не заставляют своих жен бегать по квартирным бюро, а занимаются всем этим сами.
Услыхав такие слова, чиновник огорчился. «Как странно, подумал он, – что приобретение квартиры сопряжено со столькими трудностями. Я вижу много домов, в которых живут люди; знаю массу людей, которые живут в собственных квартирах, просторных и удобных. И только мне суждено устраивать свои житейские дела, преодолевая невероятные препятствия.» Вслух он произнес: – В общем-то я ничего не имею против твоего плана. Только все здесь мне кажется странным. Народ бедный. На траве валяются какие-то мужики, разутые… Головы у женщин повязаны синельными платками. Все галдят. А в пивных полно пьяных. Еще привяжутся к нам…
– Ерунда, – энергично произнесла жена. – Никто к тебе не привяжется. Для хулиганов существуют тюрьмы. А встретишь пьяного – посторонишься. Пускай себе идет своей дорогой.
– Тут и словом-то не с кем будет перемолвиться. Мы здесь окажемся в таком же одиночестве, как первые золотоискатели в Аризоне. А ведь с кем-то общаться надо. К тому же сообщение здесь плохое. Здоровье-то у меня неважнецкое. Случись что, врача не дождешься. Я состою на государственной службе, и мне подобает жить в Праге на Виноградах…
– Ну, что ж, – саркастически ответствовала жена, – найди квартиру на Виноградах. Я тоже не прочь жить на Виноградах.
В ответ чиновник не произнес ни слова, а его помятое, веснушчатое лицо приняло испуганное выражение и стало смахивать на птичье. Он молча поплелся за своей половиной, которая, храня угрюмое молчание, шагала вниз с холма.
Когда они уже достигли первого ряда домишек, их внимание привлекла такая сцена. Какой-то человек с желтушным скуластым лицом пытался схватить за волосы долговязую бабищу в голубой кофте; все лицо у нее было в ссадинах. Желторожий был пьян и никак не мог дотянуться до ее стянутых в узел волос. С истошными воплями женщина укрылась в доме. Пьяный, широко расставив ноги, чтобы не упасть, ревел: – Я тебя, падла, все равно пришибу, даже если меня за это посадят. Ты, кикимора, от меня не улизнешь. Все равно я с тобой разделаюсь. Сегодня же. Жить тебе осталось всего ничего. Решено и – баста. Хоть на коленях передо мной валяйся, я решил и – кончено. Пусть все знают, какой я.
Раскрываются окна, высовываются взлохмаченные головы, люди с удовольствием наблюдают за уличной сценой. Пьяный, из-под рук которого ускользнул узел волос, набрасывается на женщин, поспешивших к месту сражения, чтобы обрушить на голову пьянчуги свою хулу. Видя вокруг себя столько женщин, пьяный норовит вцепиться какой-нибудь из них в волосы. Он одержим желанием волочить женщину за волосы по земле, чтобы вконец не осрамиться. Но женщины полны воинственного пыла. С пронзительными криками, смахивающими на карканье рассерженных ворон, они окружают пьяного. Он валится наземь, поскольку его подкашивающиеся ноги приняли сторону врага. Но тут же поднимается с перепачканным грязью лицом, чтобы плюхнуться снова, бормоча угрозы разнести все вокруг.
Заслышав пронзительный боевой клич, местный сапожник встал, отложил в сторону копыл, и грудь его преисполнилась отвагой, ибо вспомнил он свою молодость, изобиловавшую драками и побоищами. Свесив руки, с деланным безразличием завзятых драчунов, которые из особойо рисовки изображают расслабленность, неторопливо, вразвалочку, сапожник подходит к дебоширу. Миролюбиво обращается к пьяному с благим советом не дурить и отправиться дрыхнуть. Сапожник прекрасно понимает, что нынче небо ниспослало ему шанс отвесить пару хороших оплеух. Он может поучать пьяного, не опасаясь, что тот последует его советам.
И сапожник, отирая ладони о кожаный фартук, продолжает урезонивать: – Слышь, Густа, говорю тебе, не бузи, ступай проспись. По-хорошему тебе говорю.
Но пьяный упрямо стоит на своем, мол, во что бы то ни стало он должен вырвать у бабы клок волос. Однако судьбе было угодно, чтобы обьектом его поползновений стал сам сапожник. И вот тут-то сапожник понял, что час его пробил, и он отвесил бузотеру по нескольку оплеух справа и слева. Измордованный скандалист ретируется за дверь, оповещая всех о том, что в долгу не останется.
Обувщик отер руки о зад и с удовлетворением произнес: – Что, получил, дубина стоеросовая? А если тебе этого мало, могу добавить.
Женщины продолжают выкрикивать: – Еще бы он не лупил Ружену, которая доводится ему лишь племянницей, ведь он и жену и детей лупит… – В окне второго этажа появляется голова пьянчуги, он орет: – Обо мне вся Прага будет говорить!
Стычка, происшедшая на глазах у супругов Сыровых, утвердила чиновника в мысли о том, что в этом районе миролюбивым людям жить небезопасно. Он был перепуган до смерти, но к его страхам примешивалось ощущение торжества по поводу своей правоты.
– Вот так-то… – со вздохом вымолвил он, горько усмехаясь, – меня хотят отдать в руки убийц. Я должен поселиться в местах, где на каждом углу тебя подстерегает коварный враг. Нет уж, увольте. Я не солдат, чтобы с оружием в руках усмирять эту варварскую округу, и не миссионер, чтобы силой слова насаждать здесь благочестивые нравы. Я чиновник, экзекутор, и хочу умереть спокойно.
– Ну, пожалуйста, – раздраженно отозвалась супруга, поскольку вся эта заварушка поставила под сомнение ее правоту. – Я вовсе не настаиваю, чтобы мы переезжали именно сюда. Ты мужчина, ты и хлопочи. С меня хватит. Найди квартиру там, где нет пьяных, и дело с концом. А то пальцем о палец не ударит, одни только попреки…
Чиновник почувствовал, как в нем закипает злоба. Он снял котелок и отер лоб платком. Супругам пришлось сойти с тротуара, поскольку навстречу им двигалось несколько мужчин, одетых в черное. Двое из них несли венок с красно-белой лентой, плечи следовавшего за ними господина охватывала перевязь с надписью: «Просветительское общество книголюбов».
«Скорее отсюда», подумал чиновник. «Теперь вот идут на похороны… Наверняка эти пропойцы кого-то прикончили. Полицейского тут днем с огнем не сыщешь. О порядке вообще никто не заботится. И я изволь здесь жить? Нет уж, голубушка, я себя в обиду не дам. Не такой я простофиля, как ты считаешь.
Глава третья
Вернувшись домой, они застали тестя, сидящим в кухне на кровати прислуги; на ногах у него были домашние войлочные туфли в черно-белую клеточку. Он попыхивал трубкой и предавался раздумьям. Кухню заволакивали сумерки. По углам густела тьма. Над Прагой лился перезвон колоколов, и тесть, округлив губы, словно рождественский карп, выпускал сизые клубочки дыма.
Сумерки обладают свойством будить в человеке мысли о прошлом. Тесть вспоминал о том, как он работал весовщиком на сахарном заводе. Морозное утро, снег в искрящихся звездах. По окну стучат кулаком, раздается голос: «Пан весовщик, пора вставать!» Хочешь – не хочешь, приходилось вставать. Ну и крепкие же были морозы во времена его молодости! Просто ужас… А сейчас сидит он тут, измученный ревматизмом. «Ох-хо-хо! Долго ли еще этак протянешь!» Старик скорбно качает головой. «Поставят ли мне мои молодые приличный памятник? Хорошо, если б он был украшен фотографией на фарфоре».
При виде зятя ему захотелось пожаловаться на то, что нынешней ночью у него опять сдавливало грудь.
– Есть такие капли, – начал он, – которые хорошо помогают при сердцебиении. Да вот не знаю, как они называются… Индржих, будьте добры, справьтесь в канцелярии…
Он вознамерился было завести разговор о странном привкусе во рту. Но зять не стал его слушать и прошел в свою комнату.
А в комнате теща клюет носом над газетами. Она сидит в кресле, обложенная подушками; на ее вздернутом носу-сучке пенсне на тесемке. Звуки шагов разбудили ее. – Господи, как я испугалась, – произнесла теща, увидев молодых, – мне как раз приснилось, что ушло молоко… – Вздыхая, она с трудом встает; ее бесформенное тело – что купол, удерживаемый похожими на глиняные жбаны ногами.
Чиновник лежит на диване и думает о своей жизни. «Незавидная же у меня судьба, – сокрушается он, – и никакой надежды на перемены». По углам валяются скомканные бумажки. Под ногами хрустит скорлупа. Стулья увешаны юбками и фартуками. И вечно дует.
– Ох! Хоть на коленях вас умоляй, вы все равно не будете закрывать двери…
Жена вошла в комнату и по обыкновению принялась переносить веши с места на место.
– Ты что делаешь? – неприязненно спросил чиновник.
– Убираю, – ответила жена.
– Без конца убирает. Всю жизнь занимается тем, что убирает. Покою нет. У меня болит голова, а ей хоть бы что…
Следя ненавидящим взглядом за мокрой тряпкой, чиновник пришел к выводу, что жена – его личный враг. «Все меня притесняют, – угрюмо думал он, – а она больше всех. Вон, из какого материала отдала мне пошить костюм!»
Действительно, жена купила ему на костюм материю такого странного цвета, что, когда чиновник явился в новом костюме в присутствие, то привлек к себе всеобщее внимание. Один коллега приподнялся со своего места и озадаченно прищурился.
– Не знаю, что и сказать, – задумчиво произнес он.
– Как это вас угораздило выбрать такой материал? – спросил канцелярский посыльный. – Удивительно! Я бы сказал, что этот костюм пестрит как «волчье лыко».
Чиновника обступил весь персонал отделения. Сослуживцы принялись вертеть его во все стороны.
– А, знаю, – сказал один из старших чиновников. – Вы мне напоминаете форель. Спинка у нее тоже в таких вот крапинках. Диковинная расцветка. Не затеряетесь!
Последнее чиновника напугало. Больше всего на свете он боялся оказаться в центре внимания. Ему вдруг почудилось, будто в помещении слишком много света, и он сгорбился над письменным столом.
В тот день он пришел домой рассерженный и заявил, что обедать не будет.
– Не обедай, – отозвалась жена сухо, поскольку догадывалась, в чем дело. – Но материал этот дешевый и прочный. Мало ли кому что не нравится. Кому какое дело.
Чиновник покорился и молча съел суп.
В комнате зажгли свет и стали готовиться к ужину. Комната была огромна, точно графский манеж. Архитектор, некогда строивший этот дом, принадлежал к тому типу людей, которые не любят ломать голову над чем-либо. Изобразил четырехугольник – и вот вам комната. Когда же он начал вычерчивать соседние помещения, то обнаружил, что нехватает места, и присовокупил эркер. Архитектор был похож на швею-неумеху, которая не знает, как приняться за раскройку материала. Рукава оказались слишком широкими, и она закладывает складки, зато в другом месте материала нехватает. Комната эта разрослась за счет других помещений; остальным пришлось поужаться.
В центре потолка было звездообразное пятно, образовавшееся из-за непогоды и прохудившейся крыши. Однажды ненастным вечером вода просочилась внутрь. В эту звезду вперял свой взор тесть, когда по вечерам курил трубку. На эту звезду посматривала теща, раздумывая над тем, что она будет готовить завтра.
Тесть уныло дымил, и на его впалых висках вздувались жилы, как это случается у лошадей, когда они мотают головой с подвязанной торбой овса. Он как раз собирался что-то произнести, когда в прихожей раздался звонок. Пришла соседка за ключом от чердака. Но оказалось, что ключ всего лишь предлог. Женщина пришла сообщить, что рано утром нагрянул инспектор тайной полиции и накрыл воровскую шайку, устроившую логово в их доме. Преступники шастали по деревням и обворовывали лавки.
– Надо же, – изумилась теща. – А мы и знать ничего не знали!
Чиновник почувствовал, как у него обмерло сердце.
«Воры! – думал он, ошеломленный, – но ведь это кошмар. Я оказался в логове грабителей! – стон вырвался из его груди – Я был на волоске от гибели!»
Завязалась оживленная беседа о негодных людях. Тесть внес в разговор свою лепту, изложив теорию о том, что всего безопаснее жить именно в доме, где поселились воры. – Мы, – сказал он, – можем спать спокойно, поскольку воры нас стерегут.
– Что верно, то верно, – согласилась соседка, – но как подумаешь об этом…
Тесть сказал, мол, он уже давно чуял что-то неладное.
И пояснил: – Я замечал, как эти молодчики, что живут в каморке по соседству с нами, приносят домой к ужину свертки с эментальским сыром, сардины, угорский сервелат. И каждый раз это предвещало появление в доме криминальной полиции. Это уже третий случай. Воры всегда, когда им удается обтяпать какое-либо дельце, едят деликатесы. – Соседка ушла, довольная тем, что ей удалось сообщить столь интересную новость.
Тесть задумался и хотел было изложить некоторые мысли о недостаточной безопасности и о безобразиях, творящихся в доме. Он намеревался пуститься в рассуждения о том, что двери следует хорошенько запирать и ни одного чужака, появившегося на лестнице, не оставлять без должного внимания. Но зятю опротивела его физиономия, вся в складках, точно гармошка. Он презирал его нафабренные усы, торчащие словно щетина над заскорузлыми губами. Но больше всего зятя выводила из себя его круглая голова с низким лбом, за которым гнездились властность, упрямство и вспыльчивость. Чтобы избежать разговора, зять наскоро доел ужин и удалился в свою комнату. За ним тут же последовала его супруга.
Ей он сказал: – Будь, что будет, но я не собираюсь провести остаток жизни под звездой на потолке. Я не желаю выслушивать сетования тещи на дороговизну продуктов. Я не желаю быть жертвой разглагольствований тестя. Мне тоже хочется жить. Почему я все время должен смотреть на нижние юбки, развешанные по стульям, на банки с домашними компотами, красующиеся на шкафах наподобие крепостных зубцов? Неужели меня вечно должен преследовать горшок с салом, для которого не нашлось другого места, кроме как на рояле, рядом с майоликовой вазой, где тесть держит трубочный табак? И почему я должен смотреть на то, как дверь сама собой открывается, будто через нее проходят души давно почивших тестей, которые не обрели загробного покоя, поскольку в этой жизни не успели сполна изложить свои взгляды касательно воров?
– Да уж, эти воры, – подхватила супруга, решившая ковать железо, пока горячо. – А еще называется город! Хорошо же здесь пекутся о безопасности граждан! Разве порядочные люди могут жить в доме, где свила гнездо воровская шайка? Я хочу жить в собственной квартире. Я хочу, чтобы моя кухня сверкала белизной. У меня сердце кровью обливается, когда я вижу, как неаккуратно обращаются здесь с посудой. Но как быть? Переезжать ты отказался, потому что опасаешься соседей – скандалистов.
– Думаю, ты меня не так поняла, – отозвался чиновник. —Просто я выразил неудовольствие по поводу того, что люди напиваются. Я утверждаю: среди простолюдинов процветает пьянство и дебоширство, хотя в целом народ наш нрава кроткого и открытого. Я мечтаю вырваться из этого воровского логова. Я хочу переехать в тот район и надеюсь, ты не станешь противиться моему желанию.
– Я всегда делаю так, как ты хочешь, – сказала супруга. – Раз ты решил, что нам следует переехать, так и будет. Только потом меня не упрекай. Я пригласила нашего будущего хозяина посетить нас, поскольку необходимо заключить контракт о найме.
– Пусть приходит. Я приму его как полагается.
Глава четвертая
И вот однажды в прихожей раздался звонок, и на пороге появился человек в полицейской форме. Его сопровождала высокая костлявая женщина с гладко зачесанными волосами, стянутыми узлом в форме восьмерки. Полицейский осведомился, дома ли пан Сыровы?
– Ох, господи, – перепугалась теща, – а зачем он вам?
– У меня к нему дело.
– Тогда проходите. Он дома. – сказала теща, которую вид полицейского в форме привел в смятение. – Индржих, – крикнула она в комнату. – К вам пришли.
– Сержант полиции Фактор, а это моя супруга, – отрекомендовался пришедший.
– Вот как! – воскликнул чиновник, потирая руки. – Мария, поди сюда, к нам гости.
Плечистый сержант ухватил чиновника за руку и принялся трясти его, точно грушу. Невозможно себе представить более непохожих людей, чем эти двое. Чмновник стоял рядом с полицейским, словно воробей рядом с голубем-ватютенем, старательно выпячивая свою цыплячью грудь.
Вошла супруга, и полицейский зычно произнес «целую руку». Вслед за ним пропищала «целую руку» костлявая женщина. Полицейский уселся на предложенный ему стул, а его жена – в кресло, сложившись при этом, точно складной метр.
Дверь, угадав, что теще будет весьма любопытно знать, о чем пойдет речь, распахнулась настежь.
Обнаружилось, что полицейский – человек чрезвычайно разговорчивый и любит выражаться изысканно.
– Да, – начал он, – стало быть, так, ежели мы, так сказать, договоримся, я буду вашим хозяином, а вы моими жильцами.
– Совершенно верно, – подтвердил чиновник.
– Я, – продолжал полицейский, – человек открытый. Я не люблю ходить вокруг да около и толочь воду в ступе. Мое единственное желание – ладить с людьми. Можете спросить обо мне кого угодно, каждый вам скажет: сержант Фактор – человек, который занят своим и не сует носа в чужие дела. Всю свою жизнь я работал вот этими руками, – он продемонстрировал свои волосатые руки, – и экономил, как мог. Теперь я приобрел у города земельный участок, на котором построю собственный дом. Должен вам сказать, что и в свободное от дежурства время я не сижу без дела, шью вместе с женой галстуки, которые мы потом продаем вразнос. Я не теряю попусту ни минуты, потому как хочу кое-чего в жизни достичь.
– Это правильно, – произнес чиновник.
– Поверьте, мне пришлось изрядно побегать и поломать голову. Ну, сейчас дело, можно сказать, на мази; я все уже хорошенько обдумал. Мне остается только одно: приискать приличных жильцов.
Чиновник приосанился.
– Знаете, я вам скажу без обиняков. Рядом со мной будет строиться некий Мецль, портной. Так вот он похвалялся, что у него будет жить магистр. Я подумал: нехватало еще, чтобы этот портняжка задирал передо мной нос! Я хочу ответить ему так: а у меня будет квартировать чиновник департамента юстиции. На-кось, выкуси!
– А мне бы хотелось, – пропищала жена полицейского, – чтобы на нашем доме была сделана надпиь: «Построено собственным горбом». И она умолкла, поджав тонкие губы, отчего они стали походить на тире.
– Ты помолчи! – осадил ее полицейский. – Надпись будет, но другая. Об этом я тоже позаботился. Я ничего не упускаю из виду.
– А как насчет… – робко заикнулся чиновник, – насчет э-э…каковы условия? – пану Сырову было как-то неловко затрагивать материальную сторону дела, ибо полицейский проявил столько чувства и бескорыстного восхищения.
– Условия? – вскричал полицейский, чуть улыбаясь, – какие могут быть условия? О, пан Сыровы, вы меня не знаете. Я такой человек… Одним словом! Я вот смотрю на вас и вижу, что мы с вами никогда не повздорим. Я со всеми по-хорошему, кто не желает мне зла. Об условиях не извольте беспокоиться. Пойдем к адвокату, составим договор и внесем в него все, что ни пожелаете. Я елико возможно пойду вам навстречу.
Они отправились к адвокату, который жил на той же улице через несколько домов. Это был однокашник чиновника. Совсем недавно он открыл собственную юридическую контору. Адвокат вознамерился воспользоваться случаем, чтобы покрасоваться перед бывшим однокурсником. Он хотел в манере старых адвокатов, ни слова не говоря, жестом пригласить стороны сесть в типично присутственные кресла с потертой, но не утратившей своего благородства старинной обивкой. Хотел выслушать клиентов, чуть сдвинув брови, выказывая некоторое нетерпение и поигрывая брелоком на цепочке своих карманных часов. Он помышлял откинуться на спинку кресла, усталым жестом сомкнуть растопыренные пальцы рук и затем сухо, бесстрастно, как то подобает служителю Фемиды, приступить к изложению законов.
Однако вопреки этим намерениям он смешался, стал кривляться и некстати похихикивать. Спохватившись, он одернул себя: «Что ж это я? Ведь мне надо было передать им через барышню, что, мол, пан доктор просит немного обождать. Я нарушаю церемониал.» Он раздумывал над тем, как бы ему восстановить свое реноме и с места в карьер принялся излагать параграфы гражданского кодекса, начиная с 1091 и кончая 1121. Он заявил, что параграф 1096 гласит:»Квартиросъемщик обязан безоговорочно выполнять условия договора о найме». Между тем, в параграфе 1098 говорится, что «квартиросъемщик и арендатор имеют право по взаимному согласию пользоваться объектами найма, а также в свою очередь сдавать площадь при услолвии, что это не нанесет ущерба домовладельцу и впрямую не запрещено договором …»
Чиновник слушал все эти пояснения с затаенной тоской и устало думал: «И чего он распространяется? Толкует о параграфах! Напрасно он так важничает! Зачем он отрастил бакенбарды и к чему эти кожаные гамаши? Угораздило же нас сунуться именно сюда!»
Слово взял полицейский: – Э, пан доктор…Параграфов много, но не в них дело. Мы с паном Сыровым договоримся, и надеюсь, таскать друг друга по судам не будем, останемся друг с другом в ладу. – И он положил свою лапищу на плечо чиновнику.
– Я лишь хотел, – сухо откашлявшись, ответствовал пан с бакенбардами, – указать вам, как это положено, на требования, предъявляемые законом по найму квартир. Теперь мы можем перейти к делу.
Он нажал кнопку электрического звонка, и вскоре появилась секретарша с повязкой на лице и листами бумаги в руках.
Адвокат взглянул на нее и подумал: «Именно сегодня ей понадобилась напялить эту повязку. Ну не возмутительно ли? Какой уважающий себя адвокат примет на работу секретаршу с двойным подбородком?
Вслух он произнес: – Вы готовы, барышня? Итак, пишите: «Контракт, заключенный… Э… между…»
Потирая подбородок, он принялся мерить канцелярию длинными шагами.
Был составлен контракт, согласно которому полицейский предоставляет чиновнику в своем доме, каковой он намерен построить на участке в кадастре номер таком-то, квартиру на четыре года с правом пользования садом и т.д.; в свою очередь чиновник внесет квартирную плату за четыре года вперед. Затем адвокат поднялся и подал сторонам руку с тем отеческим выражением лица, какое бывает у врача, выписывающего успешно вылеченного им пациента. Стесненность, возникающая при любой официальной процедуре, покинула участников сделки, и завязался оживленный разговор.
– Ну вот,.. – с удовлетворением перевел дух полицейский, – дело сделано.
– Я тоже рад, – сказал чиновник.
– А вот, найдется ли место, где вешать белье? – озабоченно спросила пани Сырова.
– А то как же! – воскликнул полицейский. – Место найдется!
– Я, – сказал чиновник, – буду выращивать георгины.
– Не забудьте и об овощах, – наставительно сказал полицейский, – ведь это выгодно – иметь сельдерей, морковь и савойскую капусту на собственной грядке. На этом можно изрядно сэкономить.
– Безусловно. Но выращивать георгины – это такое удовольствие. Посадишь клубень и с нетерпением ждешь, какой вырастет цветок. Забавно, когда вырастает не тот, какого ождал.
– Однако ж, – снисходительно заметил полицейский, – нельзя из-за георгинов забывать о капусте, которая хороша к мясу.
– А капустными кочерыжками будем кормить кроликов, мечтательно произнесла пани Факторова.
– О, кролики! – с энтузиазмом воскликнул чиновник. – Какие очаровательные зверюшки! Шерстка шелковистая…
– Ну, за шкурки-то много не выручишь, – рассудительно вставил полицейский, – а вот кролик под сметанным соусом… Это, доложу вам…
– А можно будет разводить домашнюю птицу? – осведомилась пани Сырова.
– Домашняя птица наполнит двор веселым гомоном, – подхватил чиновник, – а петух будет возвещать утро громким кукареканьем.
– Я ничего против не имею, – отозвался полицейский, – только вы должны будете следить, чтобы птица не нашкодила в саду.
– А что вы скажете, господин полицейский, насчет павлина?
– От павлинов никакого проку.
– Но зато какая красавица эта птица! Павлин будет царствовать над всем птичьим двором. На голове у него будет маленькая синяя корона, точно из эмали, а усевшись на ограду, он раскроет ко всеобщему восхищению роскошный веер хвоста.
– Нет, от павлинов никакого проку, – повторил полицейский. – Только вокруг все изгадит. Но если уж вам так хочется завести павлина, – извольте. Я не возражаю. Я во всем пойду вам навстречу.
– Моя супруга обожает розы, вы не собираетесь украсить стены вашей виллы вьющимися розами?
– Я об этом думал. Будет все, чего ни пожелаете. Заживете у нас, как в раю.
Этак беседуя, они дошли до трамвайной остановки. И, прощаясь, долго трясли друг другу руки. Полицейский приговаривал: – Ну, я рад, – а чиновник вторил: – и я рад.
Глава пятая
К звезде на потолке поднимается сырость. Войлочные туфли в черно-белую клетку шаркают по кухне и бубнят сентенции о непочтении к родителям.
Теща вздыхает: – Так-то вот.
Тесть: – Недаром говорится – миром правитнеблагодарность.
Теща: – И ведь до чего скрытные.
Тесть: – Она еще хуже его.
– Мне об этом можешь не говорить. Я уж давно к ней присматриваюсь.
– Да-с…
– Так-то вот.
Тесть прочищает проволокой трубку. Затем идет подтянуть гирьку на ходиках. – Черт знает что, – ворчит он. – Что вы с часами вытворяете? Коли не разбираетесь, не лезьте! Это моя забота. Да… Все здесь на ладан дышит.
– Если хотите знать, это скверно с вашей стороны, – скорбно произносит теща, натирая на терке сдобное тесто. – Хотите переезжать – переезжайте. Никто вас не держит. Так почему не придти и не сказать: «Мама, мы ищем квартиру»? А? Нет, этого мы от вас не заслужили!
– Что мы значим для них?! – не без иронии произносит тесть.
– Разве плохо вам было у нас? – патетически восклицает теща. – Разве я не делала для этого очкарика свиные шницели, потому что он не ест говяжьи в томатном соусе?
– А нечего потрафлять, – строго сказал тесть. – Не хочешь – не ешь!
– Она покупает себе новую шляпку и даже не считает нужным показать матери. О, покарает тебя Господь Бог за твои хитрости. И за что только он наказал меня, наградив эдаким чадом?
– Да будет тебе, – говорит тесть.
– Что значит будет? Другая придет: «Мама, а у меня новая шляпка, что скажешь?»
– А что тут скажешь? Помолчи, говорю. Не желаю я больше ничего слушать.
– А! Ты мне еще будешь указывать? Лучше на себя погляди. Целыми днями торчишь тут в шлепанцах. Ступай прочь, надоел!
Тесть вспыхнул, точно костер, сложенный из смолистых поленьев.
– Женщина! – патетически вскричал он. – Ты что это себе позволяешь? Оскорблять больного человека! Не выводи меня из себя, сердце-то у меня некудышное. Будь в тебе больше благородства, ты бы жалела меня из-за моих больных глаз. Я уже и читать-то не могу, круги перед глазами. Это мне-то за мое благодеяние, за то, что я принес себя в жертву…
– Какое еще благодеяние? Какая жертва?
Тесть воздел руки и обратил глаза к потолку.
Загубили, – надсадно хрипел он. – Замучили… Она хочет свести меня в могилу. Запомни, ты меня оскорбила! О, тяжким будет твой предсмертный час!
– Ну ладно же, – мстительно добавил он, надевая башмаки, – я ухожу… навсегда. Больше ты меня не увидишь. Пойду, куда глаза глядят. Сниму каморку… и там окончу свои дни.
– То-то я отдохну, – бросает теща.
– Так, так, – бормочет тесть, упиваясь своим унижением, – стало быть, все в порядке… Я вам больше не нужен. На что я годен? Можете выгнать меня из дому. Ну я пошел, не буду мешать…
– И так поступает со мной она? – сокрушается он, уходя. – Эта женщина? А ведь мне сватали другую, невеста – одно загляденье! Дочь хозяина распивочной. Стройная, богатая, добрая, порядочная…И где только были мои глаза. Рехнулся я что ли, что женился на этой бабе?
Дверь захлопнулась с оглушительным грохотом. Ветхий дом содрогнулся. Из-за приоткрытых дверей высунулись головы жильцов. Теща выскакивает на лестницу и кричит, перегнувшись через перила: – Анна дала тебе от ворот поворот, потому что ты на меня зарился. Вот так! – И она заперла дверь изнутри на ключ.
Тесть сидит на лестнице, сжавшись в комочек, и причитает: – Люди добрые! Люди добрые! Взгляните на меня! Собственная жена выгнала меня из дома… На старости лет остался без крыши над головой… О-о-о! Она хотела меня убить, сжальтесь надо мной…
Портной Сумец выбежал на лестницу с висящим на шее сантиметром.
– Что такое, что случилось? – сочувственно спрашивает он, помогая старику подняться, – Не принимайте близко к сердцу. Все образуется. Пойдемте к нам, я угощу вас кофе. У каждого из нас есть свои огорчения…
Тесть с трудом поднимается и говорит слабым голосом: – Спасибо вам, пан Сумец. Я знаю, что вы на моей стороне. Но мне уже ничем нельзя помочь. Настал мой последний час. Она, – таинственно шепчет он, озираясь, – она хочет меня отравить… Я это знаю доподлинно… Вот, идут, видите? Они с ней заодно, погубить меня хотят.
По лестнице поднимаются чиновник с женой.
– Ступайте, полюбуйтесь, чего вы добились, – говорит тесть срывающимся голосом. И он уходит.
– Куда это он направился? – испугался чиновник.
– В кафе, – сухо бросает жена.
– А что… О чем это он говорил?
– Да они поругались. Ты что, не знаешь их?
Злобой веет изо всех углов. «Тик-так, тик-так», – жалобно тикают часы. Теща не отвечает на приветствия. На плите с сухим треском рухнула груда немытой посуды. В воздухе колышется тоскливая затхлость. У двери горбится рыжая кошка, норовящая шмыгнуть на лестницу. Ибо она любит покой, мирную обстановку, и ненавидит домашние свары.
– Убирайтесь отсюда! – топнула ногой теща при появлении супругов. – Видеть вас не желаю! Из-за вас все мои беды. Чтоб духу вашего здесь не было!
Супруги невозмутимо поворачиваются в дверях.
– В таком случае пойдем в кино, – решает жена.
Теплый вечер, и жизнь на улицах бьет ключом. На перекрестках столпотворение. Бегущая световая реклама возвещает: «Мод развернула письмо, грудь ее бурно вздымалась; о том, что было дальше, вы узнаете, прочитав роман.» Огромная лампочка «Осрам» мигнула и зажглась красным светом, мигнула – и залила всю округу мертвенно бледной синевой. Женщины, ощущая за спиной присутствие мужчин, задерживаются перед витринами магазинов. У входа в кондитерскую жмется старуха, кланяется, как заводная, и словно шелест осиновых листьев на осеннем ветру, слышится ее бормотанье: – Дай вам Бог здоровья, милостивая пани, дай вам Бог здоровья, милостивая пани! – Возле столика, на котором задумчиво восседает прикрепленный цепью ястреб – перепелятник стоит мужчина, обмотанный зеленым шарфом, и выкрикивает: – «Главный выигрыш – сто тысяч! Завтра или никогда!»
Супруги Сыровы прогуливаются по городу.
Супруга улыбается, погруженная в свои мысли.
– Он сказал, – говорит она, – что осенью мы сможем переехать. Все будет готово к первому октября.
– Осень уже не за горами, – подхватывает чиновник.
– Нам повезло, что хозяином у нас будет полицейский. Он не обманет.
– Он понимает, что ему светит пенсия. И будет охранять нас от воров.
– Он такой заботливый, такой рассудительный!
– Мне он тоже нравится. Мы будем жить в добром согласии.
– А она, – сказала супруга с плохо скрываемым самодовольством, – называла меня «милостивая пани».
– Вот уж это ни к чему! – с жаром воскликнул чиновник. – Я такого раболепства не потерплю. Я хочу быть с ними на равных. Я постараюсь сделать так, чтобы они забыли о нашем превосходстве. С простыми людьми я хочу общаться побратски. – Он на минуту задумался, а затем сказал: – На досуге займусь садоводствоим. Раздобуду специальную литературу, основательно ее проштудирую. Ах, я уже предвкушаю! Буду рыть, копать, мускулы у меня нальются, щеки покроются бронзовым загаром.
И он распрямился, словно ощущая в своих жилах приток свежих сил.
Жена думала про себя: «Это хорошо, что он станет работать в саду. Не надо будет нанимать человека. И на зелени сэкономим.»
Когда они вернулись домой, тесть был уже в постели. Он курил, его круглую голову прикрывал черный ночной колпак. Из-под перины на соседней кровати торчали завитки седых волос.
– А я тебе говорю, – пф, пф, пф, – что отлично помню тот момент, когда подцепил эту болезнь, – продолжает тесть начатый разговор.
– Неужто? – дивится теща.
– Мне было, – пф, пф, пф, – лет тринадцать. Стою я у забора и вдруг чувствую, как на меня пахнуло каким-то ядовитым ветром. И конец. С той поры я такой квелый… В чем только душа держится…
– Куплю себе растирание, – говорит седой завиток, – Гедвичка выписала мне рецепт.
Супруги Сыровы пожелали старикам спокойной ночи и прошли в свою комнату.
– Он даже не спросил, как я себя чувствую, – посетовал тесть.
– Не обращай на него внимания. Он еще хуже, чем она. Та всегда была к нам внимательна.
Раздеваясь, чиновник говорил: – А знаешь, как я оформлю клумбу? По краю, в первом ряду высажу темно-синие крокусы, во втором – желтые миниатюрные гиацинты, а посередине – тюльпаны…
Чиновник скользнул под холодную перину. – Или так, – продолжал он, – в первый ряд я могу посадить мускарий или сциллы, затем – розовые гиацинты…
– А где будет морковь, савойская капуста, сельдерей? – прервала его жена.
– Погоди, все будет…А еще я хочу вырастить аконит. Но с ним нужно осторожно! Это ядовитое растение…
Супруга улеглась и погасила свет.
– А многолетники…Вот погоди, когда ты увидишь многолетники…
– Отстань, что-то я сегодня устала.
– Многолетники, многолетники, – бормотал чиновник, обнимая супругу.
– Многолетники… – испустил он долгий вздох, перелезая обратно на свою постель.
– Я единственный из всего класса знал, что венерин башмачок по-научному называется cypripedium calceolus…
И он уснул.
Глава шестая
На горушке за городской чертой закипели строительные работы. Обнаженные до пояса мужчины, стоя в ямах, выбрасывают на поверхность землю, – она летит, описывая дугу. Женщина с повязанным на голове платком размешивает дымящийся известковый раствор. Кирпичи позванивают на телегах; округа оглашается криками возниц, ноги которых обмотаны портянками. Груды песка привлекли ватагу голопузой ребятни. Среди строительного люда шныряет черная лохматая собаченка с хвостом – завитушкой наподобие часовой пружины. Собака радуется оживлению и суете. Видно, у нее нет хозяина, поскольку всяк ею помыкает. Откуда она взялась на стройке, никто не знает. Точно и ее вместе с работягами наняли в качестве подсобной силы. До этого она, бездомная, скиталась по деревням, на собственной шкуре испытывая суровость сельчан. Теперь же исполняет обязанности сторожа и гордится тем, что уже не болтается без дела, а занимает прочное место в общественной иерархии. И собака преисполняется решимости быть услужливой, внимательной к строительному люду, но зато грубой и свирепой со всеми, от кого не разит известкой. По ночам, когда стройка пустеет, черная собака бегает вокруг будки, где хранится строительный инвентарь. При малейшем шорохе она упирается в землю передними лапами, навострив уши, отрывисто и сердито лает. Свои обязанности сторожа она исполняет явно с чрезмерным усердием, жаждая похвалы от начальства.
Посреди рабочей братии стоит полицейский и энергично орудует заступом. Комья твердой земли, слишком долго лежавшей нетронутой, летят во все стороны. На полицейском потрепанные парусиновые штаны, старая форменная фуражка, из драной тульи которой торчит ржавая проволока, расстегнутая рубаха обнажает заросшую волосами грудь; мускулы на спине ходят ходуном, словно фабричная трансмиссия. Каждое его движение, точно рассчитанное, выдает в нем урожденного селянина.
По городу разнесся многоголосый звон, башенные часы принялись отбивать полдень. Полицейский воткнул лопату в землю. Рабочие стали вылезать из своих ям. Они разворачивают пестрые платки, в которых завернута краюха хлеба. В хлебе углубление, куда вложен кусочек масла. Жена полицейского принесла в клеенчатой сумке кастрюльку с обедом. Стоя, будто солдат, подкрепляющийся на марше, полицейский наспех хлебает суп. Одним глазом он косит в кастрюльку, другим посматривает на сделанную работу. Поев, снова берется за лопату. Жена собрала посуду и пошла, сопровождаемая черной собакой, – жалобно скуля, та словно бы вопрошала: – «А я? Как же я? Мне ничего?»
Полицейский посмотрел из-под руки. Он узнал чиновника, который приближался, перепрыгивая с одной груды строительных материалов на другую.
– А, гость пришел посмотреть на нас? – и лицо полицейского расплылось в улыбке.
– Да, да… – чиновник стоит и растерянно озирается по сторонам. Ему хотелось бы сказать нечто ободряющее, но ничего не приходит в голову.
– Стало быть, строите? – выдавил он из себя не сразу и тут же устыдился своего нелепого вопроса.
– А как же. Строим, строим. Каторжный труд.
Рабочие принялись подталкивать друг друга локтями.
– Эдакий хлеб в горле застревает, – говорит один с торчащим кадыком.
– Надо бы промочить горло, – подхватил парень с выбритой шеей.
– Что верно, то верно. Ты бы не прочь.
– Не прочь. А ты – нет? Маленько пивка-то ли дело…
– Еще бы. Пиво аккорат в самый раз…
– Пиво сил прибавляет.
Чиновника это надоумило. Он извлек двадцатикроновую бумажку и сказал, покраснев: – Вот вам, господа, на пиво.
– Ну что вы, что вы, – горячо отказывался рабочий с торчащим кадыком, – зачем? Мы это так, промеж себя балагурим потехи ради.
Однако деньги взял и крикнул: – Франтишек, дуй за пивом! Одна нога здесь, другая там! – Молодой каменщик отер руки о штаны и помчался. Чиновник оказался в центре внимания. Он не знал, что сказать, переминался с ноги на ногу, улыбался виноватой улыбкой. Потом простился и поспешно ушел.
Его окликнули. Он обернулся и увидел, что каменщики, обхватив друг друга за плечи, протягивают в его сторону стаканы с пивом. Чиновник остановился и приветственно помахал им рукой.
Перед одним из домиков сидел на крыльце пожилой мужчина с бескровным, водянистым лицом, рядом лежали костыли.
Тяжело дыша, пожилой мужчина сказал: – Пан, это не дело – давать им на пиво.
– Почему? – спросил чиновник.
– Ну, видите ли… Нечего им потакать… Они напиваются и начинают куролесить вместо того, чтобы работать. Одно слово – шваль. – Пожилой мужчина сплюнул так, что плевок описал широкую дугу. – Меня вот тоже никто не ублажает, – завистливо продолжал он, – мне говорят: чего ты бьешь баклуши? А я баклуши не бью, я калека. Будь у меня силы, я бы тут не сидел.
Чиновник опустил руку в сумку и дал старику крону.—Вознагради вас Господь Бог. – прокаркал ему вслед старик.
Потом люди выбрались из своих ям, каменщики клали кирпич на кирпич, стены росли ввысь, затем вокруг них поставили клетку из лесов. Полицейский стоял наверху и командовал, как капитан с капитанского мостика. Когда было нужно, он работал каменщиком. Но знал толк и в плотницком деле и в других строительных работах, поскольку, патрулируя во время дежурства улицы, он останавливался и наблюдал, как люди работают руками. Он многое от них перенял, так как страж закона должен глядеть во все глаза, особенно когда хочет стать домовладельцем.
За работой он раздумывал и прикидывал, как бы ему приумножить свое состояние и обратить все в свою пользу.
«Чердак жильцам я не отдам, – решил он, – вешать белье они могут и на дворе. На чердаке я устрою голубятню».
И он размечтался. В своем воображении он уже видел голубей, которые летают высоко, чертя круг за кругом. Он непроизвольно вскинул руку и тихим посвистом поманил невидимых голубей.
Спохватившись, он с подозрением бросил взгляд на соседний участок, где портной Мецль строил дом для своей дочери – весной та собиралась выходить замуж. Когда сосед опережал полицейского в строительстве, полицейский принимался нетерпеливо подгонять своих рабочих и радовался, видя, что портной от него отстает.
Тем не менее работа подвигалась медленно, так как полицейский, не имея денег на выплату жалованья, уволил нескольких рабочих. В конце концов строительство продолжал он сам со своим отцом и шурином, долговязым, унылым мужчиной с вечно слезящимися глазами, отчего создавалось впечатление, будто он страдает хроническим насморком.
Полицейский командовал ими деспотически, и оба беспрекословно ему подчинялись. Он без конца подгонял их в работе. Сетовал он и на вечерние сумерки, окутывавшие начатую работу, ему хотелось остановить время и отдалить ночь. Отец надеялся, что сын предоставит ему угол, где он сможет обрести покой на старости лет, а унылому шурину полицейский обещал одолжить денег на обустройство собственной мастерской.
Глава седьмая
Так пролетело лето, и наступила осень. Резкий ветер ворвался на окраину, срывая с голов у прохожих шапки. Ветер свистел, завывал и вселял тревогу. Вверх по холму карабкались козы и задумчиво жевали траву.. Гуси сбивались в стайки и внезапно, словно сговорившись, раскинув с пронзительным гоготом крылья, припускали по улице, по-бабьи переваливаясь с боку на бок. Ветер вздувал белье. развешанное на обнесенной забором площадке, трепал нижние юбки и лифы и забирался в мужские кальсоны, надувая их пузырем. На электрических проводах трепыхались обрывки пестрых хвостов, застрявших там от бумажных змеев. До наступления зимы полицейскому удалось подвести дом под крышу. После чего он поссорился с отцом, который уехал в деревню с убеждением, что в нынешние времена благодарности от детей не жди. На вопрос шурина, а как же с обещанными на мастерскую деньгами? – полицейский ответил: – Э, милок, поживем – увидим. И тогда шурин, печально глянув на него слезящимися глазами, дотронулся негнущимися, краплеными известью пальцами до отворота шапки, извлек оттуда окурок; задымил, поразмышлял и, махнув рукой, отправился восвояси.
– Видите ли, – объяснял полицейский чиновнику, пришедшему взглянуть, как идет строительство. – Я хотел, чтобы к осени все было готово, но просчитался. Люди у меня разбежались, отец вбил себе в голову невесть что и уехал. Уперся и все тут. Ишь упрямец, говорю. Но я тоже упрямый. Дуешься – дуйся! Он не может мне простить, что я женился на своей против его воли. Он мне говорил: «Женишься на Маржене». А я ему: «Ни на какой Маржене я не женюсь. У меня есть другая». Он мне – мол, приглядись к Маржене-то – какая грудь, какие бедра! Аккурат для тебя. А что эта, твоя? Палка да и только. Мол, пораскинь мозгами, подумай. Я ему: «Не вам на ней жениться, а мне! Что я задумал, от того не отступлюсь никогда. Я такой.»
Полицейский вытащил метр и начал замерять оконные проемы. Через минуту бросил, выпрямился и, сдвинув кепку на затылок, продолжал:
– А если моя матушка, паче чаяния, станет на меня наговаривать, так вы не обращайте внимания. Знали бы вы, до чего эта баба прожорливая.Так и норовит все съесть. От нее приходится все запирать. Э, да что говорить. Знаете, я мастерю из тряпья детские игрушки. Раз как-то шью из велюра слона. На столе лежат бивни, потянутые белым маркизетом. Старуха ходит вокруг и знай – зыркает. Думаю: «что ты, баба, здесь высматриваешь?» Оглядываюсь, а она – хвать один из бивней и сует себе в пасть. Заметила. что я на нее гляжу, мигом положила бивень обратно и бормочет: «Я-то, дуреха, думала, это ванильный рогалик!» Ха, ха, ха! Я тебе покажу – ванильный рогалик. Ненасытная утроба!..
Он нагнулся, взял ведерко с краской и выставил в коридор.
– А что до шурина… Поглядите, какой он тощий. Жадность его губит, глаза завидущие, руки загребущие. Без конца пристает – дай то, одолжи это. Ничего не дам, ничего не одолжу. Мне тоже никто ничего не дает. Когда-то я был простаком, теперь – нет.
Чиновник слушал эти излияния и царапал ногтем известку на стене. «Наговорил с три короба, – думал он, – но мне-то какое до всего этого дело?» Вслух же он произнес: – Да, бывает…
– Экономь, – сказал я шурину, – вон как я экономлю. И все у тебя будет. Я никогда не попрошайничаю. Так он, видите ли, обиделся и ушел. Скатертью дорога. Потому у меня и не вышло с домом к сроку. сами видите, сколько на меня всего свалилось.
Итак, не оставалось ничего другого, как провести зиму в старом доме.И потянулась зима, и старый дом погрузился в неизбывный сумрак. Вдоль улиц неслись снежные хлопья, вьюга тонко вызванивала на водосточных трубах и завывала в дымоходах. На тротуаре снег превращался в черное месиво, которое налипало на штанины прохожих. Звезда на потолке мокла, как старая рана. Двери распахивались сами собой, а окна тревожно дребезжали.
Но чиновник уже не замечал скорбного сумрака, не обращал внимания на звезду на потолке. Он уже жил в своем будущем саду. Ему представлялось, как он склоняется над клумбами. Когда же он поднимал глаза к потолку, звезда виделась ему прекрасным цветком необыкновенной расцветки. «Этот цветок, – блаженно шептали его губы, – я вывел у себя в саду. Он называется «Dаhlia Маximа Serovy». Он из семейства экзотических георгинов. Толпы ботаников приезжают издалека, чтобы увидеть это чудо. Им нужно спешить. Dahlia Maxima Syrovy на протяжении одной человеческой жизни цветет только раз».
Даже желтое здание на Фруктовом рынке тоже залито медовым светом. Исполнительное ведомство, где стеклянные перегородки отделяют чиновников от гудящего роя помощников адвокатов, стряпчих, канцеляристок, темных личностей в продавленных котелках, ловящих удачу, превращается в воображении чиновника в оранжерею, где в теплом, влажном воздухе буйно разрастаются невиданной красоты растения. На окнах исчезли решетки, исчезли дела, на которых красным карандашом надлежит проставить имена судебных исполнителей. Какие там приложения? Какие там досье? Вон зеленый газон. А желтые, выцветшие орнаменты на стенах зазеленели свежими, нежными листочками, которые завитушками усиков цепляются за подпорки, образуя восхитительные аркады.Пан Сыровы исполняет свои служебные обязанности в беседке, и цветы роняют ему на голову розовые лепестки.
– И чего это они не переезжают? – сетовала теща. – Все уши прожужжали, мол, будем переезжать, а сами ни с места? Не больно-то вы мне нужны. Отправляйтесь к своему жандарму, коли он вам больше по душе.
– А они и не будут переезжать, – высказал предположение тесть, – кто нынче съезжает с насиженного места? Ведь они отлично понимают, что лучше, чем у нас, им нигде не будет.
Произнеся это, он направился вытряхнуть свою трубку в ящик с углем.
– Я вовсе не хочу, чтобы они здесь жили, – продолжала теща, – я бы эти комнаты в два счета сдала. Как раз сегодня какие-то приходили, справлялись, не сдается ли жилье…
– Будет лучше, если они останутся. Я не хочу, чтобы здесь поселились чужие люди. Начнется нивесть что. Как внизу у Беднаржей. Квартирант их повесился, да еще в сочельник. Купил двести граммов колбасы, съел ее и повесился… Вот оно, как бывает. Теперь Беднаржи хлопот из-за этого не оберутся. Приходится таскаться то в полицию, то по всяким инстанциям. Поди докажи, что ты не верблюд. Вот так-то с чужими людьми. Чужому человеку на тебя наплевать.
– Не каждый же вешается. – возразила теща, – есть и порядочные люди. Возьми учителя, что квартировал у Беднаржей, тот до сих пор их помнит и намедни прислал такое хорошее письмо. Одни жильцы удачные, другие нет.
– Вечно ты что-то мелешь, конца этому нет. Дуреха. Вот съедут наши, а кто мне будет читать газеты? Ведь я уже почти слепой. Перед глазами делаются круги – красные, зеленые. Со мной, ясное дело, никто не считается.
– И вовсе не обязательно тебе читать газеты. Все равно ничего там не вычитаешь. Лучше бы делом занялся…
– А-а-а, ты опять за свое? Вот баба! Много ты понимаешь в газетах… Опять выставляешь меня из дому? Так, так… Прекрасный пример подаешь молодым. Я нисколько не удивляюсь, что они от нас бегут. Прямо житья никакого нет…
В тот день тесть не пришел к обеду.
Глава восьмая
А когда миновала зима, холм на окраине города вновь ожил. Пришли работяги и заполнили весь дом. Конопатые маляры вносили ведра с краской. Печник засовывал в печку свою взъерошенную голову. Повизгивал рубанок, из которого спиралями вылезала стружка. Затем явился декоратор с обмороженным носом в сопровождении невзрачного хромоногого подручного. Они расставили стремянки и, прикладывая к стене трафареты, распевали на два голоса:
- Нам и нужно-то
- Только то, что наше.
- Вот поладить бы
- С немцами-братками.
- Нам бы свободу
- И для них свободу.
- Но холопствовать не будем
- Немцам в угоду!
Среди рабочих сновал полицейский со складным метром. Его фельдфебельский голос гулко отдавался в пустых помещениях.
Когда солнце стало садиться, полицейский надел куртку, фуражку и вышел. Отойдя на несколько шагов, он остановился и принялся рассматривать свой дом. На фронтоне красовалась надпись, сотворенная штукатуром, который вдобавок сопроводил ее несколькими стилизованными цветами.
О, СЕРДЦЕ ЛЮДСКОЕ, НЕ БУДЬ СЕРДЦЕМ ХИЩНОГО ЗВЕРЯ!
– читал по складам полицейский, и на глазах у него выступили слезы умиления.
«Я собственник, я домовладелец, – повторял он про себя. —Хотел бы я посмотреть на того, кто станет мне поперек дороги.»
Старый дом тоже воспрянул, охваченный непривычным оживлением. Перевозили скарб чиновника. «Раз, два – взяли!». Плечистые грузчики из экспедиционной конторы, головы которых были все в соломинах, а за уши заложена сигарета, сносили мебель с четвертого этажа и ставили ее на улице перед входом, где уже нетерпеливо переступали с ноги на ногу лошади с могучим крупом. Ломовой извозчик, сидевший словно акробат на трапеции на высоко поднятом над фурой складном сиденье, окрикнул одну из них: – Тпру, леший! Схлопочешь у меня по морде – ишь! – Леший запрядал ушами и, наклонившись к соседу по упряжке, словно бы что-то прошептал ему.
Теща размешивала на плите мучную заправку и утирала слезы.
– Мария, – растроганно говорила она. обращаясь к дочери, которая упаковывала в ящики посуду, – не забывай нас, навещай хоть изредка. Ты ведь знаешь – папа болеет. Нужно с ним быть повнимательнее. Я купила уголь, чтобы у тебя было на первое время.
Тесть с озабоченным видом метался вверх и вниз по лестнице и, как клоун в цирке, хватал то один, то другой предмет, которые мужики ставили на шлеи, накинутые на жилистые шеи. Чиновник стоял внизу подле фуры, точно почетный караул у генеральского катафалка, бдительно следя за тем, чтобы ничего не было повреждено.
А когда начали грузить последнюю вещь, высыпали жильцы, до того стоявшие в засаде за дверьми, их беспорядочные восклицания слились в прощальный благовест. Пришел портной Сумец. Он ерошил волосы и мямлил: – Желаю счастья! – Пришла жена точильщика, окруженная ватагой ребятишек, которые засовывали в рот пальцы. Самого маленького она несла на крутышках и громко повторяла: – Желаю вам счастья и да благословит вас Господь! – Точильщик поднял седую голову, дни напролет склоненную над жужжащим кругом, и произнес: – Удачи! – Снесли вниз на носилках даже разбитую параличом пани Редлихову, которая вытаращенными глазами взирала на всю эту кутерьму и повторяла – Вот как, вот как, вот как!. – А дворничиха, о которой весь дом говорил, что она свинья, и муж которой женился в России вторично, плакала навзрыд, утирая нос ладонью. Трактирщик в черном фраке и с голой шеей, вышел из распивочной, распространяя вокруг себя кислый запах пивных ополосков, и протянул чиновнику руку: —Так вы нас уже покидаете, пан Сыровы? Ну что ж, ну что ж! Всего вам доброго» – и, обернувшись к двери своего заведения, крикнул работнику, что привезли содовую.
Чиновник был растроган, к горлу подступил комок. Ему вдруг стало жаль покидать этот старый дом, облупленные коридоры, темную лестницу, на которой по вечерам парни прижимали к перилам визжащих служанок, и свой четвертый этаж, где перед скорбным распятием мерцала красноватым светом масляная лампадка. И стало ему как-то жаль даже мокнущей звезды на потолке, даже войлочных туфель в черно-белую клеточку. Он ощутил, что тот, кто живет в одном и том же доме годами, становится сам как бы его частицей, и ему чудилось, будто старый дом, расчувствовавшись, хмурит брови и восклицает:
– В добрый час, пан Сыровы!
В новом доме жена развела огонь в печи. Тогда-то и вознесся над домом впервые дым, точно дым от костра Авраама, в знак того, что новостройка перестала быть новостройкой, а превратилась в обиталище человека. Как только влажные стены, от которых разит клеем, пропахнут человеческим духом, в них поселятся Пенаты. Но сперва дом должны покинуть духи строительные, которые глухо поскрипывают в полах, шеборшат в ванной комнате и, словно бы со вздохом облегчения ссыпают что-то внутри стен.
В печи затрещал огонь, плита раскалилась, и пани Сырова заварила для маляров кофе. Это было жертвоприношение, как бы скрепляющее договор, заключенный между человеком и домом. Маляры уселись на пол, обмакнули усы в кружки, затем отерли рты и сказали: – Дай Бог вам здоровья, милостивая пани.
После чего вновь залезли на стремянки и затянули на два голоса:
- Он о любви забыл давнишней нашей,
- Не мной, другой полна его душа.
- Женился он, а я, а я гля-я-дела,
- Как он жену из церкви выводил.
- Ах, разлука ты, разлука…
Разнеслась молва, что новый дом заселяется, и это взбудоражило весь квартал. От жилища к жилищу летела об этом весть; возбуждение рождало возбуждение, – так повстанцы в горах зажигают костры, пламя которых долженствует оповестить население о том, что час настал.
Из серых домов выбегают старухи; их фартуки так и развеваются на ветру, а отвисшие груди под кофтами колыхаются, словно пузыри в ватерпасе. Мужчины высовываются из окон, их трубки свисают к земле, словно отвесы. Старики усаживаются возле дверей и, точно коровенки, жуют беззубыми ртами.
Квартал протянул свои щупальца и с превеликим интересом огладил буфет, который был столь тяжел, что четверо мужчин, сотрясая небо проклятиями, едва дотащили его до комнаты. В переноске принимали участие, хотя и одними только советами, люди, торчавшие в окнах. При виде громадного буфета они тыкали в его направлении трубками и кричали: – На попа! Ребята, на попа его!
Когда все вещи были перенесены, грузчики получили на пиво, сдвинули кепки набекрень и направились в пивную напротив, где, сдувая пену, говорили: – Здорово же нам пришлось попотеть, а? Черт!
Под конец распаковали корзину с рыжей кошкой. Кошка, которая приготовилась к худшему, поскольку в такой переплет еще не попадала, выскочила и совершенно обалдевшая, остановилась посреди кухни; ее глаза с прорезями зрачков, округлились, как талер. Потом она обнюхала мебель, покрытую блестящей белой эмалью, и, заметив, что топится печь, успокоилась и принялась старательно вылизывать шерсть После перенесенных мытарств ей хотелось отдохнуть, но тревожило множетво посторонних людей, которые сновали взад и вперед. «Экая толчея, – огорчалась она, – и до чего же у них огромные сапожищи! Ужас! Того и гляди наступят мне на хвост!»
Сгорбившись, она выскользнула наружу, вспрыгнула на садовую оградку и, свернувшись клубком, с тоской стала вспоминать о своем теплом закутке у печки, где она предавалась блаженным раздумьям о никчемности всего, кроме тепла.
Начали расставлять мебель. Пришел полицейский и предложил свои услуги. Могучими плечами он упирался в шкафы и с легкостью передвигал с места на место буфет. Он тоже получил свою кружку кофе, которую выпил стоя. Затем он ушел, снедаемый сомнениями, – гоже ли хозяину дома быть вроде как поденщиком у жильцов?
«Они считают, – думал он, – что я мальчик на побегушках. Ошибаетесь. Нынче я домовладелец, а не какой-то там прислужник. Я же не отказываю вам в том, что вы из чиновного сословия. Вы тут, господа хорошие, не больно-то задавайтесь, не то живо на место поставлю. Кто меня не знает, тот может насчет меня ошибиться. Больно мне нужен ваш кофе. Слава Богу, голодным не сижу.»
По дороге к себе полицейский хмуро глянул на соседскую виллу, которая от его собственной отличалась только тем, что у нее был балкон, и неприязненно подумал: «Ишь ты, балконы ему понадобились, портняжка паршивый!» Схватив ком земли, он запустил им в воробьев, которые слетались на груду лошадиного навоза.
Тем временем в квартире чиновника свистела рисовая щетка и трудились метлы. Воспользовавшись сумятицей, чиновник улизнул из дому. Он решил обозреть незнакомую округу. Медленным шагом направился он вдоль фабричной стены, тянувшейся за рядом домов, в которых жили рабочие. В окнах фабрики были выбиты стекла, и оттуда доносился глухой гул станков и посвист трансмиссий. Сквозь железную решетку он увидел обширное пространство двора, где валялся железный лом. Согнутые, точно сучья старой вербы, женщины что-то собирали в джутовые мешки. К фабрике примыкало желтое здание в этом подобии мавританского стиля, какие строят для фабричной администрации.
Фабричная стена пестрела плакатами. Чиновник остановился перед зеленой афишей, которая оповещала о том, что
Профессор оккультных наук
Р. КАСТОНИ
Продемонстрирует и покажет величайшие чудеса старого и нового времени, которые вызывают величайшее изумление всех специалистов и интересующихся, а также всех европейских знаменитостей.
А по соседству с профессором оккультных наук просветительский кружок «Витезслав Галек» сообщал, что такого-то числа состоится спектакль «Песни старого дома» – пьеса в четырех действиях. Чуть ниже виднелось размноженное на гектографе объявление, приглашающее на собрание, которое состоится в закусочной «У старинных ворот»… невыносимое экономич… отразить наступление… агитирует за массовое участие… Остальное смыто дождем. Из «Ринггоферки» хлынул поток рабочих в приплюснутых кепках набекрень и сдвинутых на затылок продавленных шляпах. Их сопровождают синие бидоны и клеенчатые сумки.
Когда чиновник возвратился домой, кошка уже сидела под чисто выскобленной скамьей и мурлыкала, примиренная с обстоятельствами. Жена тоже сидела, утомленная суматохой и уборкой, и мечтательно обозревала свою новую, сверкающую белизной, кухню. Душа ее ликовала: теперь у нее свой домашний очаг.
А когда в тот день они впервые легли спать в новой квартире, чиновник, вглядываясь в темноту, прислушивался к шорохам, доносившимся то вроде бы с чердака, то вроде бы из ванной. Той ночью чиновнику приснилось нечто столь прекрасное, что этого даже словами не выразить Он запомнил только, что у него в саду цветы расцвели стеклянными колокольчиками, которые, когда их раскачивал ветер, тоненько вызванивали песню «Едет парень на лошадке». Весь экзекуторский отдел сбежался послушать эту мелодию.
Затем нить сна запуталась, и чиновнику привиделось: он идет по улице какого-то города и смотрит на себя в зеркальные витрины. И вдруг он замечает, что правая ушная раковина у него – маленькая, нежная и свернутая словно весенняя почка. Он ощутил небывалую радость от того, что у него такое чудесное ушко. Проснувшись, он ощупал уши и устыдился того, что его посещают столь сумасбродные сновидения.
Была весна, и на перине плясали солнечные зайчики. Жена села на постели и сказала: – Мне приснились сливы. Это не к добру. Видеть во сне сливы – значит будут неприятности.
– Ничего подобного, – возразил чиновник, – видеть во сне сливы – это к болезни.
– У нас говорили, что это означает неприятности. Вот уж не хотелось бы, чтобы сон оказался в руку.
– Впрочем, – рассудил чиновник, – все это предрассудки. Приготовь-ка лучше завтрак, мамочка, ведь мне скоро уходить.
Глава девятая
И началась история нового дома.
На долю черной псины, которая рассчитывала получить в новом доме место сторожа, выпало разочарование. Полицейский подарил ее юной молочнице в Страшницах. Запряженный в повозку, пес тяжким трудом добывал себе хлеб насущный, развозя молоко клиентам. Его место заняла молодая сучка неопределенного серого покраса. Она бы еще охотно предавалась детским забавам, но такое дано лишь собакам из зажиточных слоев. Бедняцкая же собака уже с малолетства вынуждена думать о том, как добыть себе пропитание.
Лежа перед конурой, сучка зарекалась быть услужливой по отношению к обитателям дома и стараться ладить со всеми. Ее звали Амина.
И вот уже спозаранку Амина подняла неистовый лай. Задрав морду кверху, она почуяла кисловатый запах, какой обычно исходит от нищих. В дверях появился старик со слезящимися глазами, заросший словно бы заплесневелой щетиной. Новостройка с белыми окнами привлекла его, как осу подпорченная груша в плетенке.
– Отче наш, иже еси на небесах, – загнусавил он голосом, смахивающим на звук растягиваемой гармоники, икнул, утер нос тыльной стороной ладони и продолжал: – да святится имя Твое, доброго здоровьица вам желаю, я калека, милостивая пани.
Он был принят с некоторой долей почтения, поскольку нищие в этом районе города большая редкость. Первый нищий в доме – это как бы официальная приемка дома. В тот же день пожаловали и мухи, решившие заделаться членами семьи. Особенно их привлекала люстра со стеклянными подвесками. Большей же частью они сосредоточивались на потолке и проводили время за тем, что терли ножкой о ножку.
А уже на следующий день появился какой-то франтоватый господин в элегантной, спортивного покроя одежде, который вприпрыжку преодолевал груды оставшихся стройматериалов. Балансируя на доске, перекинутой через липкую глину, он пытался приблизиться к дому. У франта были английские усики и портфель под мышкой. Его меланхолические глаза горели решимостью от своего не отступать, противопоставить унижениям изысканные манеры.
Поначалу чиновник надеялся избежать встречи с ним и спрятался, точно еретик в эпоху контрреформации.. Но щеголь застиг его как раз в тот момент, когда чиновник всего менее этого ожидал. Щеголь уселся на кухне напротив чиновника и выложил перед ним кипу бланков. Бесстрастным заученным тоном он произнес сентенцию насчет того, что как бы мы ни были осторожны, предотвратить пожар удается далеко не всегда. И как пан Сыровы изволит знать из газет и по слухам, преступность приобретает угрожающие масштабы, и потому каждый, кто блюдет свои интересы, сочтет нужным застраховать имущество на случай ограбления квартиры. Возразить против этого что-либо было трудно, и чиновник поставил свою подпись на бланке.
Когда же агент ушел, чиновник обрушился на жену с упреками: – Опять мы выбросили деньги на ветер. Тебе обязательно надо каждого впускать?
– Разве я говорила, чтобы ты заключал договор о страховке? Ты его подписал сам по доброй воле. Я слова об этом не проронила. Вечно я во всем виновата.
Некоторое время супруги перебранивались и осыпали друг друга упреками, но затем успокоились, сойдясь на том, что страховка, в конце концов, ничему не помешает.
В тот день произошло еще одно событие: невысокого роста мужчина в рыжем реглане, с медной серьгой в ухе, крикнул из коридора: – Алло! Вам не нужна швейная машина?
– У нас уже есть швейная машина, – ответила пани Сырова.
– Но у меня дешевые швейные машины, – продолжал человек с медной серьгой.
– Нам не надо.
– Но у меня хорошие швейные машины.
– У меня уже есть, зачем мне вторая?
– У меня машины всемирно известных марок. Качество гарантируется. Извольте посмотреть проспект.
– Я своей машиной довольна.
– Я продаю машины в рассрочку, ежемесячные выплаты пустяковые, вы их и не заметите.
– В другой раз, пан.
– А как насчет… Алло! Алло-о! Паничка, а как насчет угля? Я продаю уголь мешками и возами.
– Уголь у нас есть.
– Ах, черт побери! С утра не заладилось. Но, паничка, уверяю вас, я поставляю первосортный уголь, сам горит, и идет его немного, чудо уголь, а, пани? Остравский, бурый. ореховый, газовый, будете меня за него благодарить, пани. А не желаете ли коксу, брикетов, антрацита?
– У нас всего с избытком.
– А вот чего у вас нет, так это чистоля, не так ли? Есть? Не может быть!
– А стиральный порошок «Удовольствие хозяюшки», средство для быстрой стирки, не портящее белья?
– Пока у меня есть, – миролюбиво сказала пани Сырова.
– И дал же я нынче маху. Ну да, ничего не поделаешь. Мое почтение, мое почтение, если что-нибудь понадобится, обратитесь ко мне, обслужу вас отменно. – Рыжий реглан вильнул и исчез, как рыба в омуте.
В обед чиновник пришел домой, снял пальто и сел за стол. Жена, вся раскрасневшаяся, хлопотала у плиты и рассказывала о том, как у нее прошло утро.
Ее приключения были незатейливы. Для того, чтобы разжечь воображение пани Сыровы, вполне достало соприкосновения с торговым миром: она вся ожила, рассказывая о ценах на самые необходимые товары.
– Лавочников на нашей улице несколько. самая большая лавка у вдовы Малечковой. Но мне сказали, что у нее все дорого, и качество неважное. Я сделала покупки у пана Штайна. Он человек приятный и любезный. Никогда бы не подумала, что у него такое дело. Лавочка небольшая, но купить там можно все. Это тот, у которого над входом в лавку подвешены на шнурке домашние туфли. Он спросил, есть ли у нас дети. «Жаль, что нет, – сказал он, – дети – это счастье семьи».
– Дети, – буркнул чиновник, – Я и сам бы не прочь. Но иметь детей нам сейчас не позволяют обстоятельства. Вот, когда я продвинусь по службе, тогда… Торговец забот не знает. Ему на руку, когда у покупателей есть дети, это выгодно для его торговли.
– Он сказал: – Я дал бы вам в придачу сказки для ваших детей. Ну, а на нет и суда нет. – И еще всякие шуточки отпускал. Такой веселый человек…
– Какие еще сказки, – сказал чиновник, помешивая ложкой суп, – пусть оставит их себе. Суп несоленый.
– Ну так посоли… Я рада, что плита так хорошо топится. Слышишь, какая тяга? Гудит. что паровик. Я затопила в десять – и вот, обед уже готов. Да, и еще я встретила нашу хозяйку, – продолжала жена. таинственно понизив голос.
– Ну и что?
– Она мне не сказала «целую руку», а всего лишь: «Желаю вам доброго утра». Деньги с нас получили, так зачем же теперь «целую руку».
– Прекрати, – оборвал ее чиновник, – Я уже сказал, что никаких «целую руку» не будет. Держи себя проще… Не задавайся. Я не потерплю никакого высокомерия.
– Да мне этого от нее и не нужно. Это я так, к слову. Она лишь головой кивнула. проходя мимо. Я даже не остановилась.
Чиновник доел, взял календарь и улегся на диван.
– Немного отдохну, – сказал он умиротворенно.
Глава десятая
К концу недели в доме появились новые жильцы. В мансардные комнатушки въехал одноногий трафикант – владелец табачного киоска – трафики, которая находилась под аркой виадука. Помимо мебели крестьянская телега привезла жену с бескровным лицом, клетку с канарейкой и гармонику. Когда мебель начали сгружать, подошел полицейский. Он опытным взглядом окинул пожитки трафиканта и сказал, обращаясь к пани Сыровой: – Стало быть, они уже здесь, никуда не денешься, я пустил их, как говорится, из сострадания. Они без конца приставали ко мне, плакались, мол, жить им негде. Вот я и подумал – черт с вами, так и быть. Я человек жалостливый. Гляжу на их скарб и вижу: шушера какая-то. Ну да ладно. Если что – в два счета отсюда вылетят.
– И мебель-то у них гнутая, – заметила пани Сырова.
– Вы на них не обращайте внимания, – рассудил полицейский. – Вы люди приличные, они вам не чета. А что до этого… ежели он вздумает по вечерам играть на гармонике, дайте мне знать, я шума в доме не потерплю. Я найду управу на тех, кто нарушает порядок.
Полицейский сплюнул и ушел.
– Послушай, – сказал чиновник, слышавший этот разговор. – я терпеть не могу заглазных разговоров. Мне этот одноногий ничего плохого не сделал. я хочу быть со всеми в хороших отношениях. может, они порядочные люди.
– Но ведь я ничего такого не сказала? – защищалась жена.
– Ты сказала, что у них гнутая мебель, этого отрицать ты не можешь.
– А что в этом плохого?
– Я запрещаю тебе обращать внимание на чужую мебель. Начинается с мебели, а кончается бог знает чем, я все это знаю по опыту. У нас в суде уже тридцать леть длится тяжба между домовладельцем и жильцом. А началось все с того. что стороны повздорили из-за прислуги, которая не закрывала двери… Так вот оно обычно и случается.
– Слишком много рассуждаешь, – оборвала его жена, – лучше бы помог мне отодвнуть шкаф, удивляюсь, откуда взялось столько пыли?
– А-а-а, – застонал чиновник, потягиваясь, – опять чтото нужно. И что ты с этой вечной уборкой… А-а-а! Покоя нет.
Наконец, в квартиру на первом этаже вселился некий блондин. Его сорочку без воротничка украшала вышивка в славянском духе, на носу сидело пенсне. Блондин привел жену, пани с карими ласковыми глазами.
Он поклонился и сказал: – Я учитель средней школы Шолтыс, а это моя супруга.
Супруга улыбнулась и обнажила малиновые десны.
– Весна в этом году погожая, – произнес пан Шолтыс, – правда, снег иногда выпадал, но в апреле иначе и не бывает…
– Конечно, разумеется, – поддакнул чиновник.
– Главное, что наконец-то у нас есть крыша над головой. У нас было много хлопот с квартирой. Нам все время приходилось откладывать свадьбу. Теперь мы обзавелись квартирой, правда, стоило нам это немалых материальных жертв. мы долго раздумывали, пока нам не явился дед Гинек и не посоветовал снять без колебаний квартиру. Дед Гинек был в высшей степени разумный человек…
Учитель умолк, не зная в растерянности, что бы еще такое сказать… Ему ничего не приходило в голову, он откланялся и удалился в сопровождении своей половины.
– У них белая спальня, – сообщила жена после их ухода, – но не могу сказать, чтобы она мне уж очень понравилась. Кровати с резьбой, а это непрактично, потому что на резьбе оседает пыль.
– Ты опять? Ведь я тебя уже просил не обращать внимания на чужую мебель, – произнес чиновник, нахмурившись. – А ты все свое. О, Господи! Я уже предчувствую: неприятностей нам не миновать.
– Что он имел ввиду, говоря о деде Гинеке? – спустя некоторое время озабоченно спросил чиновник. – Якобы им явился дед Гинек… Не понимаю, что он хотел этим сказать…
– Ну, они посоветовались, – отозвалась жена, – посоветоваться всегда неплохо прежде чем выложить такие сумасшедшие деньги… Хотела бы я знать, сколько они дали полицейскому. Если меньше, чем мы, то, видимо, они не простачки.
Чиновник стоял на террасе без пальто, наслаждаясь весенним солнцем. Полицейский работал в саду. Он перелопачивал землю и таскал в коробе компост.
Увидев чиновника, он распрямился, отер со лба пот, лицо его расплылось в широкой улыбке.
– Ну вот, – произнес он с удовлетворением, – дом у меня полнехонек. Одной заботой меньше.
– А я-то думал, – удивился чиновник, – вы тоже будете жить здесь… Дом построили, а не переезжаете…
– Помилуйте, – отозвался полицейский, – разве по карману мне такое жилье? Я, голубчик, не могу себе позволить платить такие деньги за квартиру. К чему это приведет. Какое там…
Он нагнулся, чтобы выдрать корень, торчавший из земли. Комель с шумом осыпался.
– Моя домохозяйка тоже рассчитывала, что я от нее съеду, когда обзаведусь собственным домом. Но я поостерегусь… так она подала на меня жалобу. Такие нынче люди! Когда вы меня узнаете поближе, увидите – цены мне нет. Жалобу она на меня подала, но ничего не добилась, с квартиры я не съеду – и баста. Она мне: «Сами хотите платить за квартиру гроши, а с жильцов драть втридорога». Я ей: «А как же, любезная, нынче только так.» Ох, язва! Но не на того напала. Котелок у меня варит.
– Иные люди не желают входить в положение другого, – сказал чиновник.
– Как аукнется, так и откликнется, – продолжал полицейский, – со мной можно только по-хорошему…
Он взвалил короб на спину и сказал: – Кто меня не знает, тот может подумать… Но я, голубчик, знаю, что почем, меня на мякине не проведешь…
И он отправился за компостом, исполненный самодовольства.
Чиновник еще немного постоял, а затем обошел дом, чтобы взглянуть на двор. Завидев его, Амина как-то чудно заскулила, вскочила и начала рваться на цепи.
– Хорошая, Амина, хо-ро-шая, а то как же, конечно, – нахваливал чиновник собаку, почесывая и поглаживая ее по шерстке.
Сучка от подобных почестей полностью утратила душевное равновесие, повалилась на спину и комично засучила всеми четырьмя.
– Умная собака, – похвалялся полицейский, который пришел во двор, чтобы наколоть дров, – она мне досталась от садовнка. Хорошая будет сторожиха. – Амина, – повелительно крикнул он, – покажи пану, что ты умеешь. Дай лапу! Ну,.. что у говорю? Лапу!
Амина села на задние лапы, выпрямилась и, сморщив нос, замахала передними конечностями.
– Надо же, – удивился чиновник, – Кто ее этому научил?
– Никто, – гордо ответил полицейский. – Сама научилась. Понятливая собака, только что не говорит… Но придется ее отсюда убрать, поставлю конуру на террасе, а здесь будут клетки для кроликов.
– А где будет птица?
– Здесь же, во дворе.
– Гм… А жильцам хватит места для птицы?
– Как? – удивился полицейский. – вы тоже хотите завести птицу? Это не выйдет!
– Но ведь … – смущенно возразил чиновник, – это записано в контракте…
– В контракте… Мало ли чего там записано, – ухмыльнулся полицейский, фамильярно ухватив жильца за пуговицу. – Нельзя воспринимать это буквально. Я думал об этом и пришел к выводу, что так не пойдет. Птица, сударь, причина всех недоразумений и распрей в доме. Поверьте. я человек опытный. Птица заберется в сад, нашкодит там, и начнутся перепалки, крики. А я больше всего ненавижу раздоры в доме. Я за согласие в доме, за то, чтобы все друг другу уступали – вот это по мне… Остальные жильцы с этим согласны. Я им все растолковал – и они не хотят ни птицы, нт кроликов.
Чиновник слушал, опустив голову, и повторял: – Так, так, да только…
– Ну вот, видите, – с жаром воскликнул полицейский, – я был уверен. что мы с вами всегда поладим!
Он закурил сигарету и пошел в подвал за топором По дороге он говорил себе: «Птицу захотел! Ха – ха! Они на шею готовы сесть. Сказано «нет» – и все тут, помалкивай и проваливай. Я здесь хозяин!»
Глава одиннадцатая
На окраину ворвалась весна. Склоны холмов покрылись густой зеленью. А на лужайках запестрели женские юбки – матери выносили детей понежиться на солнышке, подростки расстелили подстилки и с азартом дулись в карты. Старики выходили поразмяться и, покуривая трубки, вели неторопливые разговоры о былых временах, порицали нынешние порядки. В садах блестящие самочки дроздов издавали глубокие призывные звуки, напоминающие звуки гобоя. Повсюду царили гомон и оживление. Босоногие ребятишки, взявшись за руки, кружились и распевали неокрепшими голосами: «Мой пятнистый пёс остался дома, сторожит он скакуна гнедого…» По саду прохаживались сторожа, которых распирало сознание своей служебной значимости и ревностно следили за соблюдением порядка.
Подле деревянных домишек суетились люди. Они таскали воду от муниципальной колонки, поливали грядки и сосредоточенно копались в земле. Они обихаживали палисадники, искусно разбитые на каменистом склоне.
Полицейский трудился у себя в саду и разговаривал с чиновником. – Здесь, – показывал он, – будут ваши грядки. Я выбрал для вас самое лучшее место, тут целый день солнце, – чтобы вы знали, как я вас уважаю. Рядом с вами будет участок пана учителя. А что до этих, – он мрачно указал рукой на мансарду, – они получат клочок перед самым домом. Для них любого клочка земли жалко. За квартиру платят меньше всех, а вид такой, будто они чем-то недовольны. Особенно она со своей постной физиономией. Моя жена говорит, что трафикантша, похоже, ждет, что она первая с ней поздоровается. Я одолжу вам инструмент и – работайте себе на здоровье!
Чиновник вооружился лопатой и начал копать с таким усердием, что даже запыхался. Полицейский отошел в сторонку и снова принялся за дело.Нагибался, разминал в пальцах комья, выбирал осколки стекла и бросал их через ограду. Каждую его клеточку переполняло чувство собственника; грудь распирало от гордости, и он говорил себе так:
«У меня есть земля. На этой грядке я буду выращивать красный редис. Овощ не сытный. но полезный для здоровья, и его хорошо погрызть после ужина, поскольку он очищает кровь. На этом месте будет расти сельдерей, листья которого придают аромат картофельному супу. Дальше. Вся эта грядка отводится под капусту, которая, если ее хорошо помаслить, насыщает почти как мясо. Кое-где я посажу и цветы, чтобы удовлетворить свою потребность в прекрасном. Посреди грядок – гвоздики и анютины глазки. Эти цветы можно приобрести у садовника по дешевке. Посажу и несколько розовых кустов, чтобы мой сад стал еще более великолепен. Надо непременно проследить, чтобы жильцы на своих участках высадили саженцы плодовых деревьев, а также кусты смородины и крыжовника. Когда они съедут, все это перейдет в мою собственность. Я не настолько глуп, чтобы платить за саженцы из собственного кармана. Какую-то толику крейцаров я на этом сэкономлю. Хоть и небоьшая, а все же выгода. Вовсе не обязательно все овощи съедать самим. Излишки продам. И опять-таки выгода.»
«У меня есть загоны и клетки, в которых я буду держать птицу и кроликов. Не надо будет покупать мясо. Сейчас я не могу себе позволить покупать мясо, потому как банк здорово прижимает меня процентами. Птицу мы есть не будем, это для нас слишком дорогое удовольствие. А вот яйца оставим для себя; все выгода. Стану продавать кроличьи шкурки. Так и приложится крейцер к крейцеру», «У меня есть семья. Жена усердно шьет и этим приумножает мое состояние. Есть у меня и дети, которые пока что ничего не зарабатывают. Мальчишку надо определить в такое место, где ему сразу будут платить, – чтобы деньги в дом приносил. У меня есть отец, который помог мне построить дом. Теперь надо быть начеку, как бы он не стал от нас чего требовать. Мать вечно хочет есть. Поразительно, что с годами она становится все прожорливее. Она будет стирать нам белье; но еду от нее придется запирать. Кстати, надо будет потребовать от зятя, чтобы он давал деньги на содержание тещи. Его долг уважительно относиться к матери своей жены.»
«У меня есть жильцы, которые мне подчинены. Я распространил свою власть и на них, поскольку обязанность жильцов – вести себя смирно, соблюдать установленный мною порядок и правила, оказывать мне почтение. Теперь я не только полицейский, но еще и домовладелец. И жильцам надлежит при встрече со мной не ждать, когда я с ними поздороваюсь, а здороваться первыми. Жильцы будут приносить мне квартирную плату, таким образом мой долг в банке будет идти на убыль, и через несколько лет домик будет чист от долгов и полностью принадлежать мне. Люди станут говорить: «Вот ведь простой полицейский, а достиг многого».
Он обошел вокруг дома, прочитал надпись: «О, сердце людское, не будь сердцем хищного зверя!»и сказал себе: «Замечательная надпись и славный домишка. Этот домик принадлежит Яну Фактору, сержанту полиции».
Чиновник пришел из сада и уселся, свесив руки, на скамью у печки. Спина у него болела от непривычной работы. А ладони, ставшие шершавыми от известковой почвы, жгло. Он был печален, во рту у него пересохло.
– Ну как подвигается работа в саду? – спросила жена.
– Так себе… – кисло ответил чиновник. – Это каторжный труд и, что удивительно, никаких сдвигов. Я копал все время на одном месте. Земля сухая и твердая, как камень.
– Полицейский нас обманул, – сказала жена, – он обещал нам отдать половину сада, а выделил всего-навсего крохотную грядку. Это нечестно.
– Это его право, – сказал чиновник, тяжко вздыхая, – он прекрасно понимает, что я не смог бы обработать половину сада… Прямо невероятно. Долблю эту проклятую землю, бьюсь, бьюсь, откалывается кусками и все тут. Благодарю покорно, я не батрак… Я привык к канцелярской работе. Ой, ой! Все тело ноет, голова как в огне… расхвораюсь еще. Как я неосторожен.
– Гм… – отозвалась супруга, – а где ты посадишь шафран? Где будет клумба с аконитом? Ты говорил, что в первом ряду посадишь миниатюрные гиацинты… А многолетники?
– Многолетники, многолетники! – рассердился чиновник. – Какие еще многолетники? Садовые цветы можно выращивать лишь на черноземе. А тут вообще не почва… это мертвая земля. Пустыня, где даже белена расти не будет… Тебе хорошо говорить, а я не чую ни рук, ни ног. Не жизнь, а мука!
– Ты все время твердил, – возразила жена, – что начнешь новую жизнь… Мол, свободное время буду посвящать садоводству. Обзаведусь специальной литературой и досконально ее проштудирую.
– Отстань от меня, ясно? – в сердцах воскликнул чиновник.
– О, я уже предвкушаю, говорил ты, как буду копать, рыхлить, – неумолимо продолжала жена, – мои мускулы окрепнут, щеки покроет золотистый загар, – никто тебя за язык не тянул…
– О, Боже, – простонал чиновник, – ни минуты покоя… Не хочу я никакого сада, понятно тебе? Не нужен он мне. Не мое это призвание – бороться с суровой природой…
«Придется кого-нибудь нанимать, – с огорчением подумала супруга, – опять лишние расходы. Но садик я хозяину не подарю. Еще чего! Платить за квартиру такие деньги и не пользоваться садом…»
Однако, поразмыслив, она взяла заступ, тяпку и до захода солнца обрабатывала грядки.
– Ну вот, – сказала она, с удовлетворением глядя на результаты своих трудов, – и нанимать никого не надо. В первый год нужно будет посеять горох. Потому что горох разрыхляет почву, как динамит. А на будущий год можно будет выращивать что-нибудь другое.
Опустился теплый вечер. Со склонов холмов повеяло свежей травой и росой. С улицы доносился громкий говор: каждый спешил насладиться чудесным вечером. Откуда-то с полей слышались звуки гармоники. Мужской голос томно пел: «Милка-светик, дай мне цветик, дай мне цветик розовый…» Песню оборвал пронзительный женский визг.
Пани Сырова сказала: – Не пойти ли нам прогуляться?
– Сегодня ни в коем случае, – простонал чиновник, – я весь разбитый.
– Чепуха. Все это с непривычки. Пройдет.
Они вышли из дома и направились в поля.
Лавочник, завидев супругов, снял кепку и крикнул:
– Мое почтение! Низкий поклон! Желаю приятно провести вечер! Стало быть, на прогулку, на прогулку?
– На прогулку, – ответила пани Сырова.
– Значит, на прогулку, ну-ну, дело хорошее.
– Это что, те самые жильцы полицейского? – спросил у лавочника сосед.
– Да, – ответил лавочник, прочищая трубку, – его фамилия Сыровы.
– А кто он. этот Сыровы? – допытывался сосед.
– Не могу сказать. Не то, кем-то в суде работает, не то гдето еще, не знаю…
– Похоже, из господ, – рассуждал сосед, – вон, как приоделись. На ней лаковые туфельки.
– Внешность обманчива, – вмешалась в разговор жена соседа. – Факториха мне говорила, что они даже прислугу не держат. Так скажите на милость, какие же это господа, если у них даже прислуги нет. Видать, кишка тонка.
– Я ничего не знаю, ничего не слышал, ничего не сказал, произнес лавочник, проявляя осторожность, присущую торговцам. – Они у меня покупают, расплачиваются наличными, а не в долг, как это чаще всего водится. Что еще нужно? Я в чужие дела не вмешиваюсь. Что бы со мной сталось, если б я всюду совал нос?!
– Ну это я так, за что купила. за то и продаю, – оправдывалась соседка.
– Ну, ну … – проворчал лавочник и поплелся домой.
Глава двенадцатая
Пани Сырова подметала пол, и кошке это мешало, особенно ей не нравилось, что хозяйка, убирая, отставила от плиты скамью.
В остальном утро было великолепное, и кошку выманило из дому белесое солнце. она уселась на пороге и принялась охорашивать шерстку, слипшуюся от сажи, ей уже начало нравиться новое окружение, не одну ночь проплутала она по крышам в поисках приключений. Ей удалось лапкой пригладить торчащий на голове хохолок. и тут ее внимание привлекли воробьи, которые прыгали по саду в поисках корма. С невинным видом зажмурила она глаза, словно бы давая понять, мол, не думайте, воробьиная мелюзга, будто я обращаю на вас внимание, и равнодушно глядя в сторону, волоча брюхо по земле, стала подкрадываться к птичьей стайке.
Учуяв ее, собака во дворе тихо и предупреждающе зарычала. Внезапно она истово залаяла и бросилась на кошку, обнажив черные десны. Кошка молниеносно обернулась и цапнула пса коготками прямо по носу. Амина заскулила и с удвоенной яростью атаковала ее. Кошка взвилась на каменную ограду, выгнула спину дугой, шерсть ее встала дыбом, а зеленые глаза вперились в Амину злобно и угрожающеэ
– Я разорву вас в клочья, – орала Амина вне себя от злости, – кишки выпущу, вонючая кошка … Как вы посмели войти во двор? Тут для вас нет места. Дворик – это мои владения, а не ваши. Мой хозяин не потерпит, чтобы здесь ошивались кошки. Я не позволю! Убирайтесь отсюда!..
– Так я вас и испугалась, – шипела кошка – попробуйте только, троньте меня, я вам покажу … Прекратите ваши оскорбления. Мы снимаем здесь квартиру и имеем право ходить по двору.
– Двор наш, ясно вам? – в бешенстве хрипел пес. – Своевольничать вам никто не позволит, мы найдем управу на строптивых жильцов. Я вцеплюсь вам в загривок … Дрянь такая!.. Я не позволю! Не позволю!
«Что это собака так разоряется?» – подумала пани Сырова и вышла во двор.
– Амина, что это такое? – приструнила она собаку. – Я тебе! Сечас же оставь кошечку в покое. Ты ляжешь?
Амина испугалась и, скуля, забралась в конуру.
«Я оплошала, – пристыженно думала она, – хватила лишку. Ну и странные же эти люди! Ведь кошки так противно пахнут, а люди их любят. Ну и дела … Так это кошка господская и с ней надо обращаться учтиво? Ладно, больше я никогда … Что мне до нее? Пускай себе ходит по дворику, мне она не мешает…»
– Барышня, – любезно окликнула собака кошку, – я пошутила, извините. Если вам угодно прогуливаться, – пожалуйста … Я не возражаю.
Но кошка надулась, презрительно глянула на собаку и с оскорбленным видом удалилась. Она нашла солнечное местечко, свернулась клубочком и уснула, грезя о ночных приключениях.
Когда днем пани Сырова принесла собаке остатки от обеда, Амина сказала себе: «Забыли о скандале. Не сердятся. слава богу…»
Жадно разгрызая кости, она радовалась: «Полезно иметь жильцов, полезно … Вкуснятина … Опять-таки выгода!»
Теща попросила мужа сходить посмотреть, как живется молодым в новой квартире.
– Я так соскучилась, – вздохнула она, – даже передать не могу. Хотя он и был молчуном, а все ж таки мне его не хватает. Сидел вон там в уголке на диванчике, помнишь? – ничего не говорил и все только смотрел на потолок … Что-то они там поделывают? Живут, бедняги, как на чужбине, и никогошеньки-то у них нет, кто бы о них позаботился.
Тесть всплеснул руками: – Чужбина! Ничего себе чужбина!, Везде живут люди, заруби ты себе это на носу. Мы же их не бросаем. Загляну к ним и помогу …
– Тебе-то что, тебе легко говорить. Ты человек бывалый, ты жил за границей. А Сыровы – такой домашний. Ступай туда. старик … Я испекла кекс и приготовила гусиные потроха. Пусть полакомятся, бедняжки, в чужих-то краях.
Тесть без дальних слов отправился в путь. Он сел на трамвай и приехал на окраину города. К немалому огорчению тестя ему долго пришлось расспрашивать прохожих, прежде чем он нашел дом полицейского.
«И как это им могло взбрести в голову, – возмущался он, поселиться на такой горе. Даже голова закружилась. Будто в замке живут. Это они, верно, нарочно, чтобы никто не мог их навещать. Ну да ладно … Как хотите, дело ваше. Вам на нас начхать, мы тоже без вас обойдемся …»
На лестнице, ведущей к дому, он нос к носу столкнулся с полицейским и спросил, здесь ли живет пан Сыровы.
Полицейский ответил: – Ну, здесь, а что вам от него надо?
Тесть измерил его взглядом, раздумывая, осадить грубияна или не стоит? Вслух он произнес: – Пан Сыровы – мой зять.
– А-а-а, – возликовал полицейский, – так вы изволите быть его тестем? – Узнав, кто это, и отметив, что у тестя пенсне на золотой цепочке и в золотой оправе. он рассудил. что перед ним человек из зажиточного сословия. И ему тоже захотелось не ударить в грязь лицом.
Возле них вдруг оказался со свертком под мышкой какойто подросток, который хотел было прошмыгнуть в дверь.
– Куда? – строго остановил его полицейский.
– Здесь проживает пан Каверзный? – спросил подросток хриплым голосом. – Если он здесь, ему нужно прийти к пану Нестоящему.
Полицейский, чувствуя на себе взгляд тестя, выпятил грудь и гаркнул: – А ну, марш отсюда! Нет здесь никакого Каверзного. Это вилла сержанта Фактора. Я сержант Фактор. Это моя вилла и мой сад. Если я увижу тебя здесь еще раз, схвачу за шиворот и спущу с лестницы. Катись отсюда, шпана, не то я тебя проучу!
Подросток перепугался и с видом побитой собаки поспешно ушел.
– Еще не хватает, – обернулся полицейский к тестю, – чтобы здесь шаталась всякая шантрапа. Я, сударь, человек строгий, с преступниками не церемонюсь. Жильцы находятся под моей охраной. Здесь они в безопасности, как в тюрьме. Любого отважу!..
Полицейский оскалил зубы и затопал ногами. Он был доволен своим монологом.
– А хозяин у вас решительный. – сказал тесть дочери, – он очень строг. Преступника и на порог не пустит, что я весьма одобряю. Мать обрадуется, когда я ей сообщу, что вы в надежных руках. Тут она вам кое-что посылает из еды.
– Ура! – воскликнула дочь, со знанием дела рассматривая гусиные потроха. – Я как раз ломала голову, что приготовить завтра.
– Заботимся о вас, делаем, что можем, – сказал тесть. – Вы за нами как за каменной стеной. Вам же не следует забывать. что ваш долг – относиться к нам с почтением. Вчера меня опять замучила изжога. Я думаю, – тут он таинственно понизил голос, – что у меня высыхли внутренности. Мне бы надо смазать желудок. Я справлялся об этом у врача. Говорю: «У меня в боку колет. Что бы это значило?» «Пустяки, – сказал доктор, – пройдет». И прописал мне капли. Мне кажется, он ничего не понимает. Будь у меня деньги, я бы поехал к какому-нибудь светиле за границу. А так приходится погибать из-за бедности … А, Индржих пришел. Ты уже из присутствия, из присутствия? Что новенького?
Чиновник, снимая пальто, ответил, что все по-старому.
– Да … – вздохнул тесть, – а там, у черта на куличках опять какая-то заваруха.
– Где заваруха?
– В Китае. Все время какие-то стычки. То одни берут верх, то другие. Поди разберись. Какое там … Вот когда я был молодым, я в политике здорово разбирался. Ну а теперь по слабости зрания я и газеты-то читать не могу. Нынче мне газеты читает портной Сумец…
Тесть задумался и взялся за ручку двери. – А французский кабинет ушел в отставку. Интересно, в чем тут дело? А какие безобразия творятся, сейчас никому нельзя верить. Мне говорят: «Приходите на собрание. Вас давно уже не было». Как бы не так! Шевелитесь сами. Вы что, собрание не можете без меня открыть? Хорошо же вы справляетесь с делами, ничего не скажешь … Нам повысили плату за воду. Владей я пером, я написал бы об этом статью для редактора. А вы тоже… хороши. Вон в каком состоянии лестница. Следовало бы заявить об этом в магистрат, – по тако лестнице и ходить-то опасно. Власти заставят вашего хозяина исполнять свои обязанности. Деньги берет, а как чинить лестницу – его нет. Все делается только изпод палки … – уходя, ворчал старик.
Глава тринадцатая
– Поливаете?
– Поливаю, поливаю.
– Да, влага нужна. Дождичка давно не было.
– Вот-вот… Земля совсем пересохла.
И полицейский зачерпнул из бочки лейкой воду; солнечные лучи, преломившись в полукружии водяных брызг, образовали радужный веер.
– А вы? Что это вы сооружаете? – спросил он соседа.
Портной Мецл стоял над грудой досок, сосредоточенно делая замеры и чертя плотничьим карандашом.
– А…хочу построить беседку, – ответил он, – навес для ребятишек. Через месяц у дочки свадьба. Ей всегда хотелось беседку, ну вот тебе беседка, куда денешься. Сами понимаете.
– Да ну? – слащавым голосом воскликнул полицейский, – барышня выходит замуж? Стало быть, у вас радость?
– И радость, и хлопоты, – ответил портной с выражением отеческой озабоченности на лице.
«Беседку… – ворчал себе под нос полицейский, – я тоже намеревался построить беседку, да вот теперь не смогу! Этот портняжка еще вообразит, будто я обезъянничаю. Дочь, говорит, замуж выходит. А о том, что в австро-венгерские времена она спала с офицерами, об этом он помалкивает. А старшая родила ребенка без мужа… Нам все известно. пан портной… Нечего нам пыль в глаза пускать! Беседка! Надо будет его зятя поставить в известность, как хорошо пан Мецл следил за своими дочерьми… Не вам фигурять перед нами!
После этого полицейский отправился в подвал за инструментом, поскольку намеревался в тот день цементировать дворик.
По пути он встретил жену трафиканта с кринкой молока.
– Пани, – сказал он, таинственно ей подмигивая, – не могли бы вы исполнить одно мое пожелание?
– А что вы хотите?
– Да так, пустяки… пойдите в сад и крикните: «Ротмистр шестого артиллерийского полка!»… Только и всего.
– А зачем мне кричать «Ротмистр шестого артиллерийского полка!»? Не понимаю…
– Я вам объясню. Это такая шутка.
– Шутка… – удивилась трафикантша, – но я стесняюсь. Я не смогу, пан домовладелец, я по натуре застенчивая.
– Да ведь тут нет ничего такого… Ну, крикните хотя бы «Мадьярский поручик!». Увидите. что скажет на это Мецл.
– Я, пан домовладелец, не могу никому ничего кричать, потому что муж мне этого не разрешает.
– А я вам разрешаю. Как хозяин дома.
– Хоть вы и хозяин дома, но склонять меня к незаконным действиям вы не вправе.
– Хорошо же, милочка… – злобно проворчал полицейский, – я не скажу больше ни слова… Между прочим, мне доподлинно известно, что это вы заляпали лестницу краской…
– Он мне сказал, – сообщила пани Сырова мужу, – что золу можно ссыпать прямо во дворе. Сказал, что все равно еще кругом беспорядок, и что золу он уберет потом сам. Я возразила, мол, мне не трудно донести ящик с золой до телеги мусорщика. Но он на это сказал: «Ни в коем случае, пани Сырова, вы слабенькая, вам надо беречься. Зачем надрываться с этой золой?»
– По всему видно, что наш хозяин человек предупредительный. Это похвально, – отозвался чиновник.
– Но он уже не говорит мне «милостивая пани», а просто «пани Сырова». Пани Сырова, скал он, вы такая слабенькая, вам надо беречься.
– Он уже не говорит тебе «милостивая пани»? Странно. Гм… Не высказывалась ли ты о нем как-нибудь?
– Я? Упаси Бог! Наоборот… Тут мне как-то трафикантша стала рассказывать, будто полицейский не продвигается по службе, потому что у него ревнивая жена… А я ей на это…
– Постой! – прервал чиновник жену. – Что ты сказала? Будто он не продвигается по службе потому, что у него ревнивая жена? Что за чепуху ты несешь?! Продвижение по службе может быть приостановлено лишь вследствие дисциплинарных взысканий, а дисциплинарные взыскания налагаются в случае различных нарушений, как-то: недобросовестное исполнение служебных обязанностей, вопиющая непочтительность по отношению к вышестоящим и тому подобное. Разумеется, учитывается также, какова личная жизнь человека, находящегося на государственной службе. Чиновник, ну, вот как я, должен вести себя прилично и быть во всех отношениях примером для сограждан. Что же касается ревности, об этом мне ничего неизвестно… Впрочем, вышестоящие лица, безусловно, наказывали бы за такую ревность, которая приводит к нарушению общественного спокойствия. Но ты, я вижу, черезчур болтлива. К чему эти разговоры о том. ревнива хозяйка или нет?
– Но ведь я ничего и не сказала, – оправдывалась супруга, – это трафикантша… Я ей сказала так: «Пани Крейзова, я ничего не знаю, в чужие дела не вмешиваюсь». А она мне, что она тоже не вмешивается, что она это просто слышала…
Чиновник промолчал и принялся рассматривать свою коллекцию марок. Жена убрала посуду и поставила воду для кофе.
– А знаешь ли ты о том, – сказала она спустя некоторое время, – что их парень появился на свет, когда они еще не были женаты?
– Кто тебе это сказал? – спросил чиновник с явным неудовольствием.
– Она сама мне сказала… Мальчонке было уже пять лет, когда они поженились.
– Ну если она сказала это тебе сама, тогда все в порядке, – с облегчением произнес чиновник. – А теперь помолчи и займись кофе. У всех свои трудности.
Полицейский долго раздумывал о беседке соседа и, наконец, решил соорудить для сада стол и скамейку.
«Хоть это не Бог весть что, а все-таки… Пусть портной увидит, чем я обзавелся. В конце концов, что такое беседка? Блажь да и только. А на скамейке мы будем сидеть – я, жена и все жильцы, беседовать будем. Пусть люди видят. что я с жильцами разговариваю. Когда в доме царит согласие. никакие беседки не нужны…»
Как решил, так и сделал. Он сколотил из старых ящиков стол и скамью, поставил их в саду и в гордом ожидании глянул через забор, – что-то скажет на все это сосед? Но тут он увидал нечто такое, от чего у него перехватило дыхание.
Откинувшись на спинку кресла-качалки и не замечая ничего вокруг, самозабвенно качалась дочь портного Мецля. Было видно, что кресло-качалку она лелеяла в своих мечтах как символ мещанского благополучия и принадлежности к высшим сословиям. И когда портной задался целью выстроить себе виллу, то первое, о чем было решено на семейных советах, это обзавестись креслом-качалкой, каковое долженствует свидетельствовать об их принадлежности к высшему кругу.
Полицейский остолбенел, кровь бросилась ему в голову.
– Кресло-качалка – прошептал он, ошарашенный, – и что это вы опять такое придумали в пику мне?! Ведь это же издевательство! Тоже мне, аристократы! Ах ты, жалкий портняжка! Вы воображаете, будто я не могу позволить себе креслокачалку? Кресло-качалка…Подумаешь! Будто мы вас не знаем… Но я не дозволю вам делать мне назло… Терпеть не могу, когда передо мной задирают нос… ужо расквитаюсь с тобой…
Однако, на лице своем он изобразил радушную улыбку и крикнул через забор голосом, в котором слышалась добрососедская приязнь:
– Качаетесь, барышня, качаетесь?
– Качаюсь, – ответствовала барышня блаженным голосом.
– Что ж, качайтесь, качайтесь, – отеческим тоном продолжал полицейский. – Приятно качаться, свежим воздухом подышать… Качайтесь себе на здоровье. Молодым барышням пристало качаться.
И тут в саду появилась жена полицейского с завтраком для мужа. – Глянь-ка, Анастазия, – вне себя прошептал полицейский. – Они обзавелись креслом-качалкой.
Жена поглядела в соседский сад, всплеснула руками и прошипела: – Кресло-качалка? Ну, погоди же!
И она помчалась к лавочнице.
Теплые сумерки обволокли городскую окраину. Воздух напоен сладким ароматом цветущих деревьев и влажной травы. Муниципальный фонарщик с длинным шестом в руке переходил от одного фонаря к другому и зажигал газовые горелки. За окнами опускались шторы. На улицах звенели радостные ребячьи голоса и раздавался женский смех. Из подвальных квартир доносились хрюкающие звуки граммофонов. Юноша с мандолиной собрал вокруг себя ватагу подростков. Над еврейским кладбищем вынырнула огромная луна, кровавая и трагическая. Из труб к звездному небу восходил сизый дым. Где-то в полях мужской голос выводил: «У зеленой ели рядышком сели, рядышком сели, но никак, никак, никак ладить не хотели»… Пронзительно стрекотали цикады, и, словно заводская сирена, завыла в леске у кирпичного завода ночная птица.
Полицейский обходил своих жильцов и приглашал: – После ужина приходите посидеть в саду!
Трафикант, закончив ужин, прицепил свою деревянную ногу и вышел с женой в сад.
Затем появился чиновник с пани Сыровой.
Наконец, к ним присоединился пан учитель Шолтыс с супругой.
– Вот мы и все вместе, – умилялся полицейский, – сядем рядком да поговорим ладком, как одна семья. Я вроде как ваш отец, а вы – мои детки, у меня на попечении. Мне это по сердцу. Бывает, жильцы бранятся с хозяином, что цыгане. Это скверно. Уступать друг другу – вот как надо. А если между вами какое недоразумение случится, обратитесь ко мне, я все улажу. Прямо ко мне и я вам тоже все напрямую. Заглазные пересуды я не люблю. От пересудов одни неурядицы.
– Какой чудесный вечер, – мечтательно вздохнула жена полицейского.
– Чудесный вечер, – подтвердила трафикантка.
– Да, вот мы и дождались прекрасной погоды, – томно произнес чиновник.
– А над нами опрокинулся небосвод, – сказал учитель Шолтыс скорбным голосом. – И око Божье взирает на нас… Прямо голова кругом идет, когда смотришь в головокружительные бездны небесные…
Все умолкли.
Пан учитель продолжал: – Когда подумаешь, что лучу света для того, чтобы преодолеть расстояние от созвездия Сириуса до нас, нужны сотни тысяч лет, трепет охватывает от сознания своей ничтожности.
Полицейский задумался. «Мне принадлежит земельный участок размером в сто семьдесят пять саженей. Значит ли это, что часть неба размером в сто семьдесят пять саженей над моими владениями тоже принадлежит мне?» Но он тут же отбросил эту мысль, рассудив, что от неба никакой пользы не будет.
– Вы сказали, пан учитель, – заговорил он, – что человека охватывает трепет от сознания своей ничтожности. Да… Но это как посмотреть. Кто-то ничтожен, а кто-то и нет. Я тоже был ничтожным.
Как вспомню о своих юных годах… Отец каменщик, детей полна горница. Меня отдали в ученье к резчику – никчемное ремесло, никакого от него проку. Я не мог найти работу и хватался за что попало. Работал на землечерпалке и нанимался в артели. Так и перебивался кое-как. Ну, а потом приспело время идти в армию. В армии я хорошо все схватывал, держал себя исправно, а потому и по службе продвигался. Отслужил без единого взыскания и без единой помарки в кондуите. Выдали мне бумагу, благодаря ей я и получил место в полиции.
Глава четырнадцатая
– Звезда упала, – мечтательно прошептала жена полицейского.
– Надо загадать желание, – сказала пани Сырова.
– Это всего навсего примета, – назидательно произнес пан учитель, – а ведь по сути это гибель одного из отдаленных миров…
– Когда я еще только начинал в полиции, – продолжил свой рассказ полицейский, – мне хотелось отличиться, поймать убийцу. Знаете, молодые люди всегда усердствуют. И однажды произошел такой случай. Стою я на своем посту и смотрю в оба. Подбегает какой-то мужчина, перепуган до смерти. «У трех маленьких трубочистов», говорит, человека убили.
Со всех ног бегу следом за ним. Сами понимаете, это было как раз то, что мне надо. Влетаю в трактир. За столом сидит компания господ. Завидели меня и давай гоготать. – Где убитый? – спрашиваю. А они заливаются. Один, говорят, уже мертвецки пьян. Вижу, что меня разыграли. Но обижаться я не мог, потому как они меня накормили и напоили, да так, что я не мог…
Полицейский полез в карман жилета, вытащил окурок и закурил.
Выпустив клуб дыма, он вновь погрузился в воспоминания.
– Чего только не случалось во время дежурства. Раз как-то патрулирую я на Малой Стране, комиссариат прикрепил меня к этому району. Подходит ко мне пан Бем, он тогда арендовал винный ресторан «Под ключом». У меня, говорит, сидит человек, думаю, это Сладечек. Прошу вас, заберите его, я не хочу с ним связываться. Претензий к нему у меня нет, пусть только уберется из моего заведения…
В те времена Сладечек был знаменитым вором, его коньком была кража зимних пальто. Я говорю ресторатору: «Моментик». Он мне: «Только, пожалуйста, без эксцессов. Репутация моего заведения должна быть безупречной. Мои посетители сплошь уважаемые люди, чиновники из магистрата. Им трудно будет примириться с тем, что ко мне заходит Сладечек.» «Я говорю: “Не извольте беспокоиться”».
Вхожу в зал. Хозяин наливает мне бокал вина. Я приглядываюсь и вроде как не гляжу. Разрази меня гром, если это не Сладечек! Я дождался, пока он вышел в коридор. Там я подошел к нему и говорю: «Вы Сладечек!»
«Какой Сладечек? Не знаю никакого Сладечека».
«Ладно. Пройдемте со мной.»
Я надел на него наручники, потому как знал, на что Сладечек способен.
Дорогой он мне говорит: «Вы единственный, кто доставит меня в участок. До сих пор ни один фараон со Сладечеком не совладал…»
Пан комиссар, который его допрашивал, задал ему вопрос: «Признайся, Сладечек, сколько в своей жизни ты стибрил зимних пальто?» «Думаю, поболе трех тысяч», ответил Сладечек гордо. Он умер потом в Картезианской тюрьме от чахотки.
– Да… – вздохнул полицейский, – чего только не бывало в моей жизни. Да и в полиции поначалу было не сладко. Полегчало, когда начальство приметило, что физической силы мне не занимать. Тогда в полиции как раз организовывали спортивный клуб. Я вступил в него и получил множество призов на соревнованиях по тяжелой атлетике. Потом я это бросил. Понял: тут мне ничего не светит. Я состязаюсь, а другие за это получают похвалы и поощрения. Нет, голубчики, так дело не пойдет. Все тренировки, да тренировки… ну вас к лешему! Но кое-какая польза от этого все же была. Меня перевели на телеграф. А это, само собой, служба полегче и поспокойнее, чем ловить воров да разгонять демонстрантов.
Я всегда стремился к тому, чтобы не топтаться на месте, а как-то продвигаться. Говорят, фараон… Да, фараон. А вот пусть теперь поглядят, чего я достиг. Я и с господами могу разговаривать на равных. Потому как я – домовладелец.
Он поднялся и, широко расставив ноги, окинул своих жильцов начальственным взглядом. Он прикидывал, что бы ему еще такое сказать, дабы утвердить свой престиж.
Потом он произнес: – Было время, когда я мог за один присест выпить двадцать пять кружек пива.
– Да ну? – поразился трафикант, – двадцать пять кружек! Вот это да!
– Теперь, конечно, уже не то… Нужна экономия, приходится отказывать себе….
– А-а-а, – зевнул чиновник. – В сон клонит. Подошло мое время.
– Поговорили, теперь пора и на боковую, – сказала пани Сырова.
Собеседники разошлись. Остались лишь трафикант и полицейский.
– Пан домовладелец, – вкрадчиво произнес трафикант, – не зайдете ли к нам? Перекинемся в картишки… Жена заварит чаю с ромом…
Полицейский с минуту колебался. Затем сказал: – Я бы перекинулся. Да вот только давненько не держал в руках карты. Не знаю, получится ли.
– Ну что вы! – с жаром принялся уговаривать его трафикант, – как-никак старый вояка. В очко по шестачку…
– Так и быть, – решился полицейский. – Схожу за зятем и приведу его тоже. Сыграем. Отчего не сыграть?
Полицейский отправился за худосочным шурином, который как раз собирался ложиться спать. Полицейский приказным тоном потребовал, чтобы тот одевался и шел играть в карты. Худосочный в глубине души возмутился, он не был любителем картежных игр и боялся проиграть. Он взглядом попросил жену о помощи.
Но жена сказала: – Ступай, Алоиз… с ним надо по-хорошему. Авось, смилуется и заплатит тебе то, что удержал при расчете.
Вздыхая и проклиная в душе все на свете, шурин поплелся вслед за полицейским. По дороге они встретили лавочника, который запирал ворота.
– А вот, – сказал полицейский, – и четвертый… Пан Мейстршик. Вы оставляете все дела и идете скинуться в картишки. Будем играть всего-то по шестачку. Это все равно, что играть на интерес…
Лавочник подумал: – Видали таких? Ни с того, ни с сего – иди играть в карты. Будто у меня других дел нет. Ведь я обещал жене починить сегодня полочку. Когда я теперь это сделаю? Да провались ты пропадом, фараон – медный лоб!
Но потом он вспомнил, что когда-то полицейский на него составил протокол о том, что он продавал товар в воскресенье с заднего входа. Лавочник почесал затылок и сказал про себя: «Нельзя ему перечить. Иначе эта дрянь станет на мне ездить. Вспомнит о том случае и начнет меня штрафовать. Сейчас фараонам дали такое право.».
Вслух он сказал – Ну что ж… Только сбегаю за трубкой и мигом обратно.
Пани трафикантша стояла у плиты и мрачно взирала на гостей, которые курили трубки и смачно сплевывали на пол. «Уборки-то будет, Боже мой!» роптала она про себя. «Спать охота, глаза так и слипаются, едва на ногах держусь. И чего только этот мой выдумал? И ведь они ни за что не уберутся отсюда, хоть ты лопни.»
Полицейский был в приподнятом настроении, поскольку выигрывал. Он тасовал и сдавал карты, проявляя сноровку завзятого игрока. Когда он крыл, то так прихлопывал их кулаком на столе, что весь дом сотрясался. А когда он вскричал: «Мне снимать!», то Алина отозвалась на дворе яростным лаем, решив, что в доме началась потасовка.
Когда забрезжило туманное утро, полицейский отправился домой с выигранными шестьюдесятью кронами в кармане.
– Ты что-нибудь выиграл? – спросил он у шурина.
Худосочный мужик меланхолически зашмыгал носом.
– Какое там, – ответил он, икнув, – оставил больше двадцати крон. Проклятая житуха…
– Потому что ты вислоухий осел, – накинулся на него полицейский, – разве можно тебе давать деньги! Оттого я тогда и заплатил тебе меньше, потому как знаю, что у тебя в руках ничего не удержится. И никаких денег в долг на мастерскую ты от меня не дождешься. А не то плакали мои денежки.
Он повернулся и зашагал домой.
Перед глазами у него мелькала дама, размахивающая двумя мечами. Амурчик на десятке червей пронзал стрелой сердце, пригвождая его к колу, увенчанному листьями. Из шляпы какого-то юнца, держащего в руке дымящуюся трубку, вырастала семерка пик. Зеленый валет играл на флейте. Трефовый туз с голубыми ушами держал в когтях два щита и широко разевал пасть. Полицейский провел рукой по лбу, чтобы отогнать видение бубнового короля с отвисающими вниз усами, которое постоянно возникало в его роспаленном мозгу, поскольку бубны были его счастливой мастью.
Сердце у него сладко стучало, и он говорил себе:
«Вот как я обштопал этого трафиканта. Выиграл шестьдесят крон. Целых шестьдесят крон… На эти деньги можно купить рубаху.
Шестьдесят крон – это десять кило сахару.
За шестьдесят крон я получу почти два кило кофе.
За шестьдесят крон можно поставить на сапоги новые подметки.
Если куст смородины стоит шесть крон, то стало быть, мы заимеем десять смородиновых кустов.
На шестьдесят крон можно прожить два дня.
Шестьтдесят крон – это шесть пар голубей.
За шестьдесят крон я припасу курева на два месяца.
Скажут: шестьдесят крон – это все равно что ничего, – но ведь за шестьдесят крон можно арендовать десятину земли и посадить на ней картошку. И вот вам запас на всю зиму.
Я могу истратить шестьдесят крон трафиканта, и мне не придется истратить шестьдесят собственных крон. Вот это экономия! Вот это выгода! Очень хорошо! Очень хорошо!
Денежки ко мне плывут, хозяином своим почитают.
Очень хорошо!»
Трафикантша сетовала: «Вам, мужикам, все нипочем. Заявились целой оравой, и вон какой свинарник устроили! На меня вам наплевать.В другой раз вытолкаю вас взашей…
– Цыц! – одернул жену трафикант, – с твоей стороны так говорить несерьезно. Это я исключительно ради общего согласия. Как-никак он домовладелец и полицейский. Я сам не большой любитель карт. По мне так лучше выспаться. Но ведь ты же сама отлично знаешь, что он смотрит на нас косо, потому что наш пай на строительство всего семь тысяч крон. Я хотел его угостить, чтобы он больше не говорил о нас, будто мы шушера какая-то. Нам следует держать себя смирно, а не то он нас выгонит.
– Он все равно нас выгонит, – бормотала трафикантша, засыпая, – я это точно знаю… Он нарочно сказал во всеуслышание, что мы первыми вылетим отсюда, как только истечет срок найма… Зря я заваривала чай с ромом… В год мы платим за квартиру всего полторы тысячи, так что мы у него не в чести. И кроликов он не позволит нам разводить, хотя это оговорено в контракте.
– Молчи, жена, спи! Что нам кролики… Главное – согласие… Нам надо быть тише воды… О кроликах даже и не заикайся, поняла? Мы люди маленькие и не можем прекословить…
– Черт знает что, – роптал чиновник, ворочаясь с боку на бок – уже два пробило, а он знай свое: «Козырные, взятки!» – куда это годится? Я уже второй порошок принял, а все никак не уснуть из-за их гвалта…. И такое творится в доме полицейского? Полиция существует для того, чтобы подавать пример и наказывать тех, кто нарушает порядок, а отнюдь не для того, чтобы самой учинять дебоши. По ночам все должны спать, не спят только те, кому это положено. Это трафикант подбил полицейского. Я слышал, что трафиканты люди испорченные… Бух! Опять дубасит по столу и гогочет так, что стекла дрожат. Разве так можно? Прямо голова кругом идет от этого безобразия…
Чиновник встал и пошел выпить воды.
– Играет с трафикантом в карты, – бормотала жена, – а ведь сам говорил, что это шушера, которую нужно выставить из дому… дескать, чудно, когда трафикант живет рядом с чиновником и учителем. А теперь с ним в одной компании. Вчера встречает меня и говорит: «Мне не нравится, когда жильцы ходят друг к другу в гости. Каждый жилец должен находиться в своей квартире и не обращать внимания на других. Встретите трафикантшу, говорит, поздоровайтесь и все. Никаких разговоров с ней не заводите, тем более, что вам это не к лицу. Говорильни в доме я не потерплю. Эдак жильцы стакнутся и начнут оговаривать хозяина. Я, говорит, все вижу, все примечаю. Трафикантша уже давно у меня на примете, потому как знаю, что она разносит сплетни…»
– Молчи, жена, спи! – остановил ее Сыровы, – ты же знаешь, чего нам стоило найти эту квартиру. Не веди никаких разговоров, иначе худо будет… Сейчас право на стороне хозяина дома. Нам остается только терпеливо все сносить. Ни с кем не разговаривай и не общайся. Да, положение наше не из легких…
– Мы ухлопали на него двадцать тысяч и не можем шага ступить. Двадцать тысяч, а ему все мало. Он не имеет права запрещать мне разговаривать с кем бы то ни было… двадцать тысяч…
– Двадцать тысяч, – бурчал чиновник, – ладно, ладно, но об этом ни слова… Полицейский прав. Нечего с другими разговаривать, ни к чему хорошему это не приведет… спи. Наверху уже утихомирились.
Глава пятнадцатая
Сегодня окраина поднимается чуть позже обычного. Если заглянуть в окна, то можно увидеть обнаженных до пояса мужчин, стоящих над умывальниками, и женщин, снующих по комнатам в одном белье. Из подвальных жилищ доносится агуканье, хныканье младенцев и сердитые голоса. Из окна высовывается плешивая голова, раздается окрик: – Маня! Ма-а-ня! Сейчас же вылезай из лужи! Не то возьму ремень!
Две тетки стоят на углу и точат лясы: …Так вот, в тесто я положила два яичка… два яичка… дала ей полную тарелку лепешек… а она: «Мама, я хочу еще преснушек…!» Ишь ты какая, тебе только успевай подавать… ха-ха… съела пять, а ей все мало…. Гляжу на нее – золотко ты мое! Благослави тебя Господь… По мне так лучше пусть ест много, чем совсем не ест…
– Вот, вот, – соглашается другая. – Наша такая же, а все худющая…
Чиновник потянулся, сладко зевнул, вскочил с кровати и поплелся на кухню. Ему было весело при мысли, что нынче воскресенье и что день обещает быть погожим. Он попытался было запеть оперную арию, но голос у него сорвался, в горле забулькало…
– Ты под ногами у меня не путайся, – сказала жена, – у меня уйма работы. Одевайся и ступай на прогулку. И поживее!
– Мария, – отозвался чиновник, – ты со мной сурова. Ну да будь по-твоему. Пойду немного пройдусь и куплю газету. Так и быть. После обеда почитаем, что в мире нового.
Мурлыча себе под нос и насвистывая, он надел выходной костюм и вышел из дому.
Пани Сырова как раз решала вопрс, приготовить ли ей на второе шницель с гарниром или натуральный бифштекс, когда в кухню вошел ее отец.
Он остановился в дверях, точно странник, со шляпой в руке.
– Доброе утро, папа, – поздоровалась с ним дочь, – ты что же не проходишь?
Старик тяжко вздохнул.
– А ты не прогонишь меня от своего порога? – спросил он глухим голосом.
– С чего бы это я стала тебя прогонять? – удивилась дочь.
– С чего, спрашиваешь? – патетически воскликнул тесть, трагическим жестом простирая руки, словно король на оперной сцене. – С чего? Да с того, что я, оказывается, человек никудышный и не заслуживаю жалости. Я больше не нужен… Все ждут, когда я умру.
«Так вот, в чем дело…» – подумала пани Сырова, сохраняя спокойствие.
Старик приблизился к дочери и таинственно зашептал: – Она выгнала меня из дому… Убирайся, говорит, видеть тебя не желаю… осточертел…
– Это почему же?
– Дело было так… – сказал старик, тяжело опускаясь на стул. – Прислуга от нас ушла. Мол, замуж выходит… А я сказал: «замуж захотела, эка невидаль. Служанок сколько угодно. Говорю: пойду в бюро по найму и приведу девчонку». А она говорит: «Ты в этом не разбираешься, я сама схожу за прислугой.» Ну и иди, раз ты в этом больше разбираешься. Она привела Качену. Та мне не понравилась, что это за прислуга, прическа каланчой! «У меня такое предчувстсие, говорю я матери, что толку от этой девчонки не будет». «Убирайся! – кричит, – не мужское это дело.» Ну что ж… В субботу Качена растапливает плиту. Я присматриваюсь. «Кати, – говорю, – разве так растапливают? Кто вас научил так растапливать?» И стал ее учить. «Сперва надо положить бумаги и щепок, а когда разгорится, подбросить полный совок угля. Вот, как надо растапливать. А так, как делаете вы, никуда не годится». А она мне на это: «Будь у меня такой муж, как они, так я бы его кипятком ошпарила». Я так и обомлел от ее дерзости и сказал обо всем матери. А она говорит: «И поделом тебе, мужчине на кухне делать нечего.» Вот она какая! Собственного мужа унижает перед служанкой…
– Оставайтесь у нас обедать, папа, – сказала дочь.
– Обедать? Ни в коем случае… Я ни в чьей жалости не нуждаюсь. Какой еще обед для меня?! Дай мне немного теплого супу да кусочек черствого хлеба, чтобы подкрепиться… Потом я встану и пойду, куда глаза глядят… Уж раз меня близкие выгоняют, пойду искать кров у чужих людей. И где-нибудь испущу свой последний вздох, и никто об этом не узнает… Вот так, зажился я… Даже родным в тягость…
Однако, за обедом тесть забыл о своих горестях и о том, что дни его сочтены и что суждено ему умереть у чужих людей. Он подкрепился и повеселел. После обеда ему захотелось поболтать. Отрывочные воспоминания всплывали в его сознании, он хмурил брови и с грозным выражением лица принялся разглагольствовать.
– Ты знала Шолара? Нет, ты его не знала, тогда ты была еще маленькая и ходила в школу домоводства… Этот Шолар держал речь… а я направился с депутацией к окружному гетману… «Скажите, – говорю, – пан начальник, по какому праву, спрашиваю я его, вы руководствуетесь законами “власти сильной руки”?» Он опешил и говорит: «Вы что, разбираетесь в законах?» – «Да, хоть я и не юрист, а все эти штучки знаю…» Потом у нас было собрание, и я сказал: «Собрание-то я открываю, но от председательства увольте… выберите, кого угодно другого, только не меня… Среди нас находится человек, чье имя я назову при всех, если он не сделает это сам… Я назову его подхалимом, если он не представится, а ежели представится, то воздержусь». – Председатель говорит: «но вы уже назвали его так, пусть встанет тот, к кому это относится…» Шолар покраснел как рак и ушел с собрания, и каждому стало ясно, что я назвал его так за дело… Да!.. Меня все знали, потому что я никому не давал спуску… А у вас, я вижу, лестница так и не починена, но ведь это опасно для жизни, я это предам гласности, если дело не сдвинется с места… Ну и разгильдяи же вы…
– Папа, возьми еще кусочек мяса, – прервала его пани Сырова.
– Не могу, доченька, не могу, ты не представляешь, как я слаб… Сегодня ночью мне приснилось, будто я в каком-то большом городе, вроде как в Кельне… но это был не Кельн, и там была большая казарма, как в Младой Болеславе… и я загружал фуру, сплошь шнурки для ботинок, одни шнурки, конца этому не было, а я очень торопился… И нет никого, кто бы мне растолковал, что значат эти шнурки для ботинок?.. Большую тяжесть чувствовал я в груди. Мать заказала для меня пояс на кошачьем меху… Доказано, что кошачий мех вытягивает все немочи… Ну, мне пора. Мама дома одна… так что ей от вас передать?.. Вы давно у нас не были, так негоже. Ну, прощай, да поскорее к нам приходите!
Когда зной немного спал, супруги отправились на прогулку. Они шли по селению, тянущемуся вдоль извилистой долины. На деревянном мостике, перекинутом через ручей, стоял шарманщик, надвинув на глаза козырек от солнца, и автоматически крутил ручку своего инструмента. На брёвнах, сняв пиджаки, сидело несколько стариков. Из ресторанчиков под открытым небом доносился глухой стук сбиваемых кеглей.
Супруги вознамерились было свернуть в поле, но тут путь им преградила процессия, двигавшаяся под бренчанье оркестра. Во главе процессии вышагивал мужчина, облаченный в платье барского надсмотрщика; у него были накладные усы, и он устращающе вращал глазами. Вслед за ним ехало верхом несколько мужчин и пышнотелых женщин в национальных костюмах, лошадиные гривы были заплетены в косички и украшены лентами.
Садовые рестораны были заполнены горожанами, которых привело сюда, под разноцветные фонарики, желание приятно провести воскресный день. Целыми семьями расположились они под раскидистыми каштанами, мужчины мусолили сигареты и потягивали пиво, женщины крошили в кофе рогалики. Дети отхлебывали красный и желтый лимонад. Распелёнутые младенцы в колясках блаженно сосали большой палец ноги. Это был благословенный воскресный день пражского маленького человека.
На полях волновались уже поднявшиеся хлеба. Над цветущим клеверным полем порхали флегматичные бабочки-белянки… На компостной куче вымахали огромные дикие маки. Резко пахло свекольными котлетами.
Супруги молча шли по меже, отмахиваясь от назойливых мух, которых привлекал запах пота.
И тут жена сказала: – Не знаю, в чем дело, но по-моему пани хозяйка что-то имеет против меня. Недавно я с ней поздоровалась, а она мне не ответила.
– Чиновника это ошеломило: – О, Господи! Ты ее чем-то обидела?
– Ума не приложу, – вслух размышляла жена, – разве что…
– Ну, ну? – настоятельно побуждал ее муж.
– Недавно, кажется, это было в среду, мне никак было не открыть окно. Она проходила мимо, и я ей крикнула: «Пани хозяйка, будьте так любезны, помогите мне открыть окно!..» Но она дернула головой, поджала губы и пошла прочь. Не могла же она на это обидеться?
– На что же здесь обижаться? Тут ничего такого нет. Вероятно, это просто недоразумение. Но я тебя прошу – будь осторожна… Никакого неудовольствия. Мы маленькие люди, мы находимся в зависимости от домовладельцев и должны исполнять их волю. Только по-хорошему, спокойно. К хозяйке ты должна относиться почтительно. Мы не можем себе позволить выказывать гордость, ведь мое жалование слишком мизерно…
– Это верно, но ведь не говорить же мне ей «целую руку»?
– Конечно, нет. Терпеть не могу такого пресмыкания. Я хочу быть равным среди равных. Ты жена чиновника, никто не смеет тебя обижать.
Глава шестнадцатая
На улице сгущаются сумерки, под зажженным фонарем на углу стоит группа подростков, обрывки их разговора доносятся до ушей чиновника, высынувшегося из окна.
– … говорит – знать ничего не знаю, тащи допуск, иначе и разговаривать не о чем.
– …его поставили правым полусредним, а он не потянул…
– …все без толку… но гоняли что надо…
– …что тут сделаешь, когда тебя все время опекают…
– …а ты мяч не держи, бей сразу…
– Мне противно смотреть на эту вашу мазню, – сказал горбатый подросток и презрительно цыркнул сквозь зубы слюной.
– Тебе хорошо говорить, – возразил ему долговязый юнец, – но если хочешь знать, такой мяч вообще не возьмешь.
–Гляньте, Бланка идет…
Через улицу перебегала девушка с высокой грудью.
– Иди к нам, мадам, дай полюбоваться! – крикнул горбун.
– Ишь какой, – сказала девушка, презрительно щуря глаза, – отвяжись от меня, понял?
– Пожалуйста, пожалуйста, – иронически раскланялся горбун, – передай от меня привет своим дражайшим предкам…
Девушка что-то ответила, но что – расслышать уже было невозможно. Горбун бросил ей вслед непристойное ругательство.
«Ну и народец, – ужасался в душе чиновник, – мне даже непонятно, о чем они говорят. Какое счастье, что мы живем в доме полицейского. Для таких убить человека ничего не стоит. Теперь вон сдвинули головы, наверняка сговариваются, как кого ограбить. Надо будет обратить на них внимание полицейского. Посадить бы их всех – и дело с концом».
Уже отходя от окна, он услышал детский возглас:
– Пан Фара, папа сказал, чтобы вы дали ему почитать детективные книжки.
– Передай папе, – прохрипел в ответ мужской голос, – что он многого хочет, пусть сперва вернет, которую у меня брал.
Чиновник захлопнул окно и пошел спать.
Тем временем к дому полицейского, взбираясь по ступеням, крались какие-то фигуры. Учитель Шолтыс стоял перед дверью своей квартиры и шопотом приветствовал входивших словами: «Господь Бог с вами!».
Тусклый свет лампы освещал их лица. Это были пожилые мужчины в черных долгополых пальто и пожилые женщины в невообразимо старомодных салопах.
Часы на здании школы пробили одиннадцать, когда откуда-то с первого этажа донесся странный сдавленный голос. Казалось, кто-то стонет, в отчаяньи моля о помощи.
Чиновник приподнялся на постели и широко раскрытыми от ужаса глазами вперился в темноту.
– Слышишь? – в страхе прошептал он.
Жена стряхнула с себя дремоту. – Что случилось? – сонно спросила она.
– Там… там… – заикаясь, произнес чиновник, – кого-то душат…
– Погоди… – сказала чиновнику жена, положив руку ему на плечо. Оба стали напряженно вслушиваться.
Через некоторое время снова раздались жалобные стоны, казалось, они исторгаются из горла женщины, испытывающей нечеловеческие страдания. Затем стали различимы отдельные слова.
– … оборачиваюсь, вижу церковь, – стенал голос, – оборачиваюсь, вижу людей… Но тот, кто взывал, услышан не был… И поднялась великая смута, нельзя было отличить грешника от праведника… многие подступались, но тут же были повержены… Господь обрушил свой гнев на вавилонян, посеявших семя злобы… А-а-а, он уже идет, я чувствую – он идет… Добро пожаловать к нам, брат, молви слово спасительное!
– Кто это еще идет? – прошептал чиновник, дрожа всем телом – Что за шум? Боже правый, да что же это такое? Поди, взгляни, что там происходит!
– А, я уже знаю, – спокойно произнесла жена, – это спириты собрались у Шолтысов. У них там столик, который вращается, и они вызывают духов. Пани Шолтысова и меня приглашала, но я сказала, что этим не увлекаюсь.
– Да разве это допустимо – вызывать духов посреди ночи? – с неудовольствием воскликнул чиновник. У него отлегло от сердца, и он принялся негодовать. – Мы вложили в эту квартиру свои кровные сбережения, а не можем даже спокойно выспаться. Вызывайте своих духов до десяти вечера! После десяти в доме должна быть тишина, никаких сборищ – это запрещено! Я этого так не оставлю. Пусть объясняются с нашим хозяином…
– Брось, – успокаивала его жена, – ведь в общем-то пан Шолтыс неплохой человек, такой вежливый, услужливый. Бывают жильцы и похуже. В старом доме у нас каждую ночь внизу устраивали драки, в пивной. Пьяницы поломали на лестнице перила… Везде что-нибудь да есть, нужно быть терпимее. У всякого барона своя фантазия. Кто-то увлекается духами, а ты иностранные марки коллекционируешь…
– Филателия никому не мешает, – возразил чиновник, – это занятие тихое. Но гвалт ни в одном приличном доме не потерпят. К тому же, должен тебе сказать, столоверчение – занятие противозаконное…
– Ладно, спи, – прервала его жена.
– Легко сказать – спи, – ворчал чиновник, – заснешь тут, как же?! До смерти напугали!
Было веселое утро, полицейский уже стоял в саду и смотрел на дружные всходы люцерны, которую он посеял на пологом откосе, отделявшем овощные гряды от цветника. Во двор вышла с ящичком пани Сырова и высыпала грудку золы.
– Вы уже встали? – приветливо воскликнул, обращаясь к квартрантке, плицейский, а про себя подумал: «Я хоть и не гляжу, да вижу. Мне и глядеть-то незачем. Стало быть, ты высыпаешь золу прямо на моем дворе?!»
Вслух он продолжал: – Я смотрю, люцерна что-то жидковата.
Пани Сырова сказала: – Долго ли еще постоят хорошие деньки?
– Думаю, постоят, – ответил полицейский. – Луна-то все прибывает. – Он и сам, расплываясь в улыбке, был похож на луну. Но в глубине души испытывал неудовольствие, не только от того, что у него на дворе ссыпают золу, но и от того, что чтото заставляет его улыбаться жилице. Он измерил пани Сырову косым взглядом и сказал себе: «Да, кто меня не знает, тот может подумать… Но лучше пусть не думает, не то это выйдет ему боком. О, я умею кусаться! По-твоему золу должен за тобой убирать я? Я тебе кто – работник или твой хозяин? Отвечай!»
– А как мы спали? – слащаво осведомился он.
– Плохо – ответила пани Сырова, – мы провели бурную ночь.
Полицейский поднял голову: – Как это бурную? – с подозрением спросил он. – Разве может быть в моем доме по ночам тарарам? Кто же это галдел? Небось, опять трафикант созвал свою компанию и до ночи дулся в карты. Я эту лавочку прикрою. Я ему покажу. Внес семь тысяч на строительство, платит тысячу двести за квартиру и воображает, будто имеет право галдеть. Мне он давно уже не по нутру. В будние дни ходит на деревянной ноге, а по воскресеньям и в праздники ему, видите ли, нужно нацепить на себя резиновую, пижон! Расфорсился! Плати он за квартиру побольше, тогда другое дело, – имей хоть десяток резиновых протезов… Придется мне, черт подери, наводить порядок!
– Да нет же, – прервала его пани Сырова, – у них было тихо. Гвалт стоял у Шолтысов. Мы даже спать не могли.
– Что вы говорите? – удивился домовладелец, – пан учитель… Вот-те раз! А еше образованный называется… Мне он казался таким тихим… В тихом омуте… Но я его вижу насквозь… Толкует мне о звездах, думает, я такой простак, что про звезды ничегошеньки не знаю… Ученость свою показывает. «Когда думаешь, что лучу света нужны сотни тысяч лет, чтобы преодолеть такое расстояние, то содрогаешься при мысли, как мы ничтожны…» Я отлично понимаю, на что ты намекаешь. Это ты ничтожный, а я-то не ничтожный. Пятнадцать тысяч на строительство, это тьфу по нынешним временам. Дай хотя бы двадцать тысяч, тогда и рассуждай себе о звездах сколько угодно! А образованностью мне в нос не тыч. Я ничего не кончал, но обо всем имею свое понятие.
Так говорил полицейский. Лицо его побагровело, и он все больше распалялся, испытывая потребность излить свое возмущение тем, что казалось ему оскорбительным.Он относился к довольно распространенной категории властных людей, которым доставляет наслаждение чувствовать себя уязвленным.
– Мы уже лежали в постели, – продолжала пани Сырова кротким голосом, – глаза слипаются… вдруг слышим страшный крик. Муж вскочил, спрашивает – что происходит?
– А что же было причиной такого шума? – дознавался полицейский.
– Они вызывали духов. Муж сказал: «Я ничего против спиритизма не имею, но я буду вынужден потребовать, чтобы при этом соблюдалась тишина. Я устаю и нуждаюсь в отдыхе». Разошлись они глубокой ночью. Мы потом долго не могли заснуть. И я сказала, что надо непременно сообщить об этом пану хозяину, чтобы он навел порядок.
– Будьте спокойны, я это сделаю, – ответил полицейский, – духов в своем доме я не потерплю. – Этого еще не хватало! В моем доме должны царить мир и порядок. Я не для духов строил жилище.
И полицейский, расставшись с пани Сыровой, решительно вошел в квартиру на первом этаже. Пан Шолтыс расположился за столом, погруженный в чтение. Его жена сидела за швейной машинкой и шила. Канарейка прыгала в клетке, норовя перекричать стрекот швейной машинки.
Полицейский пожелал обоим доброго утра.
– Благослави вас Господь! – глухим голосом ответил учитель. – С чем пожаловал к нам пан хозяин?
– Значит… – начал полицейский, поводя пальцем за воротничком, – значит так – на вас поступила большая жалоба, если можно так выразиться… – Он смутился и, вкрадчиво улыбаясь, принялся энергично потирать руки.
– Да что вы?! – удивился пан Шолтыс.
– Вот так! – продолжал полицейский, с трудом подыскивая слова. – Говорят, в доме стоял неописуемый гам. А я на это, мол, надо выяснить. Только по-хорошему, такое мое правило. Один другому уступает, – вот как надо!
– Не понимаю, о чем вы, – тихо произнес учитель.
– А тут и понимать нечего! – взорвался полицейский. – Дело не во мне. Это пани Сырова жалуется, что вы вызываете духов. Говорит, они с мужем спать из-за этого не могут. Я-то не больно прислушиваюсь к ее словам, знаю, с кем имею дело. Это люди, которые всех ставят ниже других и перед всеми пыжатся. Я уж давно присматриваюсь к их поведению, и терпение мое лопается. Но должен вам сказать – духов в доме я не потерплю. Вызывать духов – это нарушает домовый распорядок, потому как шума много.
– Но, пан хозяин… – печальным голосом возразил учитель, – в конце концов мне было бы понятно…
– Послушайте, – прервал его полицейский, – после десяти вечера всякие сборища запрещены. Так заведено во всем мире. Никаких духов больше не будет – все!
– Послушайте, пан хозяин, – жалобно произнес учитель, но я не могу не общаться с духами…
– Бросьте, – грубо оборвал его полицейский, – какой от этого прок? По мне так этих духов хоть бы и вовсе не было!.
– Что верно, то верно, не все испытывают потребность в общении с Неведомым… Но ведь у человека есть и другие запросы, кроме удовлетворения плотских желаний. Впрочем, если даже подойти к этому с практической точки зрения, то… Дед Гинек, который явился нам во время сеанса, рекомендовал снять квартиру именно у вас. Я поступил так, исключительно следуя его совету. Ибо дед Гинек, когда был на этом свете, отличался редкостной рассудительностью, и я всегда с большой пользой для себя руководствовался его советами. Если бы не его подсказка, я бы подыскал другую квартиру…
– Ха-ха, подумаешь, облагодетельствовал меня этот ваш дед Гинек! – с ухмылкой отозвался полицейский. – Вы что же думаете, не нашлось бы других желающих снять у меня квартиру?! Как бы не так! От жильцов сейчас отбоя нет! Прямо-таки, без деда Гинека мне зарез! Вы мне дали пятнадцать тысяч на строительство и ежегодно платите три тысячи за квартиру. И я еще должен разрешать духам шастать по моему дому?! Этого еще не хватало! Так вот, предупреждаю, спиритизм – занятие противозаконное. У меня могут быть неприятности по службе, потому как полицейский обязан пресекать незаконные действия, и уж тем более не потрафлять нарушителям. Вот так-то, сударь! Словом, духов в своем доме я не потерплю! И – баста!
Пан учитель поднялся и ласково положил руку на плечо полицейскому.
– Пан хозяин, – сказал он, не повышая голоса, – вы выразились в том смысле, что мы мало платим за квартиру. По нашим доходам, однако, это деньги отнюдь не малые. И это требует от нас больших усилий, поверьте мне! Ну да ладно… С другой стороны, ни я, ни моя супруга не можем отказаться от общения с братьями. Ведь это единственное, что поднимает человека над суетной повседневностью и возносит в заоблачные выси. Мы не оплакиваем потерю своих близких, потому что знаем: они продолжают жить и разделяют с нами наши радости и горести…
– Все это прекрасно, – резко оборвал его полицейский, – но это не дозволяется, и это мое последнее слово!
– Я еще не все сказал, пан хозяин, – мягко произнес учитель, – вернемся к квартирной плате. Если вы разрешите нам наши сеансы, я, не колеблясь, прибавлю некую толику за квартиру.
Полицейский весь обратился в слух..
– Продолжайте, пан учитель, – любезно побудил он собеседника, – все, что будет в моих силах, я сделаю. Ведь вы знаете, я всегда иду жильцам навстречу. У кого есть ко мне подход, тот запросто договорится со мной.
– Я буду приплачивать вам пятьсот крон в год, – продолжал учитель.
– Пятьсот крон? Да вы что, смеетесь? Вы забыли, что речь идет о противозаконном деле?! Вот тысяча – это другой разговор.
– Восемьсот, – торговался учитель.
– Идет, – согласился полицейский, – знайте мою доброту. Не хочу прослыть человеком, который препятствует общению с дорогими усопшими. Никто не посмеет вам этого запретить, я за вас заступлюсь. Посмотрю я на того, кто вздумал бы вас ущемлять. Восемьсот – договорились. А с пани Сыровой я разберусь, нечего на других наговаривать…
И он ушел, удивленно покачивая головой.
«Кто бы подумал, – рассуждал он про себя, – что и от духов может быть польза. Да еще какая польза! Большая польза! Восемьсот… Очень хорошо. Уменьшается долг в банке…»
И полицейский прибавил шагу, чтобы поскорее сообщить эту новость жене.
Глава семнадцатая
В тот день у полицейского не было дежурства. Он управился с самой черной работой в саду и теперь в одних лишь грубых холщевых штанах, без френча, прохаживался по дорожкам, аккуратно посыпанным им синеватым шлаком.
Созревало знойное лето, стояли последние дни июня… Хозяин дома осматривал свое хозяйство и с удовлетворением отмечал: сад приумножит его достаток. Раскинув широкие листья, наливалось кольраби; дружно тянулись кверху мясистые стебли лука-порея; крупные кочаны капусты, сгрудившись, покоились в лоне листьев с фиолетовым отливом. Розовые и голубые фиалки источали пряный аромат,напоминавший запах французской пудры. Полицейский обходил грядки, порой наклонялся, чтобы вырвать сорняк, который высасывает из почвы питательные соки, предназначенные для культурных растений. Потом он уселся на скамейку и устремил мечтательный взгляд на красную крышу своего дома, где, раздувая зобы, сладко ворковали голуби. Сердце полицейского преисполнилось нежностью, и он сказал себе: «Этот дом с такой красивой красной крышей – мой, и голуби тоже мои. После двухнедельной отсидки на чердаке они уже здесь привыкли, теперь они не улетят, потому как твердо усвоили, что являются моей собственностью.» Он позавидовал голубям, которые могут парить в воздухе и обозревать его владения с высоты. «Я видел свой дом со всех сторон, – думал полицейский, – но каков он сверху? Наверняка и сверху он красив, красивее других.»
Он встал и направился во двор, где вереницей расположолись клетки для кроликов и выгородки для домашней птицы. Завидев полицейского, кролики усаживались на задние лапки, а передними упирались в проволочную сетку, выпрашивая корм. Хозяин давал им кочерыжки и ликовал, глядя, как они соперничают из-за лакомства и с какой жадностью, забавно подергивая носишками, поедают кочерыжки. «Ешь, кормись, живность, – приговаривал полицейский, – жирей побыстрее, чтобы вскорости доставить мне удовольствие на противне.Вы и не представляете, как вы вкусны под сметанным соусом.»
Повернувшись к курятникам, он проговорил: «А вас, курочки, я выпущу. Ищите себе червячков, но в сад не лазать, чтобы там не нашкодить. Грядки жильцов разгребать дозволено; жильцы не имеют права вас обижать. Но на участок соседа ни-ни, а коли заберетесь, будьте осторожны. Потому как сосед – злыдень, и вам может от него достаться. И усердно неситесь. Летом яичко стоит восемьдесят геллеров, а зимой за него дают целую крону. Крона да крона итого две кроны. Крона льнет к кроне. Глядь, вскоре уже целая кучка. Такая вот арифметика…»
– Цыц, Амина, лежать, – приказал он собаке, которая металась на цепи, вымаливая у хозяина хоть малую толику внимания. – Ну, ну, знаю, ты псинка хорошая, хорошая, сторожи как следует, чтобы плохие люди не нанесли ущерба имуществу хозяев… – Он погладил собаку, и та, ошалев от радости, плюхнулась на спину и засучила всеми четырьмя лапами.
– Ну а теперь я схожу в подвал за инструментами, – сказал полицейский, – надо починить лестницу, понимаешь, Амина?
Амина потянулась, заскулила, ибо сердце ее изнемогало от избытка чувств.
Не успел полицейский уйти, как во двор заявился пес, обитавший по соседству. Он не скрывал своего интереса к сучке полицейского – этот уродливый пес, поросший жесткой, в желтых подпалинах, шерстью и с бельмом на левом глазу. Однако, несмотря на малопривлекательную внешность, Амина принимала его весьма благосклонно, поскольку он скрашивал ей скуку долгого сидения на цепи. Застав свою подружку в одиночестве, желтый пес возрадовался и преисполнился надеждой, что приблизился момент, когда его мольбы будут услышаны. Он принялся прыгать вокруг Амины, трепать ее за уши, издавая отрывистый, нетерпеливый лай. Он принялся совершать ритуал, являющийся составной часть собачьего ухаживания.
Но тут неожиданно во двор вернулся из подвала полицейский и, завидав чужую собаку, сердито затопал ногами
– А ну, пошел отсюда, портняжий ублюдок, – рявкнул он, вращая глазами. – Ещё не хватало, чтобы тут у меня чужие собаки ошивались!
Жёлтая псина в страхе сиганула через невысокую оградку и со всех ног бросилась прочь, сопровождаемая бранью полицейского и яростным лаем сучки, которая, смекнув, что хозяин не одобряет их отношений, сменила благосклонность на ненависть.
– Говорила я тебе, – орала Амина, – пан против того, чтобы я с тобой водилась. Не лезь ко мне, гадкий пес. Мы тебя видеть не желаем…
Портновский пес, чувствуя себя за оградой в безопасности, повернул морду вбок и принялся истошно выть, выражая разочарование по поводу обманутой любви.
– Хорошенькое дело, – ворчал полицейский, – еще не хватает,чтобы сучка ощенилась… На кой ляд мне щенки? Их никто не купит. На что они мне… Скажу портному, пусть собаку привязывает, если не хочет нарваться на неприятности.
Он заскрежетал зубами и погрозил кулаком в сторону забора.
После обеда у пана Сыровы были гости. Пришла его двоюродная сестра – дородная, румяная женщина, которая привела с собой двоих детей. Тяжело дыша, отдуваясь, она принялась жаловаться на крутизну ступеней, из-за чего, пока она карабкалась наверх, у нее началось сердцебиение.
Пани Сырова угостила детей сладостями и предложила им поиграть на террасе. Шестилетний кудрявый мальчик и рыжая, розовощекая девчушка, взявшись за руки, вышли за дверь.
Дородная пани отпила из чашечки кофе и завела беседу. Речь ее была столь монотонна, что навевала сонливость. Чиновник почувствовал, что у него слипаются глаза. Извинившись, он удалился в спальню.
– У вас тут чудесно, – говорила, вздыхая, румяная пани, кругом зелень, чистый воздух. Единственно – немного далековато. А какие у вас отношения с хозяином?
– Очень хорошие, – ответила пани Сырова, – он любезен и во всем идет нам навстречу. Мы им довольны.
– В таком случае вы можете только радоваться, – рассудительно сказала кузина, – в наше время это большая редкость.
Подумав, она добавила: – У тебя хороший кофе. Почем ты покупаешь?
– Осьмушка за семь крон, – ответила пани Сырова.
– То же, что и в городе, – вздохнула румяная пани, – везде одинаково… Так хозяин, говоришь, у вас неплохой? Это хорошо. Это хорошо… Нам вот не повезло. Наш требовал, чтобы мы съехали. Задарма, говорит, квартируете. Мыслимое ли это дело? За нашу квартиру давал больше какой-то торговец. Хозяин кинулся в суд, где рассматривают дела о найме. Но суд постановил, что съезжать мы не обязаны. Да и куда съезжать-то? Денег у нас нет, приходится сидеть на одном месте. Зато теперь у нас каждый божий день дверные ручки вымазаны нечистотами. Я-то знаю, чья это работа. Это дело рук дворника, и пакостит он по наущению хозяина. Но поймать его с поличным мы никак не можем. Так и мучаемся. И никакой управы на них нет.
– Да, скверно, – сочувственно произнесла пани Сырова.
Детей привлекла куча песка перед домом. Они принялись выбирать голубые и розоватые камешки, тихо о чем-то воркуя.
– Красивый домик, правда? – восторгалась рыжая девчушка.
– И никакой он не красивый, – упрямо возражал мальчик.
– Этот домик замеча-а-ательный, – нараспев тянула девочка.
– Наш еще замечательнее, – твердил мальчик. – В нашем доме на лестнице зеркала.
– Да-а, – соглашалась девчушка.
– У нас на лестнице красный ковер.
– Да-а.
– А на стенках нарисованы розы.
– Да-а.
– А у дворника есть галка, она садится ему на плечо. Кыш, галка!
– Да-а.
Сзади тихонько подкрался полицейский и стал подслушивать лопотанье детей.
– А в этом доме нет ни зеркал, ни нарисованных роз, – продолжал мальчик, презрительно морща лоб, – он гадкий, гадкий, самый гадкий из всех.
Злость закипела в полицейском. «Они поносят мой дом, – заскрежетал он зубами, – какая наглость!», – подумал он.
– Кто вам сказал, что мой дом гадкий? – елейным голосом проговорил полицейский. – Это вам пани Сырова сказала, а?
– Ну говорите, детки, говорите, я вам кроликов покажу, не унимался полицейский. – Или это сказал пан Сыровы?
Но ответа он так и не дождался. Побагровев, он затопал ногами и зашипел: – Вон отсюда, негодники, не то огрею вас палкой!
В этот момент на террасе пояилась пани Сырова с кузиной. Полицейский осекся, подвигал шапкой на голове и сказал: – Смотрю, как хорошо здесь детки играют… Песок для них радость. Я это знаю. Играйте, ребятки, играйте, и не смотрите на меня так… Я вас не обижу, какое там! Я умею с детьми.
– Какой здесь чудесный воздух, – защебетала румяная пани, – а какой замечательный вид! – добавила она, глядя на город,простиравшийся у ее ног, город задымленный, подернутый сизой дымкой, необъятный, увенчанный куполами и башнями.
– А то как же, – принялся похваляться полицейский, – здесь воздух как в горах. О, я приискал хорошее местечко для своего жилища.
Пани Сырова позвала детей к полднику.
Полицейский, хмуро глянув на то место, где только что стояли дети, пробурчал: – Чудесный воздух, говорит. Я тебе покажу чудесный воздух! Чудесный воздух и красивый вид только для тех, кто платит за квартиру, а не для каких-то там посторонних баб… Терпеть не могу гостей в своем доме. Разве за ними уследишь. Будут тут без моего ведома шастать всякие! Еще вред какой причинят!
Он пошел в сад, постоял над яблоневым саженцем. Единственный розовый цветок отцвёл, оставив вместо себя зеленый плод, наливавшийся в солнечных лучах.
«Вот у меня растет яблоко, – сказал себе полицейский, – первое яблоко в нашем саду… Надо беречь его как зеницу ока. Горе тому, кто на него позарится. Руки перешибу!.. Сад закрою и никому не разрешу сюда входить, особенно детям. Дети хуже любой скотины».
Глава восемнадцатая
– Слышь, Анастазия, – обратился дома полицейски к жене. – Сыровы плохо отзываются о нашем доме. Не нравится он им. Якобы в других домах зеркала и ковры на лестнице. Дождался. Наш, видите ли, некрасивый. А я-то, добрая душа, молчу и все им спускаю. Вот тебе и благодарность за все.
– Так! – бросила жена и, схватив глазурованную кринку для молока, отправилась к лавочнице.
– А вы, – сказал после ее ухода полицейский своим детям, – все отложите и ступайте на улицу. Ходите от дома к дому и прислушивайтесь, что говорят люди. Если кто будет толковать о нас, сейчас же прибегите мне сказать.
Дочка вскочила и опрометью выскочила за дверь.
Подросток вразвалку вышел на улицу и с тупым выражением лица уселся на кучу щебня. Достав из кармана складной нож и высунув язык, он принялся усердно обстругивать деревяшку.
Жена полицейского вошла в лавку, где обычно под вечер собирались женщины из окрестных домов. При лавке был еще и механический каток для белья. Здесь женщины простаивали, оживленно судача, собирая и затем разнося новости по всей округе. Не было ни одного человека, которому не перемыли бы у катка косточки. Трудно было утаить семейные дела в здешних местах, лишь недавно ставших окраиной разраставшегося города.
Жена полицейского, благодаря служебному положению своего мужа, играла здесь заметную роль. Власть полицейского над мелкой сошкой неограниченна. Ведь в полицейском воплощена частица государственного могущества. Полицейский – лицо привилнгированное, и закон защищает его в гораздо большей степени, нежели простого смертного.
– У Сыровых, – рассказывала жена полицейского, – сегодня были гости. Пришла пани с двумя детьми.
– Так-с, – отозвался лавочник, колдуя над цикорием, чтобы разноцветные пакетики, будучи расположенными на полках, образовали геометрический орнамент.
– М-да, – продолжала женщина, – но такие гости не делают им чести. Мой сказал: «Ну и ну! У пани такой пронзительный голос, что ее во всем доме было слыхать».
Лавочник издал звук, который вполне можно было принять за выражение согласия.
– Мой муж эту пани знает… О, это такая особа, что не приведи Господь! Перед войной она, – тут жена полицейского понизила голос до шепота, – держала дом терпимости в еврейском квартале. Моему пришлось там как-то наводить порядок, когда клиенты затеяли драку.
Лавочник откашлялся и сказал: – Иной раз сболтнут, и пошло – поехало.
– Наш дом им не по вкусу, вы только подумайте… Якобы не дом, а развалина. Стены сплошь в щелях, того и гляди рухнет.
В этот момент вошла жена лавочника и, услыхав последние слова, спросила: – Кто же это такое может говорить?
Но муж принялся гневно ей подмигивать и сказал: – Что ты здесь забыла? Я обслужу покупателей сам. Ступай лучше наколи дров, у нас уже ни поленца.
– Но если вам у нас не нравится – скатертью дорога, – продолжала свой рассказ жена полицейского, – свет на вас клином не сошелся. Мой сказал, что этой квартирой интересовался какой-то врач. Они так важничают, что даже павлина хотели завести, а самим есть нечего. Но Фактор им не дозволил. Он им сказал: «Никакого павлина не будет. Здесь я решаю, что можно, а чего нельзя». Небось, она ждет, что я буду с ней здороваться, как бы не так. Кто здесь хозяйка, я или она? Что вы на это скажете, пан Мейстршик?
Лавочник, проронив лишь: – Ну, это, ну… – нагнулся, чтобы передвинуть боченок с капустой.
– Ну, пойду, – заявила жена полицейского, – а эти полфунта сахара, что я взяла, запишите в долг. Рассчитаемся после воскресенья.
– Не горит, – живо отозвался лавочник.
Когда она ушла, лавочник крикнул жене, уже хлопотавшей на кухне: – Сколько раз я тебе говорил, Майдалена, в присутствии фараонши не раскрывай рта. Молчи, не то пойдут пересуды. Лучше ни во что не впутываться. Я не хочу портить отношения с полицейским. Фараонам всегда верят на слово.
– Да ведь я ничего такого не сказала, – оправдывалась Майдалена.
– Не только ничего не говори, но забейся куда-нибудь в угол, чтобы тебя и видно-то не было. Люди так могут напакостить…
Жена полицейского подошла к женщинам, сидешим на ступенях крыльца и объявила, что портняжке Менцлю не сдобровать, так как он запустил комом земли в их курицу, сунувшуюся было в соседский огород. Она сказала, что вся улица увидит, как обходятся с человеком, не уважающим чужую собственность. Полицейский ему задаст. Сообщение о распре между соседями женщины с удовлетворением приняли к сведению. Весть о предстоящей стычке облетела улицу и достигла ушей всех ее обитателей.
Полицейский вышел в сад с лейкой в руке. В тот же миг появился портной, прикрепил шланг к крану и приготовился поливать гряды. Обитатели дома напротив сгрудились у дверей, с нетерпением ожидая дальнейшего развития событий.
Соперники приветствовали друг друга с холодным достоинством.
– Будете поливать? – спросил полицейский.
– Так точно, – ответствовал портной. – Дождя не дождаться.
– Да уж.
– Салат пошел в рост, – сказал портной, чувствуя озноб – предвестье назревавшего конфликта.
– Зато сельдерей чахлый, – заметил полиейский, хмуря лоб.
Они вели себя, как едоки за миской слив. Сперва выбирают зрелые и сочные плоды, пренебрегая сморщенными и подгнившими. Но аппетит растет во время еды. И поглотив непопорченные фрукты, люди довольствуются и подгнившими. И в конце концов съедают все.
Так поступали и оба соседа. Сначала они потчевали друг друга учтивыми словами, сопровождая их приветливой улыбкой. Но, исчерпав запас вежливых выражений, они перешли к глухим намекам.
Полицейский упомянул о своей курице. Портной в ответ заметил, что не для того он ухаживает за своими грядками, чтобы их разрывала чужая живность. Полицейский высказался в том смысле, что птица лишена разума, тогда как портной разумом наделен и потому мог бы снисходительно отнестись к проступку курицы. Портной парировал: вот именно потому-то полицейскому и следовало позаботиться, чтобы его курицы не заходили за границы участка. Полицейский сказал, что за курами не уследишь. Курица не настолько понятлива, чтобы уважать чужую собственность. Портной намекнул, что полицейский нарочно засылает своих кур портить ему огород.
– Знаем мы это, – помаргивая, сказал портной.
– Много вы знаете, – отозвался полицейский. – Чья бы корова мычала…
– Посторонним на моем огороде делать нечего, – твердо сказал портной.
– Больно мне нужен ваш огород, – гаркнул полицейский.
Мужчины начали перебрасываться ругательствами, словно швыряя через забор дохлую кошку.
Портной одерживал верх, поскольку был языкастее. Он попрекнул полицейского тем, что тот держит своих родителей в черном теле; недавно он, сосед, даже угостил на кухне мать полицейского кофе, сжалившись над ее бедственным положением. Сперва позаботься о том, чтобы твоим старикам не приходилось побираться у чужих людей, а уж после указывай! Но корчить из себя пана и при этом не накормить ближних – это смешно!
– Вы… вы… – орал полицейский, – вы, аристократы!.. Да я на вас плевал с вашими этими балконами и креслом-качалкой. Я на это уже не клюю… Кое-кто имеет, к примеру, балконы, задирает нос, а дочка тем временем…
Тут полицейский осекся, вспомнив о судебных тяжбах и о своем служебном положении. И лишь пробормотал, мол, на каждый роток не накинешь платок, но он-де не охотник до сплетен. – Я в чужие дела не вмешиваюсь, – произнес он.
– Надеюсь, что так, – отозвался портной и ушел с чувством победителя.
Толпа любопытных разбрелась, разочарованная. Лавочник, заприметив среди развесивших уши женщин свою жену, крикнул ей: – Майдалена, домой! У тебя молоко уходит!
А когда жена вошла в лавку, сердито сказал:
– Зачем тебе там понадобилось слушать, белобока ты эдакая?! Разве не говорил я тебе, чтобы ты ни во что не вмешивалась?!
– Да разве я вмешиваюсь? – защищалась супруга. – Я и не думала слушать! Мне и дела-то ни до чего нет, знать не знаю, где там что происходит.
– Если где-то сыр-бор, тебе там не место. Наша хата с краю. Мы люди торговые. Портной покупает у нас. Что как дойдет до суда, тебя – в свидетели. Отваживать клиентов я не намерен. Если каша заварится, скажешь, что ты глуха, как полено, и ничегошеньки не знаешь. Поняла?
После того, как портной ушел, полицейский ощутил смутное недовольство результатом поединка. Он обеспокоился: не сложилось ли у соглядатаев впечатления, будто верх одержал портной, что могло бы повредить его, полицейского, репутации во всей округе.
Снедаемый опасениями, он постучался к пани Сыровой и спросил, не слыхала ли она, как портной назвал его «негодяем».
– Он посмел меня обругать, – сказал полицейский, – и вы наверняка это слышали. Больно много он себе позволяет. За оскорбление полицейского полагается тюрьма.
– Я ничего не слышала, – сказала пани Сырова, – потому что обваливала в сухарях отбивные… Слышала какой-то шум, но из-за чего – это мне неизвестно.
– Однако, – упрямо настаивал хозяин, – вы должны были слышать, как он произнес «негодяй». Ведь он так орал, что небось вся округа слыхала.
– Не знаю, – сказала пани Сырова, – не думаю, чтобы он осмелился вас ругать. Он прекрасно понимает, к чему это приведет, и не станет вредить самому себе. Я слыхала только, что речь шла о курице. Больше я ничего не знаю и ничего сказать не могу.
– Но даже если вы не слыхали, как он выражается, – продолжал напирать полицейский, – вы не можете не согласиться: такой человек способен на любые выражения. Ведь он отпетый мерзавец, ему на все наплевать. Но со мной шутки плохи, уж я позабочусь о том, чтобы его сгноили за решеткой. Мое слово там, наверху, значит много. И никакие виллы с балконами ему не помогут… Но все ж таки странно, что вы не слыхали, как он обругал меня негодяем, меня это крайне огорчает.
– Что знаю, то знаю, а чего не знаю, того не знаю, – отозвалась жиличка.
– Ну что ж, ничего не попишешь, – произнес полицейский, саркастически усмехаясь. – По крайней мере все ясно… А я-то думал, вы заодно с хозяином. Теперь по крайней мере знаю, что и как…
Когда чиновник пришел домой и сел обедать, жена принялась рассказывать ему о ссоре между хозяином и соседом. Чиновник слушал с озабоченным видом и раздумчиво качал головой.
– Портной Менцль, – сказал он, – человек неуживчивый и склочный. Он не старается поддерживать добрососедские отношения. И думаю, он достаточно зловреден. Я знаю, что он бросает через забор всевозможный мусор, осколки и тем самым засоряет наш сад. Лишь благодаря миролюбию полицейского мы избегали ежедневных/нас миновали ежедневные скандалы.
Он склонился над тарелкой и сосредоточенно принялся разрезать отбивную.
– Жить в мире и согласии со всем человечеством, – произнес он, многозначительно потрясая ножом, – это залог жизненного успеха. Портному Менцлю следует об этом помнить. О себе мы, слава Богу, можем сказать: мы умеем ладить со всеми. И потому пользуемся заслуженным уважением. Ну вот я и насытился. А теперь, мамочка, дай-ка мне черного кофе.
Супруга поставила перед ним чашку с черным кофе и сказала: – Пан хозяин хотел, чтобы я подтвердила, как портной обругал его.
– И что ты ему на это сказала? – обеспокоился чиновник.
– Что я ничего не знаю.
– И правильно сделала, жена. Ничего не слушай и ни во что не вникай. В чужие распри вмешиваться нельзя. Ведь мы хотим со всеми быть в хороших отношениях. Поэтому нас следует быть глухими и слепыми.
– Да, – сказала супруга, – но дети хозяина с некоторых пор со мной не здороваются. Что бы это значило?
– Не здороваются? – чиновник задумался. – Пусть себе не здороваются. Верно, они просто не знают, что это полагается делать. Их никто не воспитывает. Не обращай внимания и занимайся своими делами. Будь благоразумна, бери пример с меня!
– Ох, ох… – завздыхал чиновник, – ну и уморился же я нынче в конторе… Пан шеф захворал, и бремя забот легло на мои плечи. Мне нужно немного отдохнуть. Да, да… нужно сделать небольшую передышку.
Глава девятнадцатая
Уже несколько дней стояла нестерпимая жара. Воздух был неподвижен, как монолит, а трава, цветы и деревья покрылись ржавой пылью. Улицы раскалились, словно под для выпечки хлеба, прохожие жались к стенам домов. С кленов, обрамлявших извилистые тропинки, слетали, кружа, крылатые семена. На межах стояли гуси, спрятав одну ногу под крыло и меланхолически склонив голову набок. Курицы полицейского оставили суетливую беготню и, вырыв ямки, расселись над канавой. Они замерли там в оцепенении, их глаза подернула голубоватая пелена. Амина лежала перед конурой, положив морду на вытянутые лапы, и о чем-то мечтала, не обращая внимания на мух, роившихся вокруг ее гноящихся глаз.
Пополудни на голубевшем, точно каленая сталь, небе появилось пухлое облачко с желтыми краями. Все пришло в движение. Деревья затрепыхались, а над дорогой поднялись, закружились клубы пыли, увлекая за собой клочки бумаги и соломинки. С полей потянуло прохладой. Небо покрылось зловещей мглой, и где-то вдали громыхнул гром. С громкими выкриками женщины бросились закрывать окна и снимать развешанное белье. «Быть грозе» – многозначительно изрекали старики, с тревогой поглядывая на небо.
Небо рассекла изломанная молния, сопровождаемая сухим треском, – точно разорвали холстину. Разразилась гроза, и на землю хлынули потоки воды.
Когда гроза прошла, отдаляясь с глухим и сердитым ворчаньем, обратив свою мощь в мелкий дождик, кухня у Сыровых наполнилась едким дымом, который, не находя себе выхода в сыром воздухе, повалил через печные заслонки вспять. Нужно было звать печника.
Пришел зять полицейского. Печально осмотрел печь и сказал:
– Дело тут не только в грозе, нужно подправить дымоход. —Он разложил свои инструменты и принялся за работу. Молча снял метлахские плитки, меланхолически вымесил податливую глину и в облаке взвихренной сажи стал подгонять кирпич к кирпичу. К полудню он с работой управился, положил в топку лучины и зажег бумагу. Сперва огонь робко, словно пробуя поленья на вкус, лизнул их, а потом загудел во всю мочь. Уже вскоре плита так и пылала жаром.
Сухопарый мужчина утер нос тыльной стороной ладони и сказал:
– Все в порядке. Думаю, печка не сплохует. А если что, сразу позовите меня, я все налажу. Но думаю, этого не потребуется.
Он переступил с ноги на ногу, поскреб в хохолке на макушке и добавил, хмуро глядя себе под ноги: – Последние башмаки донашиваю. И одежонка поистрепалась. Так-то вот…
Он поднял глаза на пани Сырову, смотревшую на него непонимающе.
– Одежонка, говорю, поистрепалась, – продолжал он. – Собачья жизнь. Не найдется ли у вас, милостивая пани, какого-нибудь старого мужнина костюмчика?
Тут пани Сырова все поняла и загорелась желанием помочь. Она вышла в прихожую и достала из шкафа костюм в красную крапинку, – точно спинка форели.
– Не подойдет ли вам это? – спросила она печника.
Сухопарый взял костюм, подошел к окну и стал тщательно рассматривать, на ощупь определяя качество материала. Тихая радость засветилась в его слезящихся глазах.
– Да благословит вас Господь, милостивая пани, – принялся благодарить он. – Костюмчик – загляденье, отменная шерсть. В нем я буду что пан. Жена одобрит.
– Донашивайте на здоровье, – сказала пани Сырова.
Пока они разговаривали, и сухопарый мужчина громогласно выражал свою радость по поводу подаренного костюма, пани хозяйка, что серна взбежала на второй этаж и влетела в квартиру трафикантши.
Сказала: – Я должна слышать, что говорят там, внизу.
Она встала у полуприкрытых дверей и с напряженным выражением в лице принялась подслушивать. Снизу до нее донесся голос печника, нахваливавшего добротность подаренного костюма и выражавшего готовность оказать любую услугу.
– Что понадобилось брату от них?.. – с жадным любопытством спросила пани хозяйка.
– Откуда ж мне знать, – отозвалась трафикантша, – верно, печку у них чинил.
– А о каком это они говорят костюме? – допытывалась жена полицейского.
– Ему дали поношенную двойку господина чиновника.
– Двойку ему дали? Хорошенькое дело. Нам он ничего не сказал. Ему бы только попрошайничать. Глаза завидущие у нашего братца. Что ни увидит, – все ему подавай! То-то муж удивится, когда узнает, что брат якшается с жильцами. И это в благодарность-то за все…
Она замахала руками, сбежала по лестнице и выскочила на улицу.
Когда полицейский вернулся вечером с дежурства, жена сообщила ему, что зять с ними хитрит. Не произнеся ни слова, полицейский натянул френч и отправился к сухопарому.
– Что ты делал, Алоиз, у Сыровых? – начал он дознание.
– Что ж я еще могу делать? – ответил печник. – Говорят, печь барахлит. Ну я и подправил ее.
– Гм… А что ты получил от пани Сыровой?
– Что я получил? Ничего не получил. – отпирался печник.
– Не отпирайся! – громыхнул полицейский. – Получил, не юли! Мне все известно, ты это знаешь… Меня, сударь, не проведешь! Костюм ты получил, вот что. Покажи!
– Какой костюм? – попытался было увильнуть печник.
– Да не бойся ты, дурень, – уговаривал его полицейский, не отберу я у тебя этот костюм! Больно мне нужно старое тряпье…
Сухопарый внял уговорам и нерешительно протянул полицейскому подаренную одежку.
Полицейский ловко расправил пиджак, осмотрел подкладку, прощупал карманы и произнес безразличным тоном: – Ну, сказать по правде, ничего особенного. Не больно-то в нем пофорсишь… Деясятку я тебе за него дам, сейчас у меня как раз такое настроение, что готов сорить деньгами…
– Ну уж нет, – сказал печник, любовно поглаживая сукно. – Костюмчик – первй сорт, и я рад, что у меня есть такой.
– Ну и балда же ты, – укоризненно произнес полицейский. – Воображаешь, будто у тебя Бог весть что, а я-то вижу, что оно сплошь в дырьях. Штаны ветром подбиты. Мальчишку отдам в ученье, вот и закажу перешить на него, пусть донашивает за прилавком. Десятку, говорю, дам. Бери, пока дают…
– А что мне десятка? – возражал зять, – гляну на нее и тю, тю, а костюм поношу, потому как сукно добротное…
– Ну на кой он тебе, – ласково уговаривал полицейский, ты и надеть-то его не сможешь. Ты вон какой дылда, а Сыровой – что женатый воробей.
Печник задумался и приложил брючины к своим ногам. Штанины и впрямь доходили ему лишь до щиколоток.
Тем не менее он всей душой прикипел к подаренному костюму и решил не расставаться с ним.
– Не продам, – твердо заявил он.
Полицейский завращал глазами: – Не продашь? – прошипел он. – Ну хорошо же! Но запомни, я тебе этого не забуду! Ты еще пожалеешь, скупердяй костлявый!
Печник прижал штаны к груди и стал кричать, дрожа перед разъяренным полицейским, как кролик перед удавом. – Не продам. Не продам!..
– Да я вообще могу отобрать у тебя этот костюм, – орал полицейский, – потому как ты без моего ведома взял его у моего жильца… Жильцы не имеют права раздавать свои вещи без разрешения хозяина. Есть такая инструкция… Нечего сказать, красиво же ты поступаешь, сговариваешься с жильцами за спиной собственного зятя. Ладно, ладно… Но чтобы твоей ноги не было в моем доме. А увижу – спущу на тебя собаку, дрянь ты эдакая!
И полицейский хлопнул дверью.
Побагровевший, как медный таз, он трусил к своему дому, шипя: – Не позволю! Запрещаю! Не потерплю!..
Глава двадцатая
На следующий день был праздник. После обеда пани Сырова осталась дома, чиновник же решил навестить дядюшку Криштофа.
– Поскольку я давно у него не был, – сказал он, – а забывать родственников негоже.
– Сходи, – согласилась жена, – а я пока починю белье. – И она села за швейную машинку.
Дядюшка Криштоф жил в одном из старых пражских домов в районе Нове Мнесто. Это было серое здание, тихое и тяжеловесное. Узкий тротуар под сенью аркады. Под аркадой с незапамятных времен сидит слепец с бледным застывшим лицом. Ноги у него скрещены как у фараона, а в протянутой руке – спичечный коробок.
Фасад дома украшен двумя деревянными лошадиными головами. Лошадиные морды насмешливо улыбаются, обнажая крупные зубы. На первом этаже – мастерская по изготовлению сбруй, старинное название фирмы гласит: «Флориан Ленц».
Дом зевает, разинув сводчатую подворотню, из которой даже летом тянет затхлым холодом. Во дворе уместилось несколько бочек, перевернутая тележка, хилое фикусовое деревцо в деревянной кадушке. Прямоугольный проем двора обрамляют застекленные галереи, затканные плющом и голубеющими цветками вьюнка. За стеклянными галереями живут старые люди, чье время давно миновало. Их голоса напоминают шелест бумаги, а шорох их шагов скрадывают войлочные туфли.
Тихий дом принадлежал дядюшке Криштофу. Раз в квартал у него собирались седовласые жильцы. Они приносили квартирную плату и получали от хозяина по рюмочке шоколадного ликера. Затем расходились по своим жилищам, предварительно справившись друг у друга о состоянии здоровья. Деньги дядя Криштов прятал в шкафчик с лекарствами. И время от времени покупал на них ценные бумаги.
По каменной лестнице чиновник поднялся на второй этаж и остановился перед дверью с прикрепленной на ней эмалированной табличкой. Готическим шрифтом на табличке было выведено: «Криштоф Отто Кунстмюллер». Чиновник потянул за деревянную грушу, в прихожей тонко задребезжал звонок. Долго никто не открывал. Затем послышались шаги, и чиновник увидел, как дверной глазок осторожно приоткрывается. За дверью, снабженной дребезжащим звонком, жили люди опасливые, знающие из газет, что мир кишит залетными ворами, алчущими чужого добра. Хмурая экономка, с подозрением глянув на гостя, не без колебаний впустила его в квартиру.
Старик сидел в кресле и разноцветными шелковыми нитями вышивал какую-то салфетку. Из узких рам взирали со стен чопорные господа в высоких черных жабо. Облезлый попугай в позолоченной клетке бросил на чиновника косой взгляд и вдруг зычно выкрикнул: «Habt – acht!» – «Держи его!».
Пан Сыровы поздоровался. Дядя отложил рукоделие, снял очки и исподлобья взглянул на племянника. Казалось, он его не узнавал. Чиновник назвал себя. Старик пришел в восторг, с трудом поднялся и дрожащими руками обнял гостя, восклицая: – Сам Бог посылает тебя, Фердинанд! Как здоровье твоей супруги Валерии? – Всякий раз старик путал племянника с кем-нибудь из своей многочисленной родни. Теперь он принял его за кузена Фердинанда, который умер в девяностых годах, а при жизни был ротмистром Пардубицкого драгунского полка. Не сразу удалось чиновнику втолковать ему, что он не Фердинанд, а сын Йозефа, дядюшкина племянника по материнской линии. Сознание дядюшки было затуманено старостью, и события перемешались у него в голове самым причудливым образом. С натугой вникал он в генеалогические выкладки, вздыхая: – «Как летит время! Только подумать!». – Попугай закричал опять: «Habt – acht!»
Затем дядюшка озорно подмигнул и, насилу передвигая ноги, заковылял к конторке, открыл дверцу, вынул из жестяной коробочки горсть мятных конфет. Он сунул их племяннику в руку и сказал: – Ешь, это лечебные пастилки. Они освежают и на целый день дают заряд бодрости. Угощаю ими тебя, потому что хорошо к тебе отношусь. Кого я люблю, для того мне ничего не жаль.
Старик повеселел. Чиновник, ворочая во рту невкусные конфеты, старался уразуметь то, о чем говорил старик, – речь его текла монотонно, словно струйка воды из водосточной трубы. Старик рассказывал, как брали штурмом Сараево. Затем он вдруг перенесся в своих воспоминаниях куда-то в горы. Вот он едет в санях с женой по заснеженному плато. Жена стонет в родовых схватках, а за ними мчится стая голодных волков. Глаза разъяренных зверей фосфоресцируют в ночной тьме. Миг промедления может стоить жизни. Пока дядюшка рассказывал эту историю, он запамятовал, что говорит как бы о самом себе, и чиновник понял, что эта страшная история приключилась с начальником какой-то железнодорожной станции, впоследствии умершим от тифа в Сремском краю на севере Сербии.
– Случилось это, – сказал старик, – в семидесятых годах. Возьми вон ту толстую книгу, в ней все описано. Тогда выдалась такая суровая зима, что все птицы позамерзали. И об этом ты прочитаешь в книге, потому как в ней описано все, что случалось на белом свете. Так что не подумай, будто я что-то выдумываю…
– Да, – вздохнул дядюшка, с минуту помедлив. – Чего только не бывало… Но куда эта книга задевалась? Ума не приложу. Все растащат, ежели не глядеть в оба. А мне бы хотелось знать, какова высота Вандомской колонны. В той книге она была изображена. Теперь же ничего и не почерпнешь… Ты не знаешь, Отто, какова высота Вандомской колонны?
Чиновник не знал.
– Жаль, – сказал старик и задумался. – Спроси у когонибудь из знакомых и скажи мне потом. Так, так…
Он вдруг оживился. – Бог ты мой, совсем забыл! – воскликнул он. – Ты это уже видел? – и он показал племяннику коробочку из-под лекарства, в которой, когда он ее открыл, чиновник узрел кусочек черного минерала.
– Знаешь, что это такое? Не знаешь? Это окаменелое зерно из Тетина. Большая ценность. Ученые давали мне за него уйму денег, но я с этим не расстанусь, потому как знаю, что это такое…
Так болтал старик. Чиновника охватила невероятная скука. Он стал раздумывать над тем, как бы ему ретироваться. Наконец, он поднялся и заявил, что ему пора идти.
Дядюшка всполошился.
– Катержина, – крикнул он в сторону кухни. – Дайте Габриэлю булочку на дорогу! Булочку заверните в бумагу, чтобы он не проголодался в дороге… Так, так… И приходи снова, ведь я очень одинок…
Очутившись на улице, чиновник с облегчением вздохнул. У него было такое чувство, будто он только что покинул начало девятнадцатого столетия и разом шагнул в наш век. Он дошел до трамвайной остановки и стал дожидаться своего номера. Вечер, наступивший после знойного дня пражского лета, облегчения не принес. От вокзала валили толпы людей, возвращавшиеся из пригородов и покрытые дорожной пылью. Мужчины с рюкзаками за спиной и с палкой в руке; женщины с загорелыми шеями и охапками полевых цветов. По улицам тарахтели мотоциклы с колясками, которыми управляли банковские служащие; позади них сидели девицы в брюках в обтяжку и в плоских шапочках – это напоминало сцепившихся друг с другом летящих бабочек.
Трамваи были переполнены, люди, держась за кожаные петли, покачивались из стороны в сторону. Сквозь толпу пассажиров протискивались кондукторы, щелкая щипчиками. Слышался громкий говор и плач сонных детей. Сиденья были заняты дебелыми матронами с озабоченными лицами и их тщательно выбритыми мужьями в белых жилетах. На площадках стояли, поглощенные друг другом, парочки; им казалось, что они еще не сказали всего, что хотели в течение дня поведать друг другу. На площадку вошел мужчина с гладильной доской и принялся шарить по карманам в поисках мелочи. С глухим гулом трамвай двигался по мосту. Черная гладь была покрыта мелкой рябью. Чиновнику удалось сесть. Устало опустился он на освободившееся место и стал рассматривать в окне отражения пассажиров. Ему казалось, будто человек с гладильной доской, неестественно высокий, бесшумно скользил вдоль витрин магазинов и порталов зданий.
За мостом в трамвай начали входить мужчины с обвислыми усами, женщины с клеенчатыми сумками и подростки с заложенной за ухо папиросой. Кондукторы начали утрачивать свой официальный вид. Весело балагуря, они раздавали билеты и толковали с пассажирами о домашних делах. Трамвай шел вдоль желтых стен фабричных корпусов. От химзавода с гигантским газгольдером несло сладковатым запахом светильного газа. Внизу, под холмом была видна железнодорожная станция, занимавшая обширную территорию. Паровозы извергали огнедышащие снопы искр и лязгали буферами. Из сада богадельни тянуло горьковатым запахом цветущей черной бузины.
На конечной остановке чиновник вышел. Под фонарем опять стояла, сдвинув головы, группа подростков, был среди них и горбун. Чиновник прибавил шагу. «Скажу полицейскому, – решил он, – что эти постоянно о чем-то сговариваются. Пусть отгонит их подальше от нашего дома».
В квартире у чиновника было темно, а когда он зажег свет, то увидел, что жена лежит на диване с обвязанной головой.
– Ты что, заболела? – встревожился чиновник.
– Немного голова болит, – слабым голосом ответила жена, – ужин в духовке, подогрей сам…
Чиновник снял пиджак, повесил его на плечики и аккуратно поместил в шкаф. В соседней комнате послышались всхлипывания.
– Что случилось? – обеспокоенно спросил чиновник. – Почему ты плачешь?
Жена не ответила. Она рыдала, и по щекам ее текли слезы.
– Он… полицейский… сбежался народ, а он все не унимался… Я, говорит, долго молчал, а мы якобы злоупотребили его добротой. Мол, теперь он нам покажет…
– Да кто, кто? Кто не унимался? – допытывался Сыровы.
– Он… полицейский… сбежался народ, а он видит, что его слушают, и ну кричать еще пуще… Якобы мы слишком много о себе понимаем, нам не угодишь, а ведь кто мы такие? Голь чиновная!..
– Но из-за чего? Из-за чего поднял он такой крик?
– Мол, с какой стати я попросила хозяйку помочь мне закрыть окно… Эй вы, кричал, что вы себе позволяете? Моя жена вам не прислуга! Как вы смели!? Вы что, не знаете, что должны относиться к пани хозяйке дома с почтением?! – Потом попрекал меня тем, что когда мы переезжали, он помог нам передвинуть шкаф, дескать, он к нам не нанимался. Думал, мы искренне держим его сторону и никак не ожидал, что тайком сговоримся с его зятем.
Чиновник обомлел. – Так, так…Он посмел обратиться к тебе «эй вы»?! Ну ладно, ладно, успокойся, не плачь… Я с ним поговорю. Я скажу ему все, что об этом думаю. Сударь, молвлю ему, от своей супруги я узнал, что вы грубо с ней разговаривали. Сударь, ужели вы не знаете, как надлежит разговаривать с дамой? Весьма прискорбно, но я в вас разочаровался…
Чиновник выпятил грудь, и продолжил свой монолог, энергично размахивая руками: – Вы, сударь, явно не отдаете себе отчета, кто перед вами. Я приму меры к тому, чтобы вы вели себя пристойно. Не беспокойся, Мария, я этого так не оставлю…
– Я ему покажу, я ему покажу… – бормотал он, укладываясь в постель.
Глава двадцать первая
Уже длительное время полицейский ощущал какую-то тяжесть, словно проглотил костяную пуговицу от воротничка. Для себя он свое состояние определил так: «Эти Сыровые сидят у меня в печенках».
В один прекрасный день он осознал, что Сыровые обосновались в его доме, а за квартиру не платят. При этом он как-то запамятовал, что чиновник преподнес ему приданое своей жены, а он за это дал обязательство предоставить им жилье сроком на четыре года… Но уже по истечении первого квартала полицейский с горечью отметил, что семьи двух других съемщиков содействуют умножению его достатка, тогда как семья чиновника отнюдь нет. «Засели в моем доме, – гневно думал он, – а пользы от них никакой. Чиновничья голытьба..!»
«Если вздумают съехать, – размышлял он далее, – то мне это будет только на руку… За такую квартиру, какую они занимают, я могу получить тысяч двадцать пять, да что я говорю – все тридцать… Как взнос на строительство. Сверх того новый жилец будет платить за квартиру, пусть и немного. А сейчас я не получаю ничего. Меня просто обдирают, обдирают, как липку, черт побери!»
Полицейский сжимал кулаки и изрыгал злобные слова. Он уже стал жертвой того душевного состояния, в какое впадают владельцы доходных домов. Когда хозяин заключает с кем-нибудь контракт о найме, он преследует одну цель – улучшить свое финансовое положение. Но стоит съемщику переселиться с вещами под его кров, домовладелец тотчас начинает воспринимать присутствие этого съемщика только как помеху, обусловленную правом жильца пользоваться чужой недвижимостью. То есть, как ограничение собственных прав домовладельца на эту собственность.
Различными могут быть причины, в силу которых домовладелец испытывает враждебность по отношению к съемщикам. Как правило, съемщики ведут себя шумно. А если они не шумят, то это весьма подозрительно: наверняка замышляют чтото против хозяина. У жильцов бывают дети и мелкие домашние животные. Домовладелец же зачастую держит дворника; последнее обстоятельство особенно не идет на пользу добрым отношениям между противоположнами сторонами. К тому же съемщики не выказывают должного почтения к своим хозяевам, что является их прямой обязанностью.
После обеда полицейский снова трудился возле своего дома. Из бетонных брусков он сооружал лестничный парапет, выкладывая некое подобие зубчатого ограждения, коими обносились средневековые замки. Попутно он обмозговывал, какую бы ему соорудить ограду вокруг участка, дабы обособить его от окольного мира. В конце концов он остановился на колючей проволоке, которая всего надежнее предохранит от вторжения всяких пакостников.
Чиновник вышел на террасу и увидел хозяина, который, сидя на корточках, мастерком подхватывал раствор. У чиновника захолонуло сердце. Но вспомнив, как грубо обрушился полицейский на его жену, он попытался собраться с духом. «Надо ему сказать, что я об этом думаю. Воздержусь от резких выражений и не дам спровоцировать себя на повышенный тон. Простые люди нередко ведут себя неправильно и неспособны сдерживаться. Напомню ему, что мы с женой люди образованные, а образованность должно уважать. Но скажу все это ясно, четко, твердо.»
Он подошел к полицейскому и поздоровался.
Даже не глянув на жильца, полицейский что-то промычал и рукавом отер пот со лба. Проверил, плотно ли прилегает брусок к бруску, а затем принялся усердно разравнивать раствор.
Чиновник нерешительно переминался с ноги на ногу, потом спросил, как подвигается работа.
Полицейский вдруг отбросил мастерок и поднялся. Строго взглянув чиновнику в глаза, он начал: – Вот, что я вам скажу, пан Сыровы. Я уже по горло сыт всем этим. Меня выводит из себя, когда мои указания не выполняются. Я человек миролюбивый, но не выношу, если мне что-то делают назло. Как говорится, всему есть предел…
Чиновник хотел было что-то сказать, но полицейский не дал ему и рта раскрыть.
– Хозяин дома ничьим рабом не состоит, – продолжал он, – со мной шутки плохи! Я долго молчал, думал, авось наладится. А оно ни с места, и терпение мое лопнуло.
– Позвольте, – возразил чиновник, – но чем же мы провинились? Что вызвало ваше неудовольствие?
– Как?! – повысил голос хозяин дом. – Вы еще спрашиваете! А когда ваша краля высыпает золу прямо во дворе, – я что ли должен убирать за ней? Я к вам не нанимался. Золу следует выгребать в ящик, а потом отдавать мусорщику. Так это делается…
