Лекции о Достоевском бесплатное чтение
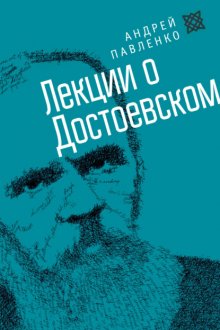
Предисловие
Фёдор Михайлович Достоевский – о, сколько в этом имени для ума и сердца русского сплелось – да, и не только русского – сколько в этом имени поддержки и опоры для времени уже нашего?
Всякий, кто хотя бы раз в жизни брал томик сочинений Достоевского, кто открывал его, тот не мог, как, впрочем, не может и сейчас, оставаться безучастным и равнодушным к самому делу Достоевского.
Одни навсегда становятся покорёнными глубиной его психологической правды, его удивительными интеллектуальными открытиями, его почти детективной исследовательской работой ума, наконец, его обезоруживающей правдой жизни.
Другие, напротив, угнетаемые раскрытой им психологической правдой – словно им показали в зеркале их собственное отражение – приходят в состояние возмущения, а иногда и бешенства, наружно не демонстрируемого, но дáвящего на оболочку их сознания изнутри. Они ощущают себя так, словно их публично оставили без нижнего белья, словно их выставили напоказ и от этого они стали нарочито узнаваемы. Они завистливо не выносят его интеллектуального превосходства, приходя во внутреннее исступление от буквально обрушившейся на них правды нашего мира, которая так гениально и пронзительно представлена в его произведениях.
Итак, Фёдор Михайлович Достоевский никого и никогда не оставлял равнодушным. Одни его любят, другие – нет, но подчеркнём – все им одинаково захвачены, одинаково захвачены его гением.
Тем труднее оставаться равнодушными нам, теперешним, жизнь которых была провидчески, в основных своих чертах и подробностях, предсказана Достоевским. Он сумел не только продумать многие философские ходы мысли, но и провидел будущую судьбу России. Он почти с документальной точностью предописал те ядовитые плоды, которыми отравлялась Россия на протяжении всего ХХ-го века и начала века наступившего, и которые, в его время, обозначили себя только слабыми всходами, ещё не пришедших к полному вызреванию, но уже сущих и таких опасных побегов. Он провидчески предописал, как будет колебаться мир в своих жизнеутверждающих основах и как должна в этом мире быть и поступать Россия, в обстоятельствах ей не только недоброжелательных, но часто откровенно враждебных.
Он в деталях описал, как будут неблагодарны к России славяне и как следует великорусскому племени вести себя по отношению к отвернувшимся от него племенам славянским.
Однако между Достоевским Ф.М. и нами, живущими в ХХI веке, существует огромное различие. Достоевский ещё жил в Российской Империи, а мы живём в совершенно другой стране. Лукавая имитация Российской Империи сегодня силится выдать себя её правопреемницей, а её имитаторы – силятся примерить на себя её историческую ризу. В этом смысле нам тяжелее, чем было Фёдору Михайловичу, несмотря на все те тяготы и горести, которые выпали на его долю. Жизнь Достоевского была тяжела, но она была в правде, наша же жизнь, по видимости – легка, но по сути своей – лежит во лжи, она вся пронизана ложью имитаторов. И она будет оставаться таковой, пока не будет сброшено это имитаторское ярмо. Она ложна в том смысле, что мы не обладаем той свободой воли и мыслеизъявления, которая была в распоряжении Достоевского. Это и есть особенность нашей эпохи – мы внутренне скованы, мы подавлены имитаторами, которые от нашего лица, натужно силятся вещать, выдавая свою, усиленную имитаторским ядом, бездарность за нашу одарённость.
Эта внутренняя связанность оказывает пагубное действие на нашу свободу. Именно поэтому сегодня так мало способной отечественной философской мысли, что путь её преграждён имитаторами, на каждом шагу губящими и отравляющими всё способное и подающее надежды.
Что же делать? Отчаиваться? Нет. Но, в чём же тогда выход и есть ли он вообще? Есть! Например, если губы высохли от жажды, то не нужно ли прильнуть к живому источнику? Конечно, да! Так, не следует ли сделать то же самое и нам? Не следует ли нам прильнуть к тому источнику, который ещё целиком не вытравлен имитаторским ядом, и до которого ещё не дотянулись в полной мере скорописучие руки этих имитаторов?
Наш ответ однозначен: следует! Так обратимся же к мыслям и чувствам Достоевского, чтобы в его трудах, исканиях, легендах, прозрениях и предвидениях утвердиться нам самим. Утвердиться в нашей правоте, утвердиться в нашей собственной свободе мыслить. Мыслить твёрдо и правильно, черпая из этого источника новые темы, взгляды, точки зрения и подходы. Причём такие, которые позволят нам разомкнуть обручи, в которые заключили Россию имитаторы, вот уже без малого как сто лет назад. Обращение к Достоевскому, как и обращение к А.С. Пушкину, как раз и даёт нам ту основу, опираясь на которую мы утвердим уже нашу, теперешнюю, собственную мысль.
Вот именно с этой целью я и обращаюсь к трудам Достоевского. Делаю это осознанно, руководствуясь одной только надеждой – вернуть русской мысли ту свободу, которая питала её во времена Достоевского и которой напитаны труды самого Фёдора Михайловича.
Здесь, в «Предисловии», следует также отметить, что все четырнадцать лекций, включая «Вводную» и «Заключительную», были буквально записаны с первого января по десятое апреля 2014 года, то есть почти за три месяца. Однако затем мною было осознано, что излагая в «Лекциях» основные философские идеи Достоевского и обосновывая их нетривиальный характер, я слишком мало внимания уделял их международной востребованности, а также – демонстрации их влияния на взгляды других философов в России и за рубежом. Тогда-то и было принято решение написать к каждой лекции соответствующее «дополнение». Написание же «дополнений» потребовало бóльшего количества времени – несмотря на их меньший, в сравнении с «лекциями», объём – и было завершено только к концу марта 2015 года.
Кроме того, перед самым изданием «Лекций» я принял решение – опираясь на уже имеющийся опыт издания «Теории и театра» – вставить в книгу ту саму статью, в которой, собственно, и был зафиксирован мой первый опыт встречи с творчеством Достоевского и его идеями. Я имею в виду публикацию статьи – «Лицо русской философии» в шестом выпуске журнала «Философия и культура» за 2009 год.
Профессионально занимаясь вопросами «онтологии», я всегда боковым зрением отслеживал анализ проблемы «существования» в русской философской мысли. Поэтому познакомившись, уже в достаточно зрелом возрасте, с трудами Ф.М. Достоевского, я никак не мог избыть в себе возникшее недоумение – почему такой глубокий и выдающийся философ занимает такое ничтожно маленькое место в современном «реестре» у прогрессивных «специалистов»?
Судьбе было угодно предоставить мне случай выступить в Институте философии РАН 16 ноября 2006 года на заседании философского общества, приуроченного «Всемирному дню философии». Именно в этом выступлении я впервые и предложил тему «Лица русской философии», задав аудитории два простых вопроса: 1) кого бы мы могли считать таким лицом в русской философии, памятуя о том, что лицом греческой философии были Платон и Аристотель, французской – Декарт и т.д.?; 2) кто из русских философов обладает универсальным значением, то есть, труды которого всемирно известны, идеи которого оказали влияние не только на философию, но и на всю мировую культуру, наконец, труды которого наиболее цитируемы? Отчётливо помню, как после заданных вопросов аудитория затихла. Многие, видимо, ждали, что я назову кого-нибудь из «присутствующих», но я назвал имя «Ф.М. Достоевского».
Именно с этого доклада и начинается моё осознанное и целенаправленное стремление к изучению трудов Ф.М. Достоевского и анализу его философских идей. Могу сказать без ложной скромности, что многие его идеи – проанализированные, например, в шестой и седьмой «Лекциях» – насколько мне известно, вообще не были поняты или даже описаны в русской философской традиции после смерти Фёдора Михайловича. В этом смысле, мне пришлось выступить переоткрывателем этих идей и аргументов – ведь у Достоевского они все уже были (!) – для современного читателя.
Поэтому своей задачей я ещё вижу и упреждающее напоминание тем «горе-специалистам по Достоевскому», которые, обсуждая работы Фёдора Михайловича, пытаются на страницах своих «сочинений» беседовать с ним, что называется – «на равных». Не тужьтесь, господа! У понимающих людей эта ваша манера вызывает, в лучшем случае, улыбку. В «Вводной лекции», в качестве иллюстрации, я приведу несколько примеров подобного – «панибратского» и «ремесленно-высокомерного» отношения к наследию Достоевского, а также покажу – к каким плачевным следствиям (нелепостям) это приводит.
Однако хотелось бы это «Предисловие» завершить на положительной ноте. Я искренне рад тому, что своими «Лекциями» привлеку ещё раз внимание к имени великого русского философа, который оставил нам свои труды как бесценный дар, к которому мы все вместе – и каждый в отдельности – можем приобщаться, по мере возникающей в этом необходимости. Я также вполне допускаю, что после меня придут исследователи, которые напишут о философских взглядах Ф.М. Достоевского глубже и лучше меня. Но пока они не пришли, я могу питать основательную надежду тем, что мои «Лекции» послужат дельным подспорьем всякому, кто неравнодушен к действительной философской мысли и кому небезразлична судьба русской культуры, в целом.
В заключение следует отметить, что основное содержание настоящих «Лекций» было прочитано студентам кафедры «философской антропологии» философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в зимних семестрах 2013 и 2014 г.г.
Вводная лекция
Вопрос: Определение места философских взглядов Достоевского Ф.М. в системе литературного и философского знания в целом
Когда заходит речь о русской философии, то принято выделять её неявные формы (в литературе, переписке, богослужебных текстах и даже в архитектуре1) и явные формы, то есть такие труды наших соотечественников, которые писались именно с философскими целями, осознанно философски и, преимущественно, в силу специфичности языка, – для философов. Но и здесь, в явных формах, можно, правда, весьма условно, выделить предфилософскую стадию и стадию собственно философскую.
К предфилософской стадии я бы отнёс труды А.С. Хомякова, И. Аксакова, И. Киреевского и др. По какой причине? Причина в том, что для названных имен философия не была делом всей жизни, родом занятий по преимуществу. В большинстве своём, это были дворяне, увлекавшиеся философией; в определённом смысле, они ещё не были «профессорами философии».
И совсем другое дело – стадия собственно философии, когда последняя становится основным занятием жизни, а занимаются ею – профессора философии. Эту стадию я бы начал с Памфила Даниловича Юркевича и с его работы «Сердце и его значение в жизни человека, по учению слова Божия».2 Именно с Юркевича начинается поступательное и последовательное становление русской философской мысли. Его учениками были В.С. Соловьёв и, отчасти, Л.М. Лопатин. А далее следуют имена Е. Трубецкого, П.А. Флоренского, В. Розанова и многих, многих других, кто занимался философией уже профессионально.
Однако и здесь возникает затруднение. Суть его в том, что, будучи философами русскими, они таковыми и оставались, не покидая границы русского культурно-исторического поля. В самом деле, их имена, за границами этого поля, мало кому известны. Мы можем спросить: почему? Ответ напрашивается сам собой: потому, что они были религиозными философами, а западно-европейская философия, в её доминирующих сферах, начиная со второй четверти 19 в., становится светской: позитивизм, эмпиризм, прагматизм, материализм и т.д.
И здесь возникает новый вопрос: а может ли быть философия «религиозной» в принципе? С моей точки зрения – нет! Потому что, в случае «религиозной философии», последняя выполняет служебные функции, т.е. является служанкой религии.3
Вывод, который следует нам сделать, получается единственный: философия может быть только «философской».4
Здесь будет уместно отметить, что западно-европейская философская мысль прошла религиозную стадию в 17 в. и завершила её в 18 в., ознаменовав это завершение появлением критических5 систем. Сюда бы я отнёс Р. Декарта, Г.В. Лейбница, И. Канта и некоторых других. Почему же появляются эти критические системы? Потому что главный вопрос философии – это вопрос о том: «Как возможно существование какого-либо объекта?». Это и есть онтология и её главное дело.6
В России, к сожалению, существовали и продолжают существовать, в основном, эпигоны философии западной. Наиболее ярким примером бесплодности, возведенной на пьедестал умиления, является, конечно же, П.Я. Чаадаев. Написав «Философические письма», и, при этом, не предложив в них ни одной новой собственной философской идеи, он, тем не менее, вознамерился судить обо всей русской культуре, постоянно пеняя ей её «пустотой» и «несостоятельностью».
Вообще, следует заметить, что чтение писаний Чаадаева поражает любого здравомыслящего читателя – хоть сколько-нибудь знакомого с нормами логики – несостоятельностью аргументации, часто откровенно граничащей с глупостью. Ведь, нарекая русскую культуру «несостоявшейся», и полагая её неким «минусом» в общей европейской истории, неужели же он не понимал, что и самого себя – как относящегося именно к этой же культуре – он точно также полагал «минусом» и «несостоявшимся»? Заметим, сам П.Я. Чаадаев ничего не создал, но постоянно брюзжал о «пустоте» культуры в России. Но как мог такое написать современник А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова, В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, Н.И. Лобачевского, М.И. Глинки и многих, многих других? Это в моей голове просто не укладывается.
Приведем здесь показательный пример, чтобы не казаться голословными. Возьмем 1-е письмо из его «философических писем». Чаадаев пишет: «…что бы там не говорили, мы составляем пробел в порядке разумного существования».7
Поразительный факт, к которому в этих «Лекциях» я ещё не раз буду возвращаться – А.С. Пушкин, а в особенности Ф.М. Достоевский, часто выводили в образах описываемых ими героев своих современников. Вот так и с Чаадаевым. Пушкин писал: «Второй Чаадаев, мой Евгений». В 1821 году Иван Якушин принимает Чаадаева в тайное общество – масонов. В 1828–30 г. публикуются его первые семь «философических писем».
У А.С. Пушкина мы находим такую реакцию на чаадаевские «сетования»:
« Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с этим согласиться. <…> разве не находите вы что-то значительное в теперешнем положении России, что-то такое, что поразит будущего историка?».8
Чаадаев, словно отвечая Пушкину и упорствуя в своём самоутверждении национального нигилизма, т.е. самоутверждении собственной «пустоты», резонирует:
«…если мы обладаем некоторыми достоинствами народов молодых и здоровых, то мы не имеем ни одного, отличающего народы зрелые и высококультурные».
Мы специально привели слова Чаадаева, чтобы намеренно усилить впечатление от той ситуации и обстановки, в которой пробивала себе дорогу мысль русская.
Очевидно, что в общественно-политической сфере это граничило с болезнью, которую позднее – во второй половине 19 в. – опишет Н.Я. Данилевский, дав ей ёмкое определение и назвав её «европейничанием».
В чём же причина этой болезни? Ответ поразительно прост: в существовании рядом с Россией очень мощного «культурно-исторического типа» – Европейского (романо-германского).
Как же существование этого типа отразилось на становлении философии в России? В абсолютном большинстве случаев русские мыслители (философы) оказывались под мощным влиянием философов европейских. Легко привести примеры. В 19 в. властителями дум становятся Фихте, Гегель, Шеллинг. Они оказывают влияние на Соловьёва В.С., Л.М. Лопатина и на многих до и после них.9
Что же оставалось этой философской мысли – понятой именно как самодвижение мысли в понятиях – в условиях, с одной стороны, господства религиозной философии, а с другой стороны, в окружении интеллектуальной немощи, бесплодности и национального нигилизма чаадаевского типа?
Ответ прост: оригинальная философская и историческая мысль, притесняемая в публичном пространстве эпигонами западного «направления», типа П.Я. Чаадаева и Т.Н. Грановского, выведенного, позднее, Ф.М. Достоевским в «Бесах» в образе Степана Трофимовича Верховенского, а в профессиональном пространстве ограниченная религиозными рамками, как это было в трудах П.Д. Юркевича, В.С. Соловьёва, Л.М. Лопатина и других, была вынуждена искать такую площадку, на которой бы не испытывала угнетающего давления этих двух для неё отрицательных условий. И такие площадки были найдены: оригинальная философия разрабатывается не профессиональными философами, – «профессорами философии», – а учёными и писателями. Почему же произошло именно так? Почему этот причудливый изгиб русской мысли вообще возник? Ответ прост: 1) в силу рода своих занятий представители этих областей не испытывали буквального подавляющего влияния западной философии, чем обеспечивалась свобода самостоятельно формулировать новые проблемы, и 2) они, в большинстве своём, были свободны от того комплекса национальной неполноценности, который навязывался образованному обществу «письмами» и «записками» интеллектуалов либерально-чаадаевского толка. Другими словами, философия творилась в тех областях, заслуги и достижения в которых было невозможно ставить под сомнение и уж тем более – отрицать их. Я имею в виду литературу и науку. Получается, что оригинальные философские идеи выдвигались учеными и писателями.
По моему глубокому убеждению, примером такой оригинальной мысли и может служить философская концепция Ф.М. Достоевского.
Вопрос: Современная ситуация
С 1917 г. по настоящее время, т.е. 98 лет, имя Ф.М. Достоевского официально замалчивалось. Юбилеи и годовщины – с точки зрения масштаба его мирового признания – подчеркнуто минимизировались, а сам вклад Достоевского в русскую и мировую культуру – не замечался. Большевики10 не могли простить ему «Бесов», необольшевики – «жалких либералишек».
Хорошо помню как один советский литературовед с гидронимической фамилией, выдвинул в 90-е годы прошлого столетия «креативную» версию жизни Ф.М. Достоевского, (граничащую, на мой взгляд, то ли с собственным помешательством, то ли с личной неприязнью к Фёдору Михайловичу), в которой повествовалось о том, что Фёдор Михайлович, якобы, был причастен к убийству собственного отца, а «Братья Карамазовы» – это автобиографический роман.
С другой стороны, достаточно посмотреть подборку последних публикаций о Достоевском (например, в журнале «Вопросы философии»), чтобы обнаружить поразительную приверженность этой «партии достоевскофобов» ценностям «февраля и октября 17-го года». Все мотивы и темы сочинений Достоевского «выводятся» ими из его «психического расстройства», «моральной повреждённости» и «бытовой неустроенности». Приведу лишь пару показательных примеров.
«Вся жизнь «подпольных» людей, представленная нам в художественных произведениях Ф.М. Достоевского, заключается в том, что они постоянно что-то со своим грязным нутром делают, всё время в его грязи копошатся: то с интересом рассматривают, изучают и беседуют о нём с другими, то, как мокрое белье, навешивают грязь на нити своих отношений с другими, то – что крайне редко – пытаются рассуждать, как от грязи избавиться, очиститься. Последнее, конечно, понарошку, из любви к парадоксам. Но в любом варианте, копаться в грязи – их главное занятие».
Отсюда «специалист по Достоевскому» делает вывод:
«По этой причине романы Достоевского лишены отношений человека с природой (что вызывает живейший и продуктивный интерес, например, Тургенева, Толстого или Гончарова), и писателю не интересен человек в его позитивном деле, в сколько-нибудь конструктивном устремлении к светлому. Человек занимает Достоевского не в его измерении «от земли – к небу», свету, раю, но в противоположной направленности: в координатах «от земли – в её глубины», в устремлении во тьму, к «аду».11
Сколь же сильно с этим наговором контрастируют слова супруги Фёдора Михайловича – Анны Григорьевны Достоевской (Сниткиной) – которые в данном контексте выступают фактическим опровержением только что сказанного «специалистом»:
«Фёдор Михайлович приезжал к нам всегда благодушный, радостный и весёлый. Я часто недоумевала, как могла создаться легенда об его будто бы угрюмом, мрачном характере, легенда, которую мне приходилось читать и слышать от знакомых»12.
«Никто лучше Достоевского не понимал, как помысел, утвердившийся в сознании, может вдруг открыть дорогу к поступку. Тут не социальное и историческое зло, которое может быть устранено реформой, а то, что богословие называет первородным грехом. И преодолеть его может не реформа, а (как выражался Достоевский) «геологический переворот», преображение; не закон, а благодать. Достоевский с ужасом почувствовал, что в нём мало благодати. Когда он пишет, что человек деспот по природе и любит быть мучителем, это не реакционное мировоззрение, а мучительно пережитый опыт. Опыт расколотости между идеалом Мадонны и идеалом содомским».
Я намеренно опускаю имена этих «специалистов по Достоевскому». И делаю это по двум причинам.
Причина первая: «имена» этих «специалистов» в сравнении с именем Достоевского Ф.М. столь ничтожно малы, что ставить их рядом – означало бы сквернословить на саму реальность, чего я позволить себе не могу никак.
Причина вторая: упоминание этих имён послужило бы дополнительной популяризации тех, кто такого оглашения совершенно не заслуживает.
Итак, в чём же кроется причина такого отношения некоторых «современных специалистов» к писателю? По-моему, она проста: Достоевский – гениальный философ и писатель. Именно эта гениальность, да к тому же, как и подобает всякой гениальности – опирающаяся на национальные корни, на историю и культуру своего народа, т.е., в случае Достоевского, народа русского – кое-кому не дает покоя, а у некоторых, так и вовсе вызывает нескрываемую злобу. Но поскольку Достоевский – всемирно признанный гений, и, следовательно, его невозможно «уничтожить» информационно или попросту замолчать, постольку был придуман «творческий приём»: на «территории России» о Достоевском могут «профессионально» высказываться те и только те, кому это «позволят» делать уже «зрелые профессионалы», профессионализм которых вызревал ещё в «ценностях советской эпохи», вроде тех «горе-специалистов» «философические размышления» которых приводились выше. А у «зрелых профессионалов» одна и та же «теоретическая» база – «марксизм», да «фрейдизм». База для них наиболее естественная и понятная. Всё! Круг замкнулся: кто не «фрейдо-марксист», тот не «специалист». Ну, да Бог с ними…
Признаю, что наряду с той печальной картиной, которую мы только что обрисовали, необходимо, конечно, отметить и некоторые положительные сдвиги в направлении признания заслуг Достоевского в самое последнее время: недавно была создана замечательная кинематографическая история жизни Достоевского, а с 2013 г. режиссер В.И. Хотиненко взялся экранизировать роман «Бесы». Это можно расценивать как безусловный успех.
Однако о философских взглядах Достоевского, именно по существу его философских тезисов и без оскорблений великого писателя, всё равно написано ничтожно мало. Кое-где можно встретить упоминания о нём лишь как о «русском мыслителе» второй половины позапрошлого века13.
Должен признать, что в этом вопросе нам не смогут существенно помочь и зарубежные исследования, например, та же работа немецкого исследователя Рейнхарда Лаута14 «Философия Достоевского в систематическом изложении», впервые изданная Германии в 1950 году, несмотря на всю её обстоятельность. Причина проста: сам Лаут (1919–2007), будучи, в большей степени, профессиональным культурологом с философским уклоном (он защитил докторскую диссертацию в 1942 г. о «познании, значении и достижениях в современной французской литературе и изобразительном искусстве»), понятно, был вынужден оставить за границей своего рассмотрения и естественнонаучные идеи Достоевского (легенда о «Грешнике»), и логический анализ тезисов Достоевского (легенда о «Затравленном мальчике», легенда о «Великом инквизиторе»). Хотя сам факт того, что Лаут написал целую книгу о «систематическом изложении философии Достоевского», причем в положительном ключе, выводя эту философию не из «болезненных состояний психики» Фёдора Михайловича – как это стало принято у многих «современных специалистов» – а из его цельной нравственной натуры, безусловно, заслуживает признания, а сам автор – безусловного уважения. Ведь и среди западных исследователей-славистов не все соглашались с «вкладом» Достоевского в философию. В качестве примера можно привести точку зрения того же Михаэля Хагемейстера15, который полагал, что Достоевский не является философом16.
Поразительно, что именно только в эти 50–60-е годы 20 в., но уже в «советской России» (СССР), мы также встречаем редкие положительные философские удачи17. Например, нельзя не упомянуть весьма оригинальное исследование Э.Я. Голосовкера «Достоевский и Кант».18 В этом же году (1963) выходит и другая оригинальная работа о Достоевском – книга М.М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского»19. Работы нефилософского характера я оставляю без рассмотрения.
Вопрос: Что дал Ф.М. Достоевский русской и мировой философии?
Ф.М. Достоевский почти одновременно и независимо от С. Кьеркегора (1813–1855), закладывает основу такого мощного направления в философии 19–20 вв. как экзистенциализм.
Достоевский оказывает влияние на Ф. Ницше, Ф. Кафку, А. Камю, Ж.П. Сартра и многих, многих других.
В литературе можно встретить сообщение о том, что М. Хайдеггер с коллегами по субботам, во внеучебное время20, принимал участие в чтениях трудов Достоевского на русском языке.
У нас же в России ситуация прямо обратная: большевизм и необольшевизм буквально выпалывали память о Достоевском как мыслителе. В подтверждение этому достаточно обратиться к «советскому труду» по истории отечественной философии21. О Достоевском мы там находим всего несколько страниц.
Не лучшим образом обстоит дело и с современными «исследованиями», в большей части которых «научный коммунизм» заменен на «научную политкорректность» , «научную толерантность» и «научный мультикультурализм», характерные образчики чего уже приводились выше. Итог прежний: Достоевский, по-прежнему, изгнан из «прогрессивной» системы взглядов, как полновесный философ, за которым закреплена обтекаемая формула «мыслящего литератора».
Именно поэтому свою основную задачу я вижу не в том, чтобы вклиниться в стройные ряды «историков русской философии» с тем, чтобы эти ряды расстроить и предложить некий свой «новый» ряд. Отнюдь. Оставим стройность рядов историкам философии.
Моя главная и единственная задача – вернуться к Достоевскому и ещё раз продумать вместе с ним, уже однажды продуманное им самим. Ведь, поступая так, мы сделаем мысли Достоевского частью нашего собственного мышления.
Итак, какие идеи выдвинул Достоевский и сделал их предметом общего обсуждения? Их очень много, поэтому я остановился бы только на следующих:
1) Идея свободы (воли) человека
Я намеренно начинаю перечень идей Достоевского именно с идеи «свободы (воли) человека», поскольку она наибольшим образом затрагивает и основные ценности современной гуманистической эпохи, и самую суть гуманитарной науки – науки о человеке, «Человеке» с большой буквы – ибо этот человек и может существовать как таковой, только будучи и оставаясь свободным.
Человеческие «свободы» описаны в конституциях, хартиях, биллях и любых других документах, если только они касаются человека. Но, говоря о «свободе», что понимают люди под этим словом? Свободен ли человек? А если «да», то в каком смысле? Был ли свободен Дмитрий Карамазов? Мы знаем из романа, что он был безвинно осужден и отправлен на каторгу. Мы можем отметить, что внешние обстоятельства были так «подобраны», что все факты указывали против него. Мы можем найти развитие этой темы в работе Ф. Кафки «Процесс». Сюжет тот же: человек (и стоящая за ним «свобода») поражается в своих правах, причём поражается безвинно – человек подвергается аресту и помещается в заключение.
Другой разворот темы: был ли свободен человек «из подполья»?
Человек из подполья – это человек, отринувший сам себя от общества, – это человек, поместивший себя в «подполье»22
Поэтому оправдан вопрос: свободен ли человек на самом деле?
Тема свободы человека провоцирует новые вопросы и новые темы. Так, если человек абсолютно свободен и не руководствуется никакими внешними по отношению к нему регламентами и регулятивами, то он сам устанавливает эти регламенты, сам утверждает границы собственной свободы. Человек становится самозаконодательным и, следовательно, заступая на место Бога – сверхчеловеком.
2) Идея Сверхчеловека
Этот сверхчеловек может рассматриваться и как «социальная машина», которая самозаконодательна, то есть сама себе предписывает правила и нормы. Здесь мы прямо обращаемся к роману «Бесы». Кириллов строит умозаключение: «Если Бог есть, то вся воля Его, и из воли его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие».
Вывод Кириллова выражается лаконично: «Если нет Бога, то я Бог».
Далее Кириллов развивает тему самоутверждения человека: «Я обязан себя застрелить, – говорит он, – потому что самый полный пункт моего своеволия – это убить себя самому».
Но ведь суицид в современной цивилизации весьма распространенное явление23. Чем же самоубийство Кириллова отличается от других самоубийств? Тем, говорит Кириллов, что все самоубийцы кончают жизнь под давлением внешних обстоятельств, (это могут быть и материальные, и душевные (психические) обстоятельства). В этих обстоятельствах человек вынужден свести счёты с жизнью. Совсем другое дело с Кирилловым. Достоевский показывает, что самозаконодательное существо – сверхчеловек – сам определяет: когда – жить, а когда – умереть. По отношению к нему нет никаких внешних причин. Я, говорит Кириллов, закончу жизнь «без всякой причины, а только для своеволия». Петр Верховенский, социалист-революционер, возражает: «Но позвольте, ну, а если вы бог? Если кончилась ложь, и вы догадались, что вся ложь оттого, что был прежний Бог». Здесь Достоевский намеренно подчеркивает: мира без богов не бывает. Просто, на место «старых богов» водружаются «новые боги». Этот мотив мы потом найдем у Ницше.
Кириллов на это возражает, ссылаясь на то, что «своеволие – атрибут божества моего». Почему? Потому, резюмирует Кириллов, что: «Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою». В этих словах можно было бы усмотреть пролог к нашим, сегодняшним событиям. Современный человек – понятый как родовое существо – стремится «самозаконодательно лишить себя жизни». Чего, например, стоит один только проект «2045».
Понятно, что идея «сверхчеловека», что называется, органично приобретает форму проблемы морали, в связи со сверхчеловеком. Как следует относиться к морали, вообще к моральным нормам сверхчеловеку? Должна ли быть у него своя – сверхчеловеческая – мораль или он , наоборот, должен подняться над моралью человека обычного? Говоря уже словами Ницше, не оказывается ли сверхчеловек «по ту сторону добра и зла»?
3) Идея свободы сверхчеловека от добра и зла
Глава «У Тихона» (Бесы). Достоевский выражает эту позицию устами Николая Ставрогина:
«…строго сформулировал про себя в первый раз в жизни: – что не знаю и не чувствую зла и добра, и что не только потерял ощущение, но что и нет зла и добра (и это мне приятно), а один предрассудок, что я могу быть свободен от всякого предрассудка, но что если я достигну той свободы, то я погиб».
«В каком смысле “погиб”?», – можем мы недоуменно спросить. Конечно же, в смысле «гибели обычного человека». Ведь переход из состояния «человек» в состояние «сверхчеловек», подобно фазовому переходу, сопряженному с кардинальным изменением субстрата, подвергающегося данному переходу. Например, как вода превращается в водяной пар или в лед, или как кокон превращается в бабочку и т.д.
Изменения, происходящие с человеком, охватываются Достоевским, что называется, по всему периметру. Достоевский наблюдает не только за тем как осуществляются перфекционистские трансформации – с повышением уровня организации – от «человека» к «сверхчеловеку», но и трансформации имперфекционистские – с понижением уровня организации – от человека к насекомому.
4) Идея трансформации инсектальной
В сознании нововременного человека прочно утвердилась некая лестница животного мира – отчасти навязанная библейско-христианской онтологией – на верхней ступени которой расположен человек, а на самой нижней – насекомые. То, что движение за пределы лестницы «вверх» вполне оправдано и закономерно – ясно каждому нововременному человеку. Для христиан это было стремление к «обóжению», для секуляризованного христианина – человека прогрессивного – это достижение состояния «сверхчеловека», ну хотя бы средствами современной генной инженерии.
Однако все описанные сценарии хороши для избранных – избранников божиих (святых) или для финансово обеспеченных прогрессивных людей.
Но как быть с теми, кто не дотягивает до шага «за» верхнюю ступень, кто слаб, наконец, кто финансово не обеспечен, т.е. как быть всем тем, кто несет на себе печать «бедных людей». Для них, имперфекционистов, жизнь человеческая так же невыносима, как и для перфекционистов. Для последних это только «ступень», «промежуточная фаза» для прыжка в мир совершенный – мир сверхчеловеческий. Для первых это «путь наоборот» – путь ещё ниже по указанной лестнице – путь в состояние «насекомого».
Когда человек раздавлен, унижен, оскорблен до крайнего предела, когда он видит, что выхода не видно, тогда он, стоя на краю этой бездны, готов стать насекомым, чем уж так страдать и так скорбеть.
Достоевский гениально подмечает это отчаяние имперфекциониста, говоря устами главного героя «Записок из подполья».
«Мне теперь хочется рассказать Вам, господа, желается или не желается вам это слышать, почему я даже насекомым не сумел сделаться. Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым».
Стремление отверженных, униженных и оскорбленных, стремление бедных людей, наконец, людей из подполья сделаться «насекомыми» – это ответ Достоевского всем тем, кто неустанно твердил в 19 в. о том, что человек – это звучит гордо, что человек – царь природы, что человеку отверзты ложеса Царства Небесного. Фёдор Михайлович показывает, а главное – осознает, что все эти призывы – пустой вздор, а перфекционистская идея рассчитана на 1 / 10, тогда как 9/ 10 уготовано стать насекомыми или почти насекомыми, в крайних выражениях – несостоявшиеся перфекционисты – оказываются в положении ещё более плачевном, чем положение имперфекционистов, ориентированных на инсектальную трансформацию, примером чего служит «провонявший» старец Зосима. Слова Ивана Карамазова, в этом контексте, звучат как приговор – «а что делать слабым и не попавшим в святые»? Неужели же им приуготована участь удобрения, то есть подготовительного (рабочего) материала для прославления перфекционистов – святых или на современный лад – трансгуманистов. Признаться, этот вариант развития событий я и сам не исключал24, уж больно соблазнительной кажется идея о том, что вся природа эволюционировала вплоть до человека. Здесь, по-моему, кроется какая-то ловушка, которую мы сами, без посторонней помощи, можем и не углядеть. Думаю, в эту проблему следует вглядеться внимательнее.
Как же тут быть человеку обычному? Человеку, для которого всё ясно. И может ли человек найти выход в сложившейся ситуации, опираясь только на свои силы, свой рассудок, свое видение мира?
5) Идея критики рассудка
Допустим, что мы поднялись над «наивностью» религиозного мировоззрения, поднялись подобно «сверхчеловеку» до «самого себя», следовательно, способного опираться только на свой ум, свои рассудочные способности. Если это произошло, то возникает естественный вопрос: принесёт ли человеку этот «рассудок», в терминологии Фёдора Михайловича, избавление от горестей и страданий? Здесь следует отметить, что Достоевский под «рассудком« понимает вообще умственные способности человека. Действительно ли только «сон разума» – здесь мы видим критический намек на «тёмное средневековье» – рождает чудовищ?! «А каких чудовищ может породить «бодрствование разума»?» – , словно насмехаясь над однобокостью первой сентенции, парадоксальным образом спрашивает Достоевский. И вообще, что приносит с собой этот «проснувшийся» нововременной разум (или «рассудок» в терминологии Достоевского)?
Что и сколько даёт нам наш рассудок? Даёт, соглашается Достоевский, но весьма немного:
«…рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочной способности человека, а хотение есть проявление всей жизни, то есть всей человеческой жизни, и с рассудком и со всеми почесываниями».
Что же получается? Получается удивительная картина: то, на что возлагали такие надежды – рассудок – оказывается ограниченным, причём существенно ограниченным. В своих текстах Фёдор Михайлович неоднократно обращается к анализу способов, т. е. модусов аргументации, показывая, что рассудочные выводы очень часто зависят от наших убеждений, возможностей, от нашего знания и т.д. Другими словами, будучи глубоко проницательным человеком, Достоевский уделяет внимание даже нашим способам рассуждения или как сейчас бы сказали – модальной логике – предвидя многие трудности связанные с подобными типами рассуждений.
6) Идея модусов нашего рассуждения
В этом контексте интерес могут вызвать такие рассуждения Достоевского, которые он, например, приводит в «Бесах». Достоевский вкладывает в уста своего героя такое рассуждение:
«Ставрогин если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он не верует»25.
По видимости, особенно для современников Достоевского, эта фраза может показаться «игрой словами». Но это не так. Фёдор Михайлович уже во II половине 19 в. понял, что модусы (способы) нашего рассуждения и их анализ могут иметь первостепенное значение для выводов, получаемых в результате этих рассуждений.
Напомним, что формализованные варианты модальных способов рассуждения возникли только в 30–60-е годы 20 века, созданные трудами К. Льюиса, Я. Лукасевича, А. Прайора, И. Бэнтама, Я. Хинтикки и др.
7) Идея космизма (русского космизма)
Подвергнув новоевропейский рассудок, Просвещение и гуманизм сокрушительной критике, Фёдор Михайлович, не мог на этой критике просто остановится. Другими словами, после критики должна была последовать положительная программа. И она последовала: Достоевский выражает свою позицию лаконичной и ёмкой фразой в романе «Идиот», которая после этого становится крылатой: «Красота спасёт мир!».
«Какая красота?», – спросим уже мы. Ответ очевиден: та самая красота, которая входит в качестве одного из значений слова «космос». Ведь «космос» – это и «порядок», и «красота», одновременно. Это та самая «красота», которая запечатлена ещё в одном русском слове – лѣпота26, уже почти ушедшим из разговорного языка и сохранившегося только в слове с отрицательным значением – «нелепость». Достоевский понимал, что именно это – эстетическое в своей основе – чувство прекрасного (лепотность мира) даёт надежду на улучшение человеческой природы. Фёдор Михайлович неоднократно указывал на то, что мысли чувствуют.
Вглядываясь в красоту мира (природы) – её благо-лепие – человек сам преображается27. Другими словами, человек настраивает себя на созерцание этой красоты и, следовательно, красота мира – это образец, которому следует подражать. Меня не покидает ощущение того, что этот строй мысли я уже где-то встречал. Так и есть: об этом же писал Платон в «Тимее». Получается удивительная картина: Достоевский воспроизводит ту же фигуру мысли, которая оплодотворила европейскую культуру почти 2400 лет назад. Именно совершенство мира (живой природы) оказывается объектом подражания и у Древних Греков, и у Великороссов. И именно это их объединяет. Именно это позволяет явиться в мире тому, что у нас на Руси испокон веков зовётся православием, то есть прославлением Прави, во всём её благо-Лепии . Правь – это и есть божественный мир, запечатленный в одном из своих обликов – «лѣпоте» (красоте).
Ведь ничего подобного мы не встретим ни в одной из глав библейской книги «Бытие», где всё дышит уничтожением мира и его служебной «предназначенностью» человеку, который будто бы его превосходит, в силу уже своего «богоподобия».
Достоевский говорит именно о том, что «красота спасёт мир», а не «благо», не «польза», не «ставка рефинансирования», не «прибыль» и даже – не «истина», с какой бы буквы не писалось последнее слово. Ему, при обсуждении предельных онтологических вопросов, внутренне не было близко морализаторство, равно как и любые другие формы интеллигентского мления по поводу «исправления человечества». Достоевский и здесь сказал своё слово, отдав первенство совершенству мира (космоса) перед несовершенством человека. Человек благоразумно помещён им во «второй ряд» общей системы ценностей, сколь бы неверным не казалось это утверждение для читателя, который всюду в его работах, по первости, видит именно «человека». Все рассуждения о человеке и его душе разворачиваются Достоевским на онтологическом фоне, они – буквально погружены в его онтологию. Лучшим доказательством этому может служить предложенная им легенда о «Затравленном мальчике» в «Братьях Карамазовых».
И ещё заметим одну чрезвычайно важную деталь, которая, что называется, «бьёт в десятку»: у Достоевского спасается не «человек», не «душа человека», но «мир»! Это ли не пощёчина господствующему в его время мировоззрению!?
Поэтому «русский экзистенциализм», инициированный Достоевским Ф.М. и «русский космизм», инициированный Н.Ф. Фёдоровым, К.Э. Циолковским, А.Л. Чижевским и другими, был реакцией русского самосознающего себя бытия – реакцией русских (православных) ценностей – на западноевропейский гуманизм (его главную догму: «человек есть высшая онтологическая ценность»).
Таким образом, я обрисовал лишь незначительный круг идей, которые провоцируют реакцию философа, заставляют задуматься и побуждают к со-размышлению. В действительности таких идей гораздо больше и, следовательно, в «Вводной лекции» упомянуть их всех просто нет возможности. Поэтому я целенаправленно переношу их рассмотрение в само тело лекционного курса.
Итак, после всего сказанного, позволю себе задать Вам и себе волнующий меня вопрос: кем же был Фёдор Михайлович Достоевский? Или несколько резче – был ли Фёдор Михайлович философом?
Ответом на него и будет всё представленное ниже.
Лекция первая
Рождение русского экзистенциализма. Человек из «подполья»
Вопрос: Свобода и воля человека
Вопрос о свободе, в целом, и свободе воли человека, несмотря на свою очевидность, является совсем не таким простым, как это может показаться на первый взгляд.
Первое, что приходит в голову – это его очевидность для нас. Но, резонно спросить: для кого, для нас? Кто это такие «мы», для которых этот вопрос является таким важным? Боюсь, что внешняя очевидность и соответствующий ответ – «для людей» – здесь не подойдет. Потому что «людей вообще» не существует. Ведь «человек» – это общее понятие. Уточню. Например, является ли настолько важным этот же вопрос для индусов, китайцев, японцев, латиноамериканских индейцев или, например, для аборигенов Австралии? Абсолютно убежден в том, что – нет. Тогда в чём же дело? Дело, по моему разумению, в том, что вопрос о свободе вообще и свободе воли человека является характерным именно для европейского человека. Именно европейский человек, утвердив разум (мышление) – homo sapiens – в качестве своей характеристики, нуждается в обосновании автономности и своего существования, и своего мышления. А без помощи разума, способного свободно мыслить, это сделать невозможно. Именно поэтому вопрос о «свободе вообще и свободе воли человека» так важен для нашего существования.
Именно на ценности «свободы разума», правда, специфически понятой, засеваются семена этой эпохи и появляются её первые всходы. Что это за эпоха? Ответ удивительно прост – это эпоха так называемого «гуманизма». Именно в анализе этой эпохи, анализе её ценностей, анализе её проектов я вижу ключ к пониманию творчества Достоевского. Если же дело поворачивается таким образом, то нам никак не обойтись без краткого рассмотрения сути этой эпохи, этих ценностей и этих проектов.
Вопрос: Что такое «гуманизм»?
Для ответа на этот вопрос потребуется обстоятельное исследование и значительное количество времени, которого нет в моем распоряжении, поэтому я ограничусь лишь выявлением существенных характеристик. А как это сделать лучше всего? Я предлагаю выявить существенные черты гуманизма, рассмотрев его с разных точек зрения.
2.1 Что такое «гуманизм» с мировоззренческой точки зрения?
К ответу на этот вопрос я уже обращался в работе «Теория и театр»28.
Поэтому сейчас позволю себе ограничиться лишь кратким наброском.
С исторической точки зрения, гуманизм в современном его, секуляризованном, понимании, возникает приблизительно в конце 15 века. За отправную точку можно взять появление тезисов Пико Делла Мирандола (1463–1494), впоследствии получивших название «Речь о достоинстве человека». Написание этих тезисов датируется 1486-м годом. Однако, в случае Пико, речь идёт о светском гуманизме, тогда как существует ещё и христианский гуманизм. По видимости они различаются, однако эти различия, с философской точки зрения, не так существенны.
Итак, что же составляет суть «гуманизма» с мировоззренческой точки зрения? Ответ очевиден – человек. Сказав так, мы по существу не сказали ничего нового, т.е. не прибавили ничего к тому, что уже содержится в понятии «гуманизм», лишь переведя латинский термин humanitas на русский язык как «человеческий».
Теперь попробуем избежать этого затруднения. Помощником может оказаться подсказка: фундамент любого мировоззрения составляют ценности, над которыми надстраивается остальное здание жизни. Если это действительно так, то у нас появляется выход. Теперь мы можем дать емкое определение гуманизма, данное с мировоззренческой точки зрения.
Итак, что такое «гуманизм» с мировоззренческой точки зрения?
Гуманизм – это такая система мировоззрения, которая в качестве высшей ценности рассматривает человека.
По видимости, для современного человека, это кажется настолько очевидным, что даже не допускается какое-либо другое объяснение реальности: а что, разве может быть как-то иначе?
Такая очевидность обезоруживается одним простым ответом: «не только может, но и было иначе».
Современному человеку, погруженному от рождения до смерти в ценности гуманизма, это невозможно представить. Но нам, в нашей лекции, это сделать не только позволительно, но и необходимо. В самом деле, если мы датировали возникновение эпохи гуманизма концом 15 в., то что было до 15 века? Какие ценности доминировали до этого периода?
Хорошо известно, что до наступления эпохи Возрождения существовала эпоха Средневековья. Этот период охватывает почти тысячу лет: с 5 по 15 вв.н. э. Что же было, с мировоззренческой точки зрения, доминирующим тогда? Безусловно, это был теизм. Теизм – это такая система мировоззрения, которая, в качестве высшей ценности рассматривает бога. В нашем случае библейского (христианского) бога. Отметим, что в библейском (христианском) мировоззрении абсолютной высшей ценностью является бог, а из сотворенных этим богом существ высшим является человек. Причём он является таким высшим существом, которому следует властвовать над всем остальным – животным и неживотным – миром. Ниже мы увидим как эта библейская (христианская) ценность трансформировалась в новоевропейский гуманизм.29
Но и эпоха Средневековья не была началом человеческой истории, ей предшествовала эпоха, которую принято называть Античностью. Она датируется приблизительно с 8–7 вв. д.н. э. до 5–6 вв.н. э. Мировоззрение, которое доминировало на протяжении этого периода, принято называть космизмом. Что же представляет из себя «космизм» с интересующей нас точки зрения? Космизм – это такая система мировоззрения, которая в качестве высшей ценности рассматривает «космос».30 Космос, или то, что мы сегодня называем «Вселенная», и был высшей ценностью для человека в античности. Античному человеку в голову не могло прийти, что эту высшую ценность следует «покорять и подчинять человеку».
Итак, что же мы видим? Мы видим удивительную картину: человек на протяжении почти двух с половиной тысяч лет менял свои ценности так, что сначала, преклоняясь перед космосом и богом, перед их величием, в конце концов, сделал объектом поклонения самого себя. Говоря проще: пришёл к самоутверждению.
Утверждение, хотя уж, скорее – норма, о том, что «человек является высшей ценностью», постепенно проникает во все поры жизни, становясь чем-то само собой разумеющимся. Чтобы это не казалось голословным, рассмотрим наиболее репрезентативные примеры.
2.2. Что такое «гуманизм» с юридической точки зрения?
Безусловно, утвердившись в качестве господствующего мировоззрения, «гуманизм» закрепляет это с помощью кодификации, т.е. с помощью прописывания в различных сводах и кодексах своей безусловной власти, объявляя себя высшей нормой и высшим принципом, всякое отступление от которых должно караться самым жестоким способом. Для иллюстрации этого, обратимся к Конституции Р.Ф., где уже во 2-ой Статье говориться: «Человек, его права и свободы, являются высшей ценностью». Какие права, спросим мы? Право на жизнь, право на волеизъявление, право на труд т.д.
Причём право на жизнь является наиглавнейшим, ибо без его реализации, понятно, не могут быть реализованы и другие права. Поскольку аналогичные высказывания мы можем найти и в Евроконституции, где сказано, что права человека являются неотъемлемыми и неотторгаемыми. Правда, заметим, что Евроконституция в этом вопросе последовательна, т.к. запрещает смертную казнь, а Конституция Р.Ф. – нет. В Конституции Р.Ф. в пункте 2 Статьи 20 сказано о том, что человек в некоторых (исключительных) случаях, может быть лишён жизни. Очевидно, что в Конституции РФ между Статьей 2 и пунктом 2 Статьи 20 возникает логическое противоречие31. Однако, поскольку гуманизм обладает сегодня – именно как система мировоззрения – безраздельной властью, постольку современные гуманисты не придают подобным нелепостям существенного значения.
Главное, конечно, заключено не в этих нелепостях, а в том, что сам гуманизм (или кто-то от его лица) – обладает безраздельной властью. И эта власть – кодифицирована. Сами статьи (законы) этого кодекса – суть начертания границы, за которую заходить запрещено. Говорят, что «историю пишут победители». Это утверждение фактически верно, но с учётом сказанного, его следует дополнить: «Не только историю, но и законы (юридические) пишут победители».
Однако экспансия гуманизма не ограничивается только юриспруденцией. Покажем это.
2.3. Что такое «гуманизм» с научной точки зрения?
На первый взгляд заданный вопрос может показаться бессмысленным. Но только на первый взгляд. Действительно, как «гуманизм», т. е. система взглядов, полагающая «человека – высшей ценностью», может иметь отношение, например, к уравнениям квантовой механики или экспериментам по обнаружению, допустим, бозона Хиггса? По видимости, гуманизм как знание именно о человеке, и должен относиться к дисциплинам о человеке – той же юриспруденции, экономике, лингвистике, истории, медицине и т. д., но, какое отношение гуманизм может иметь к дисциплинам, предметом изучения которых являются законы и принципы устройства природы, т. е., мира внешнего человеку и прямо с ним не связанного. Да, это недоумение могло возникнуть у всякого, кто взялся бы связывать гуманизм с наукой. И так, наверное, и было.
Однако мне всегда не давало покоя недоумение другого рода: почему гуманизм, став господствующей системой взглядов и получив распространение во всех общественных сферах жизни и во всех гуманитарных дисциплинах на протяжении нескольких столетий, оставался не востребованным наукой? Другими словами, гуманизм для ученых, которые осознанно могли его придерживаться, оставался делом их частной сферы (убеждений, взглядов и т. д.), но он никогда не входил ни в одно уравнение науки в качестве важного параметра. Подчеркну ещё раз – эта ситуация длилась несколько столетий, приблизительно с 16 до середины 20-го в.в. Что же произошло потом? Понимание этого нам очень поможет в анализе трудов Достоевского.
Итак, в чём же ловушка? В чём источник недоумения? Чтобы разобраться в этом – вернёмся к исходному пункту. А исходный пункт – это главный тезис эпохи гуманизма: «человек является высшей ценностью».
Именно внимательное вдумывание в его содержание укажет нам путь к исходу. Итак, что же мы в нём видим? Если внимательно присмотреться к этому тезису, то у всякого проницательного человека может и должен возникнуть вопрос: «А где, по отношению к чему человек является высшей ценностью?» Ответ для абсолютного большинства людей был очевиден: здесь, на Земле, человек является высшей ценностью.
Ведь так и есть, а где же ещё? А природа, её законы имеют универсальный характер. Например, не существует же закона тяготения для Земли. Есть другой – закон всемирного тяготения. Всё верно, «там», где «нет человека», там и не должно быть и «гуманизма». Все вроде бы правильно, но не будем торопиться.
Такое объяснение гуманизма и его связи с природой сохраняло силу до конца первой четверти 20 в., поскольку в современную космологию было введено представление об эволюции Вселенной. Последняя, в свою очередь, вводит представление о такой эволюции, на определённом этапе которой возникает наблюдатель земного типа, т. е. человек.
А это уже совсем другое понимание главного тезиса гуманизма. Теперь этот тезис принимает другую форму: человек является высшей ценностью во Вселенной.
Согласимся, это качественно меняет дело. В науку вводятся такие понятия как «антропный космологический принцип», «человеко-размерность природы», «принцип наблюдаемости» и др. Теперь уже и природа принимает «человеко-размерную форму».
Возьмем для иллюстрации «принцип наблюдаемости». Его главным утверждением, если опустить разного рода нюансы, важные только для специалистов, является утверждение о том, что в физическом мире существует то и только то, что «в принципе наблюдаемо». Однако мы вправе спросить: кем наблюдаемо? Ответ может быть только один: человеком. В крайнем случае – прибором, но таким, который сделан человеком, под человека и ради наблюдения человека.
Я не имею здесь возможности останавливаться на деталях «принципа наблюдаемости» и поэтому отошлю к работам, где комплекс этих проблем рассмотрен более основательно.32
Главное, что я хотел бы зафиксировать – гуманизм овладевает и естествознанием (космологией, физикой, химией, биологией), утверждая свою власть надо всем, что существует. Однако всякая власть не бесконечна.
Теперь, после того, как гуманизм оказался нами раскрыт в своём существе и в своих формах, попытаемся выявить исток европейского гуманизма, то есть попытаемся ответить на самый важный, в контексте рассмотрения взглядов Достоевского, вопрос.
2.4. Вопрос: Что такое «гуманизм» с религиозной точки зрения ?
В основе религиозного – в нашем случае библейского – гуманизма лежит библейская установка на то, что «человек создан по образу и подобию Божию».
Что же следует из этой весьма безобидной фразы? Из неё следует почти всё, с чем придётся Достоевскому жить, бороться и искать ответы.
Итак, полагая «человека подобием Бога», мы получаем несколько очень важных для нас выводов:
Вывод первый. Утверждение о богоизбранности и богоподобии человека, предполагает поставление человека в исключительное положение во Вселенной. Ведь, по определению, все другие существа (будь то камень или высшее животное) не созданы по подобию бога.
Вывод второй. За счёт своего богоподобия человек «поднимается» над всей тварью, то есть над всем сотворенным.
Вывод третий. Вся тварь (весь сотворенный мир) отдается человеку в обладание, владение, господство и покорение. Человек, теперь – господин природы. Это прямо описано в Ветхом Завете.
Вывод четвёртый. Христианство обязывает человека «обожиться», т. е. стать Богом и богоравным33.
Итак, мы видим, что первые три вывода – это только предпосылки для вывода четвертого. Все они – условия для реализации процесса «обожения». Здесь позволим себе несколько предвосхитить события и спросить: что значит для человека «обожиться»? Это значит, что человек должен превозмочь себя, должен перестать быть собой, должен качественно трансформироваться. Всё так. Получается, что человек должен, пользуясь уже словарем нашего времени, стать «сверхчеловеком». Не правда ли, как это знакомо!? Я почти чувствую, как рождается и закипает возмущение тех, кто оказался обличен и, что называется, выведен на чистую воду. Но всё по порядку.
Для уяснения только что полученных выводов, т.е. «демонстрации того – какое они имеют отношение к “Лекциям о Достоевском”», произведем уже полюбившуюся мне процедуру34 секуляризации любых религиозно нагруженных тезисов.
Итак, предлагаю произвести мысленный эксперимент: представим, что мы развили в себе те качества наших убеждений, которые были описаны в Выводах 1–4. Теперь представим, что мы довели эти качества до совершенства. Если мы это сделали, то теперь представим, что нам объявили о том, что «бога нет», а человек с полученными «библейскими» качествами остался. Что же мы получим в качестве сухого остатка?
Не нужно долго думать и колебаться, чтобы дать однозначный ответ – мы получили «гуманизм», с соответствующими коннотациями.
1 . Человек – богоподобен.
2) Человек – занимает исключительное место во Вселенной
3. Человек – выше всей природы.
4. Природа – отдана человеку в обладание.
5. Человек – должен стать богом, в пределе сам и есть «бог», т. е. высшая ценность.
После того, как мы проделали эту аналитическую работу – т. е. совершили секуляризацию «религиозного библеизма» в «светский библеизм», у нас возникает возможность заявить о своей готовности приступить к анализу текстов Достоевского. Поскольку без проделанной предварительной работы всё сказанное ниже о Достоевском превратилось бы в обыч ную литературоведческую констатацию фактов.
Вопрос: Гуманистические истоки философии Ф.М. Достоевского
Получив в предыдущем разделе 5 замечательных выводов, попробуем теперь понять, как могли герои Достоевского родиться в такой восторженной атмосфере взглядов на человека?
По видимости, это кажется даже кощунственным, невозможным, а само рождение этих героев, как правило, списывают на особенность психического склада писателя35, бытовую неустроенность его жизни, черты его характера и т. д. и т.п.. На мой взгляд, за этим типом аргументации скрывается либо непонимание сути проблемы, либо намеренное введение читателей Достоевского в заблуждение.
А если дело обстоит именно так, то нам следует прямо указать на причину возникновения героев Достоевского. Я имею в виду и Макара Девушкина из «Бедных людей», и главного героя «Записок из подполья» – отставного коллежского асессора.
Итак, как же могли возникнуть эти персонажи? Ответ может быть только один: они могли возникнуть – именно «люди из подполья» – как закономерный итог эволюции гуманизма. Во всей аргументации Достоевского просматривается поразительная логическая строгость, но недоумение может усиливаться чувством переживания, если угодно – обиды, за гуманизм. Как такое возможно, чтобы из самого возвышенного – «гуманизма» – логически строго следовало самое низменное – «подпольное»? Отвечу прямо: возможно и ещё как возможно. Для демонстрации этого вернёмся к нашим 5-ти пунктам «секуляризованного библеизма» и посмотрим, что же получилось с ними в реальности.
Итак, почему «человек из подполья» есть закономерный итог эволюции гуманизма? – Потому, что человек оказался:
1 . Небогоподобным (несовершенным).
2. Не занимающим исключительное место во Вселенной.
3. Не находящимся «выше» природы.
4. Не обладающим (владеющим) природой.
5. Не являющимся «богом».
Достоевский глубоко осознал этот факт36 и поэтому, на протяжении всей своей жизни, пытался, с одной стороны, избавить читателя от этой «гуманистической иллюзии», а с другой стороны – найти выходы, например, в виде возвращения к богу, и, используя художественные и образные средства литературы, продумать (или я бы сказал резче – смоделировать) пути выхода из этого гуманистического тупика, т. е. самыми разными, в том числе и нерелигиозными средствами. Именно эта модельная сторона размышлений Ф.М. Достоевского и будет меня интересовать больше всего, на протяжении всего лекционного курса. Каковы же эти «моделируемые сценарии» выхода из гуманистического тупика, воплощенные литературно в образах героев?
Достоевским предлагается несколько строго логических сценариев развития темы «секуляризации библеизма» и падения гуманизма.
Это и Кириллов, решивший утвердить и провозгласить себя богом, это и Макар Девушкин, осознавший, что он «тварь дрожащая», а торжество «возвышенного человека» где-то там, «за окном», «на другом конце города», и этому «всему возвышенному» нет до Макара Девушкина никакого дела. О нём «забыли». Он «заброшен». Это и герой «Записок из подполья». Он уходит в «подполье» с тем, чтобы скрыться от «достоинства человека» и его притязаний: иметь право думать о всей полноте человеческой жизни, а не только о «возвышенном», или как говорит Достоевский – о «хрустальных замках».
Поскольку настоящая лекция посвящена рождению русского экзистенциализма, постольку мы и сосредоточимся на «Записках из подполья». Итак, главное, что необходимо зафиксировать, прежде всего, это то, что «человек из подполья» – это обиженный и униженный, бывший царь природы. Это – недообожившийся эгоист. Это тот, в кого «вдохнули иллюзию», которая затем лопнула как мыльный пузырь, превратившись во множество вопросов, не находящих в гуманизме никакого ответа.
Итак, кто же он, человек «из подполья»?
Вопрос: Кто такой человек «из подполья»?
Достоевский сразу начинает с его характеристики: « Я человек больной…Я злой человек. Непривлекательный я человек»37. Как, в недоумении вознегодуем мы, как же человек может быть «злым», «больным» и «непривлекательным»? Ведь это же насмешка над возвышенностью представления о человеческом «гуманизме». Но Достоевский продолжает, усиливая интригу: «Я, например, ужасно самолюбив. Я мнителен и обидчив, как горбун или карлик…»38. Но, в то же самое время, он «взяток не брал» и «утёк».
Эта характеристика, так сказать, внутренняя, но есть и внешняя. Герой говорит: «Комнатка моя дрянная, скверная, на краю города». Одним словом – не жилье, а «угол». Достоевский говорит, что эта (от) «комнаткаугол» расположена на краю города. Так-то так, но какого города? И здесь, в ответе на этот вопрос, мы не можем не услышать всё тот же нарастающий гул критики гуманизма и связанного с ним Просвещения, словно катящийся снежный ком, с каждым оборотом увеличивающий свою сокрушительную мощь. Человек из подполья обитает « в Петербурге, самом отвлеченном и умышленном городе на всём земном шаре» (Города бывают умышленные и неумышленные)39.
Что значит «умышленный город»? Это значит, что он возник не естественно, как возникло абсолютное большинство городов мира – увеличивая число жителей, изначально поселившихся в нём, скажем так – по воле Божией, а искусственно, то есть был учреждён и спланирован человеком осознанно. Такой город человекоразмерен, т. е. в нём заключен замысел человека, но в то же время – не природоразмерен. Примером первого может служить Москва в её исторической части, а примером второго – Петербург (в особенности, Васильевский остров).
Итак, Достоевский перед нами раскрывает картину, на которой изображен человек, сознательно сбежавший из «прогрессивного» общества и так же сознательно отринувший его ценности. Мы вправе спросить: почему сбежал? И вот здесь, при ответе на этот вопрос, и начинается то, что много позднее получит наименование «экзистенциализма». Достоевского и в «Записках из подполья», и в «Бедных людях» интересуют, прежде всего, те, кто не вписался в «гуманистическую эпоху» с её «святыми идеалами», кому не нашлось места на алтаре «будущего человечества». Как быть этим людям? Как им существовать? Им, отверженным, бедным, униженным, оскорблённым, наконец, тем, кто, не выдержав всего этого, уберёгся в «подполье»?
Итак, перед нами «существование» человека, реальное, без романтики, без розовых очков, но такое, от знакомства с которым, волосы встают дыбом. Вот именно такое существование человека и становится предметом анализа Фёдора Михайловича.
Конкретный человек, а не его «гуманистический идеал», со всеми его достоинствами и недостатками, со всеми его «почёсываниями», с сомнениями, хотениями, мыслями и капризами, именно он становится интересен Достоевскому. Более того, это не просто «конкретный человек», но именно «конкретно – единичный человек», то есть, говоря современным языком, неповторимый индивид. Да причём такой, которому волею судьбы не суждено было родиться вельможей или «купеческим сыном».
Какие же вопросы его одолевают, какую правду жизни он познал, в том числе и за «сорок лет в подполье», что его мучит, наконец, видна ли ему «снизу» башня гуманизма, а если видна, то что он в ней различает и что ему в ней открывается?
И здесь начинают разверзаться парадоксы, открываемые Достоевским.
Достоевский говорит устами своего героя:
«Чем больше я сознавал о добре и о всём этом «прекрасном и высоком», тем глубже я опускался в мою тину и тем способнее был совершенно завязнуть в ней»40.
В чём же парадокс? Парадокс в том, что самоутвердившийся в своём самостоянии человек и доводы своего разума обязан самообосновывать.
Ведь нет же ничего более высокого, чем сам человек и его разум, которые, сами по себе, и есть это «прекрасное и высокое». Следовательно, поскольку в человеке нет никакого стремления к чему-то внешнему (например, к Богу), то он и должен иметь это «прекрасное и высокое» и в качестве цели, и в качестве руководства к действию. Но, происходит, говорит Достоевский, всё с точностью до наоборот: чем глубже осознаю «всё высокое», тем глубже опускаюсь в «безобразное и низкое». В чём же причина? Причина в том, что разум человека, его сознание, сами по себе, индифферентны к добру и злу. Говоря проще, из того факта, что человек думает о чём-то (сознаёт что-то), ещё никак не следует, что он и сделает это что-то. Где же происходит провал? Достоевский полагает, что в воле, или как он часто его называет – «хотении». Ведь «хотеть» можно и вопреки разумным доводам.
Хорошо, могут согласиться некоторые, разум и сознание не модулированы к добру (благу) однозначно, но причём же тут гуманизм? Действительно, не происходит ли смешение понятий, которые не совпадают по объёму, но лишь пересекаются. Нет, не происходит, поскольку новоевропейский гуманизм четко закреплён в формуле homo sapiens («человек разумный»). И в случае гуманизма ни о каком другом человеке речи быть не может. Следовательно, нанося удар по-новоевропейски понятому рассудку (сознанию), Достоевский опрокидывает и новоевропейский гуманизм со всеми его пустыми идеалами.
Что проку с этих идеалов, если:
«Главное же, как не раскидывай, а всё-таки выходит, что всегда я первый во всём виноват выхожу и, что всего обиднее, без вины виноват, и, так сказать, по законам природы. (Курсив мой. – А.П.)»41.
«Человек из подполья» припёрт к стене. Он в отчаянии. А откуда отчаяние? Оно от безвыходности. Хорошо сильным и святым, а если он не силен и не свят. Как ему быть? Получается, что человек уже уготован к своему слабому положению. Да, он и готов с ним согласиться, свыкнуться, но зачем же его дразнить идеалами и звать к строительству «башни гуманизма». Он остался там, внизу, но и оставшись внизу тоже получит долю своего счастья, «наслаждения»:
«…в этом сознательном погребении самого себя заживо с горя, в подполье на сорок лет, в этой усиленно-созданной и всё-таки отчасти сомнительной безвыходности своего положения, во всём этом яде неудовлетворенных желаний, вошедших внутрь, … и заключается сок того странного наслаждения, о котором я говорил»42.
Достоевский гениально описывает безвыходное положение тех, кто не попадет в «сверхчеловеки», кто не станет «святым» и никогда не станет сильным. По сути – это приговор «общественной гармонии». Реальный человек оказывается между молотом и наковальней: с одной стороны – стена, природные законы, которые обязывают его слепо подчиняться, с другой стороны – хрустальные замки гуманизма, которые обязывают человека осознанно подчиняться их предписаниям и регулятивам.
Итак, Достоевский устами героя вершит свой приговор:
«…что уже нет тебе выхода, что никогда не сделаться другим человеком; что, если б даже и оставалось ещё время и вера, чтоб переделаться во что-нибудь другое, то, наверно, сам бы не захотел переделываться; а захотел бы, так и тут бы ничего не сделал, потому что, на самом-то деле, и переделываться-то, может быть, не во что»43.
Вот так! Человек из подполья прекрасно понимает, что не попадет в этот «гуманистический рай», причём, не только потому, что «слаб и не готов», – а по гораздо более весомому доводу – сам этот «гуманистический рай» есть ни что иное как иллюзия, надежда «для сотен миллионов», как её назовет Достоевский уже в легенде о «Великом Инквизиторе».
Итак, подытожим. Достоевский говорит о том, что фундаментом человеческого существования являются не разум, благо, рассудок, сознание, выгода, интерес, хотя и они важны, но единственно воля человека (его хотение), именно она делает человека человеком. Воля такова, что все наши классификации разрушает и все системы,
«…поставленные любителями рода человеческого для счастья рода человеческого, постоянно разбивает»44.
Конечно, спектр возможностей волить у «человека из подполья» меньше, чем, допустим, у вельможи или у заводчика, но и он, в подполье, имеет возможность волить, и хоть отравляется сознанием того, что не может волить как вельможа, но всё равно волит, и тем остаётся человеком, хотя и подпольным.
Дополнение к первой лекции
Как мы уже отметили, Достоевского интересовало существование человека реальное, без романтики, без розовых очков, которое ставит его в положение оппозиции к миру – природе и обществу. Человек оказывается заброшен в этот мир волею судьбы. И этой же волею он должен один противостоять ему. Это одиночество или, точнее, – существование одинокого человека, в определённом смысле, роднит героев Достоевского с героями Сёрена Кьеркегора, другого родоначальника европейского экзистенциализма. В качестве репрезентативной работы последнего рассмотрим «Страх и трепет» (1843 г.). Кьеркегор пишет об одиночестве Авраама, который в доказательство своей веры должен был принести в жертву – зарезать и сжечь (всесожжение) – своего единственного сына Исаака на горе Мориа45.
Всё повествование об Аврааме и его поступке разворачивается Кьеркегором по линии: абсолютный индивид – безумие (отказ от силы мышления) – вера. Кьеркегор, как восторженный поклонник Авраама, неоднократно признаётся, что сам он к такому поступку не готов (не хватает мужества), но восхищается им.
Итак, интригу с историей жертвоприношения Авраама он видит в том, что Авраам сталкивается с парадоксом веры. Что это за парадокс? Кьеркегор так объясняет его суть:
«Я не могу довести до конца движение веры, я не способен закрыть глаза и с полным доверием броситься в абсурд, для меня это невозможно, однако я не восхваляю себя за это»46
Итак, суть парадокса, согласно Кьеркегору, составляет абсурд. Речь идёт о том, что поступок Авраама, с точки зрения здравомыслящего человека, абсурден: Авраам любит единственного сына, но должен принести его в жертву. Здесь, конечно, мы узнаём старую библейскую установку на то, что «вера превосходит разум». Поэтому, Авраам верил, согласно Кьеркегору, силой абсурда. Ну, в самом деле, бог Авраама повелел ему принести в жертву своего сына. Авраам оказывается безутешен и одинок в своём горе: он не может об этом рассказать ни своей жене Саре, ни слуге Елизару. Они его просто не поймут. Следовательно, у него есть только один собеседник – бог Авраама:
«Он верил силой абсурда; ибо, по всем человеческим расчётам, речь не могла идти о том – в этом-то и состоял абсурд, – чтобы Бог, потребовав от него этого, в следующее мгновение вдруг отказался от своего требования»47.
Для Авраама характерно: 1) бесконечное самоотречение; 2) вера силой абсурда. Если говорить на понятном человеческом языке, то получается следующее: Авраам понимал, что Бог не может взять Исаака, но, в то же время, Бог требовал этого. Это для человеческого ума безвыходная ситуация, но именно-то она и составляет самую соль иудейского верования: верить слепо, без каких-либо рациональных обоснований.
И здесь, с совершенно неожиданной (религиозно-богословской) стороны, Кьеркегор обнаруживает сходство взглядов с Достоевским:
«…каким ужасным парадоксом является вера, парадоксом, который способен превратить убийство в священное и богоугодное деяние, парадоксом, который вновь возвращает Исаака Аврааму, парадоксом, который неподвластен никакому мышлению, ибо вера начинается как раз там, где прекращается мышление». (курсив мой – А.П.)»48.
В чём же сходство с Достоевским? Прежде всего – в критике рационализма, критике всевластия мышления. Во-вторых, в том, чтобы найти основу человеческого существования вне мышления.
Однако далее они расходятся: Достоевский находит такую основу в полноте жизни, а Кьеркегор – в полноте веры (страсти веры).
В самом деле, и Достоевский, и Кьеркегор обнаруживают абсурд в человеческом существовании, но стремятся – через своих героев – преодолеть его по-разному:
Кьеркегор – в бесконечном самоотречении и бесконечном Боге, в котором абсурд перестаёт быть абсурдом. Кьеркегор – протестант и близок иудеям.
Достоевский – в красоте мира (в его древнерусской «лепоте»), в мировой гармонии. Достоевский – православный и близок грекам.
Другая плоскость, в которой пересекаются нити натяжения авторских персонажей – придание фундаментальной роли единичному, вообще отдельному и конкретному человеку.
Кьеркегор говорит:
«…единичный индивид, после того, как в качестве единичного был подчинён всеобщему, теперь посредством этого всеобщего становится единичным, который в качестве единичного превосходит всеобщее»49.
Кьеркегор хочет сказать, что вера индивида, всегда индивидуальна, никакой другой индивид не может научить его или помочь ему верить. Тем же самым Кьеркегор хочет сказать, что вера индивида и выше коллектива и выше коллективной этики (норм). Абсолютный единичный индивид предстоит абсолютному богу:
«…он, в качестве единичного индивида устанавливает себя в абсолютное отношение к абсолюту»50.
Итак, интерес к индивиду, его состояниям, его парадоксальному существованию, несомненно, объединяет Кьеркегора с Достоевским. «Страсть» (религиозной веры) у Кьеркегора в каком-то смысле комплиментарна «хотению» Достоевского:
– Достоевский ставит «хотение» выше разума.
– Кьеркегор ставит «религиозную страсть» выше разума.
Однако следует признать, что Кьеркегор больше морализатор, а Достоевский больше эстетик. Кьеркегор связывает парадоксы с верой, Достоевский – с жизнью. (Например, в сюжете с невинно осуждённым дворянином в «Записках из Мёртвого дома»: преступления не совершал, но на каторгу пошёл).
– У Достоевского в «фокусе внимания» – «маленький, бедный человек» в состоянии безвыходном.
– У Кьеркегора – библейский персонаж в состоянии абсурда.
Мы видим, что области обсуждения разные, но между ними есть и общее:
У Достоевского абсурд открывается единичному человеку – коллежскому асессору.
У Кьеркегора абсурд тоже открывается единичному человеку – Аврааму.
Итак, главное, что их объединяет, это то, что и у Достоевского, и у Кьеркегора основным предметом исследования является единичный человек в его неразрешимой жизненной ситуации. Интерес к существованию этого человека, точнее, наоборот – поставление такого существования в фокус авторского наблюдения и делает экзистенциализм тем, чем он сегодня является для нас – самостоятельным философским течением.
В заключении считаю необходимым отметить, что абсурд, с которым столкнулись представители культуры, сформировавшейся под влиянием христианства (и Кьеркегор, и Достоевский), является, с моей точки зрения, ничем иным как иносказанием (христианским иносказанием) для трагедии, которой в христианстве не оказывается места просто потому, что все «неразрешимые человеческие проблемы» на Земле, должны будут (во всяком случае, так было обещано) разрешиться на Небе. Но, до попадания «на Небо», в рамках предоставленных человеку на Земле условий, человек оказывается отягощён абсурдом, то есть безвыходностью. Абсурд противен Небу, ибо он рождён его небрежением. Поэтому, Кьеркегор напоминает птицу, у которой повреждено одно крыло: она хочет и готова взлететь, но не может. В этом только смысле Достоевский более цельная фигура, чем Кьеркегор. Достоевский был готов принять трагедию такой, как она есть, без небесного страхового билета. И Достоевский принял её.
Лекция вторая
Проблема «свободы» во взглядах Достоевского Ф.М. Предопределённость событий мира и бунт маленького человека против этой предопределённости
В предыдущей лекции было показано, как Достоевский дезавуирует притязания «гуманизма» в качестве проекта «светлого будущего человечества» и всего «возвышенного и благополучного», претендующего на роль общечеловеческого мировоззрения, показывая, как оно разбивается всего лишь об одно препятствие – волю (хотение) человека. Эту волю человека, в иерархии сущностей, Достоевский ставит, несомненно, выше и рассудка, и сознания.
Казалось бы, на этом и можно поставить точку: человеческая воля – главная среди его способностей, и всё тут. Но, не таков Достоевский. Фёдор Михайлович показывает, что воля человека тоже не так абсолютна, как это может показаться на первый взгляд. Конечно, каждый человек волит и может, что называется, «выкинуть коленце», но и эта «воля», и это «коленце», сами ограничены. «Чем же?», – может спросить недоуменно его читатель. Ответ Достоевского однозначен – предопределённостью. И вот здесь завязывается новая интрига.
Вопрос: Тема свободы и воли человека в трудах Ф.М. Достоевского
Тема «свободы человека», наряду с сопряженной с ней темой «существования» человека, едва ли не самая главная в работах Фёдора Михайловича. Она начинается (завязывается) в «Бедных людях», ещё только объявляя себя и обозначая первые нити напряжения самой проблемы, и уже в полный голос заявляет о себе в «Братьях Карамазовых». В этой работе Фёдор Михайлович дает, пожалуй, самое честное определение человеку: человек не свободен. Не в смысле наличия или не наличия возможности «выбора товара в торговых рядах», а в онтологическом смысле. Дмитрий Карамазов осуждён на каторгу не за что, он безвинно осужден. Это, думаю, прозвучало для либералов 19 в. как гром среди ясного неба. Как же так, ведь подвергнута ревизии, и даже более того – фальсифицирована, одна из основ гуманизма – «свобода», в её идеологической подложке: «свобода, равенство, братство».
Но есть и ещё один фигурант в теме о «свободе человека» – это «предопределение». Фигурант гораздо более таинственный, чем все эти прекраснодушные либеральные грёзы. Вспомним, как сталкивается с ним Родион Раскольников, выслушав рассказ студента о жизненной никчёмности старухи-процентщицы и смысловой оправданности её убийства, который совпал с его собственным видением дела и который словно подталкивал его к уже собственному поступку:
«Странным всегда казалось ему это совпадение. Этот ничтожный, трактирный разговор имел для него влияние при дальнейшем развитии дела: как будто, действительно, было тут какое-то предопределение, указание…»51.
Вопрос: Становится ли человек свободнее от того, что становится разумнее?
Здесь следует обратить внимание на то, что, задавая такой вопрос, мы подразумеваем, что речь идёт о человеке «тронутом цивилизацией», то есть человеке разумном. Коли так, то заданный вопрос оказывается оправданным, а в его основе лежит предпосылка – «чем разумнее человек, тем он свободнее».
И понятно, что такая свобода, т.е. именно так понятая свобода разумного человека, связана непосредственно с благом для него, где имеется прямая зависимость: чем разумнее, тем свободнее, чем свободнее, тем он добрее (более благ).
Однако Достоевский, связывая разумность с «просвещённостью», скептически замечает:
«О, скажите, кто это первый объявил, кто первый провозгласил, что человек потому делает пакости, что не знает настоящих своих интересов; а что если б его просветить, открыть ему глаза на его настоящие, нормальные интересы, то человек тотчас бы перестал делать пакости, тотчас бы стал добрым и благородным…»52
Ведь разум определяет свободный выбор между добром и злом (пакостями). Следовательно, чем разумнее человек, тем он свободнее. Получается, что «нет». Такая зависимость не проходит. Достоевский приводит пример «господина» в собирательном смысле, который
«…тотчас же изложит вам, велеречиво и ясно, как именно надо поступать по законам рассудка и истины.…а ровно через четверть часа, без всякого внезапного, постороннего повода, а именно по чему-то такому внутреннему, что сильнее всех его интересов, – выкинет совершенно другое колено, то есть явно пойдет против того, об чем сам и говорил: и против законов рассудка, и против собственной выгоды, ну, одним словом, против всего…»53
Получается, в результате, что воля человека —
«…главнее и выгоднее всех других выгод, и для которой человек, если понадобится, готов против всех законов пойти, то есть против рассудка, чести, покоя, благоденствия, – одним словом, против всех этих прекрасных и полезных вещей…»54
Итак, перейдем к рассмотрению воли и её связи со свободой.
Вопрос: Становится ли человек свободнее от того, что реализует свою волю?
Пока, в самом общем виде, мы установили, что свобода не редуцируется к разуму и, образно выражаясь, «увеличение количества разума» не приводит однозначно к «увеличению количества свободы». Однако Достоевский, соглашаясь с этим, всё-таки делает акцент на другом, и это органично вытекает из его критики гуманизма: не разум (рассудок), но воля или точнее – свобода воли, вот, что составляет сущность человека.
Фёдор Михайлович говорит о том, что могут существовать какие угодно нормы, правила, системы предписания, инструкции, наконец, интересы и выгоды, обязывающие его поступать соответствующим образом, однако, человек, в силу своего хотения, то есть воли, волен поступить супротив всех этих предписаний:
«О, чистое, невинное дитя! Да когда же, во-первых, бывало, во все эти тысячелетия, чтоб человек действовал только из одной своей собственной выгоды? Что же делать с миллионами фактов, свидетельствующих о том, как люди зазнамо, то есть, вполне понимая свои настоящие выгоды, оставляли их на второй план и бросались на другую дорогу, на риск, на авось, никем и ничем не принуждаемые к тому, а как будто именно только не желая указанной дороги, и упрямо, своевольно пробивали другую, трудную, нелепую, отыскивая чуть не в потемках. Ведь, значит, им действительно это упрямство и своеволие было приятнее всякой выгоды…»55
Воля, воля, и ещё раз воля, вот что для Достоевского указует выход из «безвыходности двух стен»: 1) стены природной (принудительный характер природных законов) и 2) стены общественной.
«Невозможность – значит каменная стена! Какая каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика. Уж как докажут тебе, например, что от обезьяны произошёл, так уж нечего морщиться, принимай как есть.
Помилуйте, – закричат вам, – восставать нельзя: это дважды два четыре! Природа вас не спрашивается, ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ли вам её законы или не нравятся. Вы обязаны её принимать так, как она есть, а следовательно и все её результаты. Стена, значит, и есть стена…и т.д., и т.д. …
Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило»56.
И хотя прямо Достоевский термин «общественная стена» не употребляет, тем не менее, он о ней говорит постоянно, упоминая о «привычках», «нормах» и «системах». Получается, что человек Достоевского «зажат» между этими стенами, словно в проулке, а сам этот проулок и есть его жизнь, его жизненные возможности, наконец, и сама возможность начхать на эти стены.
Пусть «по бокам» проулка – стены. Но сам-то проулок есть. Он существует. И свидетельством этого существования является сам человек, «человек волящий». Человек – это своеобразный зазор бытия, некоторая неопределённость. Зачем он пришёл в этот мир, если кругом – стены. Чтобы мучиться этим проклятым вопросом? Чтобы жить без целепознаваемых «начала» и «конца», чтобы, наконец, «плюнуть» на всё и просто плыть по течению?
«…дойти путем самых неизбежных логических комбинаций до самых отвратительных заключений на вечную тему о том, что даже и в каменной-то стене как будто чем-то сам виноват, хотя опять-таки до ясности очевидно, что вовсе не виноват, и вследствие этого, молча и бессильно скрежеща зубами, сладострастно замереть в инерции, мечтая о том, что даже и злиться выходит тебе не на кого; что предмета не находится, а, может быть, и никогда не найдется, что тут подмен, подтасовка, шулерство, что тут просто бурда…»57
Но бытие словно дразнит человека, давая ему понять, что плыть по течению не получится. Почему, спросим мы. Потому, говорит Достоевский, что:
«…несмотря на все эти неизвестности и подтасовки, у вас всё-таки болит, и чем больше вам неизвестно, тем больше болит»58.
Значит, всё-таки «внутри» человека есть что-то такое, что делает его «вне» стен и «вне» всяких «дважды два – четыре». Значит, человек это такая же загадка, как и сам этот мир. И можно вслед за Лейбницем, задавшим вопрос: «почему мир есть, а ни его нет?», переформулировать его в отношении человека «почему человек есть, а ни его нет?». Достоевский прекрасно отдавал себе отчёт во всей сложности этого вопроса. Возможно, именно он и не давал ему покоя. Ведь только в тех вопросах и стоящих за ними (проблемах) мы продвигаемся вперед, которые не дают нам покоя ни днём, ни ночью, ни во сне, ни наяву. Думаю, что именно воля человека, в представлении Фёдора Михайловича, его «хотение», словно пружина, заключённая в нём, двигает его между стен всё дальше и дальше, к тому, чтобы, наконец, избыть эту боль – боль познания, боль избавления от неизвестного и невозможного. Позднее, её назовут «витальной» или на иной манер – «жизненной силой».
Именно в силе воли человеку «протягивается подсказка» его жизни. В этой воле Достоевский видит и ответ на «проклятый вопрос» – зачем человек? Эта сила пробивает своей энергией всё: рассудок, разум, нормы, принципы, системы:
«…именно оттого, что человек, всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и положительно должно (это уже моя идея)»59.
Именно в этом и заключается человеческая свобода, согласно Достоевскому, именно этим он – человек – и отличается от других животных. Человек обладает свободой воли! Он не зависит от инстинктов, т.е. заложенных самой природой механизмов удовлетворения потребностей, ни от природных законов, которым жестко подчинены атомы, молекулы и планетные системы. Более того, человек не зависит – именно как свободно волящее существо – ни от законов логики, ни от аксиом математики. Он – выше всего этого! И эту высоту, высоту свободы, даёт ему не разум, а его воля. Слова Фёдора Михайловича звучат как гимн человеческой воле:
«Свое собственное, вольное и свободное хотение, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, – вот это-то и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к чёрту… С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно-выгодного хотения? Человеку надо – одного только самостоятельного хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела…»60.
Самостоятельное хотение – вот, что, подобно грушенькиной «луковичке», вытащит человека из тины необходимости, невозможности и предопределённости. Так думал Фёдор Михайлович Достоевский.
Вопрос: Свободна ли воля человека?
Конечно, для Фёдора Михайловича такого вопроса, в осмысленной форме, задано быть не могло. Ибо было очевидно – конечно, свободна! Более того, воля – это и есть основа человеческой свободы, что и было продемонстрировано выше.
Однако мы живем в другую эпоху: эпоху дотошного вопрошания даже там, где всё кажется очевидным. Коли так, то не может избегнуть такого дотошного вопрошания и сам тот вопрос, который вынесен в подзаголовок.
Однажды я уже обращался к этой теме в размышлении «Предвыбор».61 Но обращался к ней по другому поводу и не в связи с анализом взглядов Ф.М. Достоевского. В этот раз я предполагаю разобрать эту тему подробнее и в связи с Достоевским, сохранив, однако, результат, зафиксированный в «Предвыборе».
Итак, когда мы задаём вопрос: «Свободна ли воля человека?», то очевидно, что нас интересует «свобода воли» именно как рациональная проблема, хотя я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что для Фёдора Михайлович было гораздо важнее «переживание и чувство свободы воли». Другими словами, для него было важнее то, как переживается свобода воли конкретным человеком, а не как она рационально анализируется.
Однако вернёмся в рациональную сферу и ещё раз сформулируем задачу: что значит «рациональная проблема»? Это означает, что нас будут интересовать два вспомогательных вопроса:
1) Как возможна воля (человека)?
2) Как возможна свобода воли (человека)?
Обратимся к ответу на первый вопрос. В самом общем виде мы можем дать несколько остенсивных определений понятия «воля»:
1) Воля может пониматься как то, что я хочу. Это моя, индивидуальная воля.
2) Воля может пониматься как то, что хочет осуществить через меня коллектив (микрогруппа, сообщество). Это воля коллектива.
3) Воля может пониматься как то, что хочет осуществить через меня «родовое существо». В этом случае речь идёт о «воле нации», «воле народа». Или более широко – воля человечества.
4) Воля это то, что хочет осуществить через меня природа. В этом случае речь идёт о «воле к жизни», иногда её называют «жизненной силой».
5) Воля это то, что хотят осуществить через меня Боги. В этом случае речь идёт о «божественной воле».
Из этого краткого перечня возможных определений, Ф.М. Достоевского, понятно, интересовало первое определение, на котором и строится его экзистенциализм. Несколько дополняя тему, можно было бы сказать, что каждое из этих определений допускает создание собственной формы экзистенциализма.
Итак, подытоживая сказанное, мы можем заключить, что по отношению к воле индивидуальной – отдельного и конкретного человека – все другие воли, по видимости, выступают как внешние её ограничители. Однако легко показать, что индивидуальная воля не находится в противоречии с жизненной волей. Ведь понятно, что если природе – всему множеству её живых существ – свойственно стремиться (волить) жить, то и такому подмножеству как «человек» это стремление (воля) также должно быть присуще, равно как и любому индивиду, входящему в это подмножество. Впрочем, оставим эти комментарии.
Итак, исходя из сказанного, когда я говорю, что «я волю» – какой смысл я в это вкладываю? Это может быть и один из пяти ответов и любая их комбинация.
Обратимся теперь к ответу на второй вспомогательный вопрос «Как возможна свобода воли человека?»
Начнём с отрицательного определения «свободы воли». Свобода воли – это независимость воли от внешних ей факторов. По видимости, такое определение кажется удовлетворительным. Можно, конечно, придать ему и положительную форму: «свобода воли» – это способность индивида заявлять о своих интересах, побуждениях и стремлениях и реализовывать их, руководствуясь ими и только ими. Однако даже в этом случае не удаётся избежать оттенка отрицательности во фразе «руководствуясь ими и только ими», ибо и в этом случае происходит указание на различие (разграничение) класса элементов.
Но дело даже не в том, что крайне сложно дать положительное определение «свободы воли». Основные трудности мне видятся в другом.
Например, я могу задать вопрос: соглашаемся ли мы с тем, что всё в этом мире имеет свою «назначенность»? Резонно спросить: а что такое «назначенность»?
Например, «камень» назначен быть камнем, (а не водой, воздухом или ещё чем-либо). «Кувшин» назначен быть кувшином, (а не «стулом» или «ложкой»); «дерево» назначено быть деревом, (а не животным, «млекопитающим»); «человек» назначен быть человеком, а не «кувшином» или «деревом».
Если мы соглашаемся с онтологическим существованием «назначенности», за которой угадывается парменидовское тождество, следовательно, у человека нет выбора (нет створа воления) – хотеть ли ему быть человеком или нет. Следовательно, по основному вопросу (в главном) у человека нет свободной воли. То есть у него нет свободы волить «быть или не быть человеком». Это очень сложный вопрос. И, думаю, Фёдор Михайлович догадывался, а может и прямо видел эту ловушку, поэтому нашёл неожиданный выход.
Если я настаиваю в определении воли человека на «назначенности быть человеком», делая акцент на «человеке», то Фёдор Михайлович нашёл способ, как избежать этого затруднения, перенеся акцент с «человека» на «бытие», но это уже тема другой лекции, а поэтому не будем забегать вперед.
Другая трудность, которая подстерегает не только концепцию Ф.М. Достоевского, но и вообще всякий волюнтаризм, заключается в следующем.
Допустим, что сущностью человека является его воля («хотение», в терминологии Фёдора Михайлович), допустим даже, что эта воля является свободной, т.е. самоопределяется в актах (действиях) своего самоутверждения, не имея никаких по отношению к себе внешних причин. При всей очевидности допущенного, рациональный, а не чувственный («переживательный») способ исследования (вообще всякого рассмотрения), позволяет задать вопрос, который ни Ф.М. Достоевскому, ни кому-либо ещё не приходил в голову: что означает: «я так хочу!»? По видимости, кажется, что моё свободное «Я» волит нечто (именно то, чего оно хочет). Однако возникает вопрос: само воление (хотение) может ли волиться (хотеться)? Или оно предписано (в моей терминологии – «назначено») самому себе? Неожиданно, правда? Поясню.
Например, когда я говорю:
«Я хочу выпить кофе».
моя воля утверждает (заявляет) об удовлетворении моей жажды.
Другой пример, когда я говорю:
«Я хочу хотеть»
чтó я имею ввиду? Чтó утверждает моя воля в этом случае? По видимости она самоопределяется. И здесь бы можно увидеть даже тавтологию. Но не будем торопиться.
Вот пример ещё одного утверждения:
«Я хочу не хотеть» (или «Я не хочу хотеть»)
Ведь если «я хочу не хотеть», значит «я не хочу хотеть», следовательно, «я хочу не хотеть» и т.д. В результате мы приходим к парадоксу.
Для меня здесь даже не столько важна сама фиксация парадокса, сколько сам факт невозможности «не хотеть» для «хотящего» волюнтариста. А это и означает, что воля человека назначена и, следовательно, внутри самой себя не допускает никакой свободы, т.е. «воля» не может «не волить», если она есть.62 Или совсем кратко: волюнтарист, а значит и герой Фёдора Михайловича Достоевского, не может непротиворечиво сказать: «Вот, хочу не хотеть и всё!». Это означает, что волюнтаризм – или несколько иначе – обоснование свободы человека с помощью «воли» сталкивается с очень серьезными трудностями, обойти которые не так-то просто.
Вопрос: Сводима ли «свобода человека» к «свободе выбора» и предопределённость?
Герои Достоевского неоднократно оказываются в безвыходном положении. Происходящие с ними события видятся им предопределёнными, независящими от их воли и свободы выбора. Достоевский настаивает на том, что человек должен иметь право выбора: между глупым и умным, свободой и необходимостью, между добром и злом. Не прямо, но косвенно он говорит об этом в «Записках из подполья»:
«Но повторяю вам в сотый раз, есть один только случай, только один, когда человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, глупого, даже глупейшего, а именно: чтобы иметь право пожелать себе даже и глупейшего и не быть связанным обязанностью желать себе одного только умного»63.
Почему это право выбора между «глупым» и «умным» так важно для Достоевского? Потому что это право
«…сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность»64.
По видимости, это действительно так, но само право выбора, т.е. право на выбор, может породить вопрос: не сводится ли свобода для разумного человека к «свободе выбора». В тексте «Записок» Фёдор Михайлович, опять же по видимости, говорит о другом – о «свободе хотения», но и сама «свобода хотения» ставится им на развилке «умное – глупое». И Достоевский настаивает на том, что тот по-настоящему свободен (тогда он и личность, и индивидуальность), кто имеет право желать себе и глупого. Кажется, абсурд: как же может разумный человек желать себе глупости. Это невозможно! Нет, оказывается очень даже возможно. Ведь в случае, если разумный человек будет искать себе только «умного», то получается предопределённость разумного. И где же здесь, в этой предопределённости, свобода? Получается, что ей там не остаётся места! Именно поэтому Фёдор Михайлович и требует право выбора, выбора «глупого», каким бы «глупым» оно ни оказалось.
Конечно, Достоевский не обскурант и оговаривается, говоря, что:
«Хотение, конечно, может, если хочет, и сходиться с рассудком, особенно, если не злоупотреблять, а пользоваться умеренно; это и полезно и даже иногда похвально»65.
Но, однако, это не меняет общей картины и сути дела:
«Но хотение очень часто и даже большею частью совершенно и упрямо разногласит с рассудком и … и … и знаете ли, что и это полезно и даже иногда очень похвально»66.
Конечно, Достоевский не делает следующего хода в критике «предопределённости разумного», но мы его сделаем, памятуя о том, что мы договорились ещё в «Вводной лекции» – не просто излагать взгляды Достоевского, но продумывать самостоятельно, уже продуманное им самим.
Итак, допустим, что некто станет утверждать – как именно разумное существо – что свобода человека сводится, по существу, к свободе его выбора. Здесь, однако, возникают две возможности: 1) возможность в своём выборе полагаться на хотение (позиция Достоевского), когда хотение может совпадать с разумом, а может и нет; 2) возможность в выборе полагаться на разум (рассудок), когда разум определяет чтó выбирать, а чтó – нет. В этом случае разум всегда совпадает с собой (позиция, представленная «либеральным гуманизмом»).
С позицией Достоевского мы уже разобрались, теперь рассмотрим сведение свободы человека к разумной свободе выбора.
Действительно, такой подход настолько естественен, что не только у современного «прогрессивного человека», но и у прогрессивного человека эпохи Достоевского может – и должен – вызвать вопрос: а, что, разве может быть как-то иначе? Разве может цивилизованный разумный человек полагаться в своём выборе на что-то иное, нежели разумное основание? Этот вопрос настолько важен, что я предлагаю задержаться на нём основательнее. В самом деле, на что же может полагаться свободный разумный человек в своём выборе? Конечно, на разумное основание. Если это действительно так, то перед нами неминуемо возникают затруднения.
Итак, представим, что разумный человек свободно выбирает между некоторыми «возможностями», которые мы обозначим как Ряд 1 .
Для того, чтобы выбрать одну из возможностей ряда 1 ., свободному разумному человеку необходимо разумное основание. Представим также возможные основания рядом 2.:
Теперь, предположим, что свободный разумный человек выбирает возможность (Г), руководствуясь разумным основанием (β). Вот так:
Поскольку «этот человек» – разумный, то мы не можем не признать наличия очевидной связи, которую выразим логически строго в виде условного (импликативного) суждения
Но, такая условная связь носит логически необходимый характер. Следовательно, получается, что человек, опираясь на основание (β), с логической необходимостью выбрал возможность (Г). Результат оказывается нелепым: у разумно-свободного человека выбор осуществляется не свободно, но с необходимостью, да, причём, так, что свобода дезавуируется. Во-первых, просто с необходимостью, поскольку из основания (β) с логической необходимостью следует (Г), а во-вторых, с фатальной необходимостью, поскольку основание выбора (β) само не выбирается. Оно предвыбрано. Думаю, именно этой предопределённости и пытался избежать Фёдор Михайлович.
Однако вполне может найтись человек, например, ещё более «прогрессивный» и ещё более «либеральный», чем тот, который уже сделал свой выбор, который скажет: «Подождите, подождите, но вы в этой схеме раскрыли не всю правду, ведь, в действительности, существует ещё один ряд – Ряд 3, который предопределяет основание (β) во втором ряду. Например, позицией (с)».
Да, последовав совету ещё более «либерального человека», мы вынуждены признаться, что наша схема становится более сложной:
И в результате у нас получается более сложная зависимость:
Однако, по закону транзитивности, мы можем уверенно заключить, что из [II] строго логически следует вывод:
Мы вынуждены признать, что добавление Ряда 3 не спасло ситуацию, поскольку теперь предвыбранными оказались позиции Ряда 3, а в нашем случае – позиция (с).
Здесь я мог бы помочь «прогрессивному либералу» и предложить внести в нашу схему ещё большее количество рядов. Однако такое внесение не изменит ситуацию в принципе. На мой взгляд, существуют только две возможности преодоления этого затруднения.
1) Первая связана с бесконечным увеличением количества рядов. Она, очевидно, тупиковая и никуда не ведёт.
2) Вторая связана с возможностью остановиться на некотором шаге (ряде) и признать, что все последущие позиции во всех последующих рядах свободно и разумно выбраны, а тот ряд и та позиция, на которой мы остановились – нет. Она предвыбрана. Причём этот «предвыбор» сам не имеет никаких разумных выборных оснований.
Конечно, Фёдор Михайлович в своих работах такое затруднение «свободно выбирающего разума» в явном виде нигде не рассматривал, однако, интуитивно чувствовал возможность развития событий в этом направлении, когда совершенно справедливо и проницательно подмечал, что, если разумный человек будет желать себе только «разумного», то получится предопределённость разумного. А что такое «предопределённость»? Это, когда все шаги – любые шаги – определены заранее. Другими словами, в предопределённости нет никакой свободы, и уж тем более – свободы выбора.
Именно, против этой предопределённости и восстает «маленький человек» Достоевского. Уж слишком много неразумного в этом мире.
Дополнения ко второй лекции
То, что у Достоевского вызывает недоумение и протест – воздействие на человека высших, неподвластных ему сил или попросту предопределённость его жизненной линии-судьбы – у Кафки, наоборот, становится в «Процессе» основной темой обсуждения. И дорогу к этой теме ему (Кафке), конечно же, указал Достоевский тем самым случаем, который впервые был им так ярко описан в «Записках из Мёртвого дома». Речь идёт о том самом молодом дворянине, которого обвинили в убийстве и который был безвинно осуждён и, отсидев десять лет, был оправдан и отпущен на свободу. Но лучшие, лучшие годы его жизни были отданы каторге. Мы узнаём эту же тему в «Братьях Карамазовых». Митя Карамазов безвинно осуждается на каторгу. Осуждается во время судебного процесса.
Именно «суд» и «процесс» становятся у Кафки доминантными узловыми точками, вокруг которых разворачиваются события. Но, что добавляет Кафка? Он делает «суд» и «процесс» более абстрактными. Если у Достоевского суд и процесс осуществляются «вокруг» семьи Карамазовых и, прежде всего, вокруг Дмитрия Карамазова, то у Кафки мы видим уже иную картину. Развивая тему предопределённости человека у Достоевского, Кафка намеренно нанизывает события в жизни Иозефа К. на стержень, основу которого составляет судебный процесс. Более того, будучи юридически хорошо образованным, Кафка значительно расширяет диапазон «процесса». У Достоевского везде фигурирует процесс уголовный. Кафка же придаёт процессу поистине вселенский масштаб. Всё начинается буднично: Иозеф К. разбужен дома посетившими его служителями сыскного ведомства, но заканчивается «процесс» над Иозефом К. ни где-нибудь, но именно в «Соборе».
Интрига завязывается с самого начала – никто из «сотрудников» процесса не говорит Иозефу К., в чём его вина. По видимости, возникает ситуация абсурда: вины нет, но все его обвиняют. Утверждается принцип: «Есть процесс – значит, есть и вина» или используя парафраз известной русской поговорки: «Процесса без вины не бывает». Кафка лишь намекает:
«Кто-то, по-видимому, оклеветал Иозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест»67.
Однако преследования этих сотрудников заставляют героя самому «погрузиться» в процесс и почти поверить в свою вину. Процесс надвигается на Иозефа К. как непреодолимая предопределённость. Служитель процесса – Франц – объясняет Иозефу К.:
«Чего вы хотите? Неужто вы думаете, что ваш огромный, страшный процесс закончится скорее, если вы станете спорить с нами, с вашей охраной, о всяких документах, об ордерах на арест?»68.
Ведь в арестах «ошибок не бывает». Верховные чины (судьи) знают, что делают. Более того, резюмирует Кафка:
«Наше ведомство – насколько оно мне знакомо, хотя мне там знакомы только низшие чины, – никогда, по моим сведениям, само среди населения виновных не ищет: вина, как сказано в законе, сама притягивает к себе правосудие, и тогда властям приходится посылать нас, то есть стражу. Таков закон»69.
Так и есть: «вина сама притягивает к себе правосудие».
Получается, что человек уже сам виновен, и есть подозрение, что виновен именно как «человек». Любой человек, каким бы порядочным он не был, может быть оклеветан, а значит – «виновен», то есть обвинён. И тем самым притянет к себе правосудие, то есть «процесс». Опять могут сказать – абсурд! Нет, никакого абсурда нет. Просто Кафка срывает «исподнее» с европейской христианизированной цивилизации. Так и есть. Согласно библейской мифологии: все люди, уже по рождению – грешники. И хоть в своей жизни они ничего дурного не сделали, – всё равно они грешники, то есть «виновны» уже по одному только тому – что родились. И грех этот «первородный», который будто бы идёт от самого мифического Адама.
Так и есть: вся история, согласно христианству (шире – иудаизму) есть отпадение от христианского (иудейского) бога и, следовательно, процесс жизни людей должен закончиться «божьим судом».
Всё верно, начиная, может быть, с Тертуллиана, отношения человека с библейским богом рассматриваются как отношения участников судебного процесса: истца и ответчика, прокурора и адвоката, судьи и подсудимого.
В этом чаду «суда божьего», со всеми его индульгенциями (с лат. «прощениями»), кардиналами (с лат. «стерегущими у врат – главными», прокурорами (с лат. – «надсмотрщиками») и адвокатами («защитниками»), со всем этим институтом «исповедания» (в процессе которого грешник обязан изложить пастырю свои грехи (вину) и каяться в них), со всем этим институтом «отпущения грехов» (вины), со всеми этими и многими другими библейскими придумками, «судебный процесс» вошёл в жизнь европейского человека и до неузнаваемости изменил её.
Кафка сам намекает на это, когда говорит:
«Ступени и ранги суда бесконечны и неизвестны даже посвящённым»70.
И чуть ниже:
«Главное – не привлекать внимания! Держаться спокойно, как бы тебе это не претило! Попытаться понять, что суд – этот грандиозный механизм – всегда находится, так сказать, в неустойчивом равновесии»71.
Именно такого европейского человека и описывает Кафка. Сначала Иозеф К. пытается бунтовать, но потом смиряется: ведь сама жизнь есть процесс, процесс приготовления к суду и смерти. Художник, пишущий портреты судей, замечает Иозефу К.:
«Да ведь всё на свете имеет отношение к суду»72.
Так стоит ли бунтовать? Всё равно, рано или поздно, «два человека в сюртуках и цилиндрах» придут за тобой и поведут на суд.
Но, что же тогда отличает Достоевского от Кафки? В чём они не согласны? Герой Кафки – Иозеф К. – рационален, он везде ищет разумное обоснование происходящему. Ищет и не находит. Герой Достоевского, напротив, нерационален, он – волюнтарист. Именно здесь, думается, и пролегает водораздел между среднестатистическим европейцем и великороссом. Именно воля спасла и спасает русского человека в минуты особых испытаний. Рациональный бунт против «процесса» заканчивается тотчас после обнаружения рациональных затруднений. Волевой бунт против «процесса» не заканчивается никогда, или заканчивается с исчерпанием воли.
Но ведь воля (свобода воли), как я уже отмечал, есть, в том числе, и «воля к жизни». Именно этот оптимизм и двигал Достоевского всю его жизнь:
«Оттого так и не любят живого процесса жизни: не надо живой души! Живая душа жизнь потребует, живая душа не послушается механики, живая душа подозрительна, живая душа ретроградна!»73.
Что же мы видим в сухом остатке? Достоевский оказывает влияние на Франца Кафку. Он даёт ему тему «предопределённости», которую Кафка развивает на основе лучше всего ему знакомой области – Кафка, как известно, был профессиональный юрист – области правосудия, то есть судебного процесса. Он демонстрирует – как «организм суда» подчиняет себе жизнь человека от её начала и до её конца: «Всё есть процесс и человек не властен над ним!».
Лекция третья
«Человеконакопители» (Мегаполисы): провоцирование человека к трансформации (Апулей, Достоевский, Кафка)
Вопрос о «городе-машине I»
В одной из предыдущих лекций мы говорили о том, что лестница «человеческого» у Достоевского имеет нижний и верхний пределы, что верхним пределом является «современный человек», готовящийся стать «сверхчеловеком», и что нижним пределом является человек немощный, готовящийся стать «животным» – например, «мышью» или «насекомым». По видимости, за такими границами, а точнее – такими трансформациями человека, стоят его же собственные способности: мощь или немощь. Однако только по видимости. Потому что человек, именно как родовое существо, ещё и организует пространство вокруг себя, то есть создаёт среду, которая в последующих поколениях сама же на него оказывает своё воздействие. Вот об этой-то среде мы и будем говорить в сегодняшней лекции.
Как, герой Достоевского в «Записках из подполья» определяет свое местоположение в пространстве? Я бы даже сказал точнее – своё положение в мире?
«Я служил, чтоб было что-нибудь есть (но единственно для этого), и когда прошлого года один из отдалённых моих родственников оставил мне шесть тысяч рублей по духовному завещанию, я тотчас вышел в отставку и поселился у себя в углу. (Курсив мой – А.П.)»74
Как видим, то, что для любого нормального человека является в этом мире главным – его дом, для героя Достоевского, с его-то шестью тысячами рублей, оказывается всего лишь «углом». Угол – это именно такая форма организации пространства, которая не замыкает это пространство, т.е. не выполняет главное назначение дома – защищать человека, быть тем местом, в котором он чувствует себя в безопасности. Человек с «углом» – это всё равно, что человек с полудомом. Крыша есть, но стены пространство не замыкают. Человек в нём (углу) по-прежнему беззащитен. «Угол» – это именно незамкнутое пространство.
Далее Достоевский ещё больше драматизирует ситуацию, говоря:
«Я и прежде жил в этом углу, но теперь я поселился в этом углу. Комнатка моя дрянная, скверная, на краю города»75.
Как же так, можем мы спросить, человек с приличным капиталом – шестью тысячами рублей – селится в «дрянной, скверной» комнатке «на краю города»? Ведь на такие деньги можно было бы купить и небольшой дом в провинции. Почему же герой идёт на такие жертвы? В чём дело? Тем более, что его предупреждают о том, что
«…климат петербургский мне становится вреден и что с моими ничтожными средствами очень дорого в Петербурге жить»76.
Тем не менее, герой «Записок из подполья» неуклонен в своей решимости:
«Я всё-таки знаю, лучше всех этих опытных и премудрых ответчиков и покивателей знаю. Но я остаюсь в Петербурге; я не выеду из Петербурга»77.
Что же так манит героя в Петербурге? Чем Петербург его завлекает? Несколькими строками ниже Достоевский даёт ответ и на этот вопрос.
Дело в том, что для «развитого человека» девятнадцатого столетия главной его отличительной особенностью является «сильно развитое сознание», которого могло бы быть вполовину меньше того, которое есть. Резонно спросить: так в чём же дело?
Дело в том, что люди с «обыкновенным сознанием» и живут в обыкновенных городах (местах), и, наоборот, люди с непомерно развитым сознанием – я бы сказал с гипертрофированным – и жить должны в соответствующих такому сознанию месте: особом городе, который сам необыкновенен (в чём-то гипертрофирован).
Так и получается у Достоевского. Его герой имеет несчастье жить
«…в Петербурге, в самом отвлечённом и умышленном городе на всём земном шаре. (Города бывают умышленные и неумышленные)»78.
И чуть ниже Достоевский дополняет картину:
«Но всё-таки я крепко убежден, не только очень много сознания, но даже и всякое сознание – болезнь»79.
Вот теперь картина-головоломка складывается полностью. Герой Достоевского, имея приличный капитал, не хочет покидать Петербург по вполне понятной причине – он болен. Болен такой странной умственной болезнью как «сознание» и, хотя его телесное здоровье также находится в плачевном состоянии, ибо климат Петербурга ему вреден, покидать этот город он ни за что не соглашается. Почему, опять спросим мы? Ответ очевиден – сам Петербург есть «умышленный город», то есть он является таким местом, в котором пространство организованно опять же умышленно, то есть – с использованием сознания. Организация пространства этого города сама противоестественна. То есть, несколько усиливая этот мысленный ход – больна.
Во-первых, город построен на болоте80, а не на возвышенном месте, как это случалось всегда при естественном появлении большинства древних городов: Киев, Владимир, Москва и т.д.
Во-вторых, город Петербург, как именно искусственно организованное пространство, учреждался умышленно – по заранее разработанному плану Петра, его помощников и последователей. Памятником такой «умышленности» может служить планировка Васильевского острова. Но и радиальная структура материковой части города с её проспектами – тоже отличается «умышленной продуманностью». «Петербургские сквозняки» и поразительная продуваемость улиц стали в литературе притчей об этом городе.
Да и сама атмосфера в этом умышленном городе оставляет, по словам Достоевского, желать лучшего:
«Да вот ещё: я убеждён, что в Петербурге много народу, ходя, говорят сами с собой. Это город полусумасшедших. Если б у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности»81.
Другими словами, герой Достоевского умышленно «стремится» в Петербург именно потому, что сам этот город – «умышленный», и, следовательно, сам этот город является наилучшим местом для всего умышленного. Можно сказать, что подобное стремится к подобному: точно так же как «болезненное – к болезненному».
Петербург 19-го века – это столица Российской империи, в которой на момент написания «Записок из подполья» (1862–1864) проживало около 600 000 человек, а концу 80-х – почти миллион.
Очевидно, что все эти люди, во всяком случае, в своём большинстве, были оторваны от почвы. И это при том, что Империя измерялась 1 1 часовыми поясами.
По меркам 19-го века это было гигантское скопище людей, своеобразный «Человеконакопитель». Современным аналогом человеконакопителя служит термин «мегаполис», однако последний делает акцент не на «человеке», а, образно выражаясь – на «стенах».
Чем же так манит отставного коллежского асессора такой человеко-накопитель как Петербург? Именно своей главной особенностью – ненормальностью, подчеркнуто увеличенным сознанием, его болезненностью, но даже и не только этим. Главное в человеконакопителе для героя Достоевского – его собственная востребованность в нём. Он знает, что болезненные истечения его сознания будут востребованы такими же точно существами, с точно таким же болезненным сознанием. Ведь и сами «Записки из Подполья» есть ни что иное как послание или даже «крик» одного болезненного сознания – другим сознаниям. Крик, который должен быть услышан.
Там, за пределами Петербурга, где жизнь течёт своим естественным потоком и всё идёт своим чередом, он будет просто не нужен, ведь сознание его обитателей – здорόво и не нуждается в постоянном самоудостоверении методом отражения в сознаниях себе подобных. Человек с «обычным» сознанием, в терминологии Достоевского, всегда самодостаточен. У него нет потребности или даже нужды самоудостоверения. За этим, по видимости, простым наблюдением, на самом деле разверзается пропасть, обнаруживаемая между христианским (несколько шире – библейским) и античным (несколько шире – небиблейским) пониманием природы человека.
Вечные «самокопания», вечное стремление поймать отражение своего сознания в сознаниях других, так свойственное христианству с его бесконечными «исповедями», требованием «вывернуть всего себя наружу», или, говоря на современном сленге – требованием «выложить всего себя для сетевого сообщества», и принявшее в современном мире трансформированную форму «исповедующего священника» в лице «исповедующего психотерапевта», всё это противостояло совершенно другой традиции – традиции самодостаточного и самоценного индивида, не нуждающегося ни в каких антропоморфных зеркалах.
Здесь же, в очаге болезни, в очаге умышленности – всё иначе. Отказаться от этой целительной процедуры «самоудостоверения с помощью отражения в сознаниях себе подобных» значит для больного «сознанием» человека вступить на путь саморазрушения. Этого он как раз и не может себе позволить.
Жизнь не в человеконакопителе для него буквально глупа. Ведь человек без постоянной ноши сознания, по мнению героя «Записок из Подполья» – глуп:
«Ну-съ, такого-то вот непосредственного человека я и считаю настоящим, нормальным человеком, каким хотела его видеть сама нежная мать-природа, любезно зарождая его на Земле. Я такому человеку до крайней желчи завидую. Он глуп, я в этом с вами не спорю, но, может быть, нормальный человек и должен быть глуп, почему вы знаете?»82.
Поразительно, но в повести Достоевского «Записки из Подполья» мы видим всё ту же коллизию, тот же искус, через который прошли почти все развитые народы: соблазн углубления в самосознание. Соблазн болезненный и исключительно опасный. Вспомним, как его переживала греческая культура. Сократ задавал, казалось бы, рядовой вопрос: что мне толку с того, что я знаю, как устроен подлунный мир из четырёх стихий? И далее он сетовал: ведь к моему знанию о себе самом это знание о веществе ровным счётом ничего не прибавляет! Недоумение Сократа рождало стратагему, высеченную на храме Аполлона: познай самого себя!
Если бы линии Сократа удалось одержать верх – мы не имели бы (вполне возможно) развитых форм философии, которые с очевидностью обнаруживаем у Платона и Аристотеля. Именно благодаря Платону, который приблизительно к 45–50 годам своей жизни изживает в себе «сократизм», то есть как раз этот самый искус «сознания», мы получаем зрелую философию, в которой «зеркало Сознания» заменяется на «зеркало Космоса». Фундаментальный вывод Платона заключался именно в том, что для ответа на вопрос: «Кто такой человек?» следовало вглядываться не в «самого себя», а внимательно вглядываться в Космос, выступающий в своих круговых движениях образцом для круговращения ума человеческого. И поэтому сократовское «Познай самого себя» (Γνώθι σαυτόν) заменяется на Платоновское «Не геометр, да не войдёт сюда» (Ảγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω). Поразительно, но «противоречие» как форма соотношения понятий и как двигатель любого демонстративного знания, восходит к Дионису, а не к Аполлону83.
Фактически, Платон спасает греческую (шире – всю европейскую) мысль (вообще – культуру) от болезни «сознания», которой пытался её инфицировать Сократ84, а также некоторые его предшественники и современники («умники» из «Малой Азии») – софисты. В истории русской мысли мы видим почти повторяющуюся ситуацию. Достоевский устами героя «Записок из Подполья» стремится погрузить нас в область сознания. Однако при этом сам Достоевский как гениальный повествователь правды жизни – сам же и констатирует опасность этого. Он словно предостерегает нас от этого пагубного занятия – путешествия в самосознание (и самопознание), занятие исключительно опасное, нарекая его «болезнью». Спасибо ему за это!
Итак, что мы имеем в сухом остатке? А имеем мы следующее: в неестественном (не скажу «противоестественном») и больном городе живут больные «сознанием» люди. Эта болезнь для них превратилась в некий род зависимости – ведь они уже и не могут жить иначе! Жизнь, не сопровождаемая для них истечениями (продуктами) сознания, – глупа и никчёмна. И городом этим является Петербург, самый «умышленный город» на всём земном шаре. А, стало быть – и самый больной.
Вопрос о «городе-машине II»
Подойдём теперь к анализу города-машины с другой точки зрения.
По видимости, город-машина или по-другому – человеконакопитель – подавляет человека. В большинстве случаев слабый человек оказывается раздавлен этим городом, что и отмечает Достоевский в «Преступлении и наказании»:
«Чёрт возьми! Народ пьянствует, молодежь образованная от бездействия перегорает в несбыточных снах и грёзах, уродуется в теориях; откуда-то жиды наехали, прячут деньги, а всё остальное развратничает. Так и пахнул на меня этот город с первых часов знакомым запахом»85.
И Достоевский блестяще описывает быт и нравы раздавленных людей – униженных, оскорбленных и бедных. Однако это силовое воздействие человеконакопителя на самого человека отнюдь не исчерпывает все способы и формы воздействия. Покажем это.
В человеконакопителе, именно как в городе-машине, жизнь человека утрачивает свою неповторимую природную и данную Богами индивидуальность. Что же происходит с этой индивидуальностью? Конечно, во времена Достоевского эти процессы ещё не достигли тех явных форм, которые мы наблюдаем сегодня86, но в своих зачаточных чертах были уже вполне различимы.
Итак, что это за процессы, которые происходят с индивидуальностью человека в городе-машине? Однажды, в «Возможности техники», я уже описал их подробно: в человеконакопителе человеческая индивидуальность стандартизируется, минимизируется и функционализируется.
Легко обратить внимание на то, что реализация любой из них, одновременно запускает механизм осуществления двух других.
Функция, которую исполнял герой Достоевского – коллежский асессор. Это была так называемая «служба». Кто хорошо знаком с Петербургом, тот знает, что «Двенадцать коллегий» – этот аналог имперских министерств – были учреждены Петром Первым. Сейчас в них расположено Главное здание Санкт-Петербургского университета.
Коллежский асессор – это одна из самых невысоких ступеней в административной иерархии – служащий VIII класса Табеля о рангах в Российской Империи, соответствовавший, приблизительно, званию майора в армии.
Выйдя в отставку, герой Достоевского, по видимости, делает себя свободным от «тягот службы». Однако только по видимости. Дело в том, что город-машина требует плату за освобождение от функционализма. Человек, потеряв «место» в функциональной системе, мгновенно перемещается на периферию цивилизации, – в «угол» на «краю города». Могут возразить: так, ведь он же жил там до отставки. Да, это так. Но до отставки он лишь «снимал угол», т.е. перед ним сохранялась перспектива обрести дом. Теперь же, с утратой функциональной зависимости, герой «поселяется в углу». Угол становится его полудомом.
Город-машина жёстко преследует любое уклонение от функциональной зависимости. Исполняя свою функциональную повинность, индивид – с точки зрения исполнения этой повинности – оказывается подобен, до неотличимости, другим таким же точно индивидам, исполняющим уже свои функциональные повинности. Другими словами, индивид стандартизируется, становится неотличимым от других индивидов, становится в буквальном смысле – стандартным индивидом – «органным штифтиком».
Однако, став стандартным индивидом, он нивелирует свою индивидуальность, т.е. с необходимостью делает её минимальной.
Вопрос: Утрата «человеческого»
Что происходит с индивидом, который минимизирует свою индивидуальность? Очевидно, что рассмотренный в интервале между «человеком» и «животным», он удаляется от собственно человеческого, приближаясь к собственно животному. Так и есть, минимизирование индивидуальности в человеке объективно способствует утрате в нём человеческого.
И здесь бы можно было увидеть две стадии, на которые я уже обращал внимание около 20 лет назад.87
На этой стадии человек ещё продолжает оставаться человеком со вполне узнаваемыми очертаниями. Однако черты эти становятся анормальными, гипертрофированными.
Здесь уместно будет вспомнить живопись Брейгеля Старшего. В его картине «Лето» головы персонажей намеренно увеличены. Или, например, его же картина «Кухня жирных». На картине изображена человеческая плоть, готовая не только разорвать одежду её носителей, но и саморазорваться от непомерно чудовищного давления изнутри. Так, словно человеческое тело «изнутри» раздули до сферы, или, наоборот, человека «надели» на сферу. Зритель, смотрящий на героев Брейгеля всё ещё узнаёт в них людей, но узнаёт уже с трудом, делая «поправку» на эти увеличенные объёмы плоти.
Так чем же может оказаться полезен Брейгель Старший при рассмотрении «утраты человеческого» в героях Достоевского? Он полезен тем, что у Достоевского мы наблюдаем ту же «картину», правда, изображенную не графически, а литературно.
Увеличенное до непомерных размеров сознание героя Достоевского в «Записках из подполья», гипертрофированное до «болезни» – это ли не картина Брейгеля Старшего, написанная с натуры в Петербурге? Герой Достоевского – это и герой Брейгеля Старшего, правда, рассмотренный в другую эпоху и в других обстоятельствах.
Ведь что такое сознание, ставшее «болезнью»? С психо-физиологической точки зрения – это всё та же анормальность. Для сравнения, представим перед собой нормальное тело обычного человека, у которого и «сознание обычно». Всё в нём будет пропорционально и соразмерно. А теперь, допустим, что у другого существа – необычного – сознание непомерно увеличено. Каким аналогом в физиологическом теле мы могли бы отобразить это увеличение. Нетрудно догадаться, что мы получили бы изображение человека, у которого размер головы был бы равен размеру его туловища. А теперь давайте ясно представим себе это графически: очевидно, что перед нами получился урод88!
Возникает вопрос: видели ли мы когда-нибудь подобные тела? Если ктото осмелится сказать «нет», то он будет не прав. Такое тело можно наблюдать у годовалых индивидов, мозг, а соответственно и черепная коробка которых, непомерно увеличилась из-за отёка мозга – водянки. Это заведомо больные люди, которых, собственно, уже и нельзя называть людьми.
Вот именно такую же картину мы наблюдаем у героя Достоевского – его сознание увеличено до болезненно нездорового размера. Это «отёк сознания», его «водянка». Люди с такой болезнью склонны к зеркальному пролифицированию данных своего сознания, наподобие того, как пролифицируется изображение предмета, помещённого между двух отражающих друг друга зеркал. «Игра изображений» уходит в бесконечность.
Так и с героем Достоевского. Помещённый между зеркалами сознания, он не может сделать ни одного строгого вывода, чтобы на другом шаге не отразиться в его противоположности.
Вспомним, как часто герой обращает внимание на эту немощь «опухшего сознания»:
«…Но я остаюсь в Петербурге; я не выеду из Петербурга! Я потому не выеду – Эхъ! Да ведь это совершенно всё равно – выеду я иль не выеду»89.
Другими словами, как только герой Достоевского начинает аргументировать, помещённый меж двух зеркал сознания, он тотчас видит, что бесконечное количество аргументов «за» выезд, в одном зеркале, равно бесконечному количеству аргументов «против» выезда – в другом90. Следовательно, выбор не просто невозможен, он бессмысленен.
Но и в этом болезненном состоянии сознания герой Достоевского находит не просто наслаждение, но и оправдание этой болезненности.
«…А впрочем: о чём может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием?
Ответ: о себе.
Ну, так и я буду говорить о себе»91.
Если на предыдущей стадии «утраты человеческого», человеческое психо-физиологическое тело ещё только анормируется, всё-таки оставаясь человеческим, то на следующей стадии происходит изменение качества – человек из одного живого состояния переходит в другое – нечеловеческое. Это и можно было бы назвать прыжком с нижней ступени лестницы «человеческого» – в нечеловеческий мир, в мир животный.
Здесь «животный мир» следует понимать не в переносном, а только в буквальном смысле. На этой стадии происходит не просто анормальное увеличение размеров человеческой формы, но трансформация самого человека. Человек превращается в низшее животное. У Достоевского, в «Записках из подполья», герой, желая бежать от пугающей его реальности, опять же хочет превратиться то в «мышь», то в насекомое.
Заживо замуровав себя в «кладовую сознания», со всеми её бесконечно слоящимися отражениями, утопая в этих бесконечных отражениях, герой признаётся, что эта «подлая» черта сознания – невозможность на чём-нибудь остановиться, – довела его до фактической никчёмности.
«…Я не только злым, я даже и ничем не сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым. Теперь же доживаю в своём углу, дразня себя злобным и ни к чему не служащим утешением, что умный человек и не может серьёзно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак»92.
Итак, герою сорок лет, двадцать из которых он прожил в подполье. Заметим, в человеческом развитии – это всегда лучшие годы, годы расцвета его сил и дарований. Но на что ушли силы человека из подполья? На желание и стремление сделаться «насекомым»!
Чуть ниже герой Достоевского опять сетует на свою беспомощность и немощь:
«Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым. Но даже и этого не удостоился»93.
И если насекомым вполне не получилось, то уж он (герой «Записок из Подполья») вполне трансформирует себя в – мышь, а свой «петербуржский угол» – в «мерзкое и вонючее подполье»:
«Там, в своём мерзком, вонючем подполье, наша обиженная, прибитая и осмеянная мышь немедленно погружается в холодную, ядовитую и, главное, вековечную злость. Сорок лет сряду будет припоминать до последних, самых постыдных подробностей, свою обиду, и при этом каждый раз прибавлять от себя подробности ещё постыднейшие, злобно поддразнивая и раздражая себя собственной фантазией»94.
«Откуда же у этой «мыши» столько злобы и яда?» – спросим мы. Что может служить источником этих ядовито-злобных истечений? Ответ Достоевского по своей жизненной правде оказывается убийственным:
«Но именно вот в этом холодном, омерзительном полуотчаянии, полувере, в этом сознательном погребении самого себя заживо с горя, в подполье на сорок лет, в этой усиленно-созданной и всё-таки отчасти сомнительной безвыходности своего положения, во всём этом яде неудовлетворённых желаний, вошедших внутрь, во всей этой лихорадке колебаний, принятых навеки решений и через минуту опять наступающих раскаяний – и заключается сок того странного наслаждения, о котором я говорил»95.
Так вот оказывается в чём дело! Герой сам себя заживо погребает в подполье на сорок лет. Причём, Достоевский подчёркивает особенно – погребает себя «с горя» и из-за «безвыходности своего положения», сохраняя при этом «неудовлетворённые желания». «Что же это за желания?» – спросим мы. Да, причём, желания человека в самом расцвете сил и лет? Ответ не оставляет никакой возможности сомневаться – это желания «царя природы» в самом расцвете сил, который, вдруг, обнаружил, что никакой он не «царь» и что в его человеческом существовании нет не только ничего «гуманистически возвышенного», но даже и ничего «обычного». Он, этот сорокалетний узник подполья, «необычен», но со знаком минус. Он – человек, вывернутый наизнанку, живущий по образу мыши и намеревающейся стать насекомым. Он уже и не человек.
Он доведён до отчаяния своим безвыходным положением, которое никто – и прежде всего он сам – не сможет изменить. Он, по непонятным ему причинам, заброшен – опять же непонятно кем – в этот мир и вынужден страдать в нём. Сам его образ – вызов гуманизму, со всеми его пустыми и никчёмными словами, с его призывами, которые оборачиваются «укором сознания» человека и так больного и зависимого от «игры этого сознания». Ему ничего и не остаётся, как только играть в эту игру и получать от этого сладостное наслаждение.
И если в минуты отдыха, пусть краткого, ему приходит в голову «реальная картина» его бедственного и несчастного положения, то он – понимая всю глубину пропасти, в которую он себя заточил – готов бежать из неё. Пусть хоть воображаемым способом, но бежать. Однако весь вопрос в том: как бежать?
А, хоть превратившись в насекомое! Он готов расстаться со своей человеческой оболочкой, доставляющей ему столько страдания, став тем, кто просто «уползёт» или «улетит» из этого безвыходного мира.
Желание стать насекомым может испытывать только тот, кто не просто стоит «на краю отчаяния», а тот, кого это отчаяние полностью изгрызло и изъело изнутри. Неслучайно Фёдор Михайлович вставляет в качестве характеристики этого «сорокалетнего узника» такой штрих как «неверие».
У этого человека нет никакой опоры. То есть, вообще никакой: ни во внешнем мире (он – враждебен или уподобляется «природной стене»), ни во внутреннем (он – кошмарный калейдоскоп сознания, в котором нет самих объектов, но есть только их бесконечно и зеркально слоящиеся отображения).
Кажется, мы это уже где-то встречали, правда, в другой – графической форме. Мы легко догадываемся, где – в картинах Иеронима Босха.
То, что в картинах Брейгеля Старшего96 выступило только как «описание подготовительной стадии», в картинах Босха – об-наруживается как явленная реальность. У Босха люди уже стали насекомыми и другими животными. Трансформация завершилась!
Фёдор Достоевский оказывается конгениален Иерониму Босху.
Это наблюдение ещё раз подтверждает мой тезис о том, что художник графическими средствами может описывать увиденные им реальности – религиозные, философские и научные – задолго до того как они будут по-своему представлены в религии, философии или науке.
Вопрос: Шаг в сторону ради уточнения темы
Читателю с прогрессивным и либеральным сознанием, а в особенности – человеку «просвещённому», всё описанное у Достоевского может показаться, да, наверняка, и покажется, «продуктом больного сознания самого писателя». В особенности, этим недугом могут страдать либеральные психологи и литературоведы.
Следует признаться, что такой соблазн сохраняется и сегодня. Однако он легко сводится к абсурду. Ведь следуя этому стилю аргументации, мы придём к очевидным нелепостям в том, например, что У. Шекспир, в юности испытал психическую травму, пережив любовную межсемейную драму, описанную им в «Ромео и Джульетте», затем, уже в зрелом возрасте, убивал младенцев, описав это в «Ричарде III», и душил своих женщин как это описано в «Отелло».
Примеров подобных нелепостей можно привести ровно столько, сколько существует значительных писателей и поэтов. На чём же они построены? Они построены на ничем не обоснованном отождествлении писателя (поэта) с его героями (их позициями и поступками). То же самое допускают и позволяют себе многие «критики» Достоевского, некоторые примеры чего я уже приводил в «Вводной лекции».
Зададим вопрос: что побуждает их совершать такое отождествление? Ответ очевиден: заранее принимаемая ими предпосылка – человек не может с такой точностью и глубиной описать события и переживания своего героя, если сам однажды (многажды) не проживал и не переживал то же самое.
Внешне, данная предпосылка кажется очевидной, но именно эта очевидность и скрывает реальное положение дел.
Так вот, оказывается, что не могут «простить» Достоевскому его «просвещённые либеральные критики»!? Они не могут ему простить (или что то же – допустить в нём) его исключительную способность проживать в своём воображении всю глубину переживаний своего героя. Ведь им, «просвещённым критикам» такая способность не дана ни природой, ни высшими силами, а раз им не дана, значит и не может быть дана вообще никому, в том числе и Достоевскому. Всё, круг замкнулся: остаётся только описание личного опыта.
Но эта нелепая предпосылка легко опровергается не только теоретически, но и простыми противоречащими ей примерами. Эдгар По лишь один раз в жизни совершил морское путешествие из США в Англию для получения образования и обратно. Однако он так романтично и правдоподобно описал экспедицию к Южному полюсу, что у любого читателя должно остаться убеждение: без личного участия в аналогичном мероприятии данная работа и написана быть не могла. Однако заметим, что Эдгар По, одновременно, и никогда не плавал к Южному полюсу, и блестяще описал экспедицию к нему. И подобных примеров – огромное множество. А.Н. Островский никогда не топился в омуте, но блестяще описал трагедию несчастной женщины, равно как и Л.Н. Толстой ни сам и никто из его близких не пытались свести счёты с жизнью, бросаясь на рельсы под колёса локомотива, но, тем не менее, он гениально описал трагедию любви с таким печальным исходом.
Думаю, примеров достаточно. А вывод может быть только один: гений Достоевского, его исключительный дар рассказчика и писателя, наконец, его феноменально одарённый ум, заставляют нас, читателей, верить в то, что всё это написано очевидцем, самостоятельно прожившим «сорок лет узником подполья». Заметим, чем гениальнее это повествование, тем сильнее наше ощущение присутствия на «исповеди» очевидца97.
Так уж устроен мир, что европейский человек готов отдать любую плату за способность воображения, а ещё бόльшую – за само воображение чего-либо.
Вопрос: Зооморфное бегство из «подполья»
Итак, для нас должно быть ясно, что все события, происходящие с героями Достоевского – это плод его гениального воображения. Более того, поскольку Достоевский, как уже отмечено выше, обладал феноменально глубоким умом, постольку мы вправе сделать однозначный вывод: Фёдор Михайлович моделировал в своих работах те человеческие черты, которые наблюдал вокруг себя. Следовательно, герой «Записок из подполья» – это тоже модель. Модель, в которой взяты реальные черты какихто реальных людей, затем они абстрагированы от конкретной реальности. К примеру, реальный прототип «сорокалетнего узника подполья» мог не обязательно жить на «окраине», а где-нибудь «в центре», в съёмных квартирах, в доходных домах, мог вполне где-нибудь в трактире, за тарелкой «мяса» и рюмкой водки, изложить Фёдору Михайловичу «горькую свою судьбу». А уж затем из этой «судьбы» было взято самое существенное, да ещё помноженное на двойку-тройку таких же, но уже других изложений, и, наконец-то, это самое существенное отлито умом писателя и его художественным гением в уже идеализированный объект, получивший образно-осязательное «воплощение».
Конечно, мы не можем, да, думаю, и современник Достоевского не смог бы найти в Петербурге точный прототип героя «Записок из подполья», но в то же самое время, и, это – несомненно, в «умышленном городе» – Петербурге существовали тысячи, а может и десятки тысяч таких же точно людей, которые своими чертами походили на героя «Записок из подполья»98. В том нет и не может быть никаких сомнений.
Ну, а раз так, раз «Записки из подполья» – это модель, то значит, Достоевскому было нужно заставить моделируемого им «человека из подполья» взглянуть на мир глазами «мыши». Нельзя сказать, что Фёдор Михайлович здесь предлагает что-то принципиально новое, такие попытки предпринимались уже задолго до него. И, прежде всего – в «Метаморфозах» Апулея. Поражает и другое совпадение: Рим, как и Петербург, также является умышленным городом. Ромул своими ногами (умышленно) определил границы городской стены (её размеры и соотношения).
Рим, так же, как и Петербург, был центром империи, аккумулировав ко II в.н. э. население с численностью более миллиона человек. Рим также был человеконакопителем,
