День Добрых Дел: история и ее предыстории бесплатное чтение
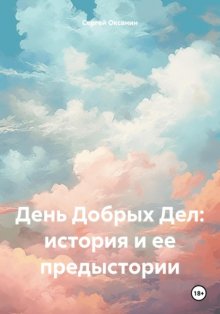
Памела и Синтия
Как и условились, в назначенный час старушки пришли в церковь. Они просили пастора помянуть Мориса по-скромному, пусть и в церкви, но по-домашнему, без хора. Да и приглашать особо уже было некого. Валета схоронили много лет назад. Дети Синтии жили далеко, а их память о дяде ограничивалась, по сути, одним давним днем. Старушки помнили гораздо больше, но, присев рука в руку на скамью, пастор начал читать на латыни, они закрыли глаза, и, не сговариваясь, вернулись к тому же самому дню.
Глава первая
Вот такой подарок на сорокалетие. Точнее, два подарка – один и еще один. Синтия вытерла запястьем набежавшую слезу. Бутерброд наслаивался машинально – сначала развалился на куски хлеб, потом масло размазалось как-то само собой, и на тарелку, с широкого лезвия ножа, соскочил ломоть ветчины. Синтия взяла тарелку и отвернулась от кухонного стола. На овальном столе посреди столовой уже дымились две чашки кофе. Когда я успела его сварить? Сейчас он войдет, мне придется посмотреть в его глаза, нет, он их спрячет, а чего уже прятать?
Вчера, за ужином, состоялся серьезный семейный разговор. Они дождались, пока Сандра уйдет к себе и – начали. Нет, папа не кричал, он уже давно стал на многое смотреть более спокойно, чем раньше, но его короткие реплики буквально выворачивали Давида наизнанку, так, что Синтии было больно смотреть на мужа, я не буду тебе ничего говорить про честь семьи, ты и так все понимаешь, но как ты мог такое проглядеть, ты, такой опытный и ответственный человек, гордость нашего городка. Давид что-то мямлил, про загруженность, про излишнюю доверчивость, но и папа, и дочь чувствовали, что здесь что-то не так, не мог так просто Давид, бессменный мэр последних лет, проглядеть ошибки в расчетах сметы дорожных работ, нет, дорогой зятек, не ошибки, а во-ров-ство, твоего же протеже, еще скажут, что и ты в доле, вы же знаете, что этого не может быть, я-то знаю, но поверит ли тебе прокурор, когда все это выплывет наружу, при этом отец почему-то посмотрел не на Давида, а на Синтию. Та съежилась под взглядом заросших бровями светлых, холодных глаз, машинально подумалось, папа, прости, я давно не приводила твои брови в порядок, а Давид дрожащей рукой стал наполнять бокал, вино выплеснулось на скатерть, вот также опрокинешь чернильницу в прокуратуре, папа уже много лет не посещал присутственные места и просто не знал, что чернильниц там давно нет, как тебе тогда поверят?, ладно, я сам завтра им позвоню, думаю, что мы сможем уладить вопрос, но твой говнюк-помощник должен вернуть деньги, как? – не знаю. Да, – отец взял свою салфетку, вытер стол и сам наполнил свой бокал, пригубил, покачал головой, все-таки такое столовое, гренаш, кариньян и шираз, много вкуснее, – и на следующий год – никаких выборов. Ты – прекрасный инженер, по крайней мере, был таким, надеюсь и остался, найдешь себе работу в городе. Не найдешь здесь – поедешь к авиастроителям. Или к атомщикам. Домой будешь приезжать на выходные. А Синтия побудет со мной, правда, доченька?
Синтии ничего не оставалось, как кивнуть головой. Хотя Морис пока ничего не рассказывал в деталях, но по его телефонным разговорам, по этой срочной поездке в столицу на переговоры с самим Кусто, они уже давно поняли, что Морис куда-то собирается. Поэтому на брата рассчитывать в присмотре за отцом было нельзя.
После смерти жены, папа разрешил упокоить ее в их семейном склепе, Морис уволился из армии, вернулся домой и открыл здесь школу аквалангистов. Он стал очень замкнутым, полюбил пешие прогулки и каждый свободный день наведывался на кладбище. Его гнедой, подарок отца, медленно старел в конюшне, Морис изредка выводил его в поле, но – не седлал. Валет, друг его детства, заслуживший такое высокопарное прозвище за свою верность Морису, пытавшийся после войны даже заигрывать с Синтией, однажды далеко не скромно, та надолго запомнила запах дешевого табака и жар руки, шарившей по платью скромной старшеклассницы, так и не устроивший толком свою жизнь, осевший на окраине городка в маленьком туристическом ранчо, где катал отдыхающих на доживавших свой век лошадях, Валет, изредка навещавший друга, уже несколько раз предлагал брату отдать ему гнедого, но Морис все медлил, или не мог решиться, а, может, просто боялся очередной потери близкого ему существа. Два дня назад он спешно уехал в столицу, должен был вернуться на сорокалетие сестры, то есть на-завтра, и Синтии стало немного легче от мысли, что Мориса сейчас нет за столом, и ей не надо краснеть за Давида еще и перед братом.
Но это завтра еще должно было наступить, и теперь уже оно не могло наступить просто так. Будущую именинницу ждал еще один – главный – подарок. Папа ушел к себе, Давид вышел на веранду выкурить свою сигару, а Синтия принялась за посуду. После смерти мамы отец рассчитал всю прислугу, взвалив заботы об огромном доме на плечи дочери. Правда, на мытье окон и уход за садом папа, скрипя зубами, не могу теперь я видеть чужих людей, согласился приглашать посторонних, но на то время, когда мойщики окон или садовник хозяйничали в доме и в оранжереях, он запирался в своем кабинете, и сыну, взявшему на себя стрижку газона, оставалось только подбирать окурки сигар, разбросанные на поляне под окном отцовского убежища, окно которого – единственное – Синтии приходилось мыть самой. Тогда вода в тазу быстро бурела от осадков табачного дыма, плотно покрывавших полупрозрачные стекла, за которыми угадывалась, отец не любил шторы, фигура, размахивающая руками в такт неслышимых в саду симфоний. Но руки Синтии, что было удивительно, не портились от воды, она не надевала перчаток, но все равно кожа оставалось гладкой. Поэтому и сейчас она быстро вымыла посуду, как в столовую вошел муж.
– Дорогая, послушай, – Давид присел на край стола, – я – не все тебе рассказал.
Синтия ощутила поток холодного воздуха, скользнувшего по полу столовой из-под оставшейся полуоткрытой двери на веранду. Чувствуя, что сейчас произойдет что-то ужасное, она отвернулась от мужа к кухонному столу и начала переставлять коробочки со специями – ну, давай, говори.
– Вы с отцом чувствуете, я же это вижу, что смета – это не вся правда. И это – не моя невнимательность. Это – моя вина.
А сейчас разговор пойдет совсем не о деньгах, – догадалась Синтия.
– Я ему позволил сделать – это, – Давид явно не хотел произносить слово «воровство». – Потому, что…
Синтия вдруг поняла, что сейчас услышит. Последние годы муж, на праздники, ее именины или просто по случаю, ездил за цветами для нее в город. Он говорил, что здешняя цветочница недостаточно мастеровита в оформлении букетов. Синтии удивлялась, хотя, по правде, ей было приятно такое, немного расточительное, внимание. Теперь все стало сразу понятным. Он просто не хотел покупать цветы – мне – у нее. Хозяйка местного цветочного салона действительно была, при всей своей привлекательности, мужчины – заглядывались, не очень приятной особой. Каждый раз она встречала Синтию каким-то неуловимым насмешливым взглядом. Поэтому визиты к маме всегда были немного испытанием. А замужем хозяйка цветочного салона была как раз за помощником мужа, составившего ту самую скандальную смету. Поэтому, когда Синтия повернулась к мужу, он уже все прочитал на ее лице и – замолчал. Ничего дорогой, я тебе – помогу:
– Ты трахал его жену? И этот говнюк знал о вашей связи?
Синтия вдруг почувствовала невероятное облегчение. Она – узнала правду. В последние годы их совместной жизни сомнения возникали, но Синтия их привычно гнала. Привычно – потому, что молодость Давида и первые годы их совместной жизни особых иллюзий не вызывали. Давид учился в Высшей инженерной школе в столице, и приезжал в городок крайне редко. Здесь у него оставалась только бабушка Александра. Его родители, как и многие евреи из округи, были интернированы во время войны. Но бабушке, дочери чешского инженера и поклонника Яна Гуса, занесенного в эти края промышленной революцией, урожденной чешке, вышедшей здесь замуж за ювелира-еврея, удалось доказать свой «фольксдойче» и спасти внука. Давид вырос благодарным, и каждый год, в начале апреля, приезжал на ее день рождения. Они так и познакомились, почти случайно. Синтия тогда писала курсовую работу об истоках Реформации, и ей оказалось чрезвычайно полезным пообщаться с настоящей чешкой, никогда не бывавшей на родине, но сохранившей дневники своего отца. Согласившись с непреклонным требованием мужа-ювелира назвать внука в честь победителя Голиафа, бабушка Александра, растившая, как многие бабушки той эпохи, внуков, исподволь кормила малыша кнедликами и рассказами об истинном боге. Такое противоречивое воспитание не могло не дать свои плоды. Давид, он учился в старшем классе, вырос очень независимым и вызывающим молодым человеком. К этому добавилось и смешение крови, черные кудри, охватывающие слегка навыкате глаза, привлекали внимание многих школьниц, которые стеснительно, тот мальчик рос гораздо быстрее девочек, его усики пробивались уже тогда, когда Синтия еще примеривала первый бюстгальтер, обходили его стороной, а на вечеринках шептались, как булочник застал Давида со своей женой, правда то была или нет, но юноша с гордостью принес один раз в школьный двор здоровенный фиолетовый синяк под левым глазом. Поэтому сразу после школы бабушка Александра достала из сундука свои сбережения, потеребила почтой родственников мужа, восстановивших в столице после войны семейное ювелирное дело, и отправила внука на учебу. Его редкие приезды в городок стали событием, Давид всегда одевался, как всем казалось, по последней столичной моде, и обрастали слухами о его бурной студенческой жизни, поэтому, когда, в очередной раз, принеся старушке молоко, дневники уже давно были прочитаны, но связь с этой немногословной женщиной терять не хотелось, Синтия увидела в проеме открывшейся на стук двери живую местечковую легенду, ее сердце сразу сказало ей – да. Но и Давид был – повержен. Вечером того же дня он зашел к ним, вежливо постучался в кабинет отца и попросил разрешения пригласить его дочь в воскресение на бабушкин день рождения, она испечет такой замечательный весенний пирог, не будете ли вы против, бабушка очень ценит внимание вашей дочери. Он сделал предложение сразу, в вечер после дня рождения, но, поскольку все началось с разговора с отцом, то и закончилось невероятно долгим и глубоким, но всего лишь – поцелуем. Свадьбу сыграли ровно через год, на следующий день рождения бабушки Александры. Но за этот год Синтия успела не только потерять девственность, но и – забеременеть. Давид подрабатывал в столичной типографии, где коммунисты, получавшие помощь из Москвы, не стеснялись оплачивать ночной труд вдвое, чтобы новости об очередной победе коммунизма первыми попадали на газетные прилавки, поэтому раз в месяц он мог позволить себе приехать в город, куда Синтия уже спешила из их городка на электричке. Признаки беременности обнаружились уже после того, когда она рассказала отцу и матери о предстоящей свадьбе, поэтому объяснения дались легко. Несмотря на родовой герб, украшавший ворота их дома, отец не был ханжой и не кичился своими корнями, иначе как бы он отпустил бы дочь тем апрельским вечером с полукровкой? Больше ворчала мама, и это ворчание только усилилось после рождения Алекса – Александра, названного так по молчаливому согласию молодыми родителями в честь покровительницы их брака. Закончив учебу, Давид вернулся, но не совсем домой, ему предложили работу на строительстве атомной станции, отец поэтому сегодня об этом и вспомнил. Муж приезжал в городок только на выходные, и как-то раз, в середине недели, Синтия услышала ночную перебранку родителей, милый мой, ты что, слепой, ты не видишь, что он – бабник, дорогая, как можно стать бабником на атомной станции, там же излучение, дай бог, чтобы у него на дочку-то силенок хватило, а я тебе говорю, я же вижу, что ты видишь, да и вообще, пусть там отвлекается от этих атомов, вот если он позволит себе гадить здесь, у нас, вот тогда я его, что – его? – как что? – пристрелю. Синтия с Давидом никогда особенно не предохранялись, поэтому и Алекс, и потом – Сандра, такая же Александра, появились немного случайно. Но после того, подслушанного разговора, Синтия съездила в город, не у себя же в городке это покупать, и в очередные выходные Давиду пришлось напяливать на себя резинку. Тогда Синтию больше беспокоила возможность какой-нибудь неприличной инфекции, но резинка была подана на блюдечке планирования семьи. Понял ли ее сомнения Давид или нет, но с той поры ночная жизнь молодой семьи стала гораздо более насыщенной, так, что даже в летнюю жару приходилось закрывать окна. Вот этот-то пыл мужа и угас в последние годы. Синтия по привычке объясняла это загруженностью и нервами, теперь на посту мэра. Тем более, что делиться уже было не с кем. Мама – умерла, переехавший к ним Морис продолжал жить в своем прошлом, а отец, даже если о чем-то и догадывался, никогда не поднимал эту тему. А то пришлось бы действительно пристрелить зятя. Поэтому сейчас, глядя на поникшую голову мужа, вот тебе и твоя лысина, и ранняя седина, и бес в ребро, она облегченно произнесла:
– Хорошо, что ты об этом не рассказал за столом, – и, указывая, откуда в такой ситуации берутся силы для шуток, правда, совсем черных шуток, на старинное ружье, висевшее в столовой на стене, – а то папа пристрелил бы тебя. Ничего, приедет Морис, я ему все расскажу, и он – тебя – утопит. Как котенка. Оденет тебе незаряженный акваланг и – утопит.
Давид умоляюще взглянул на жену. Но ту уже невозможно было остановить:
– Конечно, роковая брюнетка, бедра-то – веером, да и номер, наверняка, четвертый. А? Ну, сучка, завтра я дам жизни твоим гладиолусам.
Последняя фраза сопроводила движение в пол-оборота к кухонному столу, над котором в гармоничном ряду, в подставке на стене, висели ножи. Синтия вытащила один, самый большой, мясной, покачала его на руке и с размаху вонзила в разделочную доску. Давид вздрогнул.
– Да, – Синтия вдруг впервые за многие годы ощутила себя хозяйкой положения, – а куда тебя положить? К Алексу? Нет. Да и к Морису тоже нельзя. Завтра они приедут, а ты еще занесешь к ним в кровать какую-нибудь гадость. Твоя молодка-то, небось, не только с тобой… Да и староват ты для нее. То-то она регулярно к поставщикам отъезжает. Вот, ты пойдешь на конюшню. Самое тебе место. И не думай мне завтра приносить цветы.
Давид покорно встал со стола и, опустив плечи, побрел к выходу. И Синтии вдруг стало его жалко, она вспомнила, с чего все началось:
– А этот, говнюк, что – шантажировал тебя?
Давид повернулся, на его глазах выступили слезы. Нет, я не могу делать ему больно. Слезы выступили и у нее, она отвернулась и махнула рукой – прошу тебя, уходи.
Вот и весь разговор. Ни о том – когда началось, где и как часто, все это для Синтии уже не было важно. Главное, что он нашел в себе силы сказать правду.
Поэтому сейчас, автоматически прожевывая бутерброд и запивая его кофе, может, этот засранец специально подсунул ему свою жену, чтобы своровать, а мой-то и уши развесил, нет, не уши, а яйца, как тот барсук, она вспомнила детские хулиганские куплеты, сейчас – она – ждала мужа. Вторая чашка еще продолжала испускать горячий аромат, когда она услышала шум подъезжающей машины. Он, что, все-таки поехал за цветами? Она приоткрыла занавеску, точно, за воротами мелькнул огромный букет, но машина, это была не машина Давида. Какой-то обшарпанный грузовик. Букет продолжал висеть в воздухе, когда грузовик, выпустив струю черного дыма, аллё, у нас, в городке, свыше трех с половиной тонн – запрещено, отъехал восвояси. Кто это может быть? Синтия, на ходу допивая кофе, быстро направилась к выходу и почти столкнулась с Давидом. Его пиджак был обсыпан сеном, дорогая, там,.. но Синтия, прожевав наспех – доброе утро – уже не слушала, а спешила на веранду. Такого просто не могло быть… За воротами, еще закрытыми в такой ранний час, одетая в солдатскую куртку, стояла, нет, не может быть, но стояла – Памела.
Синтия было сделала шаг по ступенькам вниз, но – беспомощно развернулась к мужу. А Давид, … Давид молча протягивал ей ключи от ворот.
От волнения Синтия не могла попасть в замочную скважину, поковырялась и бросила ключи на землю. Подруги стали обниматься и целоваться сквозь прутья чугунной решетки, бейсболка Памелы слетела на землю, за ней последовал и букет полевых цветов, Синтия тянула Памелу за руки, и куртка цвета надежного хаки, откуда силы после бессонной ночи, треснула в плечах. Сзади послышалось сопение, ворота наконец-то стали открываться, подруги разомкнули объятия, чтобы вновь броситься в них. Они топтались на походном солдатском мешке, на бейсболке, на букете, раздвигали ладонями пряди, и вновь – целовались, как вдруг, одновременно, обе заревели в голос. Потоки слез смывали дорожную пыль и утреннюю пудру, смешивали запах бензина с ароматом жасмина, стекали неровными порывистыми краями на рукава легкого халата и на потертые обшлага солдатской куртки. Соседский петух, взяв привычную утреннюю ноту, враз оборвал ее – как можно перекричать такое? Давид, машинально отряхивая сено с пиджака, растерянно смотрел на женщин. С днем рождения, дорогая.
Глава вторая
Пока Памела принимала душ, Синтия быстро набросала на стол завтрак для нее, папы и Давида. Сандра, по случаю дня рождения, осталась сегодня дома – помогать маме. Но эта помощь начнется не раньше обеда, поэтому она еще спала. Пользуясь утренним затишьем на детской половине второго этажа, Давид пошел приводить себя в порядок в их ванную комнату. Послышался и шум папиного туалета. Значит, пока можно успокоиться. Папа сейчас махнет своей анисовой, выкурит утреннюю сигару, почистит зубы, и только потом спустится к завтраку.
Синтия присела на стул. Они с Памелой не виделись почти двадцать лет. После смерти дяди, уступив за бесценок его участок отцу подруги, Памела перебралась на ранчо к Валету. Было ли что-то там, между ними, Синтия не выясняла, поскольку тогда хлопотала над родившейся слабенькой Сандрой. А Морис, Морис был далеко. В Италии. Искал останки военных самолетов. Точнее, одного самолета, покинувшего эфир тридцать первого июля сорок четвертого года. Так что отношениям Валета и Памелы, если таковые и были, ничто не могло помешать. Памела придумала для ранчо весь дизайн, и Валет послушно возводил из подсобных материалов макетные фасады банка, салуна и вигвамов. Но однажды, Синтия очень хорошо помнила тот день, у папы случился инфаркт, она с плачущей Сандрой на руках, мама уже тогда была тяжела на подъем, сидела на полу, рядом с диваном, в кабинете отца и, не понимая, что происходит, даже досадуя, надо же тебе тут скрючиться на этом треклятом диване, когда доченьке моей так плохо, вытирала с побелевшего лба холодный пот, тогда отец, немного порозовев, попросил стаканчик виски, и она, в истерике, положив Сандру на письменный стол, девочка сразу забила ножками, на пол слетела бронзовая чернильница, бросилась к буфету, тебе мало, да?, на, вот еще, бутылки летели на пол, туда же грохнулся родовой герб Данбаров, папина родословная тянулась вплоть до пятнадцатого века, когда один из равнинных шотландцев бежал от короля на континент, отец немощно глядел на дочь, это потом, когда его привезли в клинику, и врачи сделали кардиограмму, которая и показала обширнейший инфаркт, она уже билась о колени матери, а тогда, увидев, как белая кисть выскальзывает из-под рукава клетчатого халата и пытается пальцами добраться стоящей на краю журнального столика коробки с сигарами, она подняла сверток с дочерью со стола и пнула ногой уже почти пустую чернильницу, брызги долетели до опять побелевшего лба, но остальное она уже не видела, потому что выскочила в сад, и тут – наткнулась на Валета. Тот стоял, переминаясь и переминая – конверт.
– Это – тебе. Она попросила.
– Валет, прости, сейчас – не до тебя.
– Это она.
– Что она? Что – она? У меня мать в лежке, отец перепил, весь белый, дочка заходится. Мне сейчас – не до ваших фантазий.
– Белый? Это – плохо. Давай-ка позвоним врачу.
Качая Сандру, та, да и она сама, немного успокоились, в пол-уха слушая разговор Валета с врачом, Синтия распечатала конверт. Письмо было коротким – прости, ранчо здесь – не ранчо. Я уезжаю в настоящую Америку. Попутного ветра, Синяя Птица. Синтия раздраженно бросила конверт в помойное ведро, Валет достал сигарету, размял, я выйду на улицу, они сейчас приедут.
Уже во время первого, на месте, осмотра, они поняли, что все – серьезно. Позвони Морису. Валет пошарил взглядом по полкам, Синтия опять положила дочку, на этот раз на кухонный стол, устав, девочка заснула, а ее мама, одной рукой доставала бутылку и стакан для Валета, а другой – накручивала номер брата. Давид много заранее повесил второй аппарат рядом с кухонным столом. Корсиканский оператор, когда они научатся говорить правильно, несколько раз переспросил имя абонента, как вдруг – прилечу завтра. Валет услышал это и – побрел прочь.
Потом, из Америки, Синтии стали приходить нечастые, но регулярные весточки, иногда даже с фотографиями. Синтия писала подруге чаще, чувства – не притупились. Видимо, Памела нашла свою страну, именно страну, по которой она колесила на подержанном грузовике, обустроенным под мобильный домик. О своей личной жизни она не писала ни-че-го. Синтия догадывалась, что подруга не выходила замуж, но кто-то должен был время от времени ремонтировать грузовик? К чести Памелы, она заранее сообщала о своих переездах, поэтому Синтии не составляло труда писать «до востребования» в то место назначения, куда в очередной раз переезжала Памела. Зарабатывала она фотографиями, пейзажи входили в моду, и несколько раз ее снимки опубликовал даже Нэшнл Джиогрэфик. Давид тогда собирался в город и покупал журнал, который, после просмотра, ложился на полку секретера его жены, где она хранила письма своей подруги. Но несколько лет назад что-то случилось. Письма почти перестали приходить, почерк стал прерывистым и каким-то неровным. В газетах писали о хиппи, наркотиках, сексе, и Синтия с Давидом поняли, что с Памелой случилась беда. Помощь пришла неожиданно. Мориса направили на подводные учения в Северную Атлантику, после которых он выпросил отпуск и поехал на последний адрес Памелы. Вернувшись в Европу, он коротко отписал сестре, что виделся с ее подругой, что все не так гладко, но свет в конце туннеля – виден. И – все. Он обещал рассказать все подробно при встрече, но как раз тогда заболела его жена, Морису пришлось отменить свой визит домой, потом стало еще хуже, тема Памелы отошла на задний план, а, когда жена умерла, Морис приехал уже с палисандровым коффром, поэтому о подруге расспрашивать было совершенно некстати. Лишь однажды пришло некоторое подобие известия, Валет принес газету на английском языке, оставленную на ранчо кем-то из туристов, где рассказывалось о грандиозном музыкальном фестивале в Америке. Под статьей была опубликована фотография, на которой, среди множества длинноволосых физиономий угадывалось и лицо Памелы.
Но потом все изменилось. Памела вновь стала писать регулярно, правда пункты назначения были уже другие – Новый Орлеан, Роттердам, Марсель, Неаполь. Памела устроилась поваром-посудомойкой на сухогруз, возивший из Америки в Европу престижные «корветы» и «мустанги», а из Европы в Америку – не менее престижные «феррари» и «ламборджини». А однажды пришла фотография, где рядом с Памелой, на палубе, стоял широкоплечий, высокий, бородатый викинг. И Синтия поняла, что Мориса теперь расспрашивать, собственно, и не о чем. Но теперь придется расспросить саму Памелу. Письмо Синтии «до востребования» должно было ждать подругу в Марселе. В нем Синтия как раз напоминала о предстоящем юбилее и даже сделала намек, правда, безо всякой надежды, просто как выражение любви, что как было бы здорово, если подруга приедет ее поздравить вместе со своим викингом. Она – и приехала, но почему она приехала – одна?
Вытирая волосы, Памела, в белоснежном халате, вошла в столовую:
– Ну, подруга, рассказывай.
– Что рассказывать? Я тебе про все писала. Давай, лучше ты.
– Нет, не про все. Я хочу знать больше – про Алекса, про Сандру, папу, Мориса, Давида. Алекс – как его учеба?
– Какая учеба? Весь – в отца. Не проходит и пары месяцев, как он с новой девушкой.
– Но это же нормально.
– Да? А то, что он на летние каникулы каждый раз приезжает на море с новой подружкой и каждый раз божится, что вот это – настоящее, и требует от меня относиться к ней, как к его избраннице, это – нормально? Ладно там – покормить. Но от меня требуются ласковые улыбки и учтивость. У меня ее не хватит на всех столичных девушек. Хорошо, что хоть на Рождество он приезжает один. Вот, Сандра, – Синтия повернулась к кофейнику и налила подруге горячий кофе, – прости, яйца всмятку, но уже немного остыли. Или тебе сделать омлет?
– Да нет, яйца всмятку – это замечательно. Так что Сандра? – Памела повесила полотенце на спинку стула, присела и взяла кофе.
– У Сандры, – Синтия тоже села за стол, – уже полтора года – один мальчик. Тоже учится вместе с ней на архитектора. Сандра иногда ночует в городе, в доме его родителей. Обычно, в конце недели, когда они ходят в кино или на вечеринки. У нас ночевать они пока стесняются. Но как раз на последнее Рождество мы его приглашали с большой радостью. Даже папа не был против.
– Как он? – Памела взяла бутерброд с сыром, обмазала сыр маслом и шлепнула на него перевернутый бутерброд с ветчиной, – прости, привычка. Вот это – сэндвич.
– Папа ничего. Правда, ни от вина, ни от анисовой, ни от виски пока не отказывается. Да и от сигар тоже. Как он тебе будет рад!
Когда, в школе, девочки начали сближаться, то мама немного настороженно отнеслась к новой подруге дочери. А папа, папа сразу проникся симпатией к этому мальчишке в юбке, и все послевоенные каникулы девочки стали проводить вместе. Памелу воспитывали тетя с дядей, родители погибли, поэтому и мама тоже оттаяла, отдавая часть материнской заботы подруге дочери.
В столовую вошел Давид. Посмотрел на жену, подошел к Памеле, та встала со стула, Давид раскрыл объятия и поцеловал гостью:
– Ну, здравствуй, подружка невесты!
И тут же вошел отец:
– Вот это да! Памела? Синтия, засранка, почему ты меня не предупредила? – и, уже расцеловывая в обе щеки гостью, – вот с кем я сегодня выпью виски! С настоящей американкой!
Давид во время этой сцены, даже не присев, наскоро запихал в себя бутерброд и сделал пару глотков кофе:
– Дорогая, отец, Памела, у меня очень ранее и срочное дело. Поговорим за обедом, хорошо?
– Иди-иди, – отец, распахнув полы клетчатого халата, сел во главе стола, – расчищай свои конюшни. А я, я – позвоню. Как и обещал.
Давид быстро вышел, не поцеловав жену, Памела это заметила и посмотрела на подругу. Та наклонилась к чашке кофе. Ничего, еще успеется.
Беседы за завтраком не получилось. Говорил в основном отец Синтии – о нынешнем поколении, не успевшем дать что-нибудь этому миру, но уже научившемуся от него – требовать. Ладно бы только строили баррикады, но они же и магазины громят. А это может сделать только тот, кто сам в жизни еще не приложил труда, не знает его ценности, как и ценности созданных им вещей.
Когда, наконец, старик вытер салфеткой рот и многозначительно посмотрел на дочь, все, пошел к себе звонить своим приятелям, Памела, подождав, пока не хлопнула закрывшаяся на втором этаже дверь кабинета, встала со стула и присела на край стола:
– Так…Что здесь у вас происходит?
И тут Синтию прорвало. Слезы вновь брызнули из ее глаз, она стала вытирать их передником, салфеткой, но одной салфетки оказалось мало, потому что Синтия рассказывала и рассказывала. Обо всем, начиная с первых лет замужества, с работе мужа на атомной станции, о вчерашней догадке, объяснении Давида, только вот это – ни папа, ни Морис – не должны знать, я сама справлюсь.
Памела сидела на краю стола и качала ногой. Когда подруга остановилась, Памела взяла свое полотенце, висевшее на спинке ее стула, подошла к Синтии и вытерла ей лицо:
– Ты что, не понимаешь, что этот сукин сын сам подсунул Давиду свою жену? Чтобы шантажировать его?
Синтия взяла полотенце в свои руки и еще раз вытерлась:
– Ты знаешь, мне тоже вчера пришла такая мысль. Но это же – невероятно!
– Милая моя. Наивная моя. Я такого дерьма в Америке насмотрелась… Повонючей вашего. Я как-то, на Среднем Западе, устроилась ассистентом оператора на киносъемки. Режиссер был такой классный парень… Умница. Так вот, там ему для массовки понадобилась местная молодежь. И попалась ему одна белокурая сучка. Напела ему про его гениальность. А тот и уши развесил. Короче, накануне завершения съемок приходит к нему в гостиницу, это он мне потом сам рассказывал, помощник местного шерифа. Развалился на диване, ноги на журнальный столик, попросил угостить его виски и … мол, девочка-то – несовершеннолетняя, а вы – хотите отсюда уехать без проблем? Надо немножко пожертвовать – на укрепление общественной безопасности. А режиссер, кстати, этот его фильм потом получил главный приз в Каннах, когда мне все это рассказывал, возмущался, но не тем, что у него потребовали денег, а тем, что, требуя деньги, этот говнюк пил его виски.
– Этот режиссер, – Синтия решила сменить ему, – был твоим парнем?
– Нет, – Памела подошла к кухонному столу и начала заваривать еще кофе, – он просто был классным режиссером. Мы познакомились в Нью-Йорке на моем вернисаже, ему понравились мои работы, и он предложил мне попробовать себя в кино. А вернисаж…Это Морис помог мне его организовать. У него оказались связи в кино. Его тогда даже итальянцы звали консультантом по подводным съемкам, это когда они с англичанами и русскими начали снимать кино про Арктику. Он тебе – рассказывал?
– Да, конечно. Он и на премьеру ездил. В Рим. «Красная палатка». Мы ее смотрели с Давидом в городе. Нам – очень понравилось. А у Мориса есть запись музыки, написанной русским композитором, которая не попала в фильм. Он ее часто слушает. Морис говорит, что Морриконе написал какой-то слащавый шлягер, и ему не удалось передать дух Арктики.
– Это же Морис, – Памела налила себе кофе, – ты – будешь? – меня вытащил из моего дерьма. И этим вернисажем – тоже.
– Нет, спасибо, я кофе больше не буду, – Синтия поняла, что сейчас не время расспросов, – Сейчас уже встанет Сандра, и мы начнем с ней делать на обед рыбу. А торт – вечером. Хочешь нам помочь?
– Я? – Памела рассмеялась низким смехом, – Какой из меня кулинар… Я только и умею, что на роту солдат. А девочка – мне же с ней надо еще познакомиться. Она же тогда была совсем малышкой. Да и Алекс, наверное, меня не помнит.
– Алекс с Морисом приедут вместе – вечерним поездом. Давид поедет их встречать. А вот и Сандра.
В гостиную, еще в пижаме, зевая и смахивая пряди с больших круглых очков, вошла черноволосая кудрявая девушка.
– Сандра, – Синтия зашла за спину подруге и приобняла ее за талию, словно выставляя ее на показ, – а это – тетя Памела. Из Америки. Где много-много длинноволосых хиппи.
– Мама, хиппи – это уже прошлое. Сейчас в моде «жучки». Под Битлов. Правда тетя Памела? – девушка подошла к новой знакомой и щекой слегка коснулась ее лица.
– Правда, правда. Последние хиппи ушли вместе с Вудстоком. В историю. А «жучки», они – по всему миру. В Амстердаме – сплошные «жучки».
– Мама рассказывала, что вы всю жизнь путешествуете. Наверное, это здорово. Я бы тоже съездила куда-нибудь. В тот же Амстердам. Поглазеть на «красные фонари».
– Сандра, – Синтия шутливо погрозила дочери кулаком, – я тебе дам «красные фонари». Все, расспросишь Памелу за обедом А сейчас – быстро приводи себя в порядок и обратно – на кухню.
– Мама, я и так в порядке, – Сандра тряхнула головой, волосы опять упал на очки. Она их поправила и – уже обращаясь к Памеле, – Я рассматривала ваши пейзажи. Это нечто. Особенно закат в Юте.
– Так, все, – Синтия шутливо, но строго подняла голос, – Ты что, в пижаме будешь рыбу разделывать? Давай, давай.
Девушка быстро выпила кофе и ушла на второй этаж в ванную комнату.
– Это она перед тобой решила повыпендриваться. Сыграть в независимость. На самом деле, она очень скромная и послушная девочка. А как она рисует! Ты напросись к ней в комнату в гости. Там, на стенах есть несколько работ. Ей будет очень приятно.
– Обязательно. А сейчас – я пойду пройдусь. Валет – он же также на своем ранчо?
– Почему ты не сказала сразу? Давай я тебя быстро подброшу на машине. Это же далеко.
– Ничего – пройдусь, прогуляюсь. А, назад, к цветочному, если что, думаю Валет меня довезет.
– К цветочному? Подруга, ты что задумала?
– Ну не с пустыми же руками мне идти к дяде и тете.
– Памела, прошу тебя…
– Синтия, это уже – мое дело. Готовь рыбу. Пойду одеваться.
Глава третья
Памела вышла на улицу и пошла через центр. Да, Давид – постарался. Центр – не узнать. Мостовые были выложены новым булыжником, тротуары залиты асфальтом кирпичного оттенка, еще такой же оттенок, от напыленной меди на уличных фонарях в стиле ретро. Новое здание мэрии, в старом, рядом с церковью – библиотека. Памела не удержалась и заглянула в церковь. Здесь все тоже было осветлено и отремонтировано. На обратом пути, с кладбища, решила Памела, зайду и поставлю свечку. Только одну. Деве Марии. А ты, Николай-угодник, она посмотрела на икону в боковом пределе, обойдешься. Что стоит твоя забота о тружениках моря, если ты не можешь защитить их на суше?
Памела вышла на окраину. Вдоль дороги в соседнюю деревеньку, на полпути к которой и стояло ранчо Валета, была проложена велосипедная дорожка. Зеленый указатель торжественно объявлял: «Архипелаг коммун приветствует Вас. До Города – 12 км.» Надо же, проложили велосипедную дорожку до самого города. А Магнуса – сегодня кремируют.
Мысли все время возвращались на-три-дня-назад. Сотрудники полиции были очень учтивы, да и им самим побыстрее хотелось покончить с этим делом. Вам – лучше побыстрее уехать. Потом, когда все успокоится, сможете вернуться за урной. Конечно, если не объявятся родственники кроме матери, а мать, как вы говорите, в Америке, вряд ли она выберется сюда. Прах вашего капитана будет храниться в крематории. Только по прибытии надо будет заплатить за хранение. Распишитесь вот здесь, все, урна теперь будет записана за вами.
Памела быстро шла по велосипедной дорожке. А тут все как и прежде. Садовые участки с выглядывающими на дорогу деревянными лавочками и прилавками, на которых энтузиасты медленно хиреющего сельского хозяйства выкладывали на сезонную продажу фрукты и овощи. Кое-где за лавочками прятались более массивные сооружения летних хозяйственных домиков. В этот час возле домиков никого не было видно, лишь прогуливавшиеся по дворикам индейки и куры, да в одном месте задумчивый ослик, напоминали, что их хозяйства – не заброшены.
Синтия, какая она замечательная. Что-то почувствовала – и не стала приставать с расспросами. А что я могла бы рассказать? Про наркотики Морис наверняка все рассказал. Чего еще? Про случайных мужчин? Зачем это Синтии знать, по мне и так все видно. Про Магнуса?
Памела вспомнила, как она его увидела в первый раз. Магнуса занесло на Вудсток случайно. Его мать жила неподалеку, в Бетеле, куда она перебралась из Нью-Йорка после смерти мужа. Немногословная датчанка быстро освоилась в суетном городке, взяв в аренду участок под ботанический сад, где она стала выращивать орхидеи, которые охотно раскупались многочисленными туристами, полюбившими этот край еще в прошлом веке. В городе она оставаться не захотела, переезжать в Новый Орлеан, что я там буду делать, среди французов, крокодилов и лягушек, – тоже. Поэтому Магнус между рейсами, когда простои затягивались, навещал ее. И, когда, в тот приезд, он увидел море палаток и услышал грохот музыки, он просто не мог не остановиться посмотреть. А у Памелы тогда случился самый серьезный после вернисажа срыв. Началось все с водки в Голливуде, куда она отправилась со съемочной группой после завершения полевой работы над фильмом. Она не очень рассчитывала на новый контракт, но ей хотелось вновь увидеть Калифорнию, тамошние морские закаты, с которых у нее все и начиналось. Тем более, что грузовичок, не выдержав однажды сумасшедшего новоанглийского снегопада, давно приказал долго жить. Поэтому она обрадовалась оказии и вместе с остальными участниками съемок поехала в Калифорнию. Но там сложилась уже совсем другая компания. Памела окунулась в атмосферу вседозволенности студенческих городков и неожиданно вновь почувствовала себя молодой. Это ее и подвело. Так что поездка с гурьбой длинноволосых прыщавых юнцов в Вудсток, где героин стал неотъемлемым атрибутом беспорядочного секса на открытом воздухе, была предопределена. Именно за таким беспорядочным сексом и застал ее Магнус.
Она лежала на траве, в задранной юбке, давая проветриваться после бурной ночи еще не остывшей плоти, блаженно затягиваясь самокруткой и сквозь опущенные ресницы ловя лучи восходящего солнца, как вдруг это солнце – скрылось. На Памелу опустилась тень. Она услышала:
– Вас – прикрыть?
Памела резко села и одернула юбку. Над ней стоял здоровенный светловолосый бородатый мужчина и – посмеивался.
– Чего вы ржете? Может, сами хотите?
– Да нет, – здоровяк вновь ухмыльнулся, – этого добра мне не надо.
– Тогда – валите отсюда. Дайте мне отдохнуть, – и она опять откинулась на траву. Но здоровяк не отошел, напротив, он, удивительно легко для такого большого тела, опустился на землю и сел рядом:
– Машина что-то забарахлила. Вроде еще утро, а глохнет, как от перегрева. Сейчас постоит и, думаю, заведется.
Памела вновь привстала и увидела на обочине запыленный, видавший виды «форд».
– Глохнет, говорите? Свечи – проверяли?
– Проверял. Вроде не залиты. Крутить-то – крутит, но – не схватывается.
– Пойдемте, посмотрим, – непонятно почему, нет, понятно – почему, сейчас я тебе, верзила, покажу, что я не только ноги раздвигать умею, Памела встала, отряхнула от травы юбку, пошарила ногами вокруг в траве, нашла сандалии и – вызывающе посмотрела на здоровяка.
– А вы, что, в этом – понимаете?
– Пойдемте.
Памела открыла капот, нашла бензонасос, дайте ключ на двенадцать и отвертку, сняла бензонасос и стала его разбирать. И почти тут же, торжествующе:
– Видите? Вот, – она протянула здоровяку маленькую металлическую сетчатую капсулу, забитую грязью. – У вас либо бензин – дерьмо, либо бензобак – засран. Поэтому-то и не схватывается. Искра есть, а топлива в движке – нет.
Здоровяк растерянно держал в руках грязный сетчатый фильтр. Памела, проведя рукой по волосам, вытащила непонятно как сохранившуюся там шпильку, украшенную искусственной ромашкой:
– Держите. Этим можно быстро протереть. Нет, дайте я сама.
Памела быстро очистила фильтр, и также быстро смонтировала и поставила на место бензонасос:
– Все. Дайте ключи.
Мужчина беспрекословно отдал ей ключи. Памела села на место водителя, вот, чего мне не хватало, запаха бензина и горячего кузова автомобиля, поставила нейтральную передачу, подтянула ручной тормоз и вставила ключи в замок зажигания. Легкий поворот – и мотор буквально взревел. Памела с почти плотским наслаждением несколько раз вдавила газ в пол. Мотор ревел так, старый добрый «форд», словно радовался, что оказался в умелых руках. Здоровяк стоял с молчаливым восхищением на лице. Памеле не хотелось вылезать из машины. А что, если…
– Ну, а теперь – куда?
– Мне вообще-то – в Нью-Йорк. У меня там корабль под погрузкой.
– Так что же вы ждете? Садитесь – поехали.
– А – ваши вещи?
– Какие вещи? Трусы мне купите по дороге. Поехали.
Потом, когда ночью, в мотеле, у нее началась ломка, мужчина встал со своей кровати, взял простынь, пошел в ванную, намочил простынь под душем, вернулся в комнату, подошел к скрючившейся Памеле, стащил с нее грязную майку и юбку, приподнял, как перышко и начал оборачивать мокрой простыней. Памела ничего не соображала, ломота усиливалась, но она чувствовала, как сильные руки обнимают ее. Она так и уснула в его объятьях.
Она спала долго, а когда проснулась, то в комнате никого не было, но на стуле рядом с ее кроватью лежали аккуратно сложенные мягкая клетчатая рубашка, просторная хлопчатобумажная длинная юбка и светлые, в красный горошек, трусики.
Памела встала, схватила новые вещи и юркнула в ванную. Душ тоже сделал свое дело, а, когда она вышла, посреди комнаты стоял здоровяк с двумя бумажными пакетами, из которых исходил пряный запах жареной картошки.
– Вот, – здоровяк помялся с ноги на ногу, – меня зовут – Магнус.
Накануне они ехали молча. Каждый думал о своем, Памела – о неминуемой ломке, а мужчина… Он так потом и не рассказал, о чем он думал в тот первый день. Может быть, о маме, оставшейся среди своих орхидей, может, о затянувшемся из-за недобросовестного поставщика простое, а, может, и об этой странной, уже взрослой женщине, невесть как оказавшейся на поляне посреди штата Нью-Йорк с раздвинутыми ногами.
Памела взяла в левую руку протянутый ей пакет, а правую ладонь узкой лодочкой вытянула навстречу:
– Памела.
– Вот и хорошо, – мужчина присел на край ее кровати и принялся за картошку. Они молча завтракали, как вдруг, вытаскивая очередные хрустящие ломтики, Магнус жестом показал их Памеле:
– Скажите, а готовить вы умеете? Для себя – понятно. А, если на команду?
Памела тщательно прожевала картошку:
– Я в прошлом году работала помощником оператора на съемках в поле. Деньги были не очень большие, свободного времени гораздо больше. Так вот, я несколько месяцев кормила всю эту киношную ораву. Нехитрая наука. Картошка, рис, спагетти, капуста, свинина, говядина, птица.
– Пойдете ко мне на корабль? Я только что списал своего кока.
– За что?
– За нечистоплотность. Готовил-то он неплохо, но посуда всегда оставалась грязной. Ну что, пойдете? Матросы к вам приставать не будут, да, я думаю, к вам особо и не пристанешь.
– А вас не беспокоит, – Памела вытерла крошки с губ тыльной стороной ладони, что я – того…
– Вы читали Джека Лондона? «Морской волк»? Так вот, – не дожидаясь ответа, мужчина продолжил, – через пару месяцев от вашей дури, если, конечно, потерпите, не останется и следа.
– У этих сволочей, – Памела махнула рукой куда-то вдаль, – это называется – трудотерапия.
– Называйте, как хотите, – Магнус встал и протянул Памеле руку, – пойдете?
Глава четвертая
Занятая своими мыслями, Памела и не заметила, как свернула с велосипедной дорожки на проселочную дорогу, петлявшую в зарослях тростника, и очнулась только тогда, когда увидела ранчо Валета. А здесь все осталось по-прежнему. В хозяйстве фермера, продавшего Валету участок, было несколько построек, приспособленных под разные садовые нужды. Валет с Памелой не стали их сносить, а переделали под свой вкус. Стилизованные ворота, на которых красовалась вывеска «Маленький Дикий Запад», миниатюрный офис, спрятанный за декоративным фасадом с надписью «Банк», кофейня с таким же декоративным фасадом «Салун», на боковой стене которого, на маленькой двери туалета, был нарисован писающий мальчик, и домик самого хозяина под вывеской «Отель». Открытый манеж внутри деревянной изгороди, просторные конюшни. Вывески потемнели с того времени, когда Валет их сколачивал по эскизам Памелы, а та потом их раскрашивала, как ей тогда казалось, в буйные ковбойские и индейские цвета. Рядом с «Отелем» стоял новенький «транспортер». Значит, хозяин был дома.
Памела заглянула поочередно в «Банк», «Салун» и «Отель» и направилась к конюшням. Валет стоял на стремянке под самым потолком, насвистывал какой-то мотив и возился с осветительной лампой. Памела не стала его окликать и прислонилась к косяку. Его окатила теплая волна, схлынувшая слабостью в ноги. Ну, здравствуй, родной аквариум. Тень от ее фигуры скользнула по яслям, и Валет повернул голову. Только не упади от удивленья, мелькнуло в голове у Памелы. Валет рассовал инструменты в карманы рабочей жилетки и стал медленно спускаться вниз. Памела подошла, чтобы поддержать стремянку. Так они и встретились – его нога скользнула по ее руке. Валет обтер руки куском ветоши, торчавшей, носовой платок рабочего человека, из нагрудного кармана жилетки. Памела раскрыла объятья – ну, иди ко мне, бедолага. Валет протянул руки, она уткнулась носом в ветошь и – опять заревела. Это я – бедолага. Валет стоял, обняв ее одной рукой, а другой гладил и расправлял спутанные утренним морским ветром волосы. Двадцать лет спустя. Какой незамысловатый сюжет.
Обнявшись, они прошли к «Салуну», внутри которого стояло два пластмассовых столика, слева от входа на самодельном широком деревянном столе красовался новый, блестящий никелированными деталями, кофейный автомат, а в глубине, в человеческий рост, со стеклянной дверью, стоял холодильник для напитков, пока еще пустой в ожидании сезона. Значит, дела идут, мелькнуло в голове у Памелы. Валет, перехватив ее взгляд, улыбнулся и покачал головой:
– Это – Морис. И «транспортер» – его. Я – не хотел принимать. Ни в какую. Но он уговорил меня. Заставил взять его партнером и – сделал свой вклад. Так что дела идут не особо. Но – на хлеб с маслом хватает. Морис говорит, что большего человеку и не надо. Кофе?
– Да, – Памела присела за столик, – он тебе обо мне – рассказывал?
– Нет, – Валет стал возиться с кофейным аппаратом. – Прости, еще не до конца освоил. По-моему, он и Синтии ничего не рассказывал.
– Надо же. А она меня ни о чем не расспрашивала. Я у нее завтракала. Я подумала, что она потому ничего и не спрашивала.
– Это – от хорошего воспитания. Они всегда были и останутся такими. Ты когда приехала?
– Сегодня рано утром. Автостопом. На перекладных.
– Откуда?
– Из Марселя.
– Надолго?
– Пока – не знаю. Просто сегодня…
– Да, я – помню, – Валет наконец-то справился с автоматом и поставил на столик две чашки с кофе, – ой, а сахар-то в доме. Подожди…
– Не надо. Попьем так.
– Может, пару капель ликера? Я держу, официально же нельзя, у меня нет лицензии на алкоголь крепче пива, но вызывающим доверие клиентам иногда наливаю.
– А вот это – давай. Теперь мне это уже – можно. Давай, за встречу.
Валет порылся в ящике деревянного стола и достал бутылку ирландского кофейного ликера:
– Один жандарм на пенсии, – Валет плеснул ликер в их чашки, – из Штутгарта, он каждый год приезжает, во время войны он здесь служил в береговой охране, вот и приезжает, теперь – с внуками, и всегда катает их, раньше на пони, теперь на лошадях, он как-то пошутил, мол, за это меня и за задницу взять нельзя. Это тот же кофе, только перебродивший. Давай.
Они сделали по глотку, и Памела достала из кармана своей солдатской куртки пачку сигарет. Тряхнула, вытащила одну зубами и протянула пачку Валету. Валет аккуратно достал сигарету и повертел ее в пальцах:
– Полл-Молл. Американские. У нас таких и не сыщешь.
– Это – последняя. Я в Америку теперь – ни ногой.
– Наелась гамбургеров? Прости.
– Не извиняйся. Так и есть. Это ты очень хорошо сказал. Наелась – гамбургеров.
Валет затянулся и закашлялся:
– Крепкие. Ничего, останешься, я тебе подберу что-нибудь такое же крепкое. Сейчас же все равно назад поедем. Мне тоже надо сигареты купить. Но сначала – в цветочный. Я всегда в этот день захожу до обеда, чтобы за стол – не оставаться, но стаканчик аперитива, на ступеньках веранды, это – святое. Жалко, что Морис приедет только вечером.
– Как он? О нем Синтия не успела мне рассказать.
– Как – как? Никак. Ныряет с детьми, к жене на кладбище ходит, садом занимается. Правда, сейчас – на подъеме. Ты только Синтии не проговорись, они пока ничего не знают. Его позвал к себе Кусто. Тот собирается в Антарктику, искать подо льдом секретные базы вермахта, так ему понадобились аквалангисты с опытом работы во льдах. А Морис же, он и в Гренландии бывал, и в Канаде. Его даже итальянцы на съемки фильма приглашали. Консультантом. Экспедиция уже скоро отходит, контракт-то он давно подписал, сейчас там идет оформление каких-то бумаг со страховой компанией, вот он и поехал. Но, насколько мне известно, сюда он приедет только на один день. Собрать вещи, поздравить сестру и попрощаться с отцом. Завтра ему – обратно. О, – Валет посмотрел на часы, – мать, мы с тобой заболтались. Надо ехать.
– Да, мне тоже еще потом – на кладбище.
– К тете с дядей?
– Да. Поехали.
Валет встал, ополоснул чашки в раковине и – посмотрел на Памелу.
– Что? – Памела автоматически поправила волосы.
– Ты, – Валет улыбнулся, – совсем не изменилась.
– Ты – тоже. – улыбнулась в ответ Памела, – Поехали. Проводим Мориса – еще наговоримся.
Валет пошел переодеваться, а Памела вышла к «транспортеру». Одно колесо показалось подспущенным, она автоматически, привычка, подошла, чтобы проверить давление, уже занесла ногу, но – тут же опустила ее. На глазах опять выступили слезы – хватит, я уже проверила неделю назад одно колесо.
Они сели на переднее сиденье «транспортера». Машина выбралась на дорогу, и через пять минут они уже были в центре городка. Валет указал рукой направо:
– Видишь, это табачная лавка. А напротив – как раз цветочный. Вылезай. Я оставлю машину на парковке. Давид же запретил парковаться на улицах. Теперь – только за почтой. Я – мигом.
Памела спустилась на тротуар, посмотрела по сторонам и – направилась к цветочному магазину.
Перед витриной были выставлены лотки с однолетниками, за витриной рассматривались разнообразные пышные соцветия, расставленные на стойках и на полках, а в глубине магазина – еще более пышные каламондины, фикусы и драцены. Памела открыла дверь, которая отозвалась мелодичным звонком. Хозяйка, опрыскивающая домашние деревья из пульверизатора, повернула голову, оценивающе посмотрела на покупательницу, закончила опрыскивание, поставила пульверизатор на пол, вытерла руки о передник и только потом подошла к Памеле:
– Добрый день. Что вас интересует?
– Я бы хотела что-нибудь спокойное.
– Срезанные или в горшке?
– Пожалуй, в горшке.
– Для дома?
– Да, – Памела криво усмехнулась, – для последнего дома. Для кладбища.
Хозяйка цветочного салона настороженно взглянула на Памелу. Что ты смотришь, коза, что тебе не нравится, моя солдатская куртка, да? Памела сделала шаг между стойками, – пожалуй, я возьму вот эту герань.
Памела сняла со стойки горшочек с цветком и сделала еще пару шагов вглубь магазина. Она остановилась напротив большого фикуса в шикарном, провансальской расцветки, глиняном горшке, стоящем на полке на уровне пояса:
– Какой замечательный цветок, не правда ли? – Памела слегка коснулась края горшка, потом так же плавно загнула палец и – опустила руку вниз. Горшком с треском ударился об пол. Сзади послышался вскрик хозяйки.
Прости меня, бедный фикус. Памела носком разгребла черепки и пристально посмотрела на хозяйку. – Какая хорошая глина, не правда ли?
В этот момент в салон, протягивая пачку сигарет, вошел Валет:
– Памела, это – тебе, – и тут же, увидев между женщинами груду черной земли и черепков, из-под которых выглядывали листья цветка, замер.
– А, Валет. Спасибо, – Памела взяла пачку сигарет, – я для своих уже выбрала. Так что теперь, для Синтии, выбирай ты. Не спеши. Мадам выставит общий счет за наши покупки мэру. И за фикус – ему же. Да, мадам?
Прищурившись, Памела оглядела немую сцену, хозяйка стояла с полуоткрытым ртом, высокая грудь бурно вздымалась, по ее щекам пошли пятна, руки, украшенные бижутерией, теребили передник, но слов произнесено не было.
Памела, гордо подняв горшочек с геранью, направилась к выходу, как вдруг у ней в голове мелькнула совершенно неожиданная мысль. Еще не конца уловив ее, она повернулась к хозяйке и, язвительно улыбаясь, сказала:
– Кстати, я подумываю осесть в родных местах, где все меня знают, не так ли Валет? И… – Памела рукой с горшочком жестом охватила салон, – все решаю, может, мне здесь тоже заняться цветами? Как вы думаете, – она картинно-учтиво поклонилась хозяйке, – мы сможем ужиться вместе? Все, – Памела подошла к Валету и поцеловала его в щеку, – давай, на аперитиве увидимся. Да, если мадам будет обо мне расспрашивать – не стесняйся, – и она, повернувшись к хозяйке спиной, направилась к выходу, высоко подняв средний палец свободной руки.
Глава пятая
Обед прошел удивительно буднично, все ожидали вечера, приезда брата и сына именинницы. Валет, несмотря на все уговоры, не остался, сославшись на необходимость завести лошадей с поля в конюшни. Он посидел с Памелой под холодное пиво на ступеньках веранды, Синтия все ловила выражение лица Памелы, как там все прошло, в цветочном, но Памела делала вид, что не понимает вопросительных взглядов подруги, но их понял Валет и успокоительно кивнул Синтии головой – все в порядке. За столом, как и утром, больше всех говорил отец именинницы. Видно, старику не хватает общения, догадалась Памела. Если утром от него досталось новому поколению, то за обедом пришлось краснеть самой Америке. Все началось с обычного разговора про цены, и тут отец Синтии наехал на доллар, а точнее, на тех идиотов, которые хранили свои сбережения в долларах и теперь были вынуждены за это расплачиваться падением обменного курса, вызванного невиданной доселе в Штатах инфляцией. Старик даже раз встал, поднялся к себе и вернулся с журналом, в котором была напечатана карикатура – бородатый нищий просит подаяние, дама ему протягивает купюру доллара, и он от нее – прикуривает. Был ли отец Синтии прозорливым финансистом или в нем просто брала верх консервативная несуетность, но, так или иначе, все его сбережения хранились во франках и в марках. Поэтому сейчас он немного злорадно похохатывал над своими знакомыми, погнавшимися когда-то за американской валютой. Робкое замечание Памелы, что зато здесь теперь буквально с колес улетают враз подешевевшие, она-то знает, дорогие «корветы» и «мустанги», стариком не было принято во внимание, точнее, он заявил, что это должно беспокоить набобов Лазурного берега, а у них-то как раз все сбережения тоже в долларах, так что выгоды им особо никакой. А подорожавшие из-за падения курса доллара «феррари» и «ламборджини» техасские нефтемиллионеры купят и так. Но Синтия, хлопотавшая вначале над салатницей, а потом над широким овальным блюдом с рыбой, слушала отца внимательно, а Давид, что ему еще оставалось делать после вчерашнего разговора, еще и поддакивал. Сандра ковыряла рыбу, безо всякого интереса как к разговору, так и к самой еде. А, когда обед закончился, старик встал и ласково потрепал Памелу по плечу:
– Пойдем со мной, дорогая. Посидим в гамаке, покурим, выпьем по чуть-чуть виски, мне тут старый знакомый прислал из Англии пару бутылочек Бальвени, да, они с этого года стали продавать его в бутылках, я это дело люблю перед сиестой, и ты мне расскажешь, как ты продавала «корветы» и «феррари».
Памела, которая до обеда обещала Синтии помочь убрать со стола и вымыть всю посуду, растерянно взглянула на подругу, но та, счастливо улыбнувшись, махнула рукой – иди, побалуй отца, я – сама.
Памела со стариком вышли в сад, где в тени огромного ливанского кедра был обустроен гамак, рядом с которым стоял шезлонг, а между ними – маленький столик, на котором, отец Синтии всю жизнь был не то что пунктуальным, а скорее расчетливым в движениях, еще до обеда, чтобы не подниматься после еды наверх, уже стояли маленький хьюмидор, бутылка и два стакана. Памела поняла, что он все продумал заранее.
– Я люблю – безо льда. Так что, если тебе нужен лед, как все пьют в вашем – американском – кино, то тебе придется вернуться в столовую.
Памела, вспомнив жест Синтии, тоже улыбнулась и также махнула рукой – давайте так. Старик сел в гамак, взял в руки бутылку, повертел, в который раз рассмотрел этикетку, причмокнул от предстоящего удовольствия и наполнил стаканы на-половину. Это не по чуть-чуть, подумалось Памеле. Стаканы были настоящие, под виски, массивные, с изображением шотландского флага. Она присела в шезлонг и достала пачку сигарет, купленную ей утром Валетом. Сигареты, «цыганочки», она их распробовала за аперитивом, когда они с Валетом на ступеньках баловались холодным пивом, были терпкие, без фильтра. Старик улыбнулся и открыл хьюмидор, где поверх сигар лежал тонкий длинный мундштук, достал его, когда он заметил, и протянул Памеле:
– Попробуй вот так.
Памела рассмеялась и взяла мундштук. Старик размял сигару, они оба закурили, и только потом он поднял стакан:
– Ну, давай, за твое – возвращение домой.
Они чокнулись и сделали по глотку. Отец Синтии поднял голову, прикрыл глаза и театрально взмахнул рукой с сигарой:
– Волшебно. Ты знаешь, у меня перед завершением дел сложилась поездка в Шотландию, где надо было покрыть кое-какие обязательства. Тогда я и потратил время на объезд всех самых известных винокурен. И там мне глянулся Бальвени. Я купил у них целый дубовый бочонок. Мне казалось, что он никогда не опустеет. А тут, зимой бац, – все. Я так расстроился. Звоню в Англию своему бывшему партнеру, а он мне и говорит – с этого года Бальвени стал разливать в бутылки. И прислал мне целый ящик. Ладно. Как говорил Гамлет, об этом – хватит, перейдем к другому. Рассказывай.
– Что – рассказывать? – Памела стряхнула пепел в траву.
– Все. Про Америку. Про секс. Про наркотики. Не волнуйся, Синтия тебя не выдавала. Она мне про тебя только хорошее рассказывала. И твои фотографии показывала. Но я же все понимаю. И потом, чем можно еще в Америке заниматься, кроме секса и наркотиков?
– Да она ничего и не знала. Я ей – про это – ничего не писала. Это Морис все видел своими глазами. Но я же – справилась.
– Да, Синтия мне сказала, что ты стала морском волком, ходишь туда и обратно через Атлантику. С каким-то викингом, – и старик, лукаво улыбнувшись, заглянул из-под заросших бровей в глаза Памеле.
– Да, – Памела сделала еще один, на этот раз большой глоток, – работала поваром и посудомойкой на сухогрузе. Это-то меня и вылечило. А викинг, – Помела задумалась, повертела стакан, сделала еще один глоток, глубоко затянулась, выдохнула и – решилась, – викинга – убили. Третьего дня в Марселе.
Памела еще ни разу за прошедшие дни не произносила это вслух. Происходящее все время казалось чем-то нереальным, дурным сном, и что, когда она проснется, Магнус будет с ней рядом. Она понимала, что сказать об этом вслух будет означать согласиться с реальностью. Утвердить смертный приговор, написанный французскими торговцами наркотиками. И сейчас она это – сделала.
Старик участливо коснулся иссохшими пальцами ее руки.
– Прости, дочка. Я – не знал.
– А еще никто не знает. Надеюсь, и не узнают.
– Ты не хочешь об этом рассказывать. Я – понимаю. Тогда я – немного о другом. Ты помнишь, – старик сделал последний глоток и потянулся, сигара была выкурена только наполовину, к бутылке, – что я очень не хотел покупать у тебя участок. А когда узнал, что ты скостила цену, то испугался, что его кто-то тут же купит. Поэтому-то я и согласился. Но, когда ты уехала, то я пошел к тому же нотариусу, которой оформлял куплю-продажу, и зарегистрировал партнерство. Наше с тобой партнерство. Я просто посчитал твою скидку с реальной цены участка, как твой вклад. И тут же сдал участок в аренду одной приезжей паре, которая стала там выращивать на продажу цветы, газон и деревья. Доход был невелик, но за эти годы его половина, с процентами, я все клал в банк, уравнялась как раз с половиной стоимости участка. Так что у тебя в кармане – половина ботанического сада и стоимость второй половины. Муж в прошлом году умер, и старушка отказалась от аренды. И ты можешь теперь распоряжаться участком по своему усмотрению.
Памела с изумлением слушала старика. На ее глазах выступили слезы.
– Ну-ну, – отец Синтии дружески похлопал Памелу по плечу, – вот это – совсем не повод плакать. Кстати, Синтия об этом не знает, но Давид, он в курсе. Я же плачу налоги. В том числе и за тебя. Давид все сокрушался, что твой голос пропадает на выборах. Правда, теперь, – старик рассмеялся немного надтреснутым смехом, – теперь ему сокрушаться не придется. Но не потому, что ты не будешь за него голосовать, а потому, что он – с этим – завязал. А теперь, дочка, я немного вздремну. А ты – посиди рядом, покарауль мой сон.
Старик нагнулся к траве и затушил сигару. Теперь Памела почувствовала, как задрожал его голос:
– Если Морис уедет, – старик продолжал сидеть согнувшись, зачем я тогда подарил ему эту книжку, и все тыкал сигарой в землю, – кто будет собирать в траве окурки моих сигар?
Памела встала, подошла к гамаку, наклонилась и поцеловала седую макушку. Потом она обняла голову старика и прижала к своему животу. Первооткрыватель Бэби Додса, спасибо тебе, за то, что ты пока – есть.
Когда отец Памелы устроился в гамаке, Памела накрыла его клетчатым пледом и подвинула шезлонг так, чтобы ногой слегка раскачивать гамак. Убаюканный, или это виски сделали свое дело, старик почти сразу уснул. Памела откинулась на спинку шезлонга, подставила лицо редким лучам солнца, пробивавшимся сквозь густую крону кедра и, мерно покачивая ногой, прикрыла глаза.
В ту автомобильную поездку они с Магнусом не решились на близость. Памела, вспоминая сцену знакомства, стал все острее чувствовать стыд и, конечно, брезгливость по отношению к самой себе. Она стала долго мыться в душе, словно хотела смыть с себя всю непотребность последних лет. Приехав в Нью-Йорк и заняв на «Хойре» четырехметровую каюту, она с такой же неистовостью стала перемывать всю посуду на корабле, драить пол камбуза, стены, столы и плиты. Первый заказ продуктов, по книгам бывшего кока, помог ей сделать Магнус, но он же, подписывая счета, всем видом дал понять, что их отношения – это отношения кока и капитана.
Не случилось этого ни в первый, и ни в обратный рейс. На пути в Европу Памелу еще колотило, да к тому же вмешалась и морская болезнь. Но она с тем же неистовым упорством, как только тело начинали сводить судороги, днем ли, ночью, хватала швабру и начинала драить палубу перед входом в камбуз. Готовка и мытье посуды, команда за обедом от удовольствия цокала языками, а Магнус, изредка заходя в камбуз и глядя на отполированные столы, пол, и стены, улыбчиво качал головой, отнимали все силы, но каждый раз перед сном она драила еще – и себя.
А, когда они шли обратно из Европы, опять в Нью-Йорк, она впервые за все последние годы, университетские городки, Вудсток, вам этого не понять, ощутила настоящее желание. Рука инстинктивно скользнула в низ живота, но Памела тут же отдернула ее и, стиснув зубы, вырвала из-под головы подушку, засунула ее между ног и крепко сжала бедрами. Девочка, ты еще не заработала на это.
Но это – не могло не произойти. Перед рейсом – опять – в Европу, оформив заказ на продукты у знакомого манхеттенского оптовика, они с Магнусом вышли на улицу. И тут он, указывая на огромную светящуюся афишу, вдруг сказал:
– А не пойти ли нам в кино?
Памела, глядя на задумчивые лица Джона Войта и Дастина Хофманна, отрицательно покачала головой. Мне только еще чужих драм не доставало, тем паче с летальным исходом. Но, увидев просящую улыбку Магнуса, она сказала:
– Хорошо. Только не на это. Давай пойдем на что-нибудь более веселое, – и, покрутив головой, она указала на выглядывавших из-под ковбойских шляп Пола Ньюмана и Роберта Редфорда, – давай вот на этого рыжего.
В темноте кинозала, скармливая друг другу ломтики жареной картошки, молча, помнишь ли ты нашу первую картошку, они окунулись в мир неподдельной мужской дружбы и преданной женской любви. И, когда с экрана полились «Капли дождя…», она вместо картошки ощутила на губах, тоже солоноватый, на то он – и дождь, вкус его потрескавшихся губ. Магнус поднял голову, а она вслед приподняла свою и уткнулась губами в его густую бороду. Не сказав ни слова, они разом поднялись со своих мест, и, учтиво кивая зашикавшим вокруг зрителям, стали пробираться к выходу. Простите, но мы не хотим смотреть, как умирают Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид.
Они остались там же, на Манхеттене, в средней руки гостинице. Сложилось все немного нескладно. Магнус, несмотря на свои размеры, оказался застенчивым мужчиной, а Памеле совсем не хотелось выставлять на-показ свою опытность. Но им было очень хорошо вместе, на одной кровати, лежать и ловить пальцами на теле друг друга отблески неоновых фонарей, пробивавшихся сквозь неплотные шторы.
До отхода оставалась еще неделя, и Магнус, что еще можно было ожидать от настоящего викинга, взял напрокат машину, и они поехали по обратной дороге своего знакомства, в Бетел, к маме. Вудстока они уже не боялись, воспоминания о прошлой жизни были, нет, не зачеркнуты, а залиты и размыты слезами дождя, падающими на их светлые головы.
Памела тряхнула головой, она вспомнила об обещании посмотреть картины Сандры. Но старик продолжал спать, и Памела не решилась встать. Успею, как раз перед приездом Алекса и Мориса.
В тот первый приезд, мама, еще крепкая, немногословная датчанка, ограничилась чаем с булочками. Но во второй раз, когда они автобусом приехали после очередного рейса из Нового Орлеана, она показала во всей его красе богатство ее сада. А на прощание она протянула Памеле коробочку, запомни, девочка, это мильтонидиум бартлей уайт. Пусть всегда он будет с тобой. Памела поставила орхидею на полочку под иллюминатором, рядом с другой коробочкой – с «Клима» – подаренных ей Магнусом во время их последней стоянки в Марселе.
Если со мной что-нибудь случиться, позаботься о моей матери. Это было сказано совершенно невпопад, накануне их последнего рейса. Магнусу очень не понравился новый поставщик «корветов», какой-то он склизкий, неуловимый. Но европейский заказ уже был сделан, оставалось только доставить груз в Марсель.
Уже в Средиземном море, когда они с Магнусом вечером вышли на грузовую палубу, она, совершенно неожиданно для себя, завела разговор о том, что с этим надо заканчивать, всех денег не заработаешь, ты не можешь без моря?, заберем маму и уедем на какой-нибудь северный остров. Будем ловить рыбу и разводить овец. Магнус отбивался слабо, казалось, что и ему приходила подобные мысли, но все же он, пусть слабо – но отбивался. С досады Памела пнула ногой шину закрепленного рядом «корвета», как тут же, с совершенно другим выражением лица, повернулась обратно к Магнусу:
– Ты – слышал?
– Что?
– Там – не воздух. Воздух, – тут. – Памела перебежала к соседнему «мустангу» и пнула его шину, – вот – это воздух. А здесь, – Памела вернулась к «корвету», – здесь что-то другое.
Она обошла всю машину, проверяя остальные колеса. В остальных шинах был воздух, но в этой, там было что-то более плотное.
Лицо Магнуса побелело:
– Я, кажется, знаю, что – там.
Теперь догадалась и Памела. Ах, этот сукин сын, слизняк. Так подставить моего Магнуса:
– Режем?
– Нет. Пусть это делает французская полиция. Я сообщу им по радио.
Уже в Марселе, когда таможенники поднялись на борт, вскрыли шину, где оказались плотно упакованные пакеты с героином, и составили опись, комиссар попросил Магнуса проехать с ним в участок для оформления протокола. Магнус переоделся, вышел на палубу, высокий, светлый, в белой рубашке, из кармана которой выглядывал конверт, викинг кивнул Памеле, все будет в порядке, готовь команде обед, я скоро вернусь, и спустился на берег. Он сел в машину комиссара, на заднее сиденье. Памела увидела, как он повернулся и помахал ей сквозь стекло рукой. Она махнула в ответ и – осталась стоять не месте. Что-то, очень неприятное, говорило ей, что обеда сегодня – не будет. Она достала пачку «Полл-Молла» и вытряхнула сигарету. Памела даже не успела ее докурить, как на палубу выбежал радист, Памела, тебя срочно – в участок.
Она еще ничего не понимала, как вдруг в порт, завывая сиреной, въехал полицейский фургон, остановился, из него выскочили трое вооруженных полицейских, которые бегом по трапу поднялись на палубу, мадам, мы посланы для вашей охраны, нам срочно надо в участок.
Так и не переодевшись, в джинсах, сандалетах и тельняшке, она забралась в фургон. Тот, завывая, рванулся с места. Полицейский переговаривался с кем-то по радио, французский она не понимала, но слово «опиталь», повторенное два или три раза, поняла отчетливо.
Магнус, она поняла это по огромным подошвам его ботинок, торчавших из-под белой простыни, лежал на столе. Мадам, это произошло на светофоре. Рядом с нами остановился мотоцикл и – два выстрела сквозь стекло. Оба – в его голову. Мы позвали вас, потому что в кармане его рубашки мы нашли вот это.
На листке бумаги крупным аккуратным почерком, было выведено – я Магнус Олссон, капитан сухогруза «Хойре», в случае моей гибели или непреодолимого увечья, завещаю все мое движимое и недвижимое имущество моей жене Памеле, коку нашего корабля.
Мадам, это не самое приятное зрелище, но вам – придется посмотреть. Формально мы должны провести опознание. Комиссар взял ее под локоть, но она отстранила его руку, подошла к столу и откинула простынь. Лица – не было. Клочья бороды, залитые кровью. Памела аккуратно накрыла голову Магнуса и – кивнула головой.
Потом, уже в участке, когда они уговаривали ее срочно уехать, мы можем вывезти вас из города под охраной в Шалон, дальше – вы сами, затем в каюте Магнуса, где она судорожно собирала в солдатский мешок его трусы, майку, я хочу сохранить его запах, «Труженики моря», его любимую книгу, пачку денег из рундука под кроватью, затем у себя в каюте, что мне взять, орхидею, духи, пару белья, надеть рубашку, длинную юбку и куртку, полицейский с автоматом стоял у входа в каюту – все происходило, как во сне. Слезы лились сами по себе, не переставая, но она не вытирала их, а молча, в кровь, кусала губы. Уже в полицейской машине, когда один из охранников дал ей свой платок, она вытерлась, увидела, что он весь в крови, только тогда она заорала диким голосом и начала биться головой о спинку переднего кресла.
Памеле захотелось курить. Она нагнулась к столику, и нога соскользнула с гамака. Тот перестал раскачиваться, и старик – проснулся.
– Как сладко я поспал. Спасибо тебе, дочка, – отец Синтии присел в гамаке и слегка раскачался. – Я, пожалуй, пойду в дом, умоюсь.
– Да и я пойду. Мне хотелось посмотреть картины Сандры. Давайте, я все уберу.
Памела взяла в руки стаканы и бутылку и, засунув хьюмидор под мышку, направилась в дом. А старик прекратил раскачиваться, но продолжал сидеть. Он внимательно смотрел в спину удалявшейся подруги дочери, прямую спину уверенной в себе женщины, знающей, что она будет делать завтра.
Глава шестая
Выгнав всех из столовой, Синтия достала из холодильника накануне замаринованную и натертую специями утку. Птицу она сделает сама, Сандра понадобится ближе к вечеру, когда будет готовиться торт.
Нарезав яблоки, Синтия уложила их ровным слоем в утятницу. Затем она расправила разрезы брюшка утки и нафаршировала уже его. Теперь зашьем, утиная иголка была воткнута в расшитое матерчатое сердечко, подарок Давида на Рождество, подвешенное рядом с полотенцами. Так, кладем утку, закрываем крышку и – в духовку. Все, теперь можно помыть обеденную посуду.
Синтия пристрастилась к готовке только в последние годы. Честно говоря, она заканчивала школу девочкой без особых способностей и интересов. Пожалуй, в юности ее занимала только музыка – мама регулярно дарила ей пластинки с балетами и операми. Но рождение детей свело все внешние интересы на нет. В те годы она и о себе-то заботилась мало. Лишь только когда дети подросли и стали ходить в школу, у ней появилось время и для себя. Она стала много читать, теперь книги ей подсовывал Давид, не только художественные, с его подачи она увлеклась эзотерикой, да так, что однажды настояла провести отпуск в Стране Катаров, ей тогда казалось, что поднявшись на Монсегюр, она обретет какое-то высшее знание. Она вспомнила, как они карабкались по каменной тропе, цепляясь за стволы деревьев, Сандра сидела на плечах Давида, Алекс, напившийся по дороге кока-колы, все время нырял в кусты, а она несла рюкзак с нехитрым походным обедом. Поднявшись наверх, она испытала – разочарование. Нет, пейзаж сверху был просто великолепен, но сама крепость… Оказалось, что это никакой не замок катаров, а пограничная крепость, отстроенная на этой скале французским королем после альбигойского похода. Высшее знание не пришло, и после отпуска интерес к эзотерике сам сошел на нет.
Она хотела завести собаку, но против была мама. А потом, когда мамы не стало, заводить собаку уже расхотелось. Точнее, Синтия уже повзрослела и не рискнула взять на себя ответственность за того, кого она должна была приручить.
Время от времени ее пытался расшевелить Давид. Тогда самым ярким эпизодом их жизни была предрождественская поездка в Вену, где работал однокурсник Давида. Они поселились в старинной гостинице в самом центре, с видом на площадь, украшенную елочным базаром. Погода стояла – настоящая рождественская, почти все время шел мягкий снег, улицы тонули в желтых отсветах фонарей, они гуляли в обнимку, заходили в разные лавочки, искали ей вязаную шапочку, она умудрилась приехать в Вену без головного убора, и наконец нашли, как тут же Давид выбрал ей потрясающий изящнейший полушубок, она примерила и спросила продавщицу – а вы можете отослать мое пальто в гостиницу, и – вышла в новом полушубке, Давид окрутил ее здесь же подобранным по цвету и фасону шарфом, Белоснежка, и, чувствуя прилив благодарных чувств, Синтия зашла в соседнюю табачную лавку, где выбрала Давиду толстую сигару и позолоченную «гильотину». Снег – не снег, Давид обрезал сигару и закурил, они не спеша тронулись дальше, как вдруг Давид указал сигарой на опушенный снегом велосипед, припаркованный у решетки входа в метро – смотри, это сам Гофман приехал к нам на Рождество.
Они мечтали попасть в оперу, следующим вечером давали «Волшебную флейту», но все билеты были раскуплены заранее. Тогда-то приятель Давида и рассказал, что в незапамятные времена император, заботясь о культурном просвещении простого народа, ввел правило пускать за символическую плату на стоячие места в ложу под ним всех желающих. Традиция прижилась, но, чтобы попасть в эту ложу, надо было прийти к боковому входу в Придворный театр за несколько часов до начала, отстоять на улице очередь, а потом – отсидеть на полу, знающие венцы приходили с раскладными скамеечками, бутербродами и термосами, еще несколько часов. Поэтому на этот праздник она надела старое пальто, а Давид взял фляжку с виски и карты. Так они проиграли все это время в «чешского дурака», отмечая свои маленькие победы глоточком виски. Но опера – опера была действительно волшебной. Даже Давид, который к музыке относился спокойно, не смог сдержать эмоций – Синтия краем глаза заметила, как под арию Царицы ночи у него повлажнели глаза.
После той поездки он тоже стал дарить ей пластинки с классической музыкой, но их быстро вытеснили «Роллинги». Так у них с Давидом появился общий интерес. Он находил новые группы и новые пластинки, они садились у сверкающего зелеными огоньками «телефункена», подаренного папой Давиду еще на тридцатилетие, и слушали эту безудержную музыку. Но Моцарт остался в их жизни. Они разучили дует Папагено и Папагены и на годовщину свадьбы устраивали домашним маленькое представление. Почти такое же, каким был рок-н-ролл на день рождения отца в их молодые годы.
Тогда, когда она выходила Сандру, Синтия решила, что теперь они с Давидом могут посвятить себя чему-то общему и придумала – танцы. В какой-то год в городке открылся танцевальный класс для всех возрастов, и Сандра буквально за шиворот притащила туда Давида. И сразу – пожалела. После пресного урока вальса класс-дама стала обучать их танго. Но она так томно прижималась к Давиду, что Синтия, ведомая совершенно скамеечной ревностью, сказала – нет. А рок-н-ролл, он остался, ему не были нужны классы, ему хватало американских фильмов. Как-то Давид с Синтией поехали в город и заказали на пошив платье для рок-н-ролла, белое, в красный горошек, с такой же ярко-красной многоярусной, почти пачкой, нижней юбкой. И, когда на папин день рождения, после шумного застолья, они всей гурьбой вышли на набережную, где между кафе, на маленькой площади, обустраивалась сцена для заезжих оркестров, вот тогда Синтия с Давидом и показали класс. Когда он, под импровизацию «Гончей собаки», выполнил поддержку, и Синтия взлетела ногами вверх, так, что красное облако окатило не только ее, но и голову Давида, публика восторженно загудела, а отец, отец, как сидел с отвисшей от восхищения челюстью, так и остался сидеть, пока Синтия с Давидом, выполнив пару разворотов под сплетенными руками, не остановились перед ним.
Но Давиду сделали операцию, поднимать тяжелое ему запретили, поэтому, когда Сандра выросла, ей остался только мелодичный ритм «Капель дождя», родители очень любили тот фильм и, когда хотели потанцевать, то всегда включали на магнитофоне эту песню, начало танца было ритуальным, мама садилась на спинку кресла, а папа, приставив руки ко лбу, изображал быка, а затем мама, прямо как Кэтрин Росс, зажав руками, чтобы не распушить, юбку, соскальзывала в его руки, и они делали те же самые развороты под сплетенными руками, но уже – много медленнее.
Так что танцам тоже не было суждено стать их страстью. Но они все же нашли ее. Ей стал – футбол.
Вообще-то, Давид и глянулся папе из-за футбола. Тот очень любил футбол, тогда в моде был Камю, и папа всем цитировал его фразу, из статьи о футболе для Алжирского университета: «После многих лет, в течение которых я многое повидал, всем, что я твёрдо знаю о морали и человеческом долге, я обязан спорту». И Давид, накануне предложения, дорогая, что любит папа, пригласил его, ее и за компанию – Памелу – в город, на футбол. Мужчины переживали, игра была непростой и вязкой, а девочки, ничего не понимая в этих боданиях вокруг мяча, Памела так тогда и сказала – если бодаться, так бодаться – по серьезному, как в регби, или, как в том анекдоте, где рыцарь остановился у входа в пещеру под высокой горой и стал вызывать дракона на бой, а в ответ, из-за облаков, драться – так драться, зачем же в ж…пу кричать, протрепались полушепотом все полтора часа. Но много лет спустя, когда Давид, после очередного витка рок-музыки, стал оставаться у «телефункена» и включать радио, чтобы послушать трансляцию футбольного матча, Синтия послушно задерживалась с ним. И уже несколько лет спустя, сидя в пижамах в кровати перед телевизором, у них так и повелось – смотреть футбол в спальне, они в унисон свистели на русского судью с каким-то смешным восточным именем, показывавшего флажком на центр после неправильно засчитанного гола. Утренний кофе превращался в бесконечное обсуждение прошедшего матча с папой, дети смеялись, но Синтии было хорошо. Конечно, она все больше и больше осознавала, что за неимением своей жизни, ей приходится жить жизнью Давида, но это ее и радовало. А чемпионат в Мексике прошел под знаком непрерывных споров, Давид страстно болел за Маццолу, а Синтии очень понравился, нет, не Пеле, а его товарищ, какой-то нефутбольный, портовый рабочий – невысокий, коренастый и лысоватый крепыш – посылавший мячи куда-то за пределы экрана, а, когда камера перемещалось, то они уже видели мяч в ногах Пеле. Именно этот крепыш и стал причиной их ссоры. Давид и Синтия, они же тогда сошлись в финале. Когда, в ответ на гол бразильцев, итальянцы сравняли счет, то Давид, не перестававший все последние после драматичного полуфинала дни повторять, что Ривера – это Ривера, прямо как у Джека Лондона, Давид воспрянул, сейчас мы вам, танцорам с…, покажем, и вот тут крепыш заколотил такой голешник, что Синтия не удержалась, вскочила на ноги и завизжала от восторга. Почти тут же дверь в спальню распахнулись, и ошарашенные дети смотрели, как мама танцует на кровати самбу. Давид взял подушку и пошел в гостиную.
Синтия встала, пора было снимать с утятницы крышку. Она нагнулась к духовке и вдруг вспомнила, что завтра они должны были ехать с Давидом в город, как раз на футбол, к ним приехала столичная команда. Ну, что, дорогая, подумала Синтия, решай, или – пусть футбол останется – футболом?
Однажды, в позапрошлом году, случилось нечто необычное. Проглядывая в газетах рекламу местных коммерций, Синтия увидела объявление об открытии в соседней деревеньке аэроклуба – приглашаются все желающие, учиться летать или просто прогуляться под облаками, медицинскую страховку предъявлять не надо, ваша страховка – это мы. Не долго думая, Синтия набрала номер телефона и тут же сделала заказ на получасовую прогулку на следующее утро.
Оставив папу на попечение Мориса, она села в автомашину и поехала по указанному в газете маршруту. Аэродром разместился на широком поле за деревенькой, между пастбищами и рекой. Возле ангара стояли два самолета – новенький, с иголочки, белоснежный моноплан и видавший виды красный биплан. Пилот, смуглый баск с загадочной улыбкой, мадам, не бойтесь, у меня была серьезная школа в Африке, мачо, наверняка «харлей» на паркинге – его, подсадил ее в моноплан, биплан, мадам, это – для обучения, а эта ласточка – для прогулок, и, застегивая ремни безопасности, она в то утро оставила под футболкой грудь свободной, прикрыв все сверху летним жакетом, он несколько раз коснулся ее груди. По ногам пробежали мурашки. Нет, Синтия тут же постаралась себя убедить, это – от ожидания предстоящего полета. Да, полет вызвал необыкновенные ощущения, но когда, уже на земле, баск, расстегивая тугие ремни, может быть случайно, расстегнул и верхнюю пуговицу жакета, из под которого показалась в мельчайших своих очертаниях покрытая тонким, почти прозрачным хлопком возбужденная грудь, он опять загадочно улыбнулся, надеюсь вам понравилось, и вы приедете еще не раз.
Вечером, засыпая, Давид еще читал под ночником какой-то бульварный роман, она повернулась на бок, и тут в ее глазах нарисовалась та самая загадочная улыбка. Она попыталась ее прогнать, накрыла голову одеялом и принялась продумывать завтрашний обед, но эта улыбка лезла во все щели ее сознания, какая тут свинина с тушеной капустой. Синтия открыла голову, повернулась к мужу, и ее рука скользнула под его пижаму.
Утром, чистя зубы и вспоминая все детали прошедшей, почти как в молодости, ночи, она смотрела в зеркало на свои правильные черты лица, остававшиеся правильными даже с щеткой во рту, сама застенчивость, она, ополаскивая рот, подумала – в тихом омуте… Синтия больше не ездила на аэродром.
