Двужильная Россия бесплатное чтение
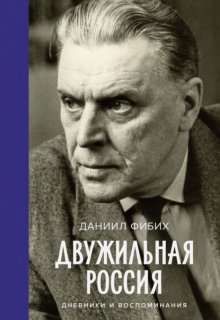
© М.Ю. Дремач, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024
КоЛибри®
Предисловие
«Книги имеют свою судьбу» – гласит известное латинское изречение. В древности также считали, что «свою судьбу» имеют рукописи-манускрипты и те, кто эти книги и манускрипты сочиняет, то есть писатели. На латыни как-то способнее и легче выражать вечные истины. Хоть затерты они от нескончаемого употребления, но суть их остается неопровержимой. Только у многих книг и их создателей слово «судьба» пишется с маленькой буквы, а у некоторых – с большой. В их ряду оказался Даниил Владимирович Фибих.
Его писательский путь был основателен, выстрадан и закономерен, но опубликованные книги его остались там, в том времени, в двадцатых – семидесятых годах прошлого века. Казалось, что Главная книга, о которой он мечтал всю свою жизнь и которая стала бы воплощением и исполнением его писательского призвания, не написана им. Но вдруг она, эта книга, начала проявляться, проступать своими очертаниями, рукописными строчками, порыжевшими чернилами, как будто постепенно материализуясь из какого-то иного измерения, другого мира.
Выяснилось это совсем недавно, буквально за последние год-два.
Но не будем забегать вперед.
Даниил Владимирович Фибих родился 5 апреля (по ст. ст.) 1899 года в городке Кола Калишской губернии, которая входила тогда в Царство Польское, бывшее составной частью Российской империи. Его отец, Владимир Емельянович Фибих, титулярный советник, акцизный чиновник, потомок выходцев из Южной Богемии, вскоре вместе с семьей переехал в Нижний Ломов, уездный город Пензенской губернии. Тогдашние справочники сообщали, что утопавший в садах город был одним из лучших в губернии. У Фибихов была большая семья: кроме старшего Даниила, еще два брата и сестра. Владимир Емельянович уделял много времени воспитанию детей, поддерживал их разнообразные увлечения. Дочь Ксения хорошо рисовала и писала стихи, сын Аркадий музицировал, а Даниил, с раннего детства обладавший редкой наблюдательностью, записывал все происходившее вокруг и мечтал стать писателем.
Когда подошел гимназический возраст, родители Даниила решили, что ему нужно получать образование в Пензе. Так он стал учеником 1-й Пензенской мужской гимназии, снимая квартиру неподалеку у немецкого пастора. Постепенно вся семья Фибихов перебралась в Пензу. В гимназии Даниил провел десять лет. Вначале он посещал занятия наравне со своими сверстниками, а потом начал заниматься самообразованием и стал «экстерном». Причиной было, очевидно, его сильное заикание, мешавшее нормальному общению и обучению. Вероятно, это обстоятельство и подогрело его склонность к почти каждодневному писанию дневников, уединенному общению с книгами, неспешному обдумыванию прочитанного. «Я всюду таскаю за собой записную книжку, не потому, что подражаю этим великим писателям, а так как чувствую попросту потребность записывать все это» (запись в дневнике от 23 ноября 1915 года). Читал он много, беспорядочно, забывая обо всем на свете. Одинаковый жадный интерес перебрасывал его внимание от Льва Толстого к Оскару Уайльду, от Достоевского к Эрнсту Ренану или Ницше. «…Я представляю собой ходячую энциклопедию. Системы в моем развитии нет. Я знаю понемногу изо всего, и если бы я хотел, то легко мог пустить пыль в глаза и произвести впечатление человека всесторонне образованного, но честолюбия во мне очень мало, и я, откровенно говоря, совершенно к этому не стремлюсь…» (запись в дневнике от 23 ноября 1915 года).
Сквозь довольно стандартные и свойственные возрасту романтически возвышенные рассуждения в гимназических дневниках Фибиха пробиваются достаточно трезвые оценки своих личных качеств и способностей. Он постепенно учится разбираться в себе. И все больше в нем вызревает убеждение, что в будущем он будет только и исключительно – писателем. «Да, я мечтаю о том, чтобы создать произведение, которое отразило бы в себе всю жизнь, все те мысли и чувства, которые я сейчас переживаю. Талант у меня есть, без сомнения. Но временами я сам себе кажусь слишком слабым для этого и сомневаюсь в том, хватит ли у меня сил и умения передать это все на бумаге в ярких образах. А если бы действительно передать!» (запись в дневнике от 23 ноября 1915 года). Еще в приготовительном классе Фибих сочинял приключенческие романы, некую помесь Ната Пинкертона с Майн Ридом. У читателей-одноклассников они пользовались успехом.
К гимназическим учителям Фибих относился с юношеским высокомерием. Разве можно было серьезно относиться к тому, что рассказывал в классе историк, если в руках уже успела побывать наполовину нелегальная, в дерзкой красной обложке книга «Рассказы из русской истории» революционера и публициста Л.Э. Шишко? Там была, как полагал Даниил, подлинная правда о прошлых временах, которую от гимназистов тщательно скрывали: о восстании на Сенатской площади, о героях-народовольцах, о том, как был убит Александр II…
С социалистическими идеями Фибиха познакомил гимназист-старшеклассник Евгений Шадрин: «Он был для меня первым другом, отцом и учителем в одно и то же время. К своим родителям я не относился с таким благоговением, как к нему, гимназисту старшего класса, к нему, каждое слово которого я считал святыней. Он первый развил мой кругозор, открыл передо мною новые горизонты. В примитивной форме он первый познакомил меня с идеалами социализма, и я, тринадцатилетний мальчик, уверовал в это сначала потому, что так говорил сам Женя. …Сколько удовольствия доставляли мне небольшие прогулки после наших занятий (он сначала был моим репетитором), во время которых мы обсуждали мировые вопросы, он, высокий, тонкий, в очках, с лицом ученого и я, гимназист 2-го класса! А когда он приводил меня к себе, в тихую, беспорядочную, чисто студенческую комнату, где обыкновенно уже сидели товарищи, то это для меня было верхом счастья!» (запись в дневнике от 19 декабря 1916 года). Развитого и начитанного юношу Шадрин ввел в организованный им подпольный кружок политического самообразования, в составе которого были в основном гимназисты старших классов: «Я пил там жидкий чай, иногда играл с Женей в шахматы, причем он всегда обыгрывал меня, и затем, забившись в угол, молча, почти с благоговением следил за ним и его товарищами. Раз он вслух прочел им написанный мною тогда рассказ «Митька». Я описывал бедного сапожного подмастерья, который под влиянием жестокого обращения хозяина бросается в воду. Вероятно, рассказ был сравнительно недурен, если сам Женя одобрил его. Теперь он погиб в архивах сыскного отделения, куда он попал, когда арестовали Женю» (запись в дневнике от 19 декабря 1916 года).
Несмотря на довольно безобидную деятельность кружка, членов его арестовали, судили за подготовку к ниспровержению существующего строя и сослали. Фибих тогда остался на свободе случайно.
Однако через два года он снова активный участник похожего нелегального кружка учащихся, восторженно принявших Февральскую революцию и отречение царя. В первые же дни революции кружок, как ни странно, распался. Совершенно неожиданно в нем обнаружились сторонники самых различных партий: и большевики, и меньшевики, и эсеры, и даже кадеты.
В 1917 году Даниил испытал необыкновенное счастье впервые увидеть написанные им строки напечатанными. Журнал «Наша мысль», орган Комитета учащихся города Пензы, опубликовал его этюд в прозе «Ночью» – нечто революционно-символическое. Редактором журнала и первым наставником Фибиха в литературе был Марк Чарный, впоследствии известный литературовед, а в то время учащийся 2-й Пензенской гимназии.
В 1919 году Фибих сделался постоянным сотрудником пензенской газеты «Красное знамя». Отныне навсегда определился его жизненный путь: журналистика, а в дальнейшем – литература.
В 1921 году Фибих навсегда расстался с Пензой, уехав в Москву, где сразу же поступил на работу в «Известия ВЦИК».
1920-е годы были для начинающего писателя и журналиста достаточно плодотворными. Вскоре Фибих уходит из «Известий» и становится «свободным литератором». Можно предположить, что и в это время Даниил Владимирович не оставлял своего любимого занятия – писания дневников. К «тасканию с собой записных книжек» были все предпосылки: Фибих ездит по стране, собирает материал о социалистическом строительстве, индустриализации, о том, как приходит «новая жизнь» в «страну гор» (так назывался его очерк о Дагестане), публикуется в журналах «Знамя», «Октябрь» и «Новый мир». Помимо очерков и репортажей в центральных газетах, он печатает повесть «Святыни» (1926), сборник рассказов «Апельсиновые гетры» (1927). Пробует он себя и в драматургии. Его пьеса «Поворот» идет на сцене МХАТа и театра Вахтангова (1930).
В 1931 году в свет выходит первая значительная вещь Фибиха – роман «Угар». Его перепечатало берлинское издательство «Петрополис». Книгу заметили и в Париже. Один из лучших критиков русской эмиграции Георгий Адамович, который вел литературные обзоры в милюковских «Последних новостях» (см. «Последние новости». 1931/8 января), посвятил ей отдельную небольшую рецензию. Любопытно привести ее текст полностью: «“Угар” – если не ошибаюсь, первый роман молодого московского беллетриста Даниила Фибиха. Вместе с несомненными литературными способностями начинающий автор обнаружил в этом романе и менее несомненную «ловкость рук».
Дело в том, что в «Угаре», собственно говоря, два романа. Один – очень бойкий, занимательный, картинный, с налетом уголовщины и множеством эффектных подробностей, другой – казенно-добродетельный, условный, схематический, нужный, по-видимому, только для прикрытия и оправдания основного повествования.
Старый рабочий Чагин, выдвинутый революцией на ответственный пост, строит новую, необходимую для советской промышленности прядильную фабрику. На пути своем этот стойкий и честнейший коммунист встречает множество препятствий. Ему мешают сослуживцы, его заподозревают даже в злоупотреблениях. Но правда побеждает. Ревизия не обнаружила в делах Чагина ничего противозаконного. Врагов его снимают с работы. Фабрика достроена. В день ее открытия Чагин вполне счастлив и забывает даже все свои домашние огорчения. «Все это было посторонним, не настоящим, не его», – замечает автор. На этом бодром аккорде «Угар» оканчивается.
А огорчаться тов. Чагину есть из-за чего… Но тут нам придется коснуться второго романа, включенного в «Угар». У Чагина есть молодая жена, Нина Павловна, «обезьянка», как он ее зовет. Обезьянка с Чагиным скучает. «Он такой… спокойный… – объясняет она подруге. – Придет домой поздно, усталый, голодный. Поужинает и сразу спать. Как мне иногда недостает… понимаете?» На беду или на счастье, к Чагину возвращается его сын, которого он считал давно убитым. Сергей – странный молодой человек, молчаливый, скрытный, но «обезьянке» он кажется неотразимым. Повторяется история Федры с Ипполитом с той разницей, что Ипполит в «Угаре» весьма благосклонен к своей мачехе. Чагин застает любовников в объятиях. По случайности тут же выясняется, что Сергей – бывший налетчик, громила, его приходят арестовать. Сергей убегает, и Чагин на лестнице стреляет в него, не то как в преступника – из гражданской сознательности, не то как в соблазнителя «обезьянки» – из ревности.
Именно все эти весьма неприятные происшествия и пытается позабыть Чагин во время торжественного открытия фабрики, что ему и удается. «Чувства должны быть уничтожены», – мог бы он повторить вслед за героем Пильняка.
«Угар», вероятно, будет иметь успех у так называемого «среднего» или «рядового» читателя. Книга написана очень живо, местами очень правдиво. Кстати, как и у Пильняка, название может ввести простодушных людей в заблуждение. «Угар» – следует понимать у Фибиха в «производственном значении»: оказывается, это слово обозначает отбросы хлопка».
В 1938 году Фибих становится членом Союза советских писателей. В предвоенные годы у него выходит роман «Родная земля», о германской интервенции 1918 года. С успехом шла на московской сцене пьеса «Снега Финляндии».
Его жизнь, в общем, удалась: он много работает, обдумывает новые произведения, полон творческих планов и надежд. То, о чем он мечтал в гимназические годы, кажется, сбылось…
В начале Великой Отечественной войны 42-летний Фибих в числе других просится на фронт. Но его не берут в действующую армию: он не годен по здоровью – плохое зрение. Тогда он становится добровольцем. Мобилизованных писателей влили в 8-ю Краснопресненскую ополченскую дивизию, которая была брошена под Ельню и почти вся полегла там. Фибиху «повезло»: в пути его скрутил приступ малярии, который врачи приняли за тиф, и он срочно был отправлен назад, в Москву. А пока он болел, прошла паника первых дней войны, и писателей начали направлять на фронтовую работу по специальности. Так Фибих попал в армейскую газету «На разгром врага» Северо-Западного фронта.
Для сбора материала ему приходилось часто бывать на передовой линии фронта, в попеременно наступавших и отступавших частях в самые тяжелые дни 1941–1943 годов. Он был контужен, но все равно продолжил свою работу фронтового журналиста. Хотел побывать в партизанском отряде: подал рапорт начальству, получил согласие, но командировка сорвалась. Фибих был награжден медалью «За отвагу». В этот период им было написано немало рассказов и очерков на военную тему, публиковавшихся во фронтовой печати, а также в «Известиях». Но главной своей писательской целью он ставил создание книги о войне – масштабного романа, в котором бы нашли выражение все его впечатления и наблюдения, чувства и мысли фронтовика, свидетеля и участника роковых и кровавых событий.
Поэтому привычное «таскание с собой записных книжек» продолжилось – на передовой, в землянках, под бомбежкой, в тыловом затишье – везде вел Фибих свои дневники. Писал, как правило, ночью, фиксируя только что виденное и пережитое: «Пишу эти строки в деревне Мир-Онеж (как будто так) Ленинградской области. Мы обосновались здесь на ночлег. Вечер, керосиновая лампа, большой стол, за которым, кроме меня, пишут еще трое. Тиканье больших, в деревянном ящике часов, явно городского вида» (запись в дневнике от 7 февраля 1942 года). Или вот такая, почти идиллическая обстановка: «Сейчас, когда я пишу, поздний вечер. Хозяева хаты и Рокотянский давно спят. В сенях чешется и шумно вздыхает корова. Дремотно чирикают – совсем по-диккенсовски – сверчки за печкой, испуганно притихая на несколько минут, когда дом дрожит и звякает стеклами от глухих далеких ударов. Немцы бомбят Касторную» (запись в дневнике от 17 мая 1943 года). Он записывал все, что происходило вокруг: фронтовые успехи и неудачи, быт и настроения в армии, судьбы и нравы людей, занятых непосильным солдатским трудом, а также все то трогательное, горькое, страшное и трагическое, чем всегда изобилует война. Неизвестно, представлял ли в эти минуты майор интендантской службы Фибих, что за ведение таких личных и сверхоткровенных дневников ему грозят очень крупные неприятности. Может, и знал, и думается, если бы мог предвидеть свою дальнейшую судьбу, то все равно не отказался бы от любимого занятия. Потому что был писателем не по названию, а по призванию…
Война явилась для Фибиха, как, наверное, и для большинства советских людей, переломом и очищением. Переломом в их судьбах. Очищением от многих иллюзий и навязанных пропагандой взглядов и представлений. Только у Фибиха все эти внутренние, интеллектуальные и эмоциональные, процессы протекали более отчетливо, глубоко, осознанно и значимо. Его революционно-романтические идеи о «светлом будущем», видимо, испарились еще в тридцатые годы. Но и до и во время войны Фибих искренне считал себя «сталинцем». Так он не колеблясь именовал себя и на допросах после своего ареста. Сталин олицетворял для него волевое и разумное начало страны, твердую, хотя и жестокую волю: «Я смотрел на его слегка обрюзглое непоколебимо-спокойное, холодное лицо с черными, строгими и проницательными глазами. Ни тени волнения. Ни малейшего намека на то, что всего в нескольких десятках километров отсюда разъяренная гитлеровская армия изо всех сил рвется в Москву. Что за нечеловеческая выдержка, спокойствие и уверенность! Гигант» (запись в дневнике от 2 февраля 1942 года).
Но в то же время приходит понимание другой, подноготной реальности: «Что осталось от большевистской доктрины? Рожки да ножки. Мне кажется, что партия, выполнив историческую роль, теперь должна сойти со сцены. И сходит уже. Мавр сделал свое дело. Война ведется во имя общенациональной, русской, а не партийной идеи. Армия сражается за родину, за Россию, а не за коммунизм. Вождь и народ, Сталин и Россия. Вот что мы видим. Коммунисты – всего-навсего организующее начало. Стоит ли вступать в партию?» (запись в дневнике от 23 января 1942 года).
Читая фронтовые дневники Фибиха, обращаешь внимание на значимый факт: в тексте почти не встречается упоминание СССР, слово «советский» используется в качестве некоего прилагательного, а не значимого слова. Везде весомо – Родина, Россия. Впечатления от окружающего в окопах и в тылу приводят к трезвым оценкам: «Наши победы, наше двухлетнее сопротивление фашистской Европе – заслуга не армии как таковой, а героической России, простого русского человека, решившего умереть за Родину. И умирающего сотнями тысяч, безропотно и буднично» (запись в дневнике от 12 апреля 1942 года).
Фибих видит и перспективы войны, ее конечный результат – победу, но помнит и сожалеет о цене, выраженной не в золотовалютных единицах: «Наши бодрячки с многозначительным видом все еще говорят о каких-то решающих операциях в скором времени, о выходе в Прибалтику. Оптимизм до обалдения. Предстоит война на измор – длинная, затяжная, тяжелая. «Выдюжим», – писал А. Толстой. Выдюжить-то выдюжим, Россия всегда была двужильной, но какой ценой» (запись в дневнике от 4 октября 1942 года).
«Двужильная Россия» – образ-символ, данный военным корреспондентом Фибихом, сфокусировал суть той правды, которую он добыл на фронте.
30 мая 1943 года майор Фибих получил предписание: немедленно явиться в штаб округа, помещавшийся в селе Новая Усмань, где его примет член Военного совета генерал-лейтенант Л.З. Мехлис. Фибих надеялся на лучшее. «Я ничего не понимал. Сам Мехлис, перед которым все трепетало, Мехлис, в дни отступления 1941 года расстрелявший командующего 34-й армией, – интересовался моим приездом, он желал лично со мной беседовать. В Рыкань я поеду уже после знакомства с членом Военного совета округа – как триумфатор, как почетный гость» (запись в дневнике от 30 мая 1943 года). Но не триумф ожидал военного корреспондента Фибиха: через несколько дней по доносу, написанному его коллегой-журналистом, он был арестован прямо в кабинете Мехлиса. Так начались его тюремные и гулаговские «хождения по мукам».
Сначала это была самодельная камера контрразведки СМЕРШ при штабе Степного округа под Воронежем, потом камера гарнизонной тюрьмы в Белгороде. Затем Лефортовская и Бутырская тюрьмы в Москве. Как написал потом Фибих в своих воспоминаниях «По ту сторону», «конвейер тупой, бездушной, свирепой карательной машины, куда я попал, тащил дальше и дальше».
Фибиху «шили» дело по знаменитой 58-й статье. Позднее он кратко сформулировал суть этого «дела»: «Все дело было в одной лишь фразе в моем дневнике, злополучной, крамольной, криминальной фразе о том, что Троцкий, вместе с Луначарским и Кировым, был хорошим оратором. Примитивная следовательская фантазия под нажимом Мехлиса мгновенно создала несложную стандартно-профессиональную концепцию. Ага, троцкист! (Одобрительно отзывается о Троцком.) Несомненно, связан с какой-то подпольной троцкистской организацией, которая, оказывается, работает в действующей армии. Задача: раскрыть через Фибиха эту организацию» («По ту сторону»).
Смехотворность предъявленных обвинений не интересовала следователей: карательная машина не интересовалась сутью, ей требовались все новые и новые жертвы. Шесть месяцев шло следствие. Фибиха пытались «расколоть» на то, чтобы он признался в участии в троцкистской террористической организации. Только его стойкость, сообразительность и внутренняя интуиция не позволили следователям состряпать коллективное дело о троцкистской организации, по которому он мог вполне реально получить «вышку». И вот – приговор. Будничность его вынесения поражает больше, нежели описания сцен допросов и лагерной житухи. Фибиха «привели в небольшую служебного вида комнату. За столом сидел молодой человек в простой солдатской гимнастерке без погон.
– Прочтите и распишитесь, – равнодушным будничным голосом сказал он, подавая мне четвертушку листа с текстом, отпечатанным под копирку на машинке. Я пробежал глазами и узнал, что майор интендантской службы имярек постановлением ОСО при МВД СССР такого-то числа приговаривается по статье 58–10 УПК к десяти годам заключения в ИТЛ.
– Вот здесь! – ткнул пальцем молодой человек. Я расписался почти машинально, и меня повели обратно…» («По ту сторону»).
Отбывал срок зэк Фибих в Карлаге, на территории Карагандинской области Казахстана. Об этом периоде его жизни подробно повествуют воспоминания «По ту сторону».
Как отразились десять лет пребывания в ГУЛАГе на личности и мировоззрении Фибиха? В его записках нет пространных рассуждений на эту тему. Но есть иное: пристальное внимание к человеческим взаимоотношениям, к облику окружавших его людей, к их душе, к таким вечным понятиям, как низость и доброта, жестокость и милосердие. Поэтому такое место в повествовании «По ту сторону» занимают описания многих из тех, с кем пришлось ему отбывать карлаговский срок. И – вывод-размышление: «Люди пробивали себе дорогу локтями и кулаками, давили и душили друг друга. «Подохни сегодня ты, а завтра я», – таков был лагерный лозунг. Слезала шелуха цивилизации, и человек представал в натуральном неприкрашенном виде – голый человек на голой земле, недалеко ушедший от своего пещерного предка. Долгое время после освобождения, вернувшись в нормальный мир и наблюдая за кем-нибудь на собрании, на званом вечере или в театре – за кем-нибудь почтенного вида, хорошо одетым, прилизанным, улыбающимся, ведущим культурный разговор – не мог я отделаться от назойливой мысли: а как бы проявил ты себя в лагере? Как бы там выглядел? Что бы делал?..» Но это была не вся правда. Являлось и другое: «Великое дело доброта человеческая. По настоящему понял я это только в тюрьме и лагере…»
Освободился Фибих в 1953 году, полностью «отмотав» положенный ему срок. Поскольку он был осужден по «политической» статье и не мог жить не только в Москве и Ленинграде, но даже в областных городах, выбрал он себе местом пребывания город Покров Владимирской области. Там он устроился на работу в правление совхоза счетоводом. Потом, в 1955–1956 годах, он проживал под Клином, работая в правлении местного совхоза и влача полуголодное существование. Фибих постоянно хлопотал о снятии судимости, о реабилитации, чтобы ему вернули право воссоединиться с семьей в Москве. К тому времени со своей второй женой он был уже разведен, а его матери, Евгении Ниловны (урожденной Лучаниновой), не было в живых; остались у Фибиха только два брата. В 1957 году ему разрешили временно проживать в Москве. В 1960 году он опять женился, получил реабилитацию и был восстановлен в членстве ССП СССР.
В послелагерное время Фибих не оставил своей литературной профессии. В 1953–1956 годах публиковал очерки в подмосковных газетах. В 1956 году вышел сборник рассказов «Когда поет небо». Им были созданы романы «Испытание» и «Ветер с Востока» о Чингиз-хане (не изданы). Писал он и на военную тему (повесть «В снегах Подмосковья», 1963). Издан и переиздан роман «Судьба генерала Джона Турчина», о русском военачальнике, ставшем героем американской истории. В 1974 году был готов к печати роман-хроника «Путь его сердца», но он так и не вышел в свет. Кажется, что жизнь Фибиха вошла в спокойное русло. Но это лишь для постороннего глаза. Втайне от всех, даже самых близких людей, он пишет воспоминания «По ту сторону». В нем живет не умирая все тот же человек «с записной книжкой». Он хочет оставить неведомым потомкам свидетельства о том, что с ним произошло, рассказать о подлинном опыте жизни в ГУЛАГе, о людях, с кем столкнула его судьба. Фибих знает, что уже есть произведения на лагерную тему, такие как «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. Но не вся правда рассказана, не вся… И он, работая «в стол», не оглядываясь ни на какую цензуру, восстановит в памяти и закрепит на бумаге все! Все, что сохранила его цепкая и емкая память, все, что он понял, к чему пришел, оценивая пережитое своим тяжелым выстраданным опытом.
Скончался Даниил Владимирович Фибих в Москве в июле 1975 года.
Зимой 1943 года в блиндаже, а может, в крестьянской избе недалеко от линии фронта записывал военкор Фибих в свою черную клеенчатую тетрадь строки: «Когда настанет мир – никто не захочет читать о войне. Интерес к нынешней войне вспыхнет спустя несколько лет. Вот к этому-то времени должен быть готов мой большой роман. Героями его будут герои «Родной земли» и «Снегов Финляндии». Хочется написать такую книгу, которая бы пережила меня, явилась бы итогом целой жизни. Пора подумать об этом. Ведь мне уже пятый десяток пошел» (запись в дневнике от 10 января 1943 года). С гимназических лет он мечтал не просто стать писателем, а создать нечто такое, что осталось бы после него, к чему обращались бы люди и после его смерти, читая и перечитывая созданные им строки. Словом, он хотел создать свою Главную книгу. Что ж, писателю Даниилу Фибиху это удалось. Эта книга перед вами.
Мария Дремач,Алексей Савельев
Часть I. Записки гимназиста. Дневники 1915–1917 гг.
Гимназические дневники Д.В. Фибиха представляют интерес как документ начала XX столетия, как летопись дореволюционной Пензы и настроений русского провинциального общества накануне и во время революционных потрясений 1917 года.
Д.В. Фибих начал вести регулярные дневниковые записи с 15-летнего возраста. В них отражались не только размышления, чувства и мнения подростка и юноши, выбиравшего свой жизненный путь, вырабатывавшего свое мировоззрение, но содержатся и картины гимназического быта, взаимоотношений в молодежной среде. Дневники дают много интересного материала о распространении революционной идеологии и радикальных настроений в Пензе, позволяют судить об отношении к войне со стороны многих общественных групп.
Особую ценность представляют записи, относящиеся к марту 1917 года, когда Пензу взбаламутили известия о революции в столичном Петрограде. Такой эффект присутствия и участия в важнейших событиях не часто можно встретить даже в авторитетных исторических источниках. Д.В. Фибих делал записи в своем дневнике почти ежедневно, фиксируя главные события городской жизни Пензы. В этом отношении незаменима информация о солдатском бунте, который случился в Пензе 6 марта (по ст. ст.) во время общегородской манифестации. В ходе беспорядков солдатами был растерзан командующий гарнизоном генерал-майор Бем. Д.В. Фибих был фактически свидетелем этой сцены. Это дневниковое свидетельство позволяет существенно уточнить хронологию и порядок событий. Дело в том, что пензенские историки считают: Бем был убит 10 марта на параде войск в честь праздника Свободы.
Текст дневников публикуется по рукописям, хранящимся в Государственном архиве Пензенской области (фонд Р-2397, опись 1, д. 6–7, 17), в соответствии с современной орфографией и пунктуацией. Описки и явные неточности текста исправлены без оговорок.
1915 год
29 сентября
Я очень интересуюсь происходящей в данное время войной, так как сознаю, что эту войну справедливо можно назвать священной и освободительной. Почему же я не пошел воевать? Многие даже гораздо моложе меня явно или тайно пробирались на позиции и становились частичками той огромной машины, имя которой – армия.
Смерти на поле брани я не страшусь. Смерть неизбежна, всем нам суждено умереть, и, во всяком случае, красивее и лучше погибнуть за родину, нежели скончаться от какой-нибудь глупой болезни. В самом деле, почему я не пошел на войну? Я хочу испытать жизнь во всех, по возможности, ее видах и формах, и какое богатое впечатлениями и переживаниями это явление – война. Отчасти препятствует этому решению мой недостаток – заикание. Но главное то, что, выйди я из гимназии в простые рядовые, после войны придется терять лишние годы, чтобы доканчивать гимназическое образование, а мне, по возможности, хочется скорее стать свободным человеком. Конечно, будь в том необходимость, я бы с радостью пошел на защиту родины, но пока помощь моя не особенно нужна. В заключение же всего скажу, что я попросту любитель хорошей жизни и пугает меня холодная, грязная жизнь в окопах.
Меня часто возмущает равнодушное и непатриотичное отношение к войне моих знакомых. Война сама по себе, мы сами по себе. Пусть там умирают, отступают, наступают, мы по-прежнему будем заниматься своими мелкими делишками.
1 октября
Что еще характеризует данную войну, это большое участие в ней женщин и детей. Когда-то все восторгались женщиной-кавалеристом Дуровой1, а теперь таких дуровых десятки, если не сотни. Простые солдатки, казачки, гимназистки – все надевают солдатскую шинель, берут винтовку и идут против врагов. Вот яркое доказательство тому, что женщина вовсе не так слаба, труслива и нерешительна, как ее изображают обыкновенно. А подвиг сестры милосердия Риммы Ивановой? Видя замешательство наших солдат и отсутствие офицеров, она сама собрала солдат и овладела неприятельскими окопами, жизнью заплатив за свой подвиг.
Такое же, даже еще большее участие принимают дети. Одни тайком, другие явно перебираются в действующую армию и там свободно и с пользой применяют свои способности и наклонности, на которые дома не обращали никакого внимания, а зачастую и преследовали, искореняя их. Теперь не редкость видеть георгиевских кавалеров 12–15 лет. Я лично видел в Севастополе мальчишку лет 10–12 в солдатской форме и с Георгием. Пусть война кровопролитна, отвратительна, бессмысленна (я говорю о войне вообще), на ней наиболее резко, наряду и со зверствами, выступают благородные черты человеческого характера. Милосердие, самопожертвование, сострадание, храбрость, презрение к опасности и смерти, великодушие… Сколько подобных примеров дала нам нынешняя война. Какой, например, великолепный героизм заключается в поступке одного прапорщика, который, по ошибке попав в неприятельский окоп, не захотел сдаться в плен, а пустил себе две пули в голову. Или подвиг гусара Выжимка, который под огнем тащил несколько верст своего раненого командира. Да всех этих примеров и не перечислишь. Невозможно.
Признаться, временами я очень жалею о том, что я не участвовал в войне, не видел этой боевой обстановки.
10 ноября
В древних греческих храмах была надпись: «Познай самого себя». Как я ни пытался познать себя, никак мне это не удавалось. Моя душа – сплетение таких противоречивых качеств, что я не могу определенно назвать себя ни тем ни другим. О себе я могу сказать, что я довольно добр, довольно умен, довольно храбр, впечатлителен и увлекающаяся вообще натура. Еще очень самолюбив, но это самолюбие у меня какое-то странное. Данного слова я обыкновенно держусь.
13 ноября
Интересно перечитывать свои старые дневники. Сколько смешного, наивного и трогательного. А главное, всего заметнее то, как сильно изменяются понятия, стремления и в особенности самый характер человека. Иногда читаешь, и невольно мелькнет в голове: неужели это я? Вот как меняется характер.
23 ноября
…Я теперь вовсе не задумываюсь над окружающим и не требую, подобно Гейне, чтобы мне дали «на проклятые вопросы ответы прямые», как требовал года два тому назад. Со мной произошло обычное явление: в молодости человек кипит, рвется, бьется, как речка во время половодья, а дальше он утихает все больше, и, наконец, жизнь его течет тихо и мирно, в узком грязном русле. Слишком рано я развился в умственном отношении и поэтому в данном случае меня можно назвать уже не юношей, а человеком более зрелым. Меня, тринадцатилетнего мальчишку, интересовали и волновали те вопросы, которые интересуют восемнадцатилетних юношей. Поэтому, когда теперь я вижу, что мои сверстники переходят уже на более обширный кругозор и начинают затрагивать более серьезные вопросы, я лично смотрю на это как на что-то уже старое, для меня совершенно не новое. Я это все знаю. Вообще же, если касаться вопроса о моем развитии, то я могу одно сказать, что я представляю собой ходячую энциклопедию. Системы в моем развитии нет. Я знаю понемногу изо всего, и если бы я хотел, то легко мог пустить пыль в глаза и произвести впечатление человека всесторонне образованного, но честолюбия во мне очень мало, и я, откровенно говоря, совершенно к этому не стремлюсь…
…Когда у меня мелькает иногда мысль, кем я буду впоследствии, то сейчас же возникает ответ: прежде всего писателем.
Да, я мечтаю о том, чтобы создать произведение, которое отразило бы в себе всю жизнь, все те мысли и чувства, которые я сейчас переживаю. Талант у меня есть, без сомнения. Но временами я сам себе кажусь слишком слабым для этого и сомневаюсь в том, хватит ли у меня сил и умения передать это все на бумаге в ярких образах. А если бы действительно передать! Я и сейчас уже вникаю в жизнь, которая окружает меня, записывая каждое оригинальное слово, каждый характерный, но незаметный штришок, на который посторонний не только не обратит внимания, а просто не заметит. Я всюду таскаю с собой записную книжку, не потому, что подражаю этим великим писателям, а так как чувствую попросту потребность записывать все это. А неужели истинный писатель сидит все время в четырех стенах своего кабинета и остается в своей фантазии, творя какое-нибудь произведение? Нет, надо втереться в самую гущу жизни, испробовать ее, чтобы написать такие произведения, которые я бы желал написать. И так уже я испытал довольно, несмотря на то что еще молод, но и это для меня кажется слишком мало, слишком мизерно и жалко…
…Если я буду когда-нибудь писателем, то выражу в ярких картинках все то, что сейчас мучает меня и чем я теперь занят. Взгляд на жизнь, женщину, на любовь, на Бога, на войну, человечество, мои стремления к чему-то прекрасному, поэтичному, недовольство обыденщиной, желание хоть отчасти приблизить прекрасный идеал будущего, типы людей, меня окружающих, – все это я хочу воплотить в своих произведениях.
1916 год
22 марта
В сущности, я социалист по своим взглядам и убеждениям. Я знаю, что будущая жизнь человечества будет прекрасной и что скорейший способ сделать ее таковой – это произвести социальную революцию. Надо орудия производства вырвать из рук отдельной группы промышленников-капиталистов и вручить их пролетариату, то есть всему народу. Тогда не будет тех резких различий между классами населения, как теперь, когда одна часть умирает с голоду, а другая – купается в золоте. Тогда и вся жизнь примет другой вид. Но об этом в другой раз…
26 марта
Сегодня по дороге на Московскую я услышал звуки полковой музыки, которая направлялась туда же. Временами она замолкала, и тогда слышался ритмичный сухой грохот барабанов, под который ноги шагали сами. Скоро я увидел солдат. Впереди шли барабанщики, за ними оркестр. Затем шагали рядом человек десять офицеров. Лица молодые, загорелые, но спокойные. Только на красном лице одного из них я заметил какую-то натянутую улыбку. Позади шла густая серая толпа солдат, навьюченных сумками, мешками, одни с ружьями, другие без них. По бокам и позади сгрудились бабы, провожавшие своих детей и мужей. Эшелон шел на войну.
Что мне особенно запомнилось – это спокойные лица солдат и их простой, обыденный, чуждый всякой рисовки взгляд. Двое были пьяны – шатались, что-то выкрикивали, размахивали руками, и начальство на это смотрело сквозь пальцы.
Звуки музыки, вид этой толпы людей, идущих просто и безропотно на смерть по чьему-то приказанию, общее внимание и движение на улице так воодушевили и в то же время растрогали меня, что я боялся заплакать. Интересная была бы тогда картина. И в то же время меня интересовал вопрос, что чувствуют эти люди.
Солдаты спустились по Московской по направлению к вокзалу. Я повернул обратно. И таким пошлым и мизерным показался мне попавшийся навстречу молодой человек со стеком в руке. После этих идущих с музыкой на войну людей по-прежнему гуляла публика, самодовольная, эгоистичная, равнодушная к чужим, по-прежнему раздавался банальный пошлый разговор и звучал смех.
11 мая
Война неминуемо кладет свой отпечаток на всю внутреннюю жизнь страны, даже по мелочам. Я, кажется, еще не писал, что уже второй год учимся не в здании своей гимназии, которое занято под лазарет, а распределены в зданиях реального училища и землемерного. Я, как принадлежащий к старшим классам, занимаюсь в землемерном училище. Здание допотопное, с низкими потолками, с крошечными окнами, со скрипучими полами, но мы к нему привыкли. Хотя мы еще занимаемся, но восьмой класс явно распущен и вместо этого обучается военному строю. Готовят пушечное мясо к будущим боям. Сегодня восьмиклассники зачем-то были в гимназии. Все в высоких сапогах, страшно воняющих кожей, многие в блузах хаки. В сущности, несмотря на свой почтенный возраст, большинство из них те же мальчишки. Придя курить в наш клуб, уборную, они расселись по окнам, приняли ухарский вид, заломили фуражки на затылки, словно им теперь сам черт не брат.
В Пензе теперь в учебных заведениях вводится симпатичное учреждение – бой-скаутизм. Малыши, ученики 3–5-х классов, с жаром набросились на это, и теперь уже скаут-боев до 250 человек. Большинство их, конечно, еще не носят формы, но на улицах стали теперь появляться и настоящие скауты в их изящной форме защитного цвета: широкополая шляпа, английская блуза с галстуком, галифе и чулки. К такому костюму в Пензе не привыкли, и поэтому прошедший скаут-бой привлекает всеобщее внимание.
14 октября
Вот уже третий год тянется эта проклятая война, и, несмотря на первоначальный всеобщий взрыв патриотизма, взрыв, смешавший воедино бывших врагов, либералов и правых, «жида» и националиста, поляка и русского, этот восторженный порыв, когда все стали монархистами и отчаянными патриотами, когда горы бумаги были написаны в оправдание, возвеличение, идеализирование этой войны, то теперь наконец надоела и эта бойня, еще небывалая до сих пор, грозящая перебить все мужское население Европы, надоела и страшная дороговизна жизни и житье впроголодь. Да, как бы ни говорили газетные писаки о прелести гибели за родину, о необходимости свергнуть «германское иго» (почему же до сих пор никто не знал и не слышал, что это «иго» существует на свете), о братьях-славянах, но теперь частью прошел первоначальный страшный кошмар, гипноз, под влиянием которого люди шли на смерть, не отдавая себе отчета, подобно стаду баранов, прыгающих в овраг за своим вожаком. Как ни вынослив, покорен наш забитый мужик, забитый веками рабства и тьмы, все же и он начинает проявлять нежелание становиться пушечным мясом. По крайней мере, уже не раз случалось, что запасники отказывались идти на фронт.
Да и вокруг себя только и слышишь: «Когда наконец кончится эта проклятая война!»
Говорят, идет глухое брожение, начинается ропот, сам не знаю этого точно, не был свидетелем этого народного недовольства и не могу поэтому утверждать это. Да и кому роптать? Мальчишкам до 18 лет, надобно ли старикам да увечным?.. Весь цвет народа поглотила, и сожрала, и исторгла эта «освободительная» война, новый страшный Молох, перед которым древний кажется невинным ребенком. Бабы? Но русская обыкновенная женщина так унижена и забита, что ей не выступать в роли мятежницы и бунтовщицы.
Теперь нам, мирным жителям, известна только мизерная показная сторона войны. «Взяли такой-то город», «отступили», «столько-то пленных орудий и пулеметов». Вдобавок к этому продажные перья газетных и журнальных литераторов строчат восторги, похвалы и славословия русским генералам, офицерам и «серым защитникам родины – солдатам». Но быт, обычный, ежедневный быт, настроения, переживания, истинное, а не поддельное, подкрашенное и подчищенное существование этого серого героя – мы так и не знаем. И узнаем это только лет через пять, десять после войны…
Кстати, еще два, три года тому назад Женя писал мне, что, по его расчетам, революция у нас будет между 1914 и 1918 годами. Дай-то Бог! Но я верю плохо в это. По-моему, сейчас это движение затихло. Какая здесь пропаганда, когда все наши эмигранты пошли в солдаты добровольцами, когда апостол анархизма Кропоткин благословляет обеими руками и войну, и воюющих, когда, наконец, наша молодежь или перебита, или искалечена, или в плену. Какое здесь движение, когда те, которых масса считает за своих духовных вождей, всяческими способами восхваляют войну. Я читал, что библиотеки наших пленных в Германии состоят почти исключительно из революционных книжек. Это очень хорошо, так как немцы, я не буду говорить, какую цель они при этом преследуют, очень помогают этим русским революционерам вести пропаганду в армии. Наш всеобщий, внутренний враг – правительство – силен и могуч. Поэтому вступать с ним в открытую борьбу на баррикадах можно только тогда, когда восставшие более или менее сравнятся с ним в силах, а до этого надо вербовать себе сторонников всеми способами, во всяком случае не отказываясь от добровольной помощи и со стороны, а, напротив, с радостью принимая ее. Поэтому мы только должны быть благодарны немцам.
Но, с другой стороны, едва ли это поможет. Слишком уж скверно зарекомендовали себя немцы в глазах наших пленных своим хамством и грубостью в обращении с ними, и я не думаю, что эти книжки, врученные пленным их врагом, произведут должное впечатление на наших солдат.
Как ни невежественен, в сущности, мужик, как ни монархист он по своим убеждениям, но, с одной стороны, образование мало-помалу начинает проникать в эту плотную черноземную массу, а с другой – царь уже начинает терять свое обаяние в глазах мужика, обаяние Божьего помазанника и самого Бога.
Царь не отец народа, не «батюшка», а скорее даже тиран, узурпатор, посылающий на смерть тысячи людей только из-за своего каприза или беспокойства.
Даже прежнему мужику все обожание царя не мешало разбойничать с Разиным или Пугачевым, то есть идти, в сущности, против того же самого царя, против его власти. Но здесь мужик восставал только против крепко насоливших ему бояр и дворян и расправлялся с ними круто. Царь и правительство вовсе не одно и то же в понятии крестьянина. Царь, по его мнению, что-то добродушное, жалостливое, милосердное, но слабовольное, вечно обманываемое своими боярами (или министрами), и поэтому мужик вешал и убивал обидчиков своих и царя дворян, помещиков, господ, в душе оставаясь тем же верным монархистом, что и прежде.
24 октября
Почему я, человек состоятельный, ни в чем не нуждающийся, человек, которому живется в материальном отношении отлично, почему же я интересуюсь социализмом и революционным движением, и не только интересуюсь, а увлекаюсь им и сам считаю себя социалистом? Почему же это?
Я отвечу на это, что, прежде всего, я в этом чувствую какую-то святую правду и красоту. Затем из-за чувства справедливости. Если я человек справедливый или же считаю себя таковым, то я неминуемо должен возмутиться современной, ужасающей социальной несправедливостью, когда громадное большинство людей сведено к положению рабов, почти рабочей скотины, а меньшинство наслаждается жизнью, как только хочет. Разве это нормально? И если мне дорога справедливость, то я обязан не только возмущаться этим, а все свои силы приложить к тому, чтобы изменить этот неестественный порядок вещей.
Во-вторых, из-за чувства альтруизма, человеколюбия. Я член общества, пользуюсь дарами и благами его, и поэтому мне должен быть дорог и близок каждый член этого общества, и я обязан стараться, чтобы каждому члену жилось так же хорошо, как и мне самому. И поэтому, когда я вижу, что в современном обществе большая часть его живет не по-человечески, а по-скотски, то я обязан, я должен стараться улучшить их жизнь.
Затем перейду на более узкую почву – национальную. Если человек считает себя патриотом и ему дорого процветание своей страны, то есть своего народа, так как страна и народ – это синонимы, то этот человек должен стараться всеми силами улучшить существование своего народа, – народа, который сдавлен тисками, забит в грязь, затоптан. Поэтому все революционеры, будь они русские, китайцы, немцы, итальянцы, все они прежде всего были величайшими искренними патриотами. И в тюрьмах, в казематах крепостей, в ссылках, на виселицах эти люди гибли за свое человеколюбие. Разве одно это не может вооружить всякого чуткого человека против современного порядка вещей, допускающего такие подлости?
Так называемое освобождение крестьян, которым так возвеличили Александра II, сняв с крестьян позорную кличку «раб», не только не улучшило, а даже ухудшило экономическое, материальное положение мужика. Прежний крепостной крестьянин, хотя и зависел всецело от каприза своего господина, хотя и был его рабочей скотиной, по крайней мере знал, что ни он, ни его семья не умрут с голоду, у них всегда будет хлеб. При «освобождении» мужика ограбили, отняв даже то, что он имел, и поставили в полную зависимость от купцов и помещиков, и тех же почти самых помещиков – земских начальников. В экономическом отношении нашему крестьянину пришлось еще хуже, чем прежнему. Поэтому нисколько не удивительно возникновение у нас среди крестьянства аграрного движения.
Кто знаком с нашей историей, тот должен знать, что все время, начиная с XIV, XV столетия были большие и малые крестьянские восстания и волнения, разливаясь временами в такие сильные, стихийные движения, как восстания Разина2 и Пугачева3. Видно, уж действительно непосильна была жизнь его, если он восставал против господ, брал в руки топор и шел «пускать красного петуха». Я сам читал отчет о заседаниях крестьянского собрания в 1906 году и на основании заявлений депутатов крестьян могу себе представить истинную жизнь русской деревни, не делая никаких фантастических заключений. А чем же объяснить большие крестьянские беспорядки в Харьковской и Полтавской губерниях в 1902 году? Опять тем же пьянством мужиков, которые все пропили свою землю и захотели получить еще?
11 ноября
Моя попытка «совратить в веру свою» Симаковых оказалась удачной. Они «совращены». Но тут младший, Модест, о котором я меньше всего думал, что он может читать серьезные книги и исповедовать идеи социализма, которого я считал парнем легкомысленным, сильно изумил меня. Одним словом, Модест стал ревностным социалистом. Хотя он и немного пока в этом смыслит, хотя в голове у него сейчас, вероятно, каша, старые понятия мешаются с новыми и многого он еще не понимает, но сама эта благородная горячность, стремление к свету – лучше всего. Старший – Вася, флегматик и скептик, труднее поддается этому. Здесь нужно горячее, живое слово, а не мертвый язык сухой книги.
Заходил раз ко мне товарищ Архангельский, гимназист 7-го класса, и взял у меня «Подпольную Россию» Степняка. Через некоторое время он возвратил мне эту книгу, которая ему очень понравилась, и в разговоре упомянул, что у них в классе многие интересуются «этим». Особенного значения я этому не придаю. Я знаю, что по крайней мере три четверти этих интересующихся, став почтенными, зрелыми гражданами, в сторону откинут «увлечения пылкого юношества». Одни – во имя собственного благополучия, во имя своей карьеры, своя-де рубашка ближе к телу, другие – соблюдая мудрую пословицу «Моя хата с краю, знать ничего не знаю», третьи, ознакомившиеся с социализмом понаслышке, поверхностно, быть может, обратятся потом в строгих гонителей «крамолы».
А время сейчас тревожное. По рукам ходят запрещенные цензурой речи Милюкова4, Керенского5 и других ораторов Государственной думы. Даже и в Пензе, в этом медвежьем углу, циркулируют слухи о том, что правительство хочет заключить мир с Германией и идти войной на Англию. Где правда, где ложь – трудно разобрать. Появилось новое страшное слово «измена». Да, время очень тревожное.
Вчера вечером ко мне неожиданно явился из Москвы Коля Дейнека. Тот самый реалист, который принес мне «Подпольную Россию». Коля, человек более сведущий, чем я, говорит, что действительно назревает что-то грозное. В Москве ходят упорные слухи, что где-то, не то в Киеве, не то в Харькове, было столкновение с полицией, будто бы убито до 30 студентов. По всей России рассылаются студенческими и иными организациями тайно напечатанные запрещенные речи левых думских ораторов. (Между прочим, Вася Симаков хотел дать мне почитать речь Милюкова.) Коля со мной распрощался. Он в тот же вечер уезжал в Александровское военное училище, куда поступал, чтобы избежать призыва.
24 ноября
Читаю книги, взятые у Архангельского, – «Рассказы из русской истории» известного чайковца Шишко6, «Программы партий» и др. Мне очень понравилась книга Шишко. Написана она простым, ясным и понятным языком, замечательно правдива, своими словами называя то, что обычно скрывается, затушевывается, и ясно показывает весь тот страшный вред, который принесло России самодержавие. С удовольствием я познакомился с программами наших социалистов. Теперь вижу, что по своим взглядам я ближе всего приближаюсь к социалистам-революционерам, к эсерам.
25 ноября
Меня очень занимает вопрос: будет или не будет революция? И если будет, то какую форму она примет, во что выльется? Каковы будут ее стремление и задачи?
Я предчувствую, что если революционеры и достигнут своей главной, первоначальной цели – свержения самодержавия, то потом в их среде произойдут раздоры. Социалисты, то есть организованный, сознательный пролетариат, неминуемо должны перейти от политических к социальным, экономическим преобразованиям, которые для России, для народа гораздо нужнее и важнее политики, представляющей в понятии крестьянских и рабочих масс нечто отвлеченное и туманное. Быть может, социалисты даже попытаются произвести социальную революцию, то есть захватят частную собственность и орудия производства в свои руки, чтобы затем справедливо распределить между всем народом.
Если это произойдет, то либеральная буржуазия, во главе с партией кадетов, только что вместе с социалистами идущая против общего врага – самодержавного правительства, теперь восстанет против своего союзника. Ведь это далеко не одно и то же – захватить ли власть, то есть подчинить ее себе, или же жертвовать своим карманом. Ведь социальные стремления рабочих прямо враждебны, прямо опасны буржуазии, какой бы либеральной она ни была.
По-моему, произвести революцию надо так.
Подготовив умной агитацией настроение народа, надо отряду энергичных и решительных людей внезапно напасть на Зимний дворец, в случае сопротивления перебить бомбами дворцовую стражу и захватить власть в свои руки. Учредить диктатуру пролетариата. Царя держать почетным пленником, отнюдь не причиняя ему никакого вреда, так как это будет недостойно революционеров. Для более сильного эффекта можно другому отряду во главе толпы народа двинуться против Петропавловской крепости и взять ее. Но это, повторяю, лишь для эффекта, так как крепость и сама, вероятно, сдастся, как только власть будет в руках народа. Столичное восстание, по словам Степняка6а, только застрельщик общей революции. Весть о захвате власти, разнесенная по России, заставит восстать весь народ. Повторяются времена Разина и Пугачева. По всей стране возникают аграрные и иные беспорядки под влиянием главным образом слухов о прибавке земли. Всеобщая забастовка железнодорожников затруднит или даже прекратит доставку войск для усмирения. Затем следует созыв Учредительного собрания, на котором уже окончательно совершается государственное и экономическое переустройство страны. В случае возникновения конфликта между буржуазией и пролетариатом, что неминуемо и будет, самое лучшее оружие – это всеобщая грандиозная забастовка. Хотя она десять лет тому назад не увенчалась успехом, но в случае, если она будет организована стройно и осмотрительно, если будут существовать комитеты помощи стачечникам, то я думаю, победа останется за народом.
Такова моя схема революции. Будущее покажет, осуществится ли это или нет.
1 декабря
Зашел ко мне Архангельский вчера потолковать насчет помещения. У них образовался так называемый самообразовательный кружок, в котором участвуют свыше 10 человек, преимущественно ученики 7-го класса, а также две барышни. Меня радует это. Только дело в том, что сейчас у них нет подходящего помещения для собраний и Архангельский, видимо по поручению остальных членов, решил поговорить об этом со мной. Но для такой оравы моя комната оказалась слишком мала. Поэтому я посоветовал ему поговорить об этом с Симаковыми, у которых комната больше. Я посмотрю, что будет дальше. Возможно, что мы трое, то есть я и Симаковы, примкнем к ним. Тогда нас будет 15 человек.
10 декабря
Что касается кружка, то ничего определенного я сказать не могу. До сих пор, например, я не знаю всех участников. Это хорошо, так как показывает, что там собрались не болтуны, а люди, умеющие держать язык за зубами. Впрочем, дело в том, что отчасти не находя помещения, а главным образом под влиянием малоотзывчивых, инертных участников этот кружок начинает рушиться. Не расцветши, отвял в утре пасмурных дней.
Мы с Модестом решили повести дело энергичнее, и сегодня я познакомлюсь с полным составом этого кружка. Дай Бог, чтобы, считая и нас, набралось 10 человек. Впрочем, во-первых, этого достаточно, а во-вторых, все более слабые, робкие отпадут, а останутся люди нужные, деятельные. Что касается помещения, то я в конце концов принужден буду предложить свою комнату, несмотря на ее малые размеры. Иначе дело станет на точке замерзания. Мне как революционеру в душе, как энергичному организатору будет очень жаль, если распадется этот кружок, и я приложу все свое старание, чтобы этого не случилось. Даже если из 10 человек будут участвовать только пять, то и тогда я буду этим доволен.
12 декабря
С появлением министра народного просвещения Игнатьева7, видимо, любящего свое дело, в душную, затхлую обстановку гимназического быта пахнуло свежей струей воздуха. Производятся всевозможные реформы, нововведения, преобразования. На внутреннюю жизнь учащихся, на их быт педагоги стали обращать больше внимания.
Так, в Пензе, в нашей гимназии теперь возникли всевозможные кружки: литературные, драматические и даже спортивные. Все это, конечно, под наблюдением учителей. Но я подозреваю в этом еще кое-что другое, вовсе не такое благородное, как это кажется на первый взгляд. Основав эти совершенно легальные, но находящиеся под наблюдением начальства ученические кружки, хотят раздробить молодежь, хотят отвлечь ее в сторону от всевозможных тайных, антиправительственных кружков с более или менее революционной окраской. Зная, что горячее, пылкое, смелое юношество больше всего склонно к освободительным идеям, теперь хотят отвлечь его в сторону от этого, хотят заинтересовать его другим, отняв у него свободное время и вместе с тем в тесной, интимной обстановке кружка наблюдать за настроением молодежи. Это не моя фантазия. Гимназический учитель пения, человек, видимо, либеральный, раз по секрету предупредил учеников, чтобы они были осторожнее на собраниях кружков, так как за ними там следят. Но ухищрения правительства оказываются неудачными. Правда, гимназисты охотно принимают участие в этих кружках, но это не мешает им организовывать в то же время и тайные, секретные кружки.
Дня два-три тому назад я пошел вечером на собрание литературного кружка вместе с Модестом. На обратном пути я все время добивался узнать о составе «того» кружка, о его собраниях. Но и Архангельский, и Мишка Сафронов все время медлили, мямлили, не говоря ничего определенного. Это меня взорвало. Мы остановились на углу пустынной улицы, и я, в эту минуту отбросив свое заикание к чертям, стал говорить им о том, что, как я вижу, они только умеют болтать языком, ничего не делая и не желая делать, что это ни к какому результату не приведет и что если они так относятся, так зачем же было им затевать устройство этого кружка? Давно я так не говорил. Речь моя была несвязная, отрывистая, но, видимо, подействовала на них своей горячностью. Затем я сказал, что предлагаю им помещение – нашу гостиную.
Вчера, в воскресенье, было собрание «того» кружка, решавшее нашу с Модестом участь, и я сегодня узнаю о результатах.
Откровенно говоря, мне будет неприятно и обидно, если мне откажут в принятии. Обидно за то, что вся моя горячность, вся моя энергия, все мои старания укрепить этот кружок пропадут так глупо и даром. Я уверен, что из всех участников его (пока, впрочем, я участником назвать себя не могу) я самый энергичный и настойчивый. Я умею молчать. Я могу дать удобное, безопасное помещение. Поэтому я могу принести большую пользу этому кружку. А что касается моего заикания, то это не может служить помехой. Правда, речей я произносить не могу, быть пропагандистом и агитатором не в состоянии, но живую речь могу заменить пером, которым я умею владеть. Разве среди наших революционеров не было заик? Разве Камиль Демулен, один из героев Великой французской революции, не заикался, что не помешало стать ему деятельным, талантливым революционером? Разве, наконец, мое заикание помешает мне погибнуть за свои взгляды, убеждения? Впрочем, оговорюсь, пока погибнуть я не желаю, а, напротив, хочу принести большую пользу.
После класса, где он поговорил с участниками кружка, Модест зашел сообщить о результатах вчерашнего собрания. Конечно, приняли.
Как теперь дело выяснилось, квартира у них была, место для собраний они имели и собирались у Моисеева уже не раз, но вся суть в том, что они по обычной неосторожности повели дело так, что с первых же дней за ними стали следить. Они были настолько неосмотрительны, что на первое же собрание пригласили некоего Розанова, парня умного и развитого, что, однако, нисколько не мешает ему заниматься всевозможными темными делами и быть чуть ли не шулером, к тому же он сын черносотенца. Больше собраний Розанов не посещал, но сами они скоро заметили, что за ними следят какие-то подозрительные личности. Связь между этими двумя фактами очевидна: Розанов, человек сомнительной нравственности, перестал ходить, и сразу же начали следить. Вывод тут тот, что Розанов донес в сыскное. Вот это-то, с одной стороны, и с другой – то, что некоторые члены, видя, что дело принимает нешуточный оборот, невольно струсили и уже раскаивались в своем участии. Вот эти-то две вещи и грозили распаду кружка. Не приди я на помощь с помещением, вероятно бы, кружок разрушился.
19 декабря
Наконец-то у меня собрания. Вчера и позавчера, 17-го и 18-го было два собрания, и я их подробно опишу.
Обыкновенно кружок собирался по воскресеньям, но так как сыщики, видимо, знали это, то участники решили собраться у меня в субботу, 17-го, в шесть часов вечера. К этому времени я уже все приготовил в гостиной и расхаживал, опасаясь, что они не придут. Но вот наконец повалили. То и дело раздавались звонки, я бежал отворять и впускал гостей, приходивших большей частью поодиночке. Пришли три барышни с Мишкой Софроновым. Всех нас, включая и меня, набралось 13 человек. Большинство из них были на моей квартире в первый раз, а с барышнями и с двумя гимназистами я не был знаком. Кажется, никогда у нас не было столько гостей. Вся гостиная была наполнена, в воздухе стояло сплошное гудение, точно в пчелином улье. Только и слышалось:
– Товарищ! Товарищ! Товарищ!
По-моему, некоторые из них уж очень злоупотребляли этим «товарищем».
Наконец расселись. Но вместо реферата читали газетные статьи, все мне уже известные, на животрепещущие вопросы – о Думе, об исповеди черносотенца Сергея Прохожего, которому союз поручил убить Милюкова.
Девицы все трое сели вместе. Довольно миловидные. Одна из них, кажется Леля, с интересным лицом – спокойным, холодным. У нее хорошая фигура и красивые маленькие ноги. Пока девицы ничем себя не зарекомендовали, ограничиваясь только перешептыванием и несколькими словами.
Затем пили чай. Сахар, ввиду нынешней дороговизны, принесли с собой. Возникло было затруднение насчет булок, но я нарезал и подал хлеб домашнего печения. С какой радостью накинулись все на него и моментально расхватали. Разговоры, остроты, смех – все это так и гудело в воздухе. Никогда, кажется, так не было весело, как в этом тесном, дружном, жизнерадостном товарищеском кружке.
На собрании решили устроить снова сходку на другой день, в воскресенье, в полчаса пятого, но при этом соблюдать крайнюю осторожность.
Часов в восемь стали расходиться по домам. Во избежание лишних подозрений выходили небольшими группами и в два выхода. Девицы пошли в театр на оперу. Между прочим, мне поручили написать реферат о русской социал-демократии. Конечно, читать я его отказываюсь, вместо меня прочтет кто-нибудь другой, хотя бы Модест. Так как с социализмом наши, видимо, незнакомы, да и сама тема мне нравится, я хочу написать его с жаром, с чувством, вложить всю душу, хочу, чтобы каждое слово моего реферата было ценным, ненапрасным.
На другой день, то есть, значит, вчера, погода была страшная. Поднялся ветер, чуть не срывающий фонари на улицах, поднялась метель. Я уже думал, что члены побоятся прийти, но вот, один за другим, они заполнили мою комнату. Черт возьми, что за шикарная вещь эти товарищеские кружки! Все равны, все оживлены, все остроумны, сыплются остроты, друг друга ругают «дегенератом», настроение бодрое, веселое, возбужденное.
Когда все распрощались и ушли, остались я и Столыпинский.
– Вы давно занимаетесь социализмом? – был его первый вопрос.
Я ответил, что с третьего класса. На самом деле впервые я познакомился с этим во втором классе от Жени. Он был для меня первым другом, отцом и учителем в одно и то же время. К своим родителям я не относился с таким благоговением, как к нему, гимназисту старшего класса, к нему, каждое слово которого я считал святыней. Он первый развил мой кругозор, открыл передо мною новые горизонты. В примитивной форме он первый познакомил меня с идеалами социализма, и я, 13-летний мальчик, уверовал в это сначала потому, что так говорил сам Женя. А он ошибаться не мог. Критическое отношение у меня появилось уже потом, и когда я обратился все к тому же Жене со своими вопросами, возможен ли социалистический строй, не химера ли это, он снова объяснил мне и доказал эту возможность. Сколько удовольствия доставляли мне небольшие прогулки после наших занятий (он сначала был моим репетитором), во время которых мы обсуждали мировые вопросы, он, высокий, тонкий, в очках, с лицом ученого, и я, гимназист 2-го класса! А когда он приводил меня к себе, в тихую, беспорядочную, чисто студенческую комнату, где обыкновенно уже сидели товарищи, то это для меня было верхом счастья!
Я пил там жидкий чай, иногда играл с Женей в шахматы, причем он всегда обыгрывал меня, и затем, забившись в угол, молча, почти с благоговением следил за ним и его товарищами. Раз он вслух прочел им написанный мною тогда рассказ «Митька». Я описывал бедного сапожного подмастерья, который под влиянием жестокого обращения хозяина бросается в воду. Вероятно, рассказ был сравнительно недурен, если сам Женя одобрил его. Теперь он погиб в архивах сыскного отделения, куда он попал, когда арестовали Женю.
И так велика власть и обаяние этого действительно незаурядного человека надо мною, что даже теперь, когда я стал уже более или менее взрослым человеком, я с благоговением отношусь к нему, и он составляет для меня высший авторитет.
Мы долго говорили с ним в этот вечер, и давно я не помню такого хорошего времени. Он, между прочим, сказал мне, что я принесу кружку большую пользу, так как никто из них незнаком с социализмом, а я могу их с ним познакомить.
Сейчас, когда я пишу эти строки, реферат о социализме у меня уже готов.
1917 год
21 января
Пишу заключительные слова – все распалось. Горько это мне очень, гораздо горше, чем остальным, но что же, против рожна не попрешь.
Я пошел к Моисееву, тот меня встретил своей старой песней. Опять одно и то же о том, что сыщики знают все, что затевать кружки очень опасно, что мы все попадемся, не получим потом свидетельства о благонадежности, мы погибнем, не принеся никому ни малейшей пользы. Заканчивал он тем, что он сам лично не боится, но только советует хорошенько обдумать это. Раньше он было согласился организовать новый кружок, но теперь, как хорошенько он это обдумал, теперь он против.
Через всю историю существования нашего недолговечного кружка красной нитью проходит страх перед преследованием, перед сыском, страх, раздуваемый нервными членами. От слишком большой вначале откровенности и болтливости члены перешли потом к трусости, к опасению за существование и целость кружка.
Вначале, когда организация была накануне развала из-за недостатка помещения, я поддержал ее, продлил ее существование приблизительно на месяц, вступив вместе с Модестом туда и предоставив свою квартиру. Но и это не помогло. Несмотря на то что подозрительного больше замечено не было, снова начался панический страх перед сыщиками. Сначала Артоболевский, затем Мишель начали проповедовать, что кружок не может больше существовать, что нам надо это прекратить. Старания их увенчались успехом. Как я уже подробно описывал, 18 января у меня было последнее генеральное заседание, после чего кружок распался.
Но я и Юрий решили не сдаваться и биться до последней капли крови. В тот же вечер у нас возникла мысль организовать свой кружок отдельно от других. К нам присоединились Моисеев и Товбин. На другой день число наших членов увеличилось присоединением Мишеля. Казалось бы, снова возродится кружок. Но через два дня, 20-го числа, и эта надежда была разбита. И этот новый кружок погиб, еще не сформировавшись окончательно.
Такова краткая история нашей организации. Но, повторяю, я не теряю еще надежды и думаю, что через некоторое время нам все-таки удастся образовать свой кружок. Прав ли я, покажет будущее…
26 января
В прошлую субботу, то есть 21-го числа, я пошел снова на заседание гимназического литературного кружка. Как раз Федор читал реферат о Рылееве. В этом кружке проходят историю русской интеллигенции. Теперь добрались до декабристов. Откровенно говоря, я только удивляюсь тому, что наш директор, этот сухарь, педагог в генеральском чине, допускает публично распространяться о такой щекотливой теме, как декабристы и их идеалы. Главное, это происходит в гимназии, в обществе 50–60 юнцов-гимназистов и в присутствии его превосходительства. Что это такое? Повеяло ли новым духом, несмотря на отставку Игнатьева и замену его Кульчицким, или же наш директор ударился в либерализм? Ей-ей, не понимаю.
Я оказался прав, говоря, что наши снова организуют кружок через некоторое время. Действительно, хотя, в сущности, наша организация распалась, наши все-таки склоняются к плану устраивать общие собрания раз в месяц. Мишель сообщил мне, что, вероятно, на будущей неделе у меня будет заседание. Юрий сияет. Но рад этому также и я. Видно, не погибнет наше дело. Видно, несмотря на всю их трусость, наши все-таки интересуются, и не только интересуются, а чувствуют склонность к нелегальщине. Теперь эти собрания хотя и будут реже, но зато плодотворнее. Теперь на них не будут читать вырезки из газет или Геккеля, а вместо того будут прочитываться наши собственные доклады на интересующую нас тему, и притом несколько зараз.
4 февраля
У меня есть роман Войнич8 «Овод». Книга очень хорошая, художественная, потрясающая, рисует нравы революционной Италии первой половины XIX века. Замечательна она тем, что там впервые я встретил действующее лицо – заику. Кажется, во всей литературе, нашей и иностранной, ни один писатель не вывел типа заики. А между тем какой это интересный психологический тип.
Сравнивая себя с героем романа, Оводом, я вижу много сродных черт. Прежде всего, я, как и он, заикаюсь. Затем я, подобно ему, революционер. Я также прежде был ревностным, пылким христианином, и только случай толкнул меня, как и Овода, в ряды атеистов.
Артур, он же Овод, терпел мучения в продолжение пяти лет. Такие же мучения, только нравственные, терплю и я, с той разницей, что мои муки длятся не пять лет, а 13, с тех пор, как только я начал сознавать окружающее.
Артур отличался смелостью и безропотно шел на смерть. Мне думается, что и я не уступаю ему в этом.
Он, подобно мне, сходился с женщиной, только видя, что он нравится.
Он был журналистом-сатириком. Я ни тот пока ни другой, но мне кажется, что и я могу писать хлестко.
Даже в мелочах я похож на него. Так я, подобно ему, очень люблю сладости.
Наконец, и я, как Овод, темноволос и имею голубые глаза.
13 февраля
Сегодня Юрий зашел ко мне. Как обычно, он объявил, что зашел «на минутку», но просидел несколько часов. Мы говорили о делах.
Между прочим, появилась довольно-таки дикая мысль написать своеобразную сатиру на кружок, осмеять его недостатки и высказать свой взгляд на него. Цель этих писаний, по словам Юрия, подбодрить, оживить и воодушевить кружок. Эта идея мне кажется странной, но я берусь написать.
17 февраля
Вчера я окончил свои «Записки дегенерата», написанные по просьбе Юрия. Дня два-три сидел и писал, писал. Надо было соединить «самую едкую сатиру и возвышенный идеализм», как говорил он. «Острое перо и горькая желчь». Кажется, я так сделал. Я описал безграничную трусость нашего кружка, интриги и сплетни его. Особенно обрушился я на Артоболевского, затем на Мишеля и Моисеева. Кажется, вышло удачно. Потом, когда это читали Модест и Федор, они все время хохотали.
2 марта
Настают великие события. Одним мгновенным громовым ударом Россия в лице своей Думы сбила с ног дряхлый колосс бюрократического самодержавия, тот колосс, который, возникнув при Петре, высшего своего развития достиг при Николае I и погиб теперь при Николае II.
Сегодня утром, когда я развернул газету, меня точно хватило обухом по голове. Ясно, черным по белому, было напечатано, что 27 февраля ночью организовался Исполнительный комитет Государственной думы, состоящий из двенадцати наиболее лучших, наиболее свободомыслящих членов, в числе которых Чхеидзе9, Керенский, Милюков, Родзянко10. Этот комитет стал ныне Временным правительством, и по его распоряжению арестована вся свора министров – Протопопов11, Штюрмер12, Щегловитов13 и прочая сволочь. Это громовой, великолепный, потрясающий первый шаг новой России. Кажется, в истории еще не было такого примера, чтобы парламент в лице своих лучших представителей одним внезапным, неожиданным мгновенным ударом сверг старое правительство, которое, благодаря своей бездарности и дряхлости, ввело страну в анархию. Россия была на краю гибели. Голод, страшная дороговизна, мошенничество, каленые идиотские выходки правительства – вот к чему привело господство бюрократического самодержавия. И честь и слава Думе, что она в решительную минуту внезапно для всех, в ответ на приказ о роспуске, арестовала эту сволочь и организовала новое, чисто народное правительство. Теперь скоро война, эта проклятая, надоевшая всем война окончится. И тогда наступит эпоха коренной ломки всего старого и создание нового. Может быть, и мы, кружковцы, окажемся полезными.
Теперь все будет зависеть от тактики нового правительства. Если оно будет на высоте (в чем я почти уверен), в стране наступит спокойствие, к чему и призывает Исполнительный комитет, война закончится в этом же году, и наступит создание Новой России.
Но особенно интересна телеграмма к царю Родзянко 26 февраля: «Положение серьезное: в столице анархия; правительство парализовано; транспорт, продовольствие и топливо пришли в полное расстройство; растет общее недовольство; на улицах происходит беспорядочная стрельба, частью войска стреляют друг в друга; необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство; медлить нельзя; всякое промедление смерти подобно; молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца».
Итак, в то время как мы мирно коптим в Пензе, в России внутри льется кровь, начинается революция. 25 тысяч восставших солдат послали 26 февраля в Думу делегацию, узнать решение Государственной думы.
Начальником Петроградского гарнизона стал член Думы полковник Энгельгардт, вступивший в свою должность в ночь на 28 февраля.
Да, первые шаги народа в лице его представителей блестящи. Посмотрим, что покажет будущее. Новое временное правительство призывает всех к порядку и спокойствию и в своем воззвании к железнодорожникам требует у них не только исполнения своего долга, но прямо подвига ради успешной работы для армии.
Всем главнокомандующим разослан текст телеграммы к царю.
Интересное время теперь мы переживаем!
3 марта
Весть о неожиданной революции мгновенно разнеслась по всему городу. В гимназиях ученики и педагоги поздравляют друг друга и ведут между собой разговоры на эту тему. Телеграммы у газетчиков мгновенно расхватываются, причем платят по рублю за телеграмму. Но на улицах пока ничего не заметно. Тихо, как обычно. Городовых почти нет.
Приходят все новые известия. Революция, громовая, блестящая, бескровная почти, революция в полном разгаре.
Аресты министров и прочей камарильи продолжаются. В числе арестованных Горемыкин14, Трёпов15, Сухомлинов16, председатель Союза русского народа мерзавец Дубровин17. Всех сановников отправляют в Петропавловскую крепость. Пусть, сидючи в казематах, эти столпы отечества, посылавшие некогда туда сотни лучших людей России, узнают прелести этой жизни.
Организовался Совет рабочих депутатов (как и в 1905 году), который вместе с Исполнительным комитетом призывает всю страну к спокойствию и полезной работе для армии.
Но поразительнее всего общая солидарность, общее уважение к Думе. Весь Петроградский гарнизон, флотские экипажи на стороне народа. Даже казаки; даже конвой царя в полном составе явился в Думу, заявляя, что он на стороне ее, и прося приставить караул к офицерам, не принявшим участие в восстании. Члены Думы говорят горячие речи полкам, где их встречают с энтузиазмом. Родзянко и Керенский произнесли речи юнкерам Михайловского артиллерийского училища, в которых поклялись, что Россия будет свободна. Черт возьми, какие великие минуты переживает страна, а я, сидя тут, не могу этого видеть. Конечно, сейчас же возникли сплетни о том, что царь и царица арестованы (кстати, о Николае ни слуху ни духу). В Кронштадте солдатами убит адмирал Вирен18, пензенский губернатор Евреинов растерялся окончательно и махнул на все рукой.
Нет, я все не могу опомниться от восхищения и восторга гениальностью членов Думы, так блестяще совершивших этот великий бескровный переворот. Одним ударом, ударом суворовским сбили с ног старое правительство и этим спасли Россию. И захватив внезапно всю свору негодяев-министров, запрятали их в крепость, Дума свергла окончательно темные силы. Где они? Их точно ветром сдуло. Страна ликует. Да, весна наступила.
5 марта
Вчерашний день был богат событиями. Я видел, как Пенза отозвалась на счастливую революцию. И при этом я видел многое, взволновавшее меня.
Я вышел из дома днем и натолкнулся на характерную сценку. По другой стороне улицы шли, обнявшись, два солдата и нестройными голосами пели «Дружно, товарищи, в ногу…». Повстречался с ними какой-то прапорщик, остановил их, но затем пошел дальше. Через некоторое время их остановил другой офицер, шедший по моей стороне. Он долго всматривался в них и наконец окликнул их, подозвал к себе и начал спрашивать, какого они полка.
– Вы, наверно, напились?
– Так точно, – почтительно отвечают солдаты. – Ваше благородие, Россия воскресла!
– Верно, голубчик, верно, но зачем же непременно напиваться? Неужели без этого обойтись нельзя? Нам сейчас всем надо быть трезвыми, надо работать, а не пьянствовать. Вот если бы вы были трезвые, тогда другое дело, тогда я бы слова не сказал, – говорил офицер, как мне казалось, нарочно громко, видя, что несколько прохожих остановились, слушая.
Какая-то ветхая старушонка вообразила, что солдата будут за это наказывать, и слезливым голосом обратилась к офицеру, прося этого не делать. Солдаты принялись успокаивать ее:
– Иди, иди, бабка, иди. Теперь не то. Теперь мы все одна семья.
Чем это кончилось, я не знаю, так как уже давно слышал где-то поблизости крики «ура» и теперь поспешил туда. На перекрестке Садовой и Суворовской улиц стояла толпа манифестантов. На дороге стройно, рядами стояли полки солдат, и оттуда гремело «ура». Толпы публики, взбудораженные, лихорадочные, окружали их. У всех, даже у солдат, лица были какие-то другие, светлые. Я шнырял в толпе, стараясь найти наших кружковцев.
– Скажите, что будут делать? – обращается какая-то дама к стоящему возле выстроенного полка офицеру.
– Покричим «ура» да и разойдемся по домам.
Однако мирная, светлая манифестация кончилась кровавой драмой. Но об этом после.
Вот над толпой солдат показался плывущий шест, украшенный красным бантом с висящим портретом Николая Николаевича. Затем поплыли мимо разноцветные плакаты, которые несли солдаты: «Да здравствует Народная Государственная Дума», «Долой немецкое правительство» и т. д. И при появлении этих медленно движущихся плакатов еще громче, еще одушевленнее загремело «ура». Какой-то солдат с красной тряпкой на шее свернул с дороги на тротуар. Моментально за ним ринулась целая толпа коренастых, неуклюжих солдат, бежавших по тротуару за красным знаменем. Да, это была настоящая революционная армия. Но вот наконец я увидел в толпе стоявших Юрия, Федора и Знаменского. Поздоровавшись, мы принялись смотреть. Мимо, над щетиной штыков медленно плыли красные флаги и разнообразные плакаты. То затихая, то разрастаясь снова как прибой, неслось все время громовое «ура». Толпа колыхалась и двигалась с места на место, росла все больше и больше. Двух или трех солдаты качали. Один из них был офицер. Из толпы войск вылетали они вверх, затем на секунду скрывались и снова взлетали вверх. Офицер при этом ритмично взмахивал папахой, которую держал в руке.
Но вот внезапно толпа колыхнулась и дрогнула.
– Бем19, Бем, – пронеслось, – бьют Бема!
Дело в том, что тут же присутствовал генерал Бем, которого солдаты страшно ненавидели за его жестокое и несправедливое обращение с ними. К тому же ходили слухи, будто он, немец, предал два корпуса на Карпатах.
Желая узнать, в чем дело, еще не веря тому, что Бема бьют, я и Юрий врезались в толпу. Около самого здания Городской думы плотной стеной стояли солдаты. Что происходило в этой серой, как волны моря, колыхающейся массе, я не знал. Я видел только море кричащих солдатских голов. В воздухе стоял сплошной, оглушающий крик:
– Аааа…
Толпа колыхалась из стороны в сторону, увлекая за собой и нас. Все деревья возле Думы были облеплены гроздьями солдат, и оттуда слышались крики:
– Довольно бить! Довольно!
Я чувствовал, что происходит что-то страшное, и поэтому, не щадя глотки, вместе с Юрием кричал:
– Довольно! Довольно!
Но вряд ли эти немногочисленные крики было слышно в том реве, который стоял в воздухе. Мы выбились из этой толпы на более свободное место. Юрий видел все-таки, как Бема стиснули со всех сторон, сорвали с него погоны и фуражку и сыпали на его лысую голову снег. Затем эта лысая голова исчезла, видимо очутившись под ногами толпы
солдат.
– Что с Бемом? – спросили мы какого-то солдата. Тот равнодушно ответил:
– Убили.
Как я и Юрий потом узнавали от солдат, вся сцена убийства произошла таким образом. Бем вышел из здания Городской думы, сел на лошадь и накинулся на солдат, крича, что эта манифестация недопустима. Тогда Бема хотели арестовать, но он отказался.
Разъяренная толпа солдат кинулась к нему, опрокинула его лошадь, стащила его, сорвала погоны и шапку и, стиснув со всех сторон, прижала его к Городской думе. Эту-то сцену мы с Юрием и видели. Говорят, будто Бем пытался стрелять. Затем его сбили с ног и принялись топтать ногами. Это происходило в двух шагах от остальных офицеров.
Наконец кое-как окровавленному Бему удалось освободиться. Он поднялся и инстинктивно сделал несколько шагов. Но тут, видя, что добыча ускользает из рук, один из солдат закричал:
– Ребята, неужто мы его отпустим?
Толпа кинулась вдогонку, сбила Бема с ног и принялась топтать его снова. Наконец его сволокли в соседний двор, но и тут не оставили в покое. Юрий, видевший его тело, рассказывал, что труп, желтый, замерзший, был совершенно голый. Голова представляла собой бесформенную кровавую массу. Каждый из прибежавших сюда солдат считал своим прямым долгом, своей обязанностью ударить ногой или плюнуть на это страшное, бесформенное тело.
Вот это-то гнусное надругательство, это варварство возмущало всего более. Пусть Бем заслуживал смерти, пусть он негодяй, но тогда проще было заколоть его или застрелить, нежели рвать на клочки и потом издеваться над трупом.
Отчасти тут вина самого Бема, который грубо накинулся на солдат и отказался сдаться в плен, но еще больше здесь виноват Пензенский исполнительный комитет, который не арестовал его раньше. И эта кровавая трагедия омрачила все торжество. Это было пятно, как выражался Юрий, которому очень понравилось, видимо, это выражение, пятно на белоснежной одежде Революции.
Мы потом не раз говорили солдатам, что лучше было его арестовать, нежели убить так зверски. Но почти все были довольны.
– Чего там арестовать! Тут, по крайней мере, своим судом эту сволочь.
Через некоторое время я отправился с Юрием в театр, где было заседание Пензенского исполнительного комитета.
На улицах виднелась милиция – молодые люди с белыми повязками на рукаве. Некоторые гимназисты для чего-то получили красные повязки.
Публики в театре было много, и эта публика была преимущественно демократической. Конечно, вход был бесплатный.
– «Полный сбор», – как бы шутя, сказал сидевший рядом с нами еврей, указывая на черневший от массы публики зрительный зал.
Мы долго ждали перед закрытым занавесом. Наконец вышел какой-то господин, который извинился перед «гражданами» и заявил, что сейчас производятся выборы.
Но вот раскрылся занавес. На сцене стоял стол, накрытый красной скатертью, вокруг которого сидели выбранные представители от города и от офицеров. Сзади стояли делегаты от солдат.
Вся сцена была полна народом.
Я не стану передавать всего хода заседания, но скажу только, что Комитет решил из своей среды выбрать особое Бюро, состоящее из 12–15 членов. Большинством голосовавших было постановлено, чтобы в число их вошло двое делегатов от офицеров, четверо – от солдат, четверо, кажется, от рабочих и остальные депутаты от города. Затем поднялся вопрос о губернаторе Евреинове. Было прочтено заявление губернатора о том, что он вполне подчиняется Исполнительному комитету. Подписывался он: «Гражданин Евреинов».
Теперь заговорили о том, что он всегда был либерален, заступался за местную левую газету «Чернозем» и даже запретил арестовать ее жандармскому полковнику, который теперь сам арестован, когда в Пензу проникли первые слухи о революции, и поэтому его можно оставить.
Тут мы ушли. Но, как потом мне передавала мама, бывшая тоже в театре, все же Евреинова решили удалить.
Теперь о нашем нелегальном кружке, ныне, конечно, вполне легальном. Как я уже не раз говорил, цель была – подготовка нас к будущей революции.
Но так внезапно, так мгновенно и блестяще произошла эта революция, что наш кружок оказался совершенно непригодным. Мы не успели опомниться, как войсками и Думой все было сделано, и теперь наступили прелестные дни свободы и братства. Мы оказались как бы за бортом жизни, и поэтому я думаю, что наш кружок теперь распадется. Конечно, мне это страшно жаль, так как тогда исчезнет самое драгоценное – товарищеское единение, и поэтому я лично приложу все усилия к тому, чтобы мы, кружковцы, поддерживали связь между собою.
6 марта
Какое прекрасное, счастливое время, какое великое историческое событие мы сейчас переживаем. Как рад я и доволен, что я сейчас сознательный, разумный человек, а не двухлетний ребенок и могу вполне наслаждаться событиями. Прав был полупьяный солдат, твердивший все время:
– Ваше благородие, Россия воскресла.
Да, она воскресла. Все то, к чему стремилась наша святая интеллигенция, наши герои-революционеры, лучшая соль народа, за что они страдали, умирали, – все это достигнуто. Первая ступень в царство вековечной мысли и света пройдена. Программа наших социалистов, по всей вероятности, будет введена в жизнь Учредительным собранием, которое в скором времени соберется. Да, а тогда еще один переворот, еще одна последняя революция, третья, и наступит царство социализма, царство труда и счастья.
Теперь зовут всех изгнанников и выпускают на волю всех политических. Скоро прибудут Плеханов20, апостол анархизма Кропоткин21. Лопатин22, тот Герман Лопатин, который пытался воскресить партию «Народной Воли», уже здесь. Он счастлив, видя исполнение того, за что он бился всю жизнь. Он был во время уличных петроградских беспорядков, вокруг него свистели пули, а он был рад погибнуть в эту минуту.
Теперь как-то радостно стало на душе. Идешь по улице, видишь солдат и офицеров, видишь публику и с теплым чувством думаешь: «Все это наши. Это все братья и товарищи. Теперь нам ничто не страшно и теперь мы добились свободы».
Люди те и как будто не те. Что-то их изменило, хотя уличная жизнь почти та же, все же чувствуешь что-то иное.
Идет коренная ломка всего старого. В мгновение, в одно только мгновение все стало вверх дном, все перевернулось и изменилось. И, Боже мой, как хорошо себя чувствуешь в это время.
Царь отказался от престола в пользу брата Михаила Александровича, который ждет пока приговора Учредительного собрания. Но будет ли это конституционная монархия или республика, право, это не важно. Суть здесь та, что монархизм с бюрократией исчез навеки и наступила новая жизнь. Князь Львов23, Керенский, Милюков, Гучков24 и другие члены Думы стали пока министрами, и, надо сказать, первые их шаги на этом поприще блестящи.
Вчера часов в пять мы с Юрием пошли в театр на митинг, первый свободный митинг народа.
Когда мы вышли на улицу, издалека доносилось громовое «ура». Скоро мы увидели бесконечные стройные полки, идущие с музыкой, с красными флагами и плакатами на Московскую, главную улицу Пензы. Толпы публики сопровождали их. Впереди ехали на лошадях офицеры, за ними солдаты несли красное знамя с надписью на нем: «Да здравствует свободная Государственная Дума. Низко кланяемся нашей доблестной армии». На других плакатах были надписи: «Да здравствует свобода», «Да здравствует свободная Россия». Солдаты, почти отдельно от офицеров, шли быстро и стройно, и по их рядам все время перекатывалось «ура». Их было, наверно, несколько тысяч. Когда голова манифестации достигла конца Московской, то позади, в начале улицы, все еще двигались бесконечные полки. Музыка гремела.
Какой-то студент высунулся из форточки с красным платком в руке и, махая, закричал:
– Да здравствует свобода!
– Ура, – загремели полки, быстро под музыку идя по улице.
Дойдя до театра, солдаты повернули и прошли мимо. Большая же часть публики вошла вовнутрь. Вошли и мы.
Толпа идущих на митинг все прибывала и прибывала. Среди этой толпы я увидел массу (человек 300–350) странных людей в арестантских шапках и серых шинелях. Некоторые были в желтых овчинных сюртуках.
Это были арестанты, каким-то образом, сами или с помощью тюремщиков освобожденные из тюрьмы, явившиеся сюда просить помощи и суда.
– Ну, намучились одиннадцать месяцев, – говорил один из них, молодой арестант с симпатичным лицом.
Публика, окружавшая их, относилась к ним тепло и сочувственно. В самом деле, поступок этих арестантов был в высшей степени красивый. Каким-то образом вырвавшись на волю и разгромив тюрьму, большая часть их (всего было 600 человек) не разбежалась по сторонам, что она свободно могла сделать, а явилась на суд народа, может быть, чтобы опять быть заключенными в тюрьму. Каким образом они освободились – темно и неизвестно. По всей вероятности, как потом на митинге говорил полковник, здесь была провокация со стороны полиции, выпустившей на волю народ, среди арестованных солдат была масса грабителей и мошенников…
На углу Московской стоял вместе с вооруженным солдатом Артоболевский с красной повязкой милиционера на рукаве.
Я поговорил с ним и пошел дальше. Там Товбин, тоже милиционер, шел с двумя солдатами. Вообще весь наш кружок, кроме меня и Федора Архангельского, записался в милицию.
У театра стояла толпа солдат и офицеров. Царила полная непринужденность. Солдаты курили… папиросы, между тем как раньше за это их наказывали, и наказывали очень строго.
Здесь состоялся митинг солдат, и офицеров и штатских туда не пускали.
Юрий ходил со мной записываться в милицию. Гимназисты захватили в свои руки бывший второй участок, и теперь темные, гнусного вида комнаты были заполнены галдящей толпой гимназистов-милиционеров с красными и белыми повязками.
Почти все старшие классы гимназий пошли в милицию. Шли не только так или иначе «сочувствующие политике», а даже гимназисты-аристократы, шли, по-моему, только из-за моды, а вовсе не по какому-нибудь убеждению.
Но как бы там ни было, милиция работает превосходно. В помощь ей дано 600 солдат, с 10 офицерами (при каждом участке 120 солдат, два офицера). Почти все бежавшие арестанты теперь пойманы и водворены в тюрьму. Арестовано много притонов с винными суррогатами.
Когда мы возвращались, издалека с площади перед собором донеслось хоровое пение. Пели «Вечную память» павшим борцам за свободу. Затем разнеслось многоголосое «ура». Манифестации все продолжались.
Вечером под окнами нашего дома я услышал знакомый мотив «Марсельезы», впервые услышанный, впрочем, мною здесь. Я выскочил на крыльцо и увидел небольшую толпу, быстро идущую по улице и несшую красный большой плакат.
Раздавалось пение.
12 марта
10 марта справлялся Праздник Свободы, праздник, затмивший все официальные тезоименитства, дни рождения царской семьи и прочие.
Утром были молебны. Затем в 12 часов парад революционных войск и манифестации, а вечером митинги. Я пошел на площадь перед собором, где обыкновенно бывали парады часов в 11 утра. День был серый, пасмурный. Все было заполнено бесчисленными толпами публики. Все мало-мальски возвышенные пункты были заполнены любопытными. Деревья были усеяны гроздьями взобравшихся туда мальчишек. Ограда сквера, соборная колокольня, крыши домов – везде была публика. А посередине колыхались раздуваемые легким весенним ветерком красные знамена и плакаты.
Со всех сторон прибывали новые толпы с новыми флагами, и это еще больше оживляло собравшуюся публику. Пришла толпа с двумя флагами. На одном, черном, была надпись «Вечная память павшим за свободу», на другом, красном знамени – «Да здравствует рабочий союз». Маленький человек пробился сквозь массу публики, неся красное знамя с надписью «Да здравствует социализм». Пришла толпа поляков с национальными флагами и двумя красными плакатами. На одном была надпись «За вашу и нашу свободу». То же самое было написано на другом плакате по-польски.
Я был далеко от войск и поэтому самого парада не видел. Но вот вдали раздались звуки полковых оркестров. Играли французскую «Марсельезу» вместо обычного «Боже, царя храни».
И вот наконец среди тысяч народа стройно, в полном порядке двинулась манифестация, направляясь вниз по Московской. Впереди стройно шла организация железнодорожников с красным знаменем, на котором была надпись «Слава павшим борцам за свободу».
Это была поистине грандиозная манифестация. Часа два тянулась эта бесконечная лента солдат, одних с винтовками, других – без них, и рабочих. Гремела военная музыка, перекатываясь громовым «ура». В воздух летели шапки.
Какое-то неизвестное до сих пор, захватывающее одушевление мало-помалу охватывало холодную пензенскую публику.
Боже мой! Кто мог бы дней 10 тому назад вообразить себе, что всенародно, публично, наши солдаты – эта гроза и пугало бунтовщиков, шли бы с красными знаменами и вместе с рабочими пели «Марсельезу»? Кто бы мог себе это представить? Снилось ли это кому-нибудь из наших революционеров?
И эти солдаты не только несли красные флаги, не только кричали «ура» в честь революции, но их благословляло само духовенство, – духовенство, бывшее второй приспешницей правительства. Поистине мы живем в самую странную, самую фантастическую, но в то же время в самую прекрасную и великую эру истории России.
Но всего удивительнее спокойствие и всеобщий порядок. Действительно, эта революция почти бескровная. Только сначала в Петрограде лилась кровь, затем в провинции кое-где были эксцессы толпы, но в общем удивительно спокойно, мгновенно и в величавом порядке прошел этот великий переворот. Видно, много насолила династия Романовых России, если даже в среде темного монархического крестьянства в защиту их не прозвучало ни одного слова.
И потом на митинге я увидел, как ненавидит теперь общество царизм и царя.
Вечером я пошел на митинг в Народный дом.
Должен сказать, что теперь почти каждый день происходят всевозможные митинги, собрания, заседания, и так много желающих, что далеко не все туда попадают. Я три раза не мог попасть.
Я пошел в «Олимп», где тоже был митинг. Там я наконец нашел себе место.
Председателем был выбран, как и в Народном доме, доктор Совков.
Основной лейтмотив речей был тот – готовьтесь к выборам в Учредительное собрание и добивайтесь республики. С этой целью одни из ораторов вкратце освещали историю, отношение Романовых к народу, другие говорили о том, что только одна республика более или менее пригодна России. И каждое слово о царе, о его отношении к народу, о его издевательстве над Россией встречалось громом аплодисментов. Эта неприязнь, даже ненависть к царю-батюшке совершенно естественна теперь, когда исчез ореол «помазанника» и когда выяснилось окончательно, какой ничтожной, жалкой и в то же время глубоко вредной личностью был этот самый царь-батюшка, чинивший столько зла России.
Один из ораторов предложил почтить вставанием павших за свободу, и все встали как один человек. Затем с шапкой стали обходить публику, собирать деньги в пользу освобожденных политических. Я дал 35 копеек, которые только и были при мне.
Всего собрали 120 рублей, сумму порядочную в сравнении с небольшим числом публики.
В числе ораторов между прочим были две женщины. Первая из них, вышедшая на эстраду из публики, была, очевидно, мещанкой. Она говорила о том, что старое правительство издевалось над народом, желало всех уморить с голоду, ввело особые карточки на провизию, содействовало возникновению «хвостов». Люди стояли по целым дням в очереди и часто возвращались домой без всего. Случалось, что, не вынесши вида своих голодных детей, женщины убивали и их, и себя. Хотя язык этой ораторши далеко не был литературным, хотя она изящно говорить не умела, но благодаря чувству, которым были проникнуты ее слова, речь ее произвела впечатление. Я боялся, что она не выдержит и разрыдается тут же на эстраде.
Затем говорила барышня, как я думаю, принадлежащая к какой-нибудь партии или организации. Она говорила каким-то таинственным, интимным тоном, но, в общем, очень недурно.
13 марта
Жизнь входит в спокойное русло, но это спокойствие относительно и условно. Каждый день, переживаемый нами, равняется нескольким годам, каждый день приносит все новые и новые известия, показывающие, что в государстве идет крупная ломка всего старого. По выражению Яблоновского, сотрудника «Русского слова», мы слышим ежедневно грохот геологических обвалов истории, обвалов грандиозных, поразительных, но мы к этому относимся вполне спокойно и сдержанно. Иначе и быть не может. У нас нет времени заниматься этим. Объявлены свободы, долгожданные свободы слова, совести, действий, собраний, объявлено всеобщее равенство, нет ни дворян, ни крестьян, нет «благородий» и «превосходительств», есть только граждане, объявлено возвращение политических ссыльных и эмигрантов, отменена смертная казнь – все эти великие, громадные явления встречаются нами сдержанно. И не потому, что Россия к этому равнодушна, а так как иначе быть не может и так как впереди у нас много важных, гигантских задач.
Теперь газеты полны известий об арестованной царской семье и о тех гадостях, которые происходили наверху, при дворе бывшего повелителя громадной России. Теперь исчезла вся мишура, весь поддельный блеск, все сусальное золото, покрывающее священное недавно слово «царь», и обнаружилась во всей своей красоте подлая шайка нравственных да, пожалуй, и физических дегенератов, 300 лет и три года державших под ярмом Россию.
Невольно удивляешься, каким колдовством был зачарован народ, и не только народ, но и образованное общество, стонавшее под игом нескольких вырожденцев? Что ослепляло его? Что ему мешало сбросить с себя это проклятое ярмо, сбросить которое можно было так легко, как это показало недавнее?
17 марта
Вообще удивительная метаморфоза произошла с нашим обывателем. Еще недавно дрожа за свою шкуру, он пуще всего боялся страшных слов «революция», «беспорядки», «социализм»…
А ныне все это страшное для заячьего уха обывателя получило право самого широкого гражданства. Подобно тому как грозная, мощная волна несет с собой всякий мусор, так сейчас всплыла наверх, подхваченная общим потоком, и всякая дрянь. Вся та сволочь, которая долгие годы систематически натравливала и верхи, и низы страны на интеллигенцию, которая все святое и великое оплевывала и обливала грязью, сейчас спешит выказать себя ярым сторонником Временного правительства, в то же время всячески стараясь сунуть палку в победную колесницу Революции.
И по сравнению с этой сволочью (иного имени я дать не могу) смело можно назвать честным человеком отца современной провокации Зубатова25, который застрелился, видя торжество народа. Да, провокатор, предатель, шпион может в данном случае называться честным человеком.
А интересно сейчас самочувствие тех искренних правых, которые, по недостатку ли умственного развития или же вследствие своей ограниченности и своего убожества, серьезно считали «бессмысленными мечтаниями», как выразился Николай II, все либеральные идеи. Как они чувствуют себя, видя, что все это превратилось в явь, что греза стала былью? А как себя чувствует арестованный Николай?
22 марта
Вечером Юрий зашел ко мне, и заговорили о будущей карьере. Юрий начал говорить о том, что он будет доктором и общественным деятелем, отдавая весь свой досуг пропаганде социальных идей среди крестьян.
Он говорил горячо и с увлечением, как обычно говорит (без сомнения, к тому же и вино оказывало некоторое действие), и поэтому мне было жаль обливать его ушатом холодной воды. Но все-таки я сказал ему, что это так он мечтает, пока молод, а когда станет почтенным обывателем, то отлично проживет и без всяких идей, заботясь только о собственной шкуре. Конечно, это высказано было не так грубо, но все-таки подействовало на Юрия.
– Товарищ, я тогда застрелюсь. Поймите, застрелюсь, – ответил он.
Я поспешил сгладить это, сказав, что я не говорю о нем, но так обычно бывает.
– Ну а каковы ваши проблемы? – спросил Юрий.
Мы в это время остановились у ярко освещенной витрины сапожного магазина.
– А все-таки какой-нибудь идеал жизни у вас есть. Каков же он?
Я увлекся и почти без заикания начал говорить о том, что уже не раз высказывал в дневнике. Я говорил, что цель моей жизни узнать ее, эту человеческую жизнь, и чем больше судьба меня будет кидать из стороны в сторону, тем больше я буду доволен…
Послесловие
(Воспоминания Д.В. Фибиха-Лучанинова – июль 1965 года)
…Летом восемнадцатого года, проходя по Лермонтовскому скверу, я встретил одного из членов бывшего нашего кружка, Юрия Столыпинского, которого уже давно не видал. С Юрием я больше всего дружил. Высокий, красивый, сейчас он выглядел чрезвычайно импозантно: военная фуражка с красной звездочкой, на боку наган. Небрежным тоном Столыпинский сообщил мне, что в Пензе он проездом, едет на фронт, что эшелон его стоит на вокзале, а сам он – комиссар.
Другой наш кружковец, Эфраим Товбин, тоже ушел с Красной армией на фронт. Говорили, будто потом он попал в плен к деникинцам и был повешен как коммунист.
Комментарии к части I
1. Дурова – Надежда Андреевна Дурова (1783–1866), писательница, первая российская женщина-кавалерист, офицер, прославившаяся в Отечественной войне 1812 г.
2. Разин – Степан Тимофеевич Разин (ок. 1630–1671), предводитель Крестьянской войны 1670–1671 гг., вождь крупного протестного движения крестьян, холопов, казаков и городских низов.
3. Пугачев – Емельян Иванович Пугачев (1742–1775), донской казак, предводитель Крестьянской войны 1773–1775 гг. в России.
4. Милюков – Павел Николаевич Милюков (1859–1943), российский политический деятель, историк, публицист, теоретик и лидер партии кадетов. В 1917 г. министр иностранных дел Временного правительства 1-го состава.
5. Керенский – Александр Федорович Керенский (1881–1970, Нью-Йорк), дворянин, видный политический и общественный деятель; министр-председатель Временного правительства (1917).
6. Шишко́ – Леонид Эммануилович Шишко́ (1852–1910), политический деятель, публицист. Участник народнического движения 1870-х гг., член кружка чайковцев. С 1890 г. в эмиграции, один из основателей фонда Вольной русской прессы. Участвовал в создании партии эсеров, один из авторов ее программы.
6а. Степняк – Сергей Михайлович Степняк (Степняк-Кравчинский) (1851–1895), русский революционер-народник, анархист, писатель.
7. Игнатьев – граф Павел Николаевич Игнатьев (1870–1945, Канада), российский государственный деятель, министр народного просвещения (1915–1916).
8. Войнич – Этель Лилиан Войнич (1864–1960, Нью-Йорк) – английская писательница, композитор.
9. Чхеидзе – Николай (Карло) Семенович Чхеидзе (1864–1926, Франция), политический деятель, член РСДРП с 1898 г., меньшевик. Депутат III и IV Государственных дум.
10. Родзянко – Михаил Владимирович Родзянко (1859–1924), крупный помещик, действительный статский советник, политический деятель, один из лидеров партии октябристов.
11. Протопопов – Александр Дмитриевич Протопопов (1866–1918), потомственный дворянин, министр внутренних дел, сторонник жесткой правительственной политики. Летом 1918 г. препровожден в Москву и расстрелян.
12. Штюрмер – Борис Владимирович Штюрмер (1848–1917), крупный помещик, русский государственный деятель, в 1916 г. стал председателем Совета министров.
13. Щегловитов – Иван Григорьевич Щегловитов (1861–1918), из потомственных дворян, русский государственный деятель, министр юстиции.
14. Горемыкин – Иван Логгинович Горемыкин (1839–1917), видный государственный деятель царской России, действительный тайный советник 1-го класса, сенатор, член Государственного совета, относился к группе правых, до 20 января 1916 г. занимал пост председателя Совета министров. Был убит во время разбойного нападения.
15. Трёпов – Александр Федорович Трёпов (1862–1928, Ницца), российский государственный деятель. После 1917 г. оказался среди лидеров Белого движения, в 1918 г. эмигрировал в Финляндию и стал одним из лидеров монархической эмиграции.
16. Сухомлинов – Владимир Александрович Сухомлинов (1848–1926), генерал от кавалерии, с1909 г. военный министр, а в 1911 г. был введен в Государственный совет, во время Первой мировой войны был объявлен главным виновником неготовности страны и армии.
17. Дубровин – Александр Иванович Дубровин (1855–1921), один из основателей и до 1910 г. председатель Главного совета монархической черносотенной организации «Союз русского народа», редактор его печатного органа газеты «Русское знамя», по профессии врач. В 1920 г. арестован Всероссийской Чрезвычайной Комиссией и осужден.
18. Вирен – Роберт Николаевич Вирен (1856–1917), российский адмирал.
19. Бем – Михаил Антонович Бем, генерал-майор.
20. Плеханов – Георгий Валентинович Плеханов (1857–1918), русский публицист и политический деятель.
21. Кропоткин – князь Петр Алексеевич Кропоткин (1842–1921), русский революционер, теоретик анархизма, географ, историк, литератор.
22. Лопатин – Герман Александрович Лопатин (1845–1918), русский политический деятель, революционер.
23. Князь Львов – Георгий Евгеньевич Львов (1861–1925, Париж), русский общественный и политический деятель, после Февральской революции был председателем Временного правительства (фактически главой государства).
24. Гучков – Александр Иванович Гучков (1862–1936, Париж), российский политический деятель, лидер партии «Союз 17 октября». Председатель III Государственной думы.
25. Зубатов – Сергей Васильевич Зубатов (1864–1917), царский жандармский полковник, создатель системы политического сыска в России.
Часть II. Северо-западный фронт. Дневники 1942–1943 гг.
Дневники – самый надежный и достоверный вид описательных исторических источников. Они фиксируют события прямо и непосредственно, дают как бы фотографический снимок происходившего. Нужно ли говорить, что подобные качества дневников особо ценны на фронте, когда события меняются каждую минуту и память просто не в состоянии удержать весь поток информации, который приходится воспринимать человеку, находящемуся постоянно в пограничном состоянии между жизнью и смертью.
Интересно, как стали доступны военные дневники Д.В. Фибиха. Тетради с его записями были отобраны у него при аресте: они служили главными «вещдоками» его «преступления». На тетрадных страницах сохранились пометы красными чернилами, сделанные руками следователей.
В конце 2008 года внучка писателя М.Ю. Дремач получила разрешение ознакомиться со следственными делами ее деда, хранящимися в архивных фондах ФСБ России. К немалому ее удивлению, в качестве приложения к этим делам ей выдали несколько тетрадей с записями Д.В. Фибиха, чудом (поскольку все сопутствующие документы, как правило, уничтожались после вынесения приговора) уцелевших в архиве.
Рукописные тетради, в которых описываются события первой половины 1942 и первой половины 1943 годов, удалось расшифровать практически полностью. Последняя запись датирована 31 мая 1943 года. Через несколько дней их автор будет арестован и никогда больше не увидит своих дневников…
Здесь впервые публикуется полный текст сохранившихся дневников. Фрагменты их были опубликованы в газете «История – Первое сентября» (2009/№ 8) и в журнале «Новый мир» (2010/№ 5).
1942 год
Новогодний подарок: утром радио сообщило о нашем десанте в Крыму – заняты Керчь и Феодосия. Это значит – освобождение Крыма, разгром и уничтожение всей крымской группировки противника. В час ночи, когда мы втроем – я со своими старичками – сидели за скромным новогодним столом, по радио было передано известие о взятии Калуги и о разгроме армии генерала фон Клюге. Разбито 16 дивизий. Наш ответ на самоназначение Гитлера верховным командующим.
31-го, к Новому году, в Москве стали выдавать вино. В магазинах творилось что-то несусветное. Мама целый день стояла на морозе в очереди, зато принесла литр портвейна.
Москвичи живут впроголодь и в холоде. Папа с мамой как иждивенцы получают по 400 гр. хлеба в день, по 200 гр. масла в месяц, по 200 гр. сахара и 200 гр. конфет, по 600 гр. мяса и по 4 килограмма картошки. Служащим полагается немного больше. Лучше всего рабочим: 800 гр. хлеба, 1200 гр. мяса и т. д. О рабочей карточке мечтают. Многие интеллигентные люди только ради нее поступают на производство.
Квартиры с центральным отоплением топят прилично, на складах есть дрова, но все же холодно в московских домах. Во-первых, часть квартир пострадала от бомбежек – выбитые стекла, наспех, кое-где зашитые фанерой, треснувшие стены; во-вторых, много народа выехало кто куда, и их помещения сейчас совершенно не отапливаются, отчего страдают оставшиеся соседи.
Призрак годов военного коммунизма уже витает над Москвой. Скудность, неряшество, запущенность. В ресторанах мясные блюда и хлеб дают только по талонам. Я обедаю либо у мамы, либо в столовой Центрального дома Красной армии. Чистые скатерти на столиках, длинные дорожки, рыжие плюшевые портьеры на окнах. Обеды очень дешевые – 3–4 руб., но больше двух блюд не отпускают. Из мясных блюд – котлеты и сосиски с картофельным пюре.
Совершенно нет табака. Курят чай, шалфей, ромашку, липовый цвет. Махорка – заветная мечта москвичей.
Чувствую себя не совсем хорошо. Разболелся зуб, перекосило физиономию. Температура немного повышена. На фронте был и под дождем, и в грязи, и спал на сырой земле, и мерз – и ничего. Приехал под отчий кров – и свернулся.
Москва понемногу оживает. Возвращаются кое-какие издательства, учреждения. Работает Московское бюро писателей – филиал ССП1. Дикая паника 16 октября у всех свежа в памяти. Völkische Beobachter, которую мы читали на фронте, недаром говорил о сценах на московских вокзалах, напоминающих рисунки Гойи или Дорэ. Страшная опасность, нависшая над столицей, рассеялась, но обыватель все еще побаивается: а вдруг немцы опять начнут наступление? С тревогой ждут весны.
Заметно усилился антисемитизм. Обыватель возмущается тем, что евреи бросились бежать из Москвы в первую очередь, вместо того чтобы остаться защищать ее.
Уже сложился своеобразный быт военной Москвы. Хотя налеты стали гораздо более редкими, многие регулярно ночуют в бомбоубежищах. Здесь завязываются знакомства. Убежища превратились в своеобразные клубы. Много квартир пустует. Управдомы и коменданты стремятся вселить в них новых жильцов. В частности, такая попытка была сделана нашим новым комендантом и в отношении моей квартиры.
Два дня тому назад днем послышались выстрелы зениток. Только после того, как стрельба прекратилась, была объявлена воздушная тревога. В продолжение ее не прозвучало ни одного выстрела. Затем объявили отбой. Через четверть часа зенитки опять захлопали, но на это никто не обращал внимания.
Оригинальная система.
Был на кинофильме «Парад на Красной площади». Сталин говорил речь. Я смотрел на его слегка обрюзглое непоколебимо-спокойное, холодное лицо с черными, строгими и проницательными глазами. Ни тени волнения. Ни малейшего намека на то, что всего в нескольких десятках километров отсюда разъяренная гитлеровская армия изо всех сил рвется в Москву. Что за нечеловеческая выдержка, спокойствие и уверенность! Гигант. Поистине он имеет право с великолепным сарказмом и презрением называть тех, перед которыми дрожит весь мир, – «самовлюбленными берлинскими дурачками».
Не только Германия, но и вообще Европа никогда не знали, не понимали и всегда недооценивали потенциальные силы русского народа. Буржуазные политики и государственные деятели обычно упускают из виду такой громадного значения фактор, как психология, дух, сердце народа.
Англичане были потрясены тем, что Красная армия не рассыпалась после первых ударов бронированной германской машины, а продолжала успешно сопротивляться. Даже этого они от нас не ожидали. Черчилль1а глубокомысленно высчитывает, что только к концу 43-го года силы союзников будут превышать силы Германии и ее вассалов. У нас на сей счет иное мнение. Если наступление будет продолжаться в том же темпе, летом нынешнего года, я уверен, Германия капитулирует. Главное, сломать дух гитлеровской армии. А это уже не за горами.
Прошедший 1941 год был годом великих испытаний. Мы перенесли их с честью. Мы многое выстрадали, многое узнали, многому научились. И прежде всего – мы узнали самих себя.
1942 год будет годом победы.
6 января
Два дня уже бездельничаю в штабе Западного фронта в ожидании попутной машины, которая доставит меня в нужное место. Буду работать в армейской газете при новой армии – 1-й Ударной. Газета, как сообщили мне в Политуправлении фронта, новая и слабенькая. Здесь ею недовольны.
Прощаясь со мной, Дедюхин сказал, что я буду представлен к повышению – получу вторую «шпалу».
– Работали вы неплохо, отзыв о вас хороший.
Папа очень доволен, гордится мною. Предрекает мне к концу войны чин полковника. Провожал, помогал мне нести вещи.
Дедюхин сказал мне, как добраться до места назначения. Во-первых, я должен явиться в штаб фронта. Туда доставит меня попутная машина из «Красноармейской правды» – газета печатается в Москве. Ехать пришлось недалеко, километров тридцать на запад. Отсюда я поеду назад, опять через Москву, и затем сверну на север.
Перед самым отъездом из дома пришли два письма от Ади2. Жив, здоров. По-прежнему в том же положении. Общий тон этих кратких, написанных на клочках бумаги писем деловой и, я бы сказал, бодрый. Сильно был я обрадован и за брата, и за маму, которая места себе не находила, тоскуя и тревожась за его судьбу. Больше полугода от Ади не было никаких известий.
При мне же пришло письмо от Ксаны3, где она подробно описывает, как они живут втроем на Тирлянском заводе в Башкирии. Место глухое, живописное и, главное, тихое. Продуктов вдоволь, цены низкие, жизнь мирная и спокойная. Кира4 учится прясть, вязать, помогает Ксане по хозяйству. Кажется, пока не скучает. После всего, что перенесла девочка за этот год, после всех ударов и потрясений, это именно та обстановка и та жизнь, которая ей нужна.
Штаб расположился в каком-то бывшем санатории, среди большого парка. Декоративные ели и сосны, овраги, мостики. Трехэтажный дом Политуправления весь в желто-зеленых разводах – камуфляж. Остальные здания выкрашены либо так же, либо в белый цвет.
В подвальном этаже Политуправления общежитие для командированных. Среди старших политруков и батальонных комиссаров, отчисленных в резерв и с нетерпением дожидающихся нового назначения, нахожусь и я. Спим на койках с пружинными кожаными матрасами. Ходим в столовую. Завтрак, обед и ужин обходятся рублей в десять в день. Кормят хорошо – мясные блюда в большом выборе. В Москве, где пробыл почти две недели, все время у меня было чувство недоедания. Сейчас я наверстываю упущенное. Торопиться мне некуда, фронт от меня не уйдет, начальство само знает, когда меня отправить. Я не очень огорчен вынужденным бездельем, тем более что свободное время дает мне возможность писать большой очерк для «Известий» о конногвардейцах.
В один из последних вечеров моего пребывания в Москве внезапно за окном послышался грохот, и стекла так затряслись, что я подумал: сейчас вылетят. Немецкий самолет сбросил поблизости сразу несколько бомб. Одна упала на углу переулка Островского, как раз у самого посольства (кажется, австрийского), другая – на Гагаринском, третья как будто там же. В окружающих домах стекла выбиты. А морозы стояли тридцатиградусные.
Информбюро не только не сообщило об этом налете, но даже на следующий день опровергло заявление германской печати о бомбежках Москвы.
Нехорошо.
Вообще, Кропоткинский район, где живут мои старики, то и дело подвергается бомбежкам. Все окна в соседних домах зашиты фанерой. Одна из бомб разорвалась во дворе музея Льва Толстого. Не везет старику! Штукатурка, придававшая зданию вид каменного, отвалилась, и стал виден бревенчатый сруб. С одного дерева воздушной волной сорвана вся кора, дерево стоит совершенно голое.
В этом районе находятся штаб Московского военного округа и Академия Генерального штаба. В первом здании, ныне пустующем, все окна забиты фанерой.
Тревожусь за своих.
8 января
Четвертый день «все в той же позиции». Начальник отдела кадров, полковой комиссар Заславский, принял меня хорошо и сам как будто человек симпатичный, но его целыми днями нет. Когда будет машина – неизвестно. Начинаю нервничать, тем более что ПУР5 дал уже телеграмму в редакцию о моем приезде. Пока что живу действительно как в санатории. Летом здесь, наверное, чудесно. Усиленно питаюсь. Вчера за обедом давали даже пиво. Я получил два стакана. С удовольствием помылся в хорошей бане. Неплохо живут в штабе фронта. По коридорам Политуправления шныряют машинистки – круглозадые девочки в шинелях и сапожках.
Политработники, находящиеся в резерве, живут здесь иные по две недели. Я, конечно, в ином положении. Народ боевой, побывавший во всяких передрягах. Интересные рассказы. Запомнился мне рассказ о крестьянке, которая нашла в поле, в снегу разбитый германский самолет и около него летчика с переломленными ногами. Женщина несколько раз приходила к нему и била палкой, так и добила.
Эта же колхозница два дня держала у себя в погребе под картошкой раненого командира. Деревня была занята немцами.
Мальчик, работавший по заданию партизан, ночью разрядил автомат спящих у него в доме немцев. Кроме того, подложил гранаты под колеса машин. Партизаны сделали налет на село и перебили всех фашистов. Машины взорвались, едва только сдвинулись с места. Вскоре, во время боя, маленький герой погиб от шальной пули.
К сожалению, рассказчик не знал имени мальчика.
Мне думается, что когда Красная армия подойдет к Смоленску, немцы предложат нам мир, предварительно убрав Гитлера. Взяв на себя ответственность за руководство армией, кровавый маньяк подписал свой смертный приговор.
9 января
Вчера Заславский полусмущенно заявил мне, что, в сущности, транспорт не входит в его обязанности и что он ничем помочь не может. Спрашивается: чего он мне морочил голову и заставил даром потерять пять дней? А между тем из ПУРа уже прислали сюда запрос: куда девался писатель Фибих?
Кажется, завтра я все же уеду с одним батальонным, который направляется в 1-ю Ударную.
Вечером вчера показывали нам, «резервистам», американский фильм, еще нигде не шедший «Шампанский вальс». Киносеанс был оригинальный. В нашем большом подвальном помещении была установлена кинопередвижка, экран заменяла белая стена. Зрители сидели на койках. Каким далеким и чуждым было то, что нам показывали!
В антракте, когда вспыхнул свет, я увидел две новые фигуры. Поэт А.Тарковский6 и переводчик стихов Бугаевский7. В военной форме, только что прибыли. Их направляют в армейские газеты. Приехали из Чистополя8, где очутились после «великого драпа» 16 октября! Первый раз едут на фронт. Я – старый фронтовик, чувствую свое превосходство и немножко важничаю.
Тарковский – тонкий, черноволосый, красивый – хороший одухотворенный поэт и очень привлекательный человек. Приятно было встретить и еще приятнее было бы вместе работать.
Из рассказов моих сожителей.
Во время выхода из окружения им приходилось встречать в Смоленской области села, враждебно настроенные к Красной армии. Крестьяне, отказавшись пускать к себе голодных, продрогших командиров и бойцов, предлагали сдаваться в плен к немцам: «Там вас накормят». Наоборот, немцам охотно несли яйца и другие продукты.
Одному политработнику какой-то дед предложил: «Отдай мне часы, получишь хлеба». Делать нечего, политработник, вконец голодный, снял с руки свои часы и отдал. Дед за это вынес ему краюшку хлеба.
Это, конечно, единичные случаи, но все же, когда слышишь такие рассказы, а потом читаешь о немецких зверствах над крестьянским населением, то испытываешь чувство удовлетворения. Вы не ушли с нами, вы ждали немцев, может быть, даже радовались их приходу – так получайте же, кушайте на здоровье, господа мужички.
Хороший народ наши командиры и политработники. Они, правда, серые, им часто не хватает и военной, и общей культуры, но человеческий материал великолепный.
И лица простые и хорошие.
10 января
Попутчик, с которым я собирался поехать, оказывается, отправляется только тринадцатого. Еще три дня! Решил сегодня же ехать поездом назад в Москву, а оттуда есть ежедневная связь с армией. Я узнал это лишь сегодня. Никто ничего не скажет толком. Даром потеряна целая неделя.
Тарковский вчера уехал в свою 16-ю. Ему повезло: сразу же нашелся попутчик – кавалерист из части Доватора. Колоритный парень в полушубке, весь увешанный трофейным оружием. На одном боку, рядом со своим наганом, немецкий маузер, на другом – красивый кортик на серебряной перевязи, за спиной германский автомат. Странное двурогое оружие, напоминающее уродливый пистолет.
Бугаевский и вчера же приехавший поэт Швецов9 тоже уехали – один в 10-ю, другой – в 50-ю армию.
Ходят слухи, что крупным нашим воздушным десантом занята Вязьма. Можайская группировка немцев окружена. Если это правда, то замечательно.
13 января
Вот я и на новом месте, среди новых людей.
Первые впечатления хорошие. 11-го выехали. В Большом Спасском переулке, в здании школы, где находилась военная почта, с трудом, с волнениями, переходя от надежды к унынию и обратно, раздобыл машину, идущую в армию. Папа провожал меня и помог нести складную койку. Выехали в третьем часу дня. Счастье, что мне разрешили ехать в кабине шофера, иначе не знаю, что стало бы с моими ногами – я ехал без валенок. Мороз – под 30 градусов. Но и в кабине приходилось ежиться от холода.
Ехали долго, часов восемь. Дорога на Калинин. Занесенные снегом баррикады на окраинах Москвы, ряды железных рогаток, проволочные заграждения. Деревушки – мертвые, разрушенные. Чем дальше не запад, тем все дальше будет такая картина: торчащие печи, развалившиеся избы. В сумерках проехали Солнечногорск, совсем в темноте – Клин. Отвоеванные, политые кровью места. Все чаще по сторонам дороги попадаются подбитые немецкие танки, исковерканные автомашины. Последние часы пути еду мимо бесконечной вереницы брошенных фашистских машин. Дорога идет лесом, ели в снегу – декоративные, как в опере, на каждом шагу торчат танки, автобусы, тягачи, грузовики, наконец, просто груды железного лома. Все занесено снегом. Прямо по Верещагину.
Это новый для меня пейзаж. Нечто похожее, но в очень слабой степени я видел под Каширой. Но вот конечный пункт моей машины – Теряева слобода. Здесь полевая почтовая станция. Мы привезли сюда газеты и корреспонденцию, мои спутники выгружают все это, чтобы ехать назад в Москву. Избушка, где находится ППС10, крохотная, теснота невообразимая. Выясняю, что редакция в трех километрах отсюда, в деревне Чаща. Идти ночью по незнакомой дороге, нагруженный, как верблюд, тяжелой поклажей?
Упрашиваю позволить мне переночевать на ППС, ничего не выходит – меня направляют к коменданту. Иду туда. Я не ел с восьми часов утра, продрог, замерз, устал, клонит ко сну.
Комендант отводит мне ночлег в помещении комендантской роты. Сперва забираю вещи и плетусь по темной, неизвестной мне деревне. Ощупью нахожу в темноте обледенелые лестницы, сени, двери. В комендантской роте тепло и дымно. Топится железная печурка, дым ест глаза. На нарах лежат и спят бойцы. За столом читают вслух газету и оживленно комментируют. Все молодежь, кадровики. Чувствую подъем. Только что я разложил в углу свою складную койку и лег – явился посыльный. Комендант телефонировал редактору о моем приезде, и редактор сам, собственной персоной явился меня встречать. Минут через десять, пока я укладывал вещи, он пришел сюда. Знакомимся. Высокий человек в овчинном полушубке и в валенках, лицо неврастеника. Фамилия его – Ведерник. Он ведет меня к санкам и несет сложенную мою койку.
В ожидании, пока приедут вызванные им санки, мы смотрим кинофильм «Парад на Красной площади». Кино в избе, зрителей всего несколько человек – политработники да сверху, с печки, свешиваются головы хозяйских ребятишек. Вместо экрана – простыня. Кинопередвижка в неисправности: хрип, свист, рычание. Затем на крошечных розвальнях, где с трудом помещаются трое, мы выезжаем из деревни. Снег поет под полозьями. Давно я не ездил в санях! Звезды такие, будто их долго чистили. Морозище. Оставляем темную Теряеву слободу, где кое-где чернеют, точно колонны, печные трубы, минуем большую колокольню и церковь с вырванными боками, перед которой стоят зенитки, и выезжаем в поле. Далекие раскаты артиллерии, вспышки выстрелов. Знакомая картина. Почти месяц я ее не видел. Справа взлетает красная ракета, потом зеленая, снова зеленая, за ней белая… Так всю дорогу. Беседуем с редактором о газете. Он откровенно говорит, что Боев, приезжавший сюда, ругал газету – суха, скучна. Мне нравится эта откровенность.
В белесой тьме снежного поля смутно чернеют какие-то кусты, перелески.
Наконец мы в деревне. Я устраиваюсь в избе, где живут начальник отдела армейской жизни и два литработника. Все спят, темнота. Мои надежды на ужин разлетаются как дым. Полусонный Чирков, начальник отдела, познакомившись со мной и встав с постели, приносит чайник с теплым чаем, блюдце колотого сахара и черный хлеб. Изба чистая, просторная, только неприятно, что выпало стекло в одной из двойных рам, несет холодом.
Приглядываюсь к моим новым товарищам, с которыми отныне мне придется жить вместе и работать. И может быть, долго.
Старший политрук Чирков, новое мое непосредственное начальство, – коренастый, спокойный, с открытым розовым лицом, с белыми зубами. Типичный кадровый командир. Начал с простого красноармейца и за 12 лет дошел до Военной академии. Очень любит порядок. Москвич. Литсотрудники Шипов и болезненный Ленский, похоже, простые и славные ребята. Первый работал раньше в «Красной звезде», второй – в железнодорожной газете. Они, видно, звезд с неба не хватают. Ну что ж, будем жить вместе. С грустью вспоминаю оставшихся друзей. Как тут не хватает злого и блистательного красноречия Митрофанова, утонченной эрудиции Берцмана, молодой горячности и культурного багажа Кузнецова, лиричности музыкального Васи Хабина! Серость чувствуется.
Редактор, старший батальонный комиссар Ведерник чрезвычайно любезен и предупредителен. Стоило мне только заикнуться, как он сразу же сам выдал мне валенки – огромные, на слона – и суконную гимнастерку. Суконных брюк, которых я не получил до сих пор, у них пока нет – не выдали. Сегодня написал раешник – впервые в жизни. Нужно зарекомендовать себя с наилучшей стороны, нужно выручать газету.
У меня приподнятое, рабочее настроение. Хочется писать хорошие очерки.
18 января
Много работаю. Никогда в жизни не писал раешников – теперь пишу. Сам предложил Ведернику. За первый напечатанный раек редактор хотел пожать мне руку. Написал сказочку «Мороз-Воевода» – тоже впервые. История ее такова: в редакции валялись старые клише – мне предложили написать к ним текст.
Кроме того, делаю очерки.
Механическая база у газеты бедная. Нет клише, нет шрифтов, плохая верстка. Газета выходит со скрипом и часто отстает на день от центральных.
Приехал писатель Вяч. Ковалевский. Мы знакомы по Москве. Скромный, тихий, всегда в тени, способный. Автор «Хозяина трех гор» – истории Трехгорной мануфактуры. Выдвиженец Горького. Мне будет не так одиноко.
В «Известиях» напечатали мой подвал «Конногвардейцы». Как водится в газете, сильно поджали и подсушили. Десять лет не появлялась моя фамилия в «Известиях».
На днях «брал интервью» у пленного немца. Первый раз увидел перед собой живого врага. Впечатление отталкивающее и жалкое. Молодой – 32 года, бывший рабочий. Лицо и руки черные от грязи. Ноги обморожены – не может ходить. Вши на нем кишат. Сидя на стуле, ни секунды не оставался спокойным – ежился, раскачивался. Может, оттого, что болели ноги, может, вши не давали покоя, а скорее всего, от того и от другого. Конечно, не фашист, не зверь и не сволочь. Несчастное пушечное мясо, страдающее неизвестно почему и за что.
Я написал очерк о пленном немце.
Армия, где я нахожусь, на правах гвардейской. Я буду получать полуторный оклад.
Плохо – нам, редакционным работникам, водки не дают.
24 января
Ездил во 2-ю гвардейскую бригаду. Первая моя поездка. Бригада из сибиряков, уральцев и тихоокеанских матросов была брошена на немцев под Дмитровом и Яхромой, разгромила их и отбросила назад. Пехотные части при этом полегли все – в строю осталось 23 человека. Дрались отчаянно, героически. Все молодежь, впервые попавшая в бой.
Поехали редактор, я и новый работник, начальник отдела информации Белкин, добродушный, разбитной и недалекий еврей, опытный провинциальный журналист. Сильный мороз – как всегда во время моих поездок. Везет! В деревне Ботово, где находился политотдел, задержались, редактор разговаривал с начальником, а мы мерзли в машине на улице. Около обледенелого колодца застрял в снегу немецкий гусеничный автобус. Провели трех пленных немцев. Пилотки, зеленые шинели, сапоги и башмаки. Шли быстро, пряча руки в карманах или закрывая ладонями уши. Волчьи взгляды. Лица, сверх моего ожидания, здоровые, не истощенные. Говорят, это обозники, бывшие танкисты, превратившиеся в пехотинцев. Никто не обращал на немцев особого внимания, видимо, зрелище привычное. Гораздо больше интересовал всех наш самолет У-2, который брал за селом разгон и ездил по снежному полю. Собрались бойцы, мальчишки, даже выбежал из кухни повар в белом колпаке – глядели на «уточку». Прошел командующий армией генерал Кузнецов11 и член Военного совета Колесников12. Оба в зеленых бекешах и в бурках, без оружия. Генерал маленький, смешной, ходит животом вперед. Сзади, шагах в десяти-пятнадцати, следовал боец личной охраны с винтовкой за спиной.
Поехали дальше.
По дороге то и дело мертвые немецкие машины – легковые, грузовики, вездеходы. Все изуродованное, горелое, покрытое снегом. Мы проехали несколько деревень. Там и тут еще дымились пожарища. Вчера здесь шел бой. Засыпанные снегом трупы немцев и лошадей. Немцы валялись по сторонам дороги в одиночку и кучами. Мерзлые, окоченелые, в разных позах мертвецы засыпаны снегом, из-под которого торчит лишь восковая рука или красная на морозе пятка. Почти все разуты. В одной из деревень, которые мы проезжали, машина задержалась. Я слез для того, чтобы рассмотреть мертвых немцев вблизи. На улице, на пустыре лежали четверо. Один в зеленом расстегнутом мундире с красной ленточкой Железного креста. Светлые волосы, худощавый, во рту с мелкими зубами набился снег. Чистокровный ариец, сволочь! Рядом другой, такой же, – совершенно голый. Кто-то начал стаскивать с него даже подштанники, да бросил на полпути. Желтая восковая кукла. Это не столько мародерство, сколько вызванное великой ненавистью желание поиздеваться даже над трупом. Мне рассказывали: красноармеец нашел убитого немецкого офицера – в очках, закоченел с поднятыми руками. Его подняли и поставили в снег торчком. На этого офицера наткнулся один из моих новых коллег. Сюжет для рассказа. В Алферьеве крестьяне вырыли большую квадратную яму и вместе с убитыми лошадьми свалили туда и трупы немцев.
К валявшимся посреди села мертвецам подходили наши бойцы, рассматривали с холодным любопытством. Один ногой откинул борт зеленой куртки – показался шерстяной джемпер.
– Женский, – сказал боец.
На розвальни укладывали мотоциклы, винтовки, каски. Я видел, как проехали запряженные лошаденкой крестьянские сани, к которым на буксире был прикреплен немецкий мотоцикл с коляской. На нем сидел и правил наш мотоциклист. Это выглядело почти как символ.
Дальнейшую дорогу нам преградило дальнобойное наше орудие, которое вместе с тягачом застряло в овраге. Люди старались вытащить. Ведерник предложил мне и Белкину дальше двигаться пешком. До Бабинки, где находился штаб гвардейской бригады, оставалось, по его словам, километров шесть-восемь. Нечего делать, потопали пешком, записав маршрут и расспрашивая встречных.
Звонкий визжащий снег, оловянное солнце над головой, снежные поля. Когда весной растает снег, сколько под ним обнаружится трупов!
Снова деревни, где слабо курятся пепелища, – бойцы варят на горячих угольках картошку. Крестьянки, везущие саночки с мешками и тюками. Немцы прогнаны, можно вернуться к родному – буквально – пепелищу…
Я нашел на дороге обрывок немецкой полевой карты. Углич, Новгород. Дальше – воткнутый в сугроб шест с надписью на немецком языке «Елинархово» – указатель деревни, к которой мы подходили.
На закате добрались до деревни Бабинки. Издали еще слышалось хлопанье минометов. Бойцы, попадавшиеся по дороге, в касках, надетых поверх шапок-ушанок. То и дело черные матросские бушлаты. Находим штаб и политотдел, знакомимся с комиссаром бригады Бобровым, полковником Безверховым, начальником политотдела Никифоровым. Первые двое в черных морских кителях. Ночуем в избе, занятой политотдельцами. Я сплю на узкой лавке. Хозяева относятся к нам, военным, необычайно предупредительно и радушно. Познакомились с немцами! Снова ставшие уже стандартными рассказы о хамстве и грубости немцев, о том, как они грабили, отбирали последнее. Знакомство с немецким народом наша деревня будет помнить сто лет. У сестры хозяйки, которая живет тут же, сгорел дом со всем имуществом – попала зажигательная бомба. «Еле успела выскочить»… Рассказывается об этом спокойно, покорно. Столько вокруг горя и разорения, что даже такое бедствие воспринимается пострадавшими как естественное.
Весь следующий день проходит в разговорах с командирами и политработниками, в отборе материала. Собрал за день достаточно. Обед с водкой. Но, в общем, прием далеко не такой радушный, как у конногвардейцев. Сейчас они далеко от меня.
Я должен был пробыть здесь несколько дней, но неожиданно стало известно, что получен приказ ночью сниматься и выступать. Куда? В Энском направлении, за восемьдесят километров. Бригаду должна сменить другая часть. Ночью выступаем. Нас повезут до Ботова. Едем в крытой полуторке. Мрак, невероятная теснота. Люди путаются в ногах. «Чьи это ноги?», «Дай мне выдернуть мою ногу». Мороз еще крепче. Хоть я одет и обут достаточно тепло, но холод, черт его возьми, находит какие-то неизвестные лазейки, пробирается за шиворот, больно кусает пальцы. Тяжелый полусон, полуявь, что-то вроде бреда. Остановится машина – снаружи визг полозьев. Идут обозы – вся бригада в походе. Выглянешь из-под навеса: горящие звезды, дорога забита санями и автомашинами, рядом лошадиные морды и крупы, борта грузовиков, розвальни, на которых навалены пулеметы. Все покрыто инеем. В темноте то там, то тут пылают костры, у которых теснятся озябшие красноармейцы. Розоватый дым, искры.
О немецких самолетах сейчас не думают – пусть налетают, плевать!
Так проходит бессонная мучительная ночь. На рассвете, не доезжая Ботова, начальник политотдела сообщает нам, что машина целый день простоит здесь, в Масленниково, в ожидании, пока протянется колонна. Мы с Белкиным решаем продолжать путь самостоятельно. До Чащи километров пятнадцать.
Греемся в ближайшей избе. Из тридцати домов здесь уцелело только шесть. В избе живет несколько семей, человек двадцать. Покрытые снегом окна синеют рассветом, грязь, скученность, холод. На полу спят впритирку. На веревке через всю комнату висят портянки, тряпье. Топится железная печурка, перед ней сидит хозяйка с отупелым, апатичным лицом. Она оживляется только тогда, когда с беспокойством спрашивает нас, почему мы едем назад с фронта. Боится, что войска отступают. Между прочим, везде в деревнях, очищенных от врага, наблюдается эта тревожная настороженность: только бы не ушли наши, только бы не вернулся немец.
Мороз каленый. Желтая заря. Мы шагаем по дороге. Часть пути делаем пешком, часть на попутной машине. Застанем ли редакцию в Чаще? Неизвестно. Прощаясь с нами, редактор предупредил, что они, возможно, переедут на новое место. Вот и Чаща. Ура! Редакция на старом месте. На следующий день мы грузимся и трогаемся в путь.
Куда именно – конечно, неизвестно. Военная тайна. Снова бессонная ночь, вернее, вечер на открытой машине на 30-градусном морозе. Мы сидим, закутанные в одеяла, в пятнистые немецкие плащ-палатки.
Поздно ночью приезжаем в Клин и располагаемся в домиках рабочего поселка имени Х Октября – наши квартирьеры нашли тут квартиры. Оказывается, наша армия на время отводится в тыл для окончательного формирования. В бой она была брошена не будучи вполне сформированной – не до того было. Сейчас она выполнила свою основную миссию – разгромила нависший над Москвой с севера фланг немцев, отбросила их далеко за Дмитров и Яхрому и может немного отдохнуть. Куда нас теперь направят? Все говорит за то, что на север – выручать Ленинград.
Я не успел еще рассмотреть как следует Клин, где еще недавно происходили жестокие бои и куда приезжал Иден. Заметно только, что центр города совершенно разрушен. Мертвые кварталы. Каменные дома без крыш, с дырами вместо окон и дверей. В темноте (а я видел город только в темноте) все это скрадывается.
Комната, где мы живем вшестером, небольшая, чистенькая. Дров здесь мало, хозяева берегут, и поэтому во всех квартирах стоит собачий холод. С некоторым сожалением вспоминаем жизнь в деревне: там и топливо не проблема, и всегда можно найти спасительную картошку. А бытовые условия, в сущности, немногим отличаются от деревенских.
Присматриваюсь к окружающим меня людям. Редактор не пользуется симпатиями. Упрямый украинец, человек невысокого ума с примесью солдафонства. Ко мне пока относится хорошо. На днях я даже пил у него чай, когда вернулся усталый и замерзший из 2-й гвардейской дивизии. Высокая честь!
Не успели мы переехать в Клин, как Ведерник снова направил меня и Белкина к гвардейцам. Таинственный поход бригады закончился у Клина. Отсюда до нового местонахождения гвардейцев километров восемь-десять. На завтрашний день у них должно было состояться торжество вручения гвардейского знамени. Редактор предложил нам отправиться пешком.
– Транспорт у нас больной вопрос.
Сотрудники мне рассказывали, что им приходилось делать, добывая материал, по 30, по 50 километров пешком. Как это отражается на качестве работы, можно судить.
Был уже вечер, темнота, и я осторожно сказал редактору, что гораздо целесообразнее было бы отправиться нам завтра, с раннего утра. Однако Ведерник мягко, но решительно заявил, что отправиться нужно именно сегодня. Спорить нельзя. Что ж, двинулись к гвардейцам ночью, пешком по незнакомой дороге. Хорошо, что ночь была светлая. Добрались наконец до села Селинского – расположения бригады. Нас встретили уже как старых знакомых.
На другой день с 11 часов утра батальоны выстроились для парада на площади перед белой каменной церковью. С одной стороны из-под снега торчали две высокие печные трубы – все, что осталось от школы, с другой – виднелись изуродованные немецкие автомашины. Все село завалено ими, есть даже брошенные пушки. Мороз свирепый. Усы, бороды, ресницы людей, меховые опушки шапок – все седое от инея. Над рядами бойцов стоит непрерывный топот ног и хлопанье руки об руку – народ греется как может. Все ждут прибытие высокого начальства. Но никакого недовольства, досады. Наоборот, люди как будто радуются морозу – каково немцам сейчас? А нам-то что, мы – народ привычный, перетерпим как-нибудь…
Наконец, пять часов продержав бойцов на морозе, прибыло высокое начальство, и парад начался. Спрашивается, к чему было гнать нас сюда именно вчера, именно ночью? Приехали сам командующий армией Кузнецов и бригадный комиссар Колесников. Привезли покрытое чехлом знамя.
– Здравствуйте, товарищи гвардейцы! – крикнул, закидываясь от натуги назад, маленький генерал и при последнем слове даже подпрыгнул – будто выстрелил им.
– Р-ра! – ответили ряды.
Колесников залез на полуторку, где стоял столик, и произнес речь. Говорил с волнением, побагровел. Затем короткие речи командующего армией и полковника Безверхова, церемония передачи знамени, и бригада, перестроившись, рота за ротой проходит церемониальным маршем. Ничего гвардейского не было в этих мешковатых, нестройно шагающих бойцах. Большинство из них башкиры, удмурты – новое сырое пополнение. Основные кадры пехоты полегли под Яхромой и Дмитровом. Некому было вручать ордена – награжденные в земле или в лазаретах. Во сколько человеческих жизней обойдется нам эта война?
Признаться, в простоте душевной я надеялся, что и нас, корреспондентов, пригласят на обед по случаю такого торжества, но не тут-то было. Большое начальство отправилось обедать на квартиру командира и комиссара, а к услугам нашим и прибывших кинооператоров была предоставлена столовая Военторга. Мы скромно пообедали вместе с политработниками супом-лапшой и гречневой кашей.
Вечером в темноте, оставив Белкина, я двинулся в обратный путь – нужно было срочно сдавать материал. Назад шел тоже пешком. Ночные снежные поля, лунный серп в морозной дымке, тишина и скрип снега. Неудобно шагать вот так в валенках…
И все же что-то патетическое было в этом скромном и суровом параде, происходящем в морозную стужу, в селе, где все хранило память недавних кровавых боев.
При политотделе армии уже организуется подбор материалов для будущей книги об истории армии. Я познакомился с инструктором, ведающим этим делом. Он сам предложил мне принять участие в книге. Я охотно согласился.
28 января
Пока еще в Клину. Гнетущее впечатление производит городок: торчащие печные трубы, мертвые пустые дома с дырами вместо окон и с провалившимися крышами, целые кварталы закоптелых полуразрушенных стен зданий. Особенно пострадала центральная часть города. У въезда в город, при подъеме на Крестьянскую улицу, – покрытые снегом немецкий автобус и два маленьких разбитых снарядами танка. На стенах домов сохранились написанные мелом надписи немецких квартирьеров.
Зашел в гастрономический магазин. На полках – шары катай. Всех товаров только черный и красный перец. Как живут клинчане? Хлеб есть. Торжественное событие: коллективно помылись в бане. Для этого нужно было встать в пятом часу утра. Баня работает круглые сутки и обслуживает, конечно, армию. Моются в организованном порядке, по заявкам. Раздевшись, полчаса ждали, когда пойдет вода. Наконец полил кипяток – холодной воды так и не дождались. С грехом пополам помылись. Хорошее правило: взамен снятого грязного белья тут же в бане дают чистое.
30 января
Кажется, завтра трогаемся в путь. Едем в эшелоне, по железной дороге. Давненько я не ездил в поезде. Предполагаем, что нашу армию направляют на север выручать ленинградцев. Настроение у нас в редакции приподнятое. Почетная и ответственная задача. 25 января, после доклада нашего Военного совета, Сталин передал привет 1-й Ударной и пожелал дальнейших успехов. В связи с этим редактор поручил мне написать передовицу. Я не писал их с 1918 года.
Участвую в работе над книгой о нашей армии. История 1-й Ударной пишется по заданию Сталина. Срок – к 1 марта. Как сумею, не отрываясь от газетной работы, отнимающей 12 часов в сутки, написать к указанному сроку – не знаю.
В «Известиях» напечатана вторая моя корреспонденция – о пленном немце. Послал еще три очерка – расширенные копии того, что печатаю в газете «На разгром врага».
31 января
В армию приезжал Калинин13 и выступал перед бойцами. Хвалил действия армии. Упрекнул лишь в том, что допустили большие потери. Сказал, что теперь нам предстоит воевать в лесах. Редакция прозевала такое важное событие, как приезд Калинина, поднялся переполох. Нам, армии поручается какое-то большое и важное дело. У нас уже поговаривают о будущих наградах.
1 февраля
Второй день сидим как на вокзале – вещи упакованы, а когда поедем, неизвестно. Газета пока не выходит. Непривычное ощущение праздности. Настроение какое-то кислое. Куда едем, конечно, никто не знает, но предполагают, что под Ленинград.
Насчет лесов, о которых якобы говорил Калинин, неверно. Я читал стенограмму его речи. Как раз он сказал, что нам предстоит война в местности, где нет лесов. Уж не Украина ли, чего доброго?
От Берты14 уже около двух месяцев никаких вестей. Правда, это может быть связано с моими переездами с места на место – письма меня не застают, – но все же беспокоюсь. Получила ли она денежный аттестат – не знаю.
Народ, меня окружающий, серый, примитивный. Неплохие ребята, но серость, серость… Редактор – дубоватый, с невысокой культурой, придирчивый и запуганный человек. Неврастеник. Его не любят и осторожно посмеиваются над ним. Никаких совещаний и летучек здесь не практикуется. Руководство осуществляется лишь методом приказа. Лещинер держался куда демократичнее и, конечно, был умнее.
На днях отправили по инстанции списки сотрудников для представления к награде. Я туда не включен. Конечно, мне рано еще претендовать на такую честь – нет еще трех недель, как я здесь работаю, но и сама-то газета существует не больше трех месяцев.
Я не чужд честолюбия. С этой точки зрения мне импонирует то, что я направлен в особую, созданную самим Сталиным армию, предназначенную для серьезных операций. Здесь можно проявить себя. О второй «шпале», которую посулили мне в ПУРе, пока что-то ничего не слышно.
Наше питание: утром чай с сахаром, черный хлеб, масло, в обед гороховый суп (из концентратов), часто без мяса, и гречневая или ячменная каша. Ужин такой же, как и завтрак.
Стол далеко не изысканный, но сытный.
Вчера редакция раздобыла вина, и по сему случаю было скромное пьянство. На наш армейский отдел – на семь человек – досталось шесть с половиной литров. Вино красное, сухое, сильно разбавленное водой. Принесли патефон, слушали музыку.
Вспомнились мои прежние фронтовые «банкеты», товарищи, которых я покинул, и грустно стало. Не хватает мне их общества!
2 февраля
Редакция бездельничает – все еще сидим в ожидании погрузки. Выяснилось: едем сначала в Москву, там наш эшелон переводят на другую линию и направляют на Бологое.
Заглянул вчера вечером к редактору – взять центральные газеты. Ведерник пригласил меня остаться, достал прекрасного портвейна и угостил. Кроме нас, были его жена – машинистка и начальник издательства, потом пришел заместитель редактора. Избранное общество, куда далеко не всякий имеет доступ. Однако я чувствую себя неловко среди олимпийцев. О чем с ними говорить? Даже Лещинер был культурнее.
Зато у секретаря редакции Березниченко в тот вечер собралась компания более демократическая. Между прочим, были три девушки, наши наборщицы. Одна из них, Люся, пела под аккомпанемент гитары. Аккомпанировал Березниченко. У Люси славный голосок, училась в свое время пению. Пела даже по-немецки. Репертуар у нее богатый. Еще несколько дней такого безделья, и редакция окончательно разложится.
Ходили с Ковалевским в музей Чайковского. Двухэтажный, темно-красного цвета каменный дом расположен среди старого сада на самой окраине города. Здесь некоторое время жил и работал Чайковский. Типичная помещичья усадьба. Ворота слегка повреждены въезжавшим сюда немецким танком. Заведующий музеем старичок-еврей охотно водил нас по опустелым комнатам и рассказывал, как хозяйничали немцы. Они пробыли здесь 21 день. Вели себя как скоты и дикари. В свое время об этом много писалось в московских газетах. Я видел разбитый бюст Чайковского, у которого, кроме того, нарочно был отбит нос.
Сейчас дом вымыт, очищен от грязи и испражнений, все по возможности приведено в порядок.
Хорошо, что большинство экспонатов в свое время были отправлены в Воткинск, где имеется филиал музея.
4 февраля
«Все в той же позиции». Слоняемся, томимся, едим кисель, который раздобыл «наш хозяйственник» Ленский. Как будто сегодня все же тронемся в путь… Впереди напряженная боевая работа. Немцы сильно укрепились под Ленинградом, город в осаде, в кольце. Придется взламывать линию обороны. Нечто вроде прорыва линии Маннергейма.
Почти три недели прошло, как я написал старикам, и никаких писем от них нет. Не дошло до них мое письмо, что ли? То же и в отношении Берты. Сильно тревожусь, как она живет материально, какова судьба посланного ей аттестата.
Кирочка ничего не пишет. А сколько я ей послал писем! Впрочем, она никогда не была охотницей много писать.
Работа над «Историей» на точке замерзания. Кроме меня, к этой работе привлечены К-ский и двое из нашего отдела – Шипов и Аристов. Военный совет поставил жесткий срок: сдать к 1 марта. Совершеннейшая утопия. При такой загруженности текущей газетной работой, которая у нас существует (здесь я работаю несравненно больше, чем у Лещинера), нечего думать о таких сроках. Мы выдвинули вопрос, если не о полном, то хотя бы о частичном временном освобождении от работы в газете.
Конечно, это не в интересах Ведерника. Во всяком случае, пока я не получу от него приказа приступать к работе над «Историей», бессмысленно приниматься за такое дело.
Узнал, что Верцман20 направлен в какую-то армию, а Митрофанов совершенно освобожден от военной службы по состоянию здоровья. Он никогда не высказывался и держался мужественно, но по всему чувствовалось, как тяжело ему, глубоко штатскому человеку, служить в армии и находиться на фронте.
Послал обоим письма.
В Москве с продовольствием стало хуже. Хлеба выдают на 100 гр. меньше. Разговоры о коммерческих магазинах – болтовня. Скорей бы разделаться с немцами!
Познакомился со стенограммой речи Калинина. Речь эта, конечно, не для широкой публики. Впервые за все время войны подчеркивание классового характера этой войны и оценка англичан как империалистов, которым, в сущности, нечего особенно доверять.
Немцы снова захватили Феодосию. Итак, блестяще начатая наша операция в Крыму провалилась. Этого нужно было опасаться: почти месяц газеты ничего не сообщали о положении на этом участке.
Нам еще предстоят неприятные неожиданности. Рано успокаиваться.
7 февраля
Пишу эти строки в деревне Мир-Онеж (как будто так) Ленинградской области. Мы обосновались здесь на ночлег. Вечер, керосиновая лампа, большой стол, за которым, кроме меня, пишут еще трое. Тиканье больших, в деревянном ящике часов явно городского вида.
Четвертый день в пути на новый фронт. 4 февраля вечером погрузились в эшелон. Вокзал в Клину уничтожен немецкой бомбежкой. Мы – редакция, заняли две теплушки. Редакторат едет в классном вагоне. Кроме меня, в эшелоне и АХО15, и трибунал, и политотдел, и санчасть. Ночь мы стоим в Клину. Посреди теплушки топится печурка. Мы раздобыли каменного угля, я принес большую корзину. В вагоне жарко, стенки печурки наливаются мутной краснотой, все озарены снизу, на стенках теплушки огромные тени шевелятся. Всю ночь и утро идет погрузка. Наши автомашины на платформах. Едем.
То и дело остановки, часто среди поля. Все заняты главным образом готовкой пищи: варят гречневую кашу, греют консервы, кипятят чай. На печурке стоят котелки, консервные банки, миски. Вагон дергает – мы еле удерживаемся на ногах, слышно шипение пролитой на раскаленную печурку воды, клубится пар. Под вечер принесли патефон от редактора. Приходят две наши девушки, в том числе Люда. Она не наборщица, как я думал, а корректорша.
Ночи великолепные: яркая луна, мороз. После фронтового пейзажа глаз отдыхает на селах и деревнях. Все целехонькое, довоенное, войны не чувствуется – немец здесь не был. То, что немец сюда не заглядывал, чувствуется и в другом. На остановках вдоль вагонов ходят крестьяне, меняют на табак и мыло свой товар: молоко, лук, клюкву. За пол-литра молока требуют осьмушку махорки. Мы негодуем: спекулянты, немцев бы вам сюда! На мороженую клюкву все набрасываются с радостью. Витамины.
У нас не было уверенности, ходят ли поезда до Калинина. Оказалось – далеко за Калинин. Проезжаем Вышний Волочек. Две немецкие бомбы как раз угодили в здание вокзала. От него остался только кусок.
Бологое. К нему подъезжаем ночью. Останавливаемся в поле, долго стоим, потом осторожно трогаемся и опять надолго останавливаемся. Березниченко приносит сообщение о том, что немецкие самолеты каждую ночь бомбят Бологое. Точность попадания весьма высока. Пронюхали! Светлые ночи мешают нашим прожекторам обнаружить налетчиков.
Кое-кто переживает неприятные минуты: удастся ли благополучно проехать Бологое?
Удалось.
Под утро приезжаем на место назначения. Это вторая остановка после Бологого, станция, кажется, Лукошино. Наш эшелон останавливается на высокой насыпи. Внизу белые крыши и заснеженные деревья станционного поселка. Начинается выгрузка. Вместе с наборщиками и шоферами мы носим кипы бумаги, тяжелые кассы с шрифтами. Нести приходится вдоль всего эшелона по узкой тропке, забитой людьми, выгруженным из вагонов имуществом, лошадьми, запряженными в розвальни. Хорошо еще, что ночь светлая, ясная. В темноте такая работа превратилась бы в пытку.
Наконец – уф! – выгрузка закончена. Уже совсем светло. Морозец. Отсюда, от Лукошино, нам предстоит еще сделать километров восемьдесят на открытых машинах.
Усаживаемся, трогаемся в путь. В ближайшей к станции деревушке останавливаемся на час и выгружаем в одной из изб привезенную нашу бумагу. Кипы перелетают из рук в руки по конвейеру – и работа идет дружно и быстро. Затем едем дальше.
Местность необычайно живописная: Валдайская возвышенность, холмистый рельеф, еловые леса, много замерзших озер, на елях белыми шапками лежит снег. Прекрасное шоссе то взлетает на горку, то спускается вниз. Мы едем быстро, хорошо. Не очень холодно. Деревни, которые приходится проезжать, совершенно своеобразного, отличного от московских и калининских вида. Серые бревенчатые срубы, высокие фундаменты, крыши из дранки. Север чувствуется. А самое главное, ни одного пустыря с торчащими трубами, ни одного выбитого стекла. Железная лапа войны не коснулась этих мест.
По волнистому шоссе, которое извивается среди хвойных лесов, змеей движутся конные обозы, воинские части, автомашины. То и дело проезжаешь мимо отрядов бойцов, шагающих с лыжами на плечах. Много автоматчиков, встретилось даже подразделение, вооруженное огромными противотанковыми ружьями, похожими на средневековые аркебузы. Часто мелькает то черный бушлат, то черная же морская зимняя шапка с золотым гербом. Наша 1-я Ударная. Вид бойцов здоровый, бодрый, спокойный. Очевидно, нас направляют куда-то под Новгород.
Движутся обозы, походные кухни на полозьях, много пушек, пулеметы на лыжах, пехота, артиллерия, кавалерия.
Проезжаем Валдай. Маленький провинциальный городок, совершенно не пострадавший. Ни одного выбитого стекла. Вспоминаем знаменитые валдайские колокольчики.
На снежных полях часто попадаются проволочные заграждения – тянутые в два, три ряда, каменные надолбы в виде конусов. Укрепленный район. Когда мы останавливались в Мир-Онеже пообедать, а затем, как выяснилось, и переночевать – произошел следующий инцидент.
Нагруженный вещами, я пересекал улицу, направляясь в избу. Навстречу вышел боец, держа синий листок:
– Вот, листовка немецкая.
Я взял у него, взглянул. Листовка была наша – для германских солдат – и сделана очень неплохо. Бисмарк указывал на Гитлера и говорил: «Этот человек приведет Германию к катастрофе». Принцип фотомонтажа. Сунув листовку в карман, я направился дальше. В эту минуту меня сзади окликнули. Через улицу бежал ко мне зам. редактора Лысов, батальонный комиссар. Стоя вместе с Ведерником, он видел издали, как я взял листовку, и, очевидно по приказанию редактора, бросился ко мне сломя голову:
– Дайте листовку.
Я отдал, ничего не сказав. А можно было бы сказать. Какая трогательная забота о сохранении моей политической невинности!
Ночлег был беспокойным. В 12 часов ночи меня разбудили громкие голоса в соседней комнате. Происходило бурное объяснение между Чирковым и каким-то красноармейцем, ввалившимся в избу. Перед тем он в продолжение получаса упорно колотил в запертую дверь, чтобы его впустили. Чирков, накинувший шинель поверх нижнего белья, кричал, что помещение занято высшим комсоставом, работниками политотдела, и приказывал уйти. Однако боец плевать хотел на приказание. Ему и его товарищам – всех их было человек двенадцать – нужен был ночлег, остальное его не касалось. Бурная сцена продолжалась минут двадцать, наконец кое-как с трудом удалось выставить напористого парня. Держался он дерзко, и это больше всего возмутило Чиркова, обычно очень спокойного, выдержанного, мягкого. Не успели мы успокоиться после этого визита, как ввалилась новая партия бойцов. Опять спор, препирательства, упоминание о дисциплине, о комсоставе. Ничего не помогло. Бойцы расположились в соседней комнате (правда, она была пустая, лишь на печи спали двое наших), переночевали, а под утро ушли.
Такова дисциплина на фронте. Это то, что совершенно невозможно в германской армии.
9 февраля
Продолжаю рассказ о нашем путешествии.
8-го утром поехали дальше. Молочная синева рассвета, падает легкий снежок, тарахтят стоящие у избы грузовики. Снова залезаем в машины, усаживаемся среди наваленных мешков и чемоданов, кутаемся плотней, трогаемся в путь.
Характер окружающей местности меняется. Красивые, поросшие темным ельником горы уступают место голым равнинам. Болотистые озерные места. Весной мы здесь поплаваем! Снова походные колонны, обозы, артиллерия. Идут, идут: наша армия. День серый, туманный. Часто слышится глухое урчанье в небе. Немецкие разведчики. Следят за переброской нашей армии. У дороги дощечка: «Осторожно, мины». Наскоро сделанные загородки – минные поля.
Минуем железнодорожный разъезд. Здание станции, конечно, полуразрушенное, пустое и мертвое. На путях составы, пыхтят паровозы. Длинная вереница платформ, и на каждой из них – громадный, окрашенный в белое наш танк. А ведь три месяца назад мы на фронте совершенно не видели танков. Среди попадающихся по дороге автомашин много новеньких английских.
Готовится грозный удар по врагу.
В полдень приезжаем в деревню Ермошкино, где должна расположиться наша редакция. Немцы отсюда в десяти километрах. Тишина, канонады не слышно. Совершенно не чувствуется фронта. Видим знакомые лица: наши спутники по эшелону. Деревня вся занята тыловыми учреждениями – нам негде приткнуться. Редактор посылает разведку в ближайшие деревни. Долгое нудное ожидание в жарко натопленной избе, где временно расположился особый отдел. Теснота, давка, шум. Горы багажа на полу, на лавках. Здесь готовят на плите, пьют чай, бреются, читают газеты, спят, флиртуют с девушками в стеганых штанах. Женщин тут много. Особисты народ гостеприимный. Нас, голодных и озябших, угощают горячим чаем с сахаром и с хлебом. Хлеба мы уже пятый день не видели: его заменяют размоченные в сырой воде сухари. После перерыва в несколько дней читаем московские газеты.
Под вечер получили приказ садиться в машины. Едем назад, километров за восемь в деревню Новые Удрицы, там найдены помещения для редакции и типографии.
Насколько легким и даже приятным был путь сюда от станции Лукошино, настолько мучительной оказалась обратная дорога. То и дело застревали: пробка. Терпеливо ждем, пока разъедутся сбившиеся в кучу машины и подводы. Мерзнем на холоде, на ветру. Снова проезжаем станцию. Состава с танками уже нет.
До места назначения остается километра три, четыре, когда мы застреваем всерьез и надолго, остановившись в какой-то деревне. Дорога отсюда в Новую Удрицу очень трудная – недавно здесь прошли тяжелые танки и разрыли, размолотили снег. Пожалуй, нашим машинам не пройти. Ведерник матерится и решает все-таки ехать. Уже темно, вдали бродит по небу тонкий луч прожектора, иногда взлетают ракеты. Вспыхивают и гаснут. Светят фары скопившихся в большом количестве машин. Мы слезаем с машины и по колено в снегу начинаем подталкивать. Только бы миновать самый трудный участок, метров двести, и доехать вон до того смутно чернеющего в белесой зимней темноте сарая. Дальше, говорят, дорога будет легче. Мы налегаем изо всех сил, кряхтим, пыхтим, раскачивая машину – давай, давай, а ну еще раз! – мотор ревет, колесо буксует. Никакого результата. Шофер раскапывает лопатой снег, мы находим в сарае какие-то доски, приносим их, подкладываем под колеса. Снова рычит и содрогается грузовик. Ура! Пошла, пошла: мы бежим следом за машиной, крича, спотыкаясь и падая в глубоких сыпучих колеях. Через минуту все начинается сызнова.
Наконец после величайших трудов машина минует самый тяжелый участок. Тогда наступает очередь других наших машин – зеленого автобуса с фанерой вместо стекол и грузовика, где положено типографское имущество. Мы тоже вытаскиваем их на руках.
То и дело нам приходится вылезать из нашей машины и выволакивать ее из глубокого снега. Так продолжается всю дорогу. Мы устали, целый день фактически не ели, продрогли, измучились. Хорошо, что вытаскивание машин дало возможность согреться. Ведерник – он едет с нами, с шофером – вылезает из кабины – большой, в полушубке, с автоматом, и командует:
– А ну, хлопчики, еще немного погрейтесь!
Вновь и вновь мы привычно спрыгиваем с грузовика и, увязая в снегу, начинаем «греться».
И все-таки до нужного места добрались вовремя. Если бы остались ночевать в деревушке, дожидаясь утра, то застряли бы надолго. Под утро поднялась вьюга – настоящая февральская, – и путь окончательно стал непроходимым.
Наш отдел армейской жизни, семь человек, занял избу из трех комнат. Одна комната – самая большая – с выбитыми стеклами, в ней не живут. Хозяйка тихая, приветливая, с двумя маленькими девочками, недавно сюда переселилась. У нее нет даже самовара. Надежды на деревенскую картошку и на молоко разлетелись как дым. Снова эта осточертевшая гречневая размазня из концентратов. Хорошо, что хоть тепло. Я сплю на печке.
А жить, по-видимому, нам здесь предстоит долго.
Совершенно своеобразный участок фронта. Район Новгорода – Старой Руссы – Пскова. Северо-Западный фронт. Немцы сильно здесь укрепились и сидят, не двигаясь с места, вот уже шесть месяцев. Нам предстоит взламывать эти мощные укрепления.
Скоро заговорит наша артиллерия.
Сейчас, когда я пишу эти строки, мимо окон по деревне один за другим проходят тяжелые танки, гремя в облаке снежного дыма.
Во время остановки в Ермошкине я зашел в политотдел и представился начальнику политотдела, полковому комиссару Лисицыну15a. Худое тонкое лицо, освещенное светло-голубыми глазами. Человек как будто интеллигентный, культурный, не чета Ведернику. Поговорили о моей работе в газете. Лисицын одобрил мои очерки, возразил только против раешника. Впрочем, я давно уже слышал, что раешник ему очень не понравился. «Балаган». Ну что ж, мне же лучше. Отпадает необходимость заниматься чужим для меня делом.
Моего он ничего не читал. Даже «Русских в Берлине», даже очерков в «Известиях». Просил прислать.
Когда-то теперь дойдут до меня письма родных и близких!
10 февраля
Немые деревни войны. Ни лая собак, ни крика петушьего, ни песен. Только треск и фырканье моторов да грохот немецких бомб временами.
Вчера, когда мы сидели за работой, в избу вошел рослый крестьянин с рыжеватой бородой, в черном заплатанном кожухе. Поздоровался, прошелся по комнате, внимательно осматриваясь, заглянул в печку. Все это молча. Мы спросили, не хозяйку ли он ищет. Оказалось, нет, он вернулся домой из Калининской области, куда был «вакулирован» (эвакуирован). Сам он жил в соседнем доме, а в нашей избе был его зять, который уехал вместе с семьей в Куйбышев и теперь тоже возвращается на родину. В Калининской области наш гость работал на железной дороге, получал 11 руб. в день и 900 гр. хлеба.
– Колхоз у нас был богатый, жили хорошо, овчарня была, молочная ферма, четыре быка-производителя, бетонированная яма силосная. На трудодень полтора кило хлеба получали да по пуду-полтора меда. Восемьдесят домиков у нас было. Пришел проклятый немец, все порушил.
По дороге сюда, под станцией Бологое, их эшелон попал под бомбежку. Восемь немецких «юнкерсов» бомбили всю ночь, с часу до семи. Были жертвы – в санитарном эшелоне, но большинство бомб упало на открытом месте. Рассказывает колхозник об этом с улыбкой – «вот, дескать, какое приключение, даже забавно!».
Хозяйка наша – молодая, некрасивая, курносая, с кроткими и чистыми глазами – два месяца зимой жила с ребятишками в лесу. Собралось их там пятнадцать семей, построили шалаши – так и жили, в самые лютые морозы. Харчи захватили с собой из дому. Живуч русский человек!
Мы спросили колхозника, как же теперь устроятся те, кто возвращается назад, – ведь их дома заняты другими.
– А ничего, вместе будем жить. В тесноте, да не в обиде.
Крестьяне возвращаются домой. Это показательно. Немец уже не внушает страха. В том, что его прогонят, нет сомнения. Только скорей бы его прогнали, чтобы можно было вернуться к посевной на родину.
11 февраля
Связались со столовой Военторга, которая обосновалась в нашей деревне. Ленский, добровольно взявший на себя обязанности хозяйственника, приносит нам на завтрак и ужин гору чудесных белых пышных оладий на масле. Получаем табак, печенье, сливочное масло, консервы. Дополнительный паек.
С «Историей» у меня ничего не получилось. Политотдел, очевидно, хочет возложить всю работу на Ковалевского и с этой целью освобождает его от газетной работы. Конечно, совмещать то и другое невозможно. Ведернику это весьма не нравится, но ничего не поделаешь, приказ свыше.
Лишний раз убеждаюсь, что нельзя заранее говорить утвердительно о том, что еще не оформлено окончательно.
Положительно, на войне не знаешь, что сулит завтрашний день. Прощай Новые Удрицы! Снова сборы, увязка мешков, чемоданов.
Нам предстоит марш в сотню с лишком километров. Тактическая обстановка такова: армия обходит сильно укрепленные неприятельские районы, оставляет их в тылу, блокирует и устремляется вглубь оккупированной территории. Начинается наступление на Старую Руссу.
Справа и слева от нас будут немцы. Предстоит приятная перспектива бродить пешком в таком окружении, в поисках наших бригад. Это обычный в здешней редакции способ сбора материала. Транспорт – наше больное место: ходить пешком еще полбеды, но дело в том, что до сих пор я совершенно безоружен. Полгода на фронте – и все никак не могу получить наган. Даже застрелиться, если нужно будет, не смогу.
Десять дней газета не выходила в связи с нашим переездом из Клина. Тут, в Новых Удрицах, выпустили один номер, приготовили к печати второй – и снова перерыв.
12 февраля
Вчера к вечеру выехали. Вся наша колонна – пять машин. Едем вдоль линии фронта. Фронт? Не веришь этому – тишина, внешнее спокойствие, совершенно не пострадавшие от войны деревни. Они далеко друг от друга расположены. В Смоленщине и Подмосковье другая картина – там населенные пункты натыканы густо, один к одному. Улицы здешних деревень узкие, высокие серые избы – в этом что-то от старинных теремов, от оперной постановки.
Погода мягкая, но после нескольких часов езды в открытой машине все-таки пробирает холод.
По обеим сторонам шоссе загородки – мины. Едем среди минных полей. В темноте, проехав какую-то деревушку, видим лыжников. Прямо на дороге они надевают маскировочные куртки и штаны. Готовятся к боевой операции. Автомобильные фары освещают призрачные фигуры.
Потом мы едем по сказочному лесу. Молоденькие елочки будто из взбитых сливок. Согнувшиеся под тяжестью снега деревья перегибаются над узкой дорогой, образуя бесчисленные арки и своды, под которыми проходят, сияя фарами, наши машины.
Картина изумительная.
Я никогда не видел такого леса.
В одной из деревень, где мы задерживаемся, поджидая отставшие машины, Ведерник собирает всех. Мы стоим на улице в темноте около машин. Редактор предупреждает, что сейчас начнется зона заражения сыпняком. Нужно проехать три деревни. В избы не входить, в случае ночлега спать только на своих вещах, «к бабам не лезть», больше всего опасаться вшей.
Действительно, в ближайшем же селе задержавшуюся нашу полуторку строго окликает часовой:
– Не останавливаться, останавливаться запрещено.
Немцев здесь не было. Откуда сыпняк? Но хорошо, что принимаются профилактические меры.
Ночлег в деревне. Здесь мы останавливаемся на день. Я раскладываю свою койку, вызывая восторг хозяйских ребятишек. Хозяин осторожно жалуется на то, что проходящие войска съели всю колхозную картошку и фураж. Сразу видно – немцев здесь не пробовали. Тогда бы говорили по-иному.
Утром, когда оконца синеют рассветом, мимо избы с тарахтеньем проходят аэросани. Одни, другие, третьи. Свыше десятка. Новый вид вооружения, о котором я давно не слышал. Обтекаемая форма, вид торпеды, низко сидят на полозьях. Трещат «уточки», низко проносясь над крышами, катятся грузовики в ту и другую сторону.
Оживленность близкого фронта.
Мы движемся вдоль восточного берега озера Ильмень. Впереди еще сто километров пути.
13 февраля
Вторую ночь провели в Кузнецовке. Деревушка в двадцать дворов. Вчера наш отдел устроил для себя баню. Воду таскали ведрами, проваливаясь в глубоком снегу. Таскал и я. Поели вечером картошки – нашлась все-таки у хозяев в обмен на махорку. Сегодня с утра в дальнейший поход.
Вшей давно уже нет.
Мои ближайшие коллеги.
Старший политрук Чирков, начальник отдела, невысокий, розовый, голубоглазый. Открытое спокойное лицо. Аккуратен, всегда гладко выбрит, любит порядок. Человек мягкий, выдержанный. Трудолюбив: готов работать с утра до ночи. Звезд с неба не хватает. Службист: приказ начальства – закон. Крестьянский парень, комсомолец, он прошел путь от красноармейца до слушателя Военной академии и редактора артиллерийского журнала. Говорит «эсли» (вместо «если»), «быват». Узкий специалист.
Заместитель его, Аристов, политрук. Добродушный парень, был летчиком. Эпилептик или шизофреник, о чем откровенно рассказывает. Смелый. На передовых позициях всегда в самых опасных местах. Культурный уровень невысок.
Политрук Шипов. Спокойный, знает себе цену. Редеющие волосы зачесаны назад, на подбородке ямка. Наиболее развитый и культурный среди всех. Опытный журналист: работал в «Красной звезде» и в московском Радиокомитете. Участвовал в походе в Западной Белоруссии.
Младший политрук Ленский. Коротконогий, подвижный, с острым и быстрым взглядом светлых глаз. За словом в карман не полезет. Остроумный, со своим словарем, балагур. Язык у него едкий. Жаль только, что остроумие Ленского не для печати. Рязанский железнодорожник. Работал долгое время помощником машиниста, был выдвинут в транспортную газету. На войну пошел добровольцем, заменив брата, хотя и страдает плоскостопием. Был в ополчении бойцом. Хозяйственный человек, услужливый для товарищей. Ко мне относится со скрытой неприязнью. Во-первых, я писатель, во-вторых, интеллигент.
Политрук Чебулаев, самый серый из всех. «Мужичок» – называет его Ленский, и это правильно. Маленький, любит напевать отрывки из романсов и песен. Говорит медленно, смачно, по-крестьянски. Был в Мурманском крае, потом под Вязьмой выходил из окружения. Знает многих моих товарищей по роте, писателей – тех, которые пропали без вести.
Ковалевский, писатель. Фигура мальчика, лицо девушки не первой молодости. Скромный, застенчивый, замкнутый. Тихий голос. Человек глубокий как будто, вдумчивый и неглупый.
26 февраля
Все, что я видел и перенес за полгода фронтовой жизни, – детский лепет по сравнению с впечатлениями последних дней. Вот когда мне стало понятно, что такое война!
Пишу по порядку.
Снова в пути. Белый снег, серые избы, черный ельник. Древняя новгородская Русь. Опять следы бомбежек. Часто мелькают столбики с надписью: «Карантин». В домах сыпняк. Проезжая, видим на холме толпу военных, трубы оркестра. Хоронят какого-то начальника штаба. Залп салюта над могилой провожает нас.
Вечером останавливаемся в деревне, носящей странное название Вдаль. Улица забита машинами. Здесь должны размещаться редакция и типография, но помещений нет – впору ночевать на улице. У домов средние танки. В стороне под деревьями огромный «КВ». В темном небе – гул, разноцветные движущиеся огоньки: наши патрулирующие самолеты. Прожектор за черными избами шарит по небу, описывая огромный круг. Вот упал на избу, озарил часового, стоящего под навесом.
Мы с Ковалевским находим пристанище в караульной роте. Командиры играют в домино, стучат костяшками. Два свободных места на нарах – роскошный ночлег!
Утром нас, два дня почти не евших, не спавших, забирает Ведерник и везет дальше: сначала в 1-й эшелон, в политотдел, а оттуда на передовую за материалом. Едут человек десять. Политотдел в Давыдове – километров тридцать, сорок, фронт еще дальше.
Ужасная дорога. Все время пробки. Машина поминутно вязнет в сыпучем снегу. Толкаем, вытаскиваем, везем на себе. За сутки сделали всего двадцать километров. Справа и слева стрельба. Бесконечным потоком идут на фронт лыжники в белом. Молодежь, лица серые, усталые. Шесть дней в пути. Умоляют подсадить их, цепляются за машину, прикрепляют сзади свои волокуши, на которые садятся сами. Один, больной дизентерией, все-таки умолил Ведерника подсадить его. Тонкое лицо, почти мальчик, длинные загнутые ресницы. Навстречу этому потоку тянется другой – с фронта. Раненые. Большинство – раненных в руку.
Весь этот путь подвергаемся непрерывным бомбежкам. Немецкая авиация хозяйничает как у себя дома. Общий голос:
– Бомбит – спасу нет.
Бессонная ночь в грузовике, в дороге. Горючее вышло. Мы останавливаемся в деревне Юрьево. Что делать дальше? Ведерник предлагает идти дальше пешком – в темноте, по отвратительной дороге, пятнадцать-двадцать километров. К счастью, вымолили у какого-то шофера литров десять бензина, достали ведро ячменной каши, поели тут же, на улице, в темноте, сидя вокруг ведра на корточках. Два дня не ели, жевали сухари – и какой же вкусной оказалась эта горячая каша!
Заправили машину, двинулись дальше, на рассвете и это горючее вышло. Оставив нашу полуторку в лесу и с ней Ленского, мы пешком продолжаем свой тернистый путь.
Под вечер добрались до Давыдова. Немец то и дело бомбит деревню, и поэтому политотдел расположился в ближайшем лесу, в шалашах. Днем на морозе, вечером возвращаемся ночевать в Давыдово. Ночью немцы не летают.
Сюда приехала труппа артистов Ленинградского театра им. Кирова (Мариинский), эвакуированных в свое время в Пермь. Все в черных ватниках, в ушанках. Со скандалом устраиваемся на ночлег вместе с ними, нас трое-четверо. Утром Ведерник вручает нам документы, инструкции. Я вместе с начальником отдела пропаганды Максимовым направляюсь в 129-ю дивизию, приданную 1-й Ударной. Срок командировки – десять дней, с 15 по 25 февраля. Дивизия в наступлении. Остальные товарищи по одному, по двое направляются в другие части. Газете срочно нужен материал.
Дорога тянется глубоким оврагом по льду замерзшей реки. Синее небо, в холодном воздухе чувствуется предвесенняя талость. Движение слабое. Изуродованные конские трупы – очевидно, погибли на минах или от бомб. У одного из них крестьянин с мальчиком и с салазками отрезает куски конины. Труп немца с отрубленными ногами. Говорят, отрубают ноги бабы, чтобы снять валенки. Везут раненых. Вижу впервые трупы наших.
То на подводе, то усевшись на прицеп к гусеничному трактору, то в закрытой полуторке эрэсовцев22 («катюша»), а большей частью пешком, добираемся до деревни Соколово, в районе которой расположился штаб 129-й дивизии. Деревня полуразрушена. Жителей нет. Я вижу страшную картину: на выжженном пустыре груда исковерканных машин, наших и немецких, а вокруг лежат растерзанные мертвецы. Наши. Стоит танк, около него лицом в землю полуобгорелый черный труп с голой розовой спиной. На одной ноге уцелел валенок.
За деревней лес, через него пролегала прямая шоссейная дорога на деревню Бородино. За Бородино все эти дни шел жестокий бой. Мы справляемся по карте. Где-то в лесу должен быть политотдел дивизии.
Едва выходим из деревни, как наверху появляется «стервятник», идет прямо на нас. Ложимся в придорожную канаву. Под снегом вода, моя левая нога попала туда, валенок промок. В нескольких шагах от меня лежит убитый красноармеец. Окоченелая рука указывает в небо.
Гул мотора над самой головой, стрекочет пулемет, мимо вжикает пуля, затем вторая… Когда шум мотора стихает, поднимаемся и идем к лесу.
Как забыть это! Редкий лес по обеим сторонам пустынного шоссе, розово-желтый ясный зимний закат, отдаленные группы деревьев в голубой морозной дымке, тишина, покой. И конское мерзлое, растерзанное мясо на шоссе, и воздух, наполненный зловещим гудением, и дальний грохот взрывающихся бомб. Кружат убийцы и бомбят, бомбят непрерывно.
Мы проходим мимо огромной воронки у самой дороги. Совсем свежая. Валяющаяся на дороге лошадь еще поводит боками, но глаза наливаются смертной голубизной. Когда спустя некоторое время мы снова проходим по этому месту, лошадь уже издохла.
Расспрашивая редких встречных бойцов и командиров, долго ищем штаб. Наконец в глубоких сумерках находим его. Максимов великолепно ориентируется, – я бы никогда не нашел, заблудился бы в этом лесу, в темноте, в лабиринте узких извилистых тропок.
Политотдельцы в шалаше греются у костра. Нас встречают более чем прохладно: даже кружкой горячей воды не угостили. Ночевать предлагают устроить в Соколово. Первый раз за все время фронта я натыкаюсь на такой прием. Когда мы поднимаем вопрос о питании, о наших продовольственных аттестатах, кто-то из политотдельцев отпускает ехидное замечание: вот-де из армии приехали за продуктами.
Делать нечего. Измученные, голодные, подавленные всем виденным, бредем назад в мертвую страшную деревню. Выбираем наиболее уцелевший дом. В темноте натыкаюсь на что-то лежащее у самого порога. Убитый. На втором этаже избы в разгромленной холодной комнате двое бойцов. Лица закопчены, вид неряшливый. Самодельная коптилка на столе, рядом кусок сырой конины. Печь разрушена, окна кое-как заткнуты соломой, вход за перегородку завален бревнами, досками. Холод как на улице. У бойцов непривычно культурный язык. Оказывается, студенты из Ташкента. Были автоматчиками. Тон горечи, упадничества. «Получили диплом, а теперь приходится шагать по человечине».
Предлагают жареной конины. Не могу есть – после бесчисленных виденных мною разорванных на части лошадей, мерзлых кишок и навоза. Мой разговор со студентами – о войне, о необходимости все перенести. Что-то подозрительное в поведении студентов: их обособленность от других, нотки ремаркизма, опустившийся вид. Может быть, дезертиры? Тягостно было в этой разгромленной холодной избе, в обществе с этими отщепенцами. Мы ушли.
Спустились в подвал. Глубокая яма, на дне которой разложен костер. Дым клубами валит из двери. Несколько человек. Трое спят прямо на земле, четвертый, охая, возится у костра. «Осторожно, я раненый». Видимо, тоже дезертиры. Мы посидели несколько минут и с трудом вылезли наверх, полузадохшиеся и ослепшие от дыма. Не было сил оставаться.
– Ад, – сказал Максимов, очутившись на улице.
В подвале следующего дома, куда мы заглянули, битком набито. Латыши из латвийской дивизии, хозкоманда. Гостеприимные, вежливые, культурные, милые. Предложили ночлег, угостили горячей похлебкой из гречихи. Разговоры о Риге, о будущей советской Латвии. «Нас теперь осталось немного». Действительно, их дивизия только называется Латвийской: латыши перебиты в боях под Наро-Фоминском, а комплектование сейчас идет за счет чистокровных русских.
Наконец мы нашли ночлег, выспались.
Когда мы на обратном пути из 129-й дивизии снова проехали через Соколово, на месте нашего ночлега была растерзанная груда бревен. Фашистские летчики вторично разбомбили деревушку. Что стало с милыми латышами?
Утром, придя в лес, мы получили в походной кухне котелок горячего супа, достали в АХО, расположенном под навесом из веток, буханку замерзшего хлеба, выпили по 100 гр. «продукта № 61» и зашли в шалаш комендантской роты позавтракать. Занесенный снегом чум из хвойных веток, внутри вокруг костра ребята в белых халатах, похожие на бедуинов.
Подогрели суп, оттаяли хлеб на огне, выпили по кружке кипятка (растопленный снег) – позавтракали. Среди бедуинов нашелся парикмахер, который ухитрился тут же нас побрить. Бритье проходило под гуденье немецких самолетов и грохот взрывов. Стервятники кружились над головой, бомбили и пулеметным огнем прочесывали лес.
Наконец стало тихо.
Мы двинулись в полки дивизии. Все та же прямая как струна дорога через лес с воронками, с конскими и человеческими трупами. Чем ближе к Бородину, тем все больше и больше их было.
Никогда я не забуду этой дороги смерти, дороги нашего наступления от Соколово до Бородино. Белый, искрящийся на солнце снег, лазурное небо и трупы, трупы, трупы: все наши. Они лежали по обеим сторонам шоссе, застывшие в самых разнообразных позах, в растерзанной белой одежде. Некоторые вдавлены в снег – по ним проезжали сани, грузовики. Запомнился мне один – пожилой, в шинели, без шапки. Он лежал, приподнявшись на локтях, и стеклянными глазами глядел вдаль, в сторону Бородина, в сторону врага. Так и застала его смерть. Вся дорога усыпана винтовками, дисками, патронами, сумками от противогазов, самими противогазами, окровавленным тряпьем – трагический мусор войны. На снегу розовели мерзлые пятна крови. Действительно, политая кровью земля. Так на протяжении двух, трех километров. Тут наступала Латвийская дивизия.
На душе камень. Какие потери! И сколько ведь таких дорог…
Бородино за глубоким оврагом. Позиция для врага идеальная. Дымятся свежие пепелища. Бродят бойцы. На обгорелом срубе сидит рыжеусый человек в белой рубахе, в белых штанах. Глаза отсутствующие. Он еще не пришел в себя после боя. Подсаживаюсь, заговариваю. Он – ярославский текстильщик.
Немцев убитых почти не видно. Говорят, уходя, фашисты либо сжигают, либо захватывают с собой своих убитых. Лишь поодаль валяется один. На восковой руке на пальце блестит обручальное кольцо. Автоматчик. Тут же над оврагом сложенное из снежных кирпичей его гнездо.
По дороге в Бородино врезался мне в память такой эпизод. Над телом красноармейца, буквально вбитым в снег, стоял боец и вертел в руках новенькие ботинки, очевидно, снятые с трупа. Толстое лицо крестьянина, совершенно заплывшие, слепые щелки глаз, под носом висит зеленая сопля.
– Кароши? Новые? – спросил он нас на ломаном языке. Латыш.
Идем дальше по оврагу. Деревня Ширяево – там штаб бывшего 1-го полка. На скате убитый обер-ефрейтор. Голова повязана черным платком, обут в валенки. Лежит ничком, закрыл лицо руками. В нескольких шагах от него мертвая старуха. Полы овчинного кожуха задрались, ноги раскинулись, будто бежит.
В Ширяеве мы знакомимся с командиром полка Батюком и комиссаром Винокуром и останавливаемся на двое суток.
Обстановка такова. Полк, развивая наступление, ведет яростные атаки на сильно укрепленный район. Опорный пункт противника – деревня Сыроежкино. Подступы к нему находятся под тройным перекрестным огнем. Три раза батальоны бросались в атаку и все три раза должны были отойти назад. Раз удалось ворваться в деревню, но немцы выбили оттуда. У нас большие потери.
– Воюют, как испанцы, – говорит о красноармейцах Батюк, красный, красивый здоровяк с сиплым голосом. – Не хотят маскироваться. Это про испанцев сказано, что умирают стоя?
«Раиса»16 дала залп по Сыроежкину. Перелет. Второй залп. Недолет. Третий залп. В штабе переполох, телефонные звонки. «Раиса» ошиблась на несколько сотен метров и задела наш батальон. Хороша ошибка!
Всю ночь под окнами штаба визг полозьев, шелест сена и стоны тяжелораненых. «Умираю!» – стонет кто-то. Везут, везут. Выйдешь на улицу – яркие звезды, стукотня пулеметов, темные фигуры людей, лошади, запряженные в сани.
В самой штабной избе толчея, теснота, спящие в углах, на полу, командиры. Попискивает полевой телефон, тускло светит коптилка. Тревожное настроение. Ожидают, что немцы перейдут в контратаку. Я забираюсь на горячую печку и, поджариваемый снизу, кое-как засыпаю.
Утро, как обычно, начинается отдаленным грохотом бомбежки. Где же наши самолеты?
28 февраля
Продолжаю.
Максимову нужно в 1-й батальон, за каким-то материалом для себя. Идем вместе. Выясняется, что 1-й батальон все еще в бою. По дороге густо встречаются раненые. Каждого даже имеющего легкую рану провожают не менее двух его товарищей. Тяжелораненых везут на лыжах или на салазках трое – третий сзади подталкивает штыком. На плащ-палатке протащили одного – голова вся обмотана бинтом, красная от крови. Раненый храпит – не хрипит, а именно храпит. Довезут ли?
– Вот, даже салазок нет. Правильно это? – с горечью спрашивает нас один из везущих.
Вдоль изгороди, вдоль дороги устроены немцами ячейки из снега, пол устлан соломой, сеном. Пиу! Пиу! – начинает свистеть над ухом. Все еще идет бой за Сыроежкино. Батюк в белом халате, в белом колпачке, надетом на ушанку, бегает по дороге, по полю.
– Г…ая деревушка, а взять нельзя, – говорит он нам. – Нет снарядов.
И снова куда-то уносится.
Нет ни снарядов, ни мин. Артиллерия наша молчит. Недаром немцы беспрерывно бомбят коммуникации.
Посидев некоторое время в снежном гнезде, направляемся обратно. Сейчас не до сбора материала.
– Плохо воюем, – вырывается у Максимова. Это суховатый, замкнутый, некрасивый человек в очках, ленинградец, типичный средний партийный работник. Педант. Действительно скверно воюем. Партизанщина, кустарщина.
В штаб приносят раненого комиссара 1-го батальона Шайтанова. Пулями перебита нога. Потрясающая, трогательная сцена. Не хочу повторяться – я опишу ее подробно в будущем очерке.
Когда я сижу около Шайтанова – его в это время перекладывают, он от боли стиснул мою руку, сцепил зубы – у меня, чувствую, слезы навертываются. Потом приводят арестованного начальника разведки. Он спрятался во время боя. Кроме того, по его вине в штаб армии были доставлены неверные сведения. В результате наша рота, думая, что деревня свободна от немцев, наткнулась на сильный огонь и отошла с потерями. Молодой развязный парень, врет, что все время был в бою.
– Трус! Мерзавец! – кричит комиссар Винокур, замахиваясь. – Я расстреляю тебя!
– Пожалуйста, – нелепо отвечает арестованный.
Его уводят. Комиссар на прощание дает ему по шее. Через пять минут в избу входит начальник штаба, капитан Уткин, кладет на стол кобуру с револьвером и ремнями и совершенно спокойно заявляет:
– Истратил один патрон.
– ???
– Расстрелял. Сам.
Вот и все. Просто и быстро.
Я целюсь на наган расстрелянного. Все равно оружие, о котором я давно мечтаю, свободно.
На печке кто-то спит, видны только валенки. Его будят, дергают за ногу – никакого внимания. Начальник штаба вынимает пистолет, лезет на печь и стреляет над самым ухом неизвестного. Тот же результат. Сначала смех, потом опасение: может быть, мертвый? Человека стаскивают за ноги, и только тогда он приходит в себя, усаживается, мутно глядит на нас. Это офицер связи. На него набрасываются – как он смеет отсыпаться здесь и не передавать приказания на батарею?
Немедленно идти! Выполняйте приказ!
– Есть выполнять приказ, – отвечает офицер связи и не трогается с места. Человек выбился из сил. Сколько ночей он не спал?
Потом, выйдя в сени, я увидел его. Он стоял, прислоняясь к столбу, и спал.
И весь этот калейдоскоп событий, смесь трогательного, страшного, смешного на протяжении часа, не больше.
Положение напряженное. Уже нет людских резервов, в штабе собирают писарей, поваров, санитаров, обозников и, оставив лишь самых необходимых, направляют на передовую линию. Снова сообщение, что немцы вышли из Сыроежкина в поле, окопались и, по-видимому, готовятся к контратаке. Спешно организуется заградительный отряд: останавливать тех, кто дрогнет, побежит назад. Начальник штаба дает мне револьвер расстрелянного. Так, впервые за шесть месяцев фронтовой жизни, я получаю личное оружие. Тема для новеллы.
– Кажется, мы с вами попали в переплет, – шепчет Максимов.
Все политработники брошены на передовую. Штаб опустел. Стало тихо. Только начальник штаба возится у двух пулеметов, притащенных сюда, – проверяет. Я помогаю бойцам набивать пулеметные ленты патронами. Ну что ж, если нужно, буду отстреливаться до последнего.
Но все кончилось благополучно.
Мы задержались в 1-м полку, желая дождаться результатов боя и дать в газету свежую информацию. Но дело затягивается, положение неопределенное, и мы решаем отправиться в соседний 2-й (518-й) полк. Он отсюда в нескольких километрах.
Над оврагом зенитно-противотанковая батарея. Четыре орудия, выкрашенных белой краской. Хлесткие удары, снаряды с шипением проносятся над головой. То, что было деревней Трохово, – пепелища, обгорелые деревья, окоченелые трупы. Уцелело два-три сарая. В крохотной избушке находится штаб полка. Топится печурка. Тепло, несмотря на то что окно совершенно открыто. Комиссар Ибрагимов, культурный татарин. Знакомлюсь с переводчиком Канном.
Юноша, москвич, малоформист. Красивое лицо закопчено. По совету комиссара иду в соседнее Бабье, где стоят артиллеристы – замечательные ребята, как мне говорят. Канн вызывается проводить.
До Бабьего километра полтора, дорога все тем же извилистым бесконечным оврагом по льду. Солнечный день, белый снег, жесткое синее небо, непрерывно гудящее, как струна. Немец господствует в воздухе. Мы идем с Канном и ведем странный и дикий среди окружающей обстановки разговор в стиле Клуба писателей.
Уже видны первые сараи деревни, когда появляется немецкий самолет, идет к нам. Ложимся. Мы лежим на горбе дороги, кругом голое снежное поле. Мы отчетливо, наверное, видны сверху – два темных пятнышка на белом фоне. И спрятаться негде! Треск пулемета, знакомое вжиканье над ухом. Одиночек на дороге обстреливают, сволочи! Лежу, уткнувшись носом в снег. Отвратительное, подлое чувство беспомощности. Может, через секунду будешь валяться, как сотни уже виденных мною, как падаль, пока не сволокут тебя за ноги и не зароют в сугроб. Немцы – те хоть по всем правилам хоронят своих. Самолет скрылся. Поднимаемся, идем к деревне. Второй раз я уже под пулеметным обстрелом с воздуха.
Долго мне будет помниться Бабье! А каким отрадным было первое впечатление. Чудом сохранившаяся деревенька, даже стекла в домах почти не выбиты. Все население немцы угнали с собой, остался только полуживой старый дед на печке. На задах лежат десять мертвых немцев. Все в зеленых мундирах и штанах, в новеньких, подбитых гвоздями сапогах. Под куртками с полдюжины шерстяных джемперов и фуфаек. У одного белая каска обмотана женской горжеткой. Все они стащены в общую кучу – очевидно, немцы что-то хотели сделать со своими убитыми, но не успели.
Артиллеристы действительно славные ребята! Все молодежь. Командир Холькин томится: нет снарядов, батарея бездействует. Артиллеристы действуют как пехотинцы. Формируется добровольческий отряд для глубокого рейда в тыл врага, занять какой-то важный пункт. Однако отряд постигла неудача: заблудились в темноте и тумане и должны были вернуться ни с чем.
Ночуем у артиллеристов. Приводят раненого командира орудия – башкира Кагирова. Просит не отправлять его в госпиталь, оставить тут.
На другой день немцы начинают обстреливать Бабье из минометов. Сидим в штабе, слушаем свист и хлопанье рвущихся мин. Все ближе и ближе. Сообщение: загорелся дом. Грохот совсем рядом, вылетают стекла в окне, около которого я сижу, на двери шкафа свежая дырка. Осколок мины пролетел в нескольких сантиметрах от меня. Становится как-то неуютно. Новый, еще более оглушительный взрыв. Вылетает второе окно, комната темнеет от дыма: мина угодила в крышу нашего дома. Легко ранены красноармеец и лошадь – находились снаружи. Максимов сидит в углу под образами – самое безопасное место – и читает или делает вид, что читает газету. Во всяком случае человек владеет собой. В комнату входит холод.
Наконец минометный огонь прекращается. Теперь начинается другое. Недалеко от нас ярко полыхают два дома. Около них стояли пушка и грузовик с боеприпасами. Все это взрывается в огне. Мы сидим под лестницей – тут же конюшня – и прислушиваемся к трескотне патронов и визгу разрывающихся снарядов. Сверху доносится знакомое гудение. Теперь еще парочка-другая авиабомб – и все будет в порядке.
Очевидно, нервы Максимова не выдержали. Он выходит на улицу и бежит мимо пылающих домов. Я за ним. Мы пробегаем среди треска и грохота. Вот когда я проклял свои огромные неуклюжие валенки! Удалось благополучно миновать опасное место.
Помню потом наш обед. Переживания не отражаются на нашем чисто фронтовом аппетите. Полевая комендантская кухня стоит, дымясь, в узком закоулке между двумя амбарами. С одной стороны кухни лежит, запрокинув позеленевшее лицо, убитый красноармеец, с другой – мерзлая кровь. Повар разливает бойцам суп. Мы получаем котелок пшенного супа с мясом, забираемся в какую-то избу, брошенную разбежавшимися бойцами, и обедаем. Решаем отправиться в соседнюю деревушку Хорошево – в штаб 3-го полка. Когда мы сидим у сарая, к нам в сопровождении конного офицера подъезжает всадник в бекеше, плотный, величественный.
– Кто вы такой? – спрашивает Максимова, картинно указывая на него нагайкой. Мой спутник представляется.
– А я начальник штаба дивизии. Да, хреново воюем. Ну, работайте, работайте.
И, тронув коня, поехал дальше.
Хорошево тоже подверглось только что обстрелу, не только минами, но и артиллерийским огнем. Знакомимся с комиссаром дивизии – бригадный комиссар Кабичкин. Большой, массивный, с курносым бабьим лицом, с синими глазками. Душа-парень. Сразу с нами устанавливает простой, дружеский и откровенный тон. Потом мы встретились с ним на улице, когда над деревней кружились «юнкерсы».
– Ведь обидно, ребята. Как у себя дома, как на параде, – с горечью говорил он, следя за небом.
Был момент, когда мы с ним, втроем, полезли в щель, вырытую на обрыве под заиндевелым деревом. Но тройка самолетов прошла над нами, не причинив неприятностей.
– Вот о ком надо писать, о тех, кто по двое суток лежит на снегу, на морозе, – говорил Кабичкин потом, сидя в штабе.
– Не о них, – указывал он на штабных работников. – Конечно, они тоже работают, но это не то.
И тут же:
– А все-таки, ребята, мы «ему» диктуем, вот что самое важное. Мерзнем, голодаем, потери несем, а все-таки диктуем. Все-таки «он» не знает, откуда и как мы ударим.
Общее положение на данном участке фронта Кабичкин охарактеризовал так:
– Наверху поторопились с наступлением. Еще бы два дня подготовки…
В 3-м полку та же картина. Тут свое Сыроежкино – деревня Щетинино (может быть, Фелистово). Я уже несколько путаюсь в этой стратегической мешанине, в этом потоке впечатлений.)
Опять отсутствие взаимодействия родов войск, излишние, ненужные потери, дезорганизованность, кустарщина. Собирают последние силы, бросают на линию огня писарей и кашеваров, расстреливают на месте дезертиров. Да, воюем хреновато.
А люди по двое суток лежат в снегу под убийственным огнем, лежат голодные, холодные – и, несмотря ни на что, дерутся. Серые герои. Русский солдат остается русским солдатом.
Ночуем в штабе на печке вместе с Кабичкиным. Снова и снова люди идут в атаку. Откуда у них силы берутся?
– Еще одна атака – и саперов не останется, – слышу я, будучи у саперов. Они тоже действуют как пехота. С винтовками против минометов и автоматов. Было их около семидесяти человек, осталось не больше тридцати.
Узнаем, что у 1-го полка успех: решили обойти проклятое Сыроежкино и, оставив его позади, вклинились глубоко в расположение противника. Какой ценой достался этот успех?
В Хорошево за избами вижу одиннадцать мертвых красноармейцев. Все расстреляны – очевидно, были в плену. Раны в голову и в лицо разрывными пулями. В нескольких шагах от этой кучи замерзших трупов под завалинкой избы валяется немец. Как у многих из виденных мною убитых немцев, штаны с него сняты, а кальсоны расстегнуты. Рядом разрезанные сапоги на гвоздях. Штаны стащил свой, даже сапоги разрезал, чтобы легче снять, а заголили убитого наши. Ненависть к врагу, даже к мертвому: пусть валяется во всем сраме!
Последнюю ночь проводим снова в Бабьем и тут переживаем новое приключение. Устроились в доме, занятом связистами. Просторно, сравнительно тепло, и к тому же пол завален снопами соломы. Эта свежая солома больше всего привлекла нас. Топилась железная печурка, вместо лампы горел подвешенный к потолку провод, окна заткнуты куделью и сеном. На соломе, оказалось, спать холодно – перебрались на печку.
Я проснулся оттого, что в горле было горько и душно. Все в густом дыму. Суета, переполох.
– Всем выходить, горим.
В полутьме лихорадочно шарю на печке, собирая шарф, противогаз, шинель шапку. Куда девалась моя ушанка? Случайно ее нахожу и выскакиваю последним. Вся крыша пылает. Очевидно, пожар начался оттого, что ночевавшие в нижнем этаже дезертиры разложили костер и нечаянно подожгли.
Третий дом сгорает в Бабьем дотла за время нашего пребывания. Это не считая разбитых машин.
Можно думать о возвращении в редакцию. Восемь дней я провел среди пожарищ, развалин и мерзлых трупов под пулями и минами. Дорого нам будет стоить победа над Гитлером.
Назад возвращаемся сравнительно удачно – большей частью едем на санях либо на машине. Дорога от Бородина до Соколова очищена от трупов – не так тягостно ехать по ней. Навстречу колонной тянутся подкрепления. Молодые ребята в касках. «Пушечное мясо», – думаю я. Вернее, минометное. Подсев на розвальни, мы едем вдоль колонны, и в это время в небе появляются «юнкерсы» и начинают обстреливать нас. Лесная дорога мгновенно пустеет – бойцы прячутся в придорожных канавах. Я лежу, уткнувшись лицом в солому на санях, и жду пули. Третий обстрел с воздуха.
За то время, какое мы провели на передовой линии, политотдел продвинулся вперед, так же как и редакция.
Как странно и дико, после всего пережитого, очутиться в теплой чистой избе, где целы все окна, приветливый самовар и, мало того, парикмахер в настоящем белом халате, устроившись около русской печи, стрижет и бреет политотдельцев.
Тут же Ковалевский у стола со своей «Историей», томный от дизентерии, которой жестоко страдает.
Совершенно другой мир.
Я с наслаждением стригусь и бреюсь. Получив пропуск в столовую Военторга, я ем обед из четырех блюд: лапша, холодец, рисовая каша с маслом, стакан компота. Мне рассказывают, как немец бомбил Давыдово, где еще находился политотдел. Были жертвы.
Я привез трофеи: наган, плащ-палатку (валялась около одного из десяти убитых немцев), сумку от противогаза, немецкую пилотку (принадлежала обер-ефрейтору) в Ширяево и пряжку от солдатского пояса с надписью: «С нами Бог».
28 февраля
Редакция в деревушке Князево. Занимаем три дома. В одном – высшее начальство, в другом – все начальники отделов и сотрудники, в третьем – типография. Теснота невообразимая, раздражающая. Меня и еще одного-двух сотрудников переселили в Малые Горбы, где помещается политотдел, – километров восемь от Князева. Живем вместе с зенитчиками. Славные, компанейские ребята. Живем в тесноте, но не в обиде. Я отдыхаю тут от редакционной обстановки. Все-таки до сих пор чувствую холодок, скрытую неприязнь и недоброжелательность. Очевидно, все армейские газеты в этом отношении похожи одна на другую. Мне тягостно и одиноко. Ищу верного тона по отношению к моим сотоварищам и не могу найти. В редакции крупное событие. Получен приказ Мехлиса17, указывающий на плохое состояние газеты. Ведерник на волоске. Вчера было редакционное совещание – первое за все время моего пребывания. Критиковали работу газеты, говорили об отсутствии руководства. Досталось и писателям – то есть фактически мне. Очевидно, вся эта публика ждала от нас шедевров. На меня пахнуло знакомым лещинеровским духом. Максимов оказался подловатой личностью. Доложил собранию, что я говорил в беседе с ним о наших больших потерях и что все виденное мною, по моим словам, материал не для армейской газеты, а для крупных вещей. Я должен был взять слово. Говорил прилично, спокойно, почти не заикаясь. Ведерник в заключительном слове похвалил мое выступление.
Решено вытягивать газету. Вытянем ли?
Получил три письма от мамы, от Митрофанова и два от Берты. Очень обрадовался. Митрофанов прислал рекомендацию (просимую мной) в партию. Сомневаюсь, удастся ли мне вступить в партию в нашем коллективе. Отношение, чувствую, неважное. Мои «товарищи» рады будут подложить мне свинью.
Оргвыводы из совещания. Длительные командировки (на 10 дней) отменены, так как себя не оправдали. Мне Ведерник поручил возглавить отдел юмора. В помощь даны другие товарищи.
Военсовет отклонил посланный в свое время редакционный список из 12 человек, кандидатов на правительственную награду. Многозначительно.
2 марта
Живу на недавно организованном при 1-м эшелоне корреспондентском пункте.
Кроме нас, двух-трех, состав которых постоянно меняется, тут находятся представители фронтовой газеты и зенитчики. Теснота. Товарищи из фронтовой газеты – славные, культурные, остроумные ребята, не чета армейской «кобылке». Один – Л. Плескачевский, был в тылу, у партизан и представлен к ордену. Другой – М. Гроссман18, несколько месяцев жил в Риге. Зенитчики сильно мешают нам работать, но ссориться с ними не хочется – уж очень народ симпатичный. Снабжают их прекрасно. Почти каждый день пьем водку. Государство кормит их недаром. Ежедневно начинают скрипуче стрекотать совсем рядом крупнокалиберные пулеметы, щелкать зенитки. Немцы все время вьются над нами. На днях бросили у Малых Горбов штук двенадцать бомб. Большинство из них не взорвалось. За два дня наши зенитчики сбили четыре-пять самолетов. Ходили очень гордые. Выжить их из квартиры, которая фактически предоставлена только корреспондентам, было очень трудно. Только после того как приехал Ведерник и крупно с ними поговорил, они стали рассасываться по другим домам.
Работаю над «юмором», как будто получается.
4 марта
Впервые читал сегодня политдонесение. Общее положение все то же. Пока что наша армия ничем, кроме больших потерь, себя не проявляет. Наши соседи заканчивают окружение Старой Руссы, а мы по-прежнему толчемся на месте. Немцы отчаянно сопротивляются. Дьявольский народ. Сыроежкино, Щетинино, Фелистово все еще у них в руках. Почти все те командиры и политработники, с которыми я познакомился на передовой, выбыли из строя. Долговязый Канн – с ним мы разговаривали о московских малоформистах и вместе лежали под обстрелом с воздуха, ранен, видимо, тяжело и погиб, если бы какой-то красноармеец не вытащил его с поля боя.
Ранены командир б. 3-го полка Андреев, военком Печников, начальник штаба подполковник Нижегородов, ответственный секретарь Курганов – громадный, горячий, непосредственный. Помню, как сокрушался он сильными нашими потерями.
Это высший комсостав. Что же говорить о низшем, о рядовых бойцах?
Когда я покидал этих людей, у меня было чувство, что я оставляю обреченных на смерть.
Наш маленький командарм не жалеет советской крови.
12 марта
Середина марта, а весной и не пахнет. Вьюжная февральская погода. Впрочем, это хорошо. Весна и распутица сулят мало хорошего. Скорей бы выбраться из здешних болот! Старая Русса все еще в руках немцев.
Трупами будет пахнуть нынешняя весна. Трупный запах в лесах и полях.
С «фронтовиками» М. Гроссманом, Плескачевским и приехавшим тоже из фронтовой газеты писателем К.Горбуновым19 – побывал на фанерном заводе.
От Князева, где наша редакция, километров восемь-десять. Фанерный завод недавно занят нашими. От заводских корпусов остались только стены. Поселок уцелел, более или менее. Подходя к поселку, мы видели проволочные заграждения, занесенные снегом дзоты, построенные с немецкой добросовестностью. Сейчас на заводе расположено четыре лазарета. Мы побывали в одном. Тяжелая картина. Госпиталь расположен в трехэтажном новом здании школы и битком набит ранеными. Лежат в коридорах, кто на нарах, кто на полу. Врачи с ног сбились. Вместо двухсот раненых, на которых рассчитан госпиталь, тут их семьсот-восемьсот. Такое же положение и в других госпиталях.
Эти серые и желтые лица, эти бинты и повязки, воспаленные глаза, стоны…
Не дай Бог попасть сюда!
Приняли нас по-царски. Симпатичный комиссар госпиталя. Хорошее энергичное лицо. Мы спали на настоящей кровати, на чистых простынях, прекрасно питались, пили водку, побывали в великолепной бане (при госпитале), причем обменяли свое грязное белье на чистое, вымытое мылом против паразитов. Это было кстати: я обнаружил у себя, после длительного перерыва, вшей.
Мы пробыли в этом санатории около суток, и все время не оставляло меня чувство внутренней неловкости и смутного стыда, когда я вспоминал то, что видел в госпитале. За что страдают эти хорошие люди? А что они хорошие, я имел достаточно случаев убедиться за время пребывания на фронте.
Главной целью моего и Гроссмана путешествия на фанерный завод был раненый (вернее, обмороженный) герой-танкист, восемь суток просидевший в подбитом танке. Но оказалось, что танкиста эвакуировали отсюда еще дальше в тыл. Путешествие наше оказалось неудачным.
Вышла первая страничка юмора, организованная мною. Кажется, ничего. В дальнейшем страничка будет выходить каждый четверг. Очень нравятся всем мои «Старые песни на новый лад». Наборщики и печатники напевают: «Жил отважный генерал» – мою переделку известной песенки Паганеля из кинофильма «Дети капитана Гранта». Что ж, буду работать за поэта. Некий красноармеец, прочитав мою заметку «Одиннадцать» (об одиннадцати расстрелянных в Хорошеве бойцах), прислал написанные по этому поводу неплохие стихи. Приятно.
Были с Гроссманом в 254-й дивизии. Зимний лес, сосны, заваленные снегом шалаши и землянки, лошади, сани, грузовики. Дымки из-под снега, стук топоров, гул и треск падающих деревьев – строят новые блиндажи. Тишина, только изредка хлопнет вдали вражеский миномет. Дивизия держит оборону, позиционная война.
И тут рассказы о страшных потерях. Армия, страна истекают кровью. У кого скорее иссякнут людские резервы – у Гитлера или у нас?
Две ночи в блиндаже связистов. Стены и потолок из розоватых сосновых бревен, потолок частью затянут плащ-палатками. Круглые сутки топится железная печурка. Ночью жарынь такая, что дышать нечем. Я просыпаюсь и вылезаю наружу глотнуть свежего воздуха.
В блиндаже начальника политотдела – крохотная электрическая лампочка над столом, пишущая машинка, за которой сидит маленькая стриженая девочка в гимнастерке, в глубине широкая никелированная кровать.
Столовая: бревенчатый сруб, где помещается кухня, а к нему пристроен большой шалаш. Длинный стол из двух-трех обтесанных сосен, такие же скамейки. Обед из одного-двух блюд, даже котлеты. К обеду белый хлеб. Давно я его не ел!
Попали мы удачно. Как раз происходило награждение орденами отличившихся бойцов и командиров. Было их человек около тридцати. Материал, который мне нужен. Облюбовал для себя пять человек. Пять очерков. Ведерник очень доволен: требуются герои.
Встречали нас приветливо. На второй день нашего пребывания начальник политотдела угощал в своем блиндаже водкой. Тут же в лесу, под открытом небом показывали фильм «Дело Артамоновых». Я не пошел, спать хотелось. Темень, хоть глаз выколи, лес, пляшущие над землей красные искры из жестяных труб, вспыхивающие фонарики, которыми освещают путь снующие по снежным тропкам местные жители, негромкие оклики невидимых в темноте часовых: «Кто идет?» – а поодаль, за черными деревьями, мерцающий экран. Как многообразен фронт!
Назад я возвращался один. Мне дали легкие санки, на которых с удовольствием проехался. Лошадью правил ординарец начдива Василюк, разбитной и, похоже, плутоватый парень из-под Житомира.
Всю дорогу он развлекал меня рассказами о своем колхозе, где коров «было немного» – всего 500, овец «тоже немного» – 700, кур «совсем мало» – 2000. Вообще, цифры приводились астрономические. Рассказывал, какой хороший у них был клуб, и как они организовали духовой оркестр своими силами и на свои деньги, и как бородатые дядьки приходили поиграть в домино, почитать свежую литературу.
– Расстрелял Гитлер нашу Украину…
И затем, с уверенностью:
– Ну, шесть, семь лет – и оживет Украина.
14 марта
Сильный мороз, жгучий ветер. Оконные рамы, одинарные, заросли седым инеем, клубами валит холод. Вот тебе и весна!
Служебная неприятность. Ко дню 8 Марта я написал очерк о героинях связистках и напутал: экспедитора Сушкову (маленькая и миленькая девушка) изобразил как радиотелеграфиста. Прямой моей вины нет – мне отрекомендовали ее именно как радиотелеграфиста, в действительности же оказалось другое. Начальник связи и комиссар части послали заявление в политотдел Лисицыну и опровержение в редакцию.
Пришлось мне писать рапорт редактору с объяснением произошедшего. Сейчас очень щепетильно относятся к точности информации, помещаемой в армейских газетах, – был соответствующий приказ свыше.
Письмо от Верцмана. Работает в политуправлении какой-то армии, очевидно, переводчиком, одновременно в немецкой газете. Пишет, что изнемогает от работы. Приходится даже самому набирать газету. Живет под беспрерывной бомбежкой. Лещинеровскую нашу эпоху называет «золотым веком», нынешнюю свою жизнь – «железным веком». Подчеркивает, что зачислил меня в число своих друзей. Милый, смешной Верцман! Приятно было получить весть от него.
Наша армия вдалась длинным узким клином в расположение противника. Временами и справа, и слева слышна далекая канонада. Еле слышные перекаты, огненные искры, повисающие в ночном небе, – работает «катюша».
Скорей бы выбраться из этих гиблых весною мест! Скорей бы пала Старая Русса. Кажется, на днях двинемся дальше.
18 марта
Получил за свою оплошность выговор в приказе по редакции. Первый случай в моей газетной практике. Армия!
Письмо от Берты. Страстная любовь, тоска по мне, желание во что бы то ни стало приехать сюда, жить и работать со мной. Даже нарочно стала учиться печатать на машинке.
Вчера, будучи вызван в Князево, говорил с Ведерником относительно приезда Берты. Предложение мое было принято очень охотно – редакции нужна вторая машинистка. Тут же вручили мне соответствующее удостоверение для Берты.
Однако пока не послал. Очень колеблюсь, стоит ли ей выезжать. Трудности и тяготы фронтовой жизни, бомбежки, новый и ненужный источник моего беспокойства, наконец, отношение коллектива.
Меня и так, неизвестно почему, недолюбливают, а тут и вовсе волком смотреть будут. Все-таки отношение к женщине на фронте специфическое. Говорил по этому поводу с Гроссманом. Мы с ним подружились. Опытный человек – несколько лет службы в армии, Прибалтика, Финский фронт. Категорически возражает против такого шага. Меня и самого что-то сосет – не делать этого. А предчувствиям я верю. Пожалуй, воздержусь. Пусть скучает и томится, бедняжка, зато спокойнее и для нее, и для меня.
Продолжаем топтаться на месте. Наша армия врезалась узким клином между старорусской и демянской группировками противника и пытается двигаться не на запад, а на юг. Пожалуй, потом свернем и на восток. Ситуация со стратегической точки зрения оригинальная. Теоретически не исключена возможность, что мы можем очутиться в «мешке».
Весной, если армия не выберется из здешних болотистых мест, могут быть большие неприятности для нас. Хорошо, что пока морозы, днем лишь чуть-чуть оттаивает.
Ударная армия – армия, предназначенная для наступления, – и такая бедная техника! Добиваемся кое-каких успехов лишь кровью, мясом. Незачем сейчас приезжать Берте.
Познакомили нас с секретным приказом, подписанным Колесниковым и Лисицыным. Говорится о пораженческих настроениях, имеющих место в армии, о мордобое и самосудах, о пьянстве. Тех командиров, которые самочинно расстреливали и рукоприкладствовали, отдают под суд. Интересно, передадут ли суду того начальника штаба, который дал мне наган?
20 марта
Вчера получил сразу четыре письма: два от Берты, одно – от папы, одно – от Ади. Радостная новость. Адя на свободе, в Архангельске, работает по-прежнему военным врачом. Полностью реабилитирован. Настрадался, бедняга! Я предвидел, что так и будет.
Берта усиленно работает на машинке. Живет мечтой быть со мной на фронте. Жалко ее разочаровывать, а ничего не поделаешь. Окончательно решил не вызывать. Чувствуется, что для нее мои письма, одно мое ласковое слово – все.
Видимо, все-таки Ведерника снимут.
Вчера вечером к нам явились люди из политуправления фронта; полковой комиссар, батальонный и старший политрук. Вызвали всех сотрудников из Князева. Исповедовали каждого. Тут же был и Ведерник. Интересовались работой газеты, мерами, какие принимаются к ее улучшению, нашим мнением о газете и пр. Я высказался откровенно. Это уже вторая комиссия.
Гроссмана срочно вызвала редакция. Едет в Валдай. Мне грустно с ним расставаться. Единственно яркий человек среди окружающей серятины и посредственности. Умный, злой на язык, культурный, нервный, остроумный. Высокий, красивый, с черными усиками, слегка грассирующий, он ничем не напоминает еврея.
С утра массированный налет немецкой авиации, над лесом дымки разрывов, мгла. Нервно бьют зенитки. Не то двенадцать, не то двадцать самолетов. Это немцы мстят нашим зенитчикам, сбившим за последние два дня восемь Ю-52 и «мессершмитов».
На всех фронтах затухание. Стабилизация. «Ничего существенного не произошло». Что-то даст нам весна? В отношении нашего участка не предвижу ничего хорошего.
Максимов получил сообщение, что у него умерла жена. Они недавно поженились, и он, видимо, по-настоящему ее любил и уважал. Она жила в Ленинграде, недавно как-то сумела выбраться, но уже поздно – силы у нее были подорваны голодовкой. Жаль Максимова…
Жива ли тетя Валя? От нее давно нет никаких известий.
Да, осрамилась 1-я Ударная. Не только не выручили ленинградцев, но и сами засели где-то в болотах.
Наши зенитчики и летчики часто сбивают Ю-52, поддерживающие связь с осажденной 16-й армией. Один такой «юнкерс» я видел. В лесу. Лежит на полянке, прямо на брюхе, трехмоторная гофрированная громадина. Внутри могут поместиться человек двадцать – двадцать пять.
Уцелевших летчиков и пассажиров держат в наших Малых Бобрах, допрашивают. Большинство сначала не желают отвечать, держатся вызывающе. На второй или третий день у них развязываются языки. Начинают говорить откровенно и обо всем. Такой откровенности предшествуют две-три хороших оплеухи или угроза расстрела. Ковалевский, которому удалось присутствовать на таком допросе, ходил потом совсем расстроенный. «Страшная ночь!» Я не так чувствителен и мягкосердечен, как он. Дряблые, гнилые душонки. Они привыкли наслаждаться мучениями других. Вся их спесь и наглое чванство бесследно исчезают после хорошего удара по морде. В этом весь фашизм, вся его суть. Впрочем, по словам Ковалевского, «физические методы воздействия» не являются чем-то возведенным, как у немцев, в хладнокровную, садистскую систему. Делается это по-русски: сгоряча, в сердцах, с тайной, про себя, виноватостью.
Как-то я зашел в баню, где сидели под стражей шестеро пленных летчиков. Снаружи стоял часовой, второй находился внутри, вместе с немцами. Двое при моем появлении встали – нижние чины. Третий демонстративно остался сидеть, не вынимая из зубов трубки. Худой, неприятное треугольное лицо, синий комбинезон. (Я потом долго жалел, что не догадался заставить его встать.) На полу, на носилках лежал под одеялом тяжелораненый немец. Двое других раненых помещались на носилках, спиной к свету. Я задал несколько вопросов молоденькому пареньку, вставшему навытяжку. Он прилично говорил по-русски – по его словам, выучился у наших пленных.
– Камрад, – сказал раненый, лежавший на койке. – Лазарет… Шнель… Камрад… – Глаза у него были воспалены, казалось, он бредил. Теперь мы для него стали «камрадами».
На обратном пути сопровождавший меня в качестве переводчика еврей-парикмахер беспокоился за судьбу раненого немца. Почему не оказывают ему медицинской помощи?
О, добрая, незлобливая еврейская душа!.. Лично меня вопрос о том, отправят или нет раненого гитлеровца в лазарет, интересовал меньше всего.
21 марта
С утра до поздней ночи гул и звенящий стон немецких самолетов, сопровождаемый непрерывным грохотом бомбежки. Дома трясутся, все дребезжит, хоть бомбят сравнительно далеко. Такого массированного налета еще не бывало. Когда самолет проносится совсем низко над деревней, начинают скрипеть наши зенитные пулеметы.
Настроение тревожное, подавленное. Политотдел не работает, упаковывает бумаги. Слухи о готовящемся наступлении немцев. Эта яростная бомбежка, очевидно, является прелюдией к чему-то серьезному.
И, как обычно, именно тогда, когда она нужна, наша истребительная авиация отсутствует.
Под этот непрерывный грохот идет допрос пленных немецких летчиков, на котором я присутствую. Их человек десять – с двух сбитых Ю-52. Интересно, что один из самолетов был сбит выстрелами из винтовок.
Передо мной прошли трое пленных – майор, лейтенант и унтер-офицер. Странно и жутко видеть перед собой так близко своих врагов. Существа с другой планеты. У них и мозги устроены не так, как у нас. Целый день я провел на допросе вместе с работниками политотдела – переводчиками.
Майор – молодой, лет тридцати пяти, летчик-наблюдатель. Худое, острое, загорелое лицо, характерная прическа «бокс», светлые стеклянные глаза. Стремительный взгляд, одет в теплое, серое пальто с меховым воротником, валенки, полученные им уже в плену, взамен сапог, сгоревших при посадке. Шапка тоже сгорела – повязывает голову теплым шарфом. Держится непринужденно. Внешне очень словоохотлив, улыбается. Но эта словоохотливость обманчива. На скользкие вопросы отвечает незнанием либо дает выгодные для германской армии ответы. Врет, но временами проговаривается. Когда ему сказали, что не верят ответам, – заметно покраснел.
В общем, сволочь.
Лейтенант – молоденький темноглазый мальчик в коричневом теплом комбинезоне с карманами на коленях и бесчисленными застежками-молниями. Голова тоже повязана шарфом. Рука забинтована, левая нога без сапога, в теплом чулке – прихрамывает. У него усталое лицо и удивительная улыбка. Доверчивая, покорная, какая-то детская, она в то же время говорит: «ну что же, делайте со мной что хотите, я в вашей власти, я готов ко всему». А вместе с тем таится что-то свое, упрямое. Он сказал, что удивлен, почему до сих пор его не расстреляли. Русские не только расстреливают пленных, но и отрезают у них конечности. По его словам, в момент пленения он хотел застрелиться, но пистолет дал осечку. Когда ему сказали, что могут его отпустить назад с тем, чтобы он рассказал товарищам всю правду о том, как с ним обращались в плену, мальчик удивленно ответил, что тогда ведь он должен рассказать и о вооружении, которое у нас видел.
Нафарширован геббельсовской демагогией. Россия готовилась напасть на Германию и расчленить ее. Германия защищается, главные виновники войны – Америка и Англия.
Честный, хороший, наверное, мальчик, вконец исковерканный гитлеровской пропагандой. На войне таких расстреливают.
Самый интересный экземпляр – унтер-офицер. Сухой, горбоносый, с длинным лицом, бывший наборщик, берлинец. Серый комбинезон – спина порвана в клочья, – на голове русская ушанка. Начал с того, что он солдат, маленький человек и не имеет своего мнения (обычный трафарет). Однако оказалось, что парень может думать и думает. У него есть здравый смысл, способность логически рассуждать, какие-то проблески критической мысли. Мои политотдельцы вцепились в него. О чем только они с ним не беседовали! И о расовой теории, и об антисемитизме, и о литературе, и о перспективах войны, и о духовной силе русского народа…
Или я ничего не понимаю в людях, или эта беседа несомненно произвела на парня сильное впечатление, заставила задуматься. Прощаясь с нами, он держался совсем иначе, нежели в первые минуты.
Этот может стать нашим.
Общее впечатление от всех трех, от их показаний. Немцы не потеряли надежду нас победить. Неудача под Москвой – это результат зимы. Отход вызван тактическими и стратегическими соображениями. Да, Гитлер недооценил силу России, но теперь этот промах учтен и уже исправляется. Продовольственное положение Германии приличное. Немцы не будут голодать. Да, народ утомлен войной, но верит своему правительству. Наши данные о потерях германской армии сильно преувеличены.
Демянская группировка вполне обеспечена продовольствием. Даже созданы запасы.
Если это даже не очковтирательство, то все же нужно помнить, кто так говорит: представители привилегированной касты, не испытавшие на себе тяжесть войны, – летчики-транспортники. Они не связаны с солдатской массой.
А все-таки не переоцениваем ли мы свои успехи?
22 марта
Третий день с самого утра неистовая бомбежка. Над лесом десятки самолетов, стелется дым, небо гудит. Грохот взрывов похож на стрельбу автоматических пушек – непрерывный. Наши Малые Горбы немцы пока не трогают, но где гарантия, что и на нас не посыплются бомбы? Красноармейцы жмутся к стенам, выглядывают из-за углов. Политотдельцы забрались в блиндаж, вырытый на огороде.
Немцы взбесились. Окруженная 6-я армия рвется на соединение со старорусской группировкой. Тогда мы будем в окружении. Бои идут в шести километрах отсюда. Бабье, Хорошево, Трохово, Ширяево, Бородино, Соколово – все эти памятные для меня места снова в руках немцев. Я собрал и упаковал свои вещи, мои товарищи тоже. Наши хозяйки собрали барахло в огромные мешки и, чуть стало светать, пошли закапывать. По улице проходят «вольные», неся на спине узлы и чемоданы. Знакомая картина – до боли знакомая! Немец наступает. Неужели здесь опять будут эти, со стеклянными глазами, с голыми затылками? Совестно смотреть в глаза нашим веселым, радушным, услужливым женщинам. Чувствуешь себя невольным предателем.
Сегодня ночью постучался в дверь раненный в руку боец:
– Разрешите побыть до утра. Полтора месяца у костра, не видел хаты.
Все спали. Конечно, я разрешил. Он уселся у лежанки, попросил у хозяйки воды.
– Что делает!.. Все смешал с грязью… Отступаем…
Редактор нервничает. Запросили Лисицына, какое положение. Ответ: сидеть по-прежнему на месте. Меры приняты.
Это спокойствие действует ободряюще. Утром мимо окон промчался грузовик с какой-то огромной, прикрытой брезентом наклонной плоскостью. «Раиса». Спустя несколько минут вторая, потом третья. Насчитал семь машин. Отрадно!
Неужели все-таки придется отступать? Обидно, больно… Нужно отдать им справедливость, они выбрали удачный момент для контрнаступления. Наше наступление выдохлось, дивизии и бригады измотаны, обескровлены, понесли огромные потери, боеприпасов не хватает.
Все вьются, проклятые. Голубой воздух гудит, гудит…
– Как саранча, – говорят бойцы и командиры, выглядывая из-под навесов.
– Эх, десятка бы два наших «ястребков»! Они дали бы жизни.
Нет наших «ястребков».
Когда немецкие самолеты приближаются к деревне, в поле, точно маленькие вулканы, начинают огнем и дымом бить вверх зенитки, скрипуче трещат пулеметы. Кое-как отгоняют.
Один «стервятник» совсем низко пронесся над крышами и прострочил деревню из пулемета. Сидя в комнате, я отчетливо слышал визг пуль за окном.
Это подлое чувство беспомощности и покорной обреченности… Как оно знакомо!
Иллюстрация к тому, как у нас хранят военную тайну. О том, что в Малых Горбах были «раисы», знают все здешние мальчишки. Спрашиваем сынишку одной из наших хозяек:
– Кто тебе сказал?
– Боец. Он при «катюше», сам говорил.
24 марта
Прощай, наше уютное житье в Малых Горбах! Второй день с Белкиным живем в лесу, в блиндажах. Сюда, километра за три от Малых Горбов, перебрался политотдел, весь 1-й эшелон и мы, корреспонденты. Немцы выгнали нас на холод, в лес. Пятый день не прекращается бомбежка. От зари и до зари, с перерывом на час-два (немецкие летчики в это время обедают) в воздухе беспрерывный гул, звон, вой, визг, сопровождаемый грохотом взрывов. Этот дьявольский джаз-банд вызывает скуку. Не страх, а именно скуку. Надоедает монотонность этой дикой разрушительной какофонии, скучно делается. Мне лично под бомбежку хорошо спится. Это не фраза.
22-го под вечер метрах в двухстах от нашего дома упала крупная бомба. Снежное поле черно от земли. У нас вылетела рама со стеклами. Хозяйки тут же заделали окно фанерой. Вдали, в соседних деревнях разгораются три ярких огонька – пожары. В Малых Горбах повылетали все стекла. Очередь доходила и до нашей деревеньки – нужно было выбираться отсюда. Ночь мы провели на старом месте, а утром простились с нашими гостеприимными хозяйками.
– Совсем уходите? – спрашивали они нас с тревогой и тоской.
Наш уход означал для них вообще уход своих, Красной армии.
– Только и пожили спокойно месяц, – горько говорили бедные женщины.
Мы простились с ними. Уцелеет ли этот дом? Что ждет людей, с которыми мы успели подружиться?.. Шура, сестра хозяйки, веселая, разбитная женщина лет тридцати, с нехваткой зубов во рту, в свое время работавшая в столовой, переживала особенно сильно. Не вынося бомбежки, весь день она провела в соседней деревеньке у знакомых. Вечером, когда стало тихо, вернулась молчаливая, на себя непохожая. Села, уставилась в одну точку. Ночью я слышал ее всхлипывания. Под утро за ней явился красноармеец из АХО. Оказалось, уезжавшие аховцы брали ее с собой.
– Нет, нет, не останусь, – говорила она, прощаясь, – я одна, ребят нет, лучше погибну со своими, а не с немцами. Не останусь.
Она целовала своих.
– Я вернусь, я вернусь, – повторяла она истерически. Сестра ее, держа на руках ребенка, сидела и молча плакала, не вытирая слез.
Господи, сколько вокруг горя!
Ведерник велел нам с Белкиным остаться пока при политотделе и держать связь с редакцией по телефону. Двое других сотрудников отправлены в 254-ю дивизию. Сейчас там жарко.
Раннее хмурое утро. Тянутся военные обозы, едут машины, бредут бойцы – и все в одном направлении, с фронта. Отходим. Пришел связист, снял телефон и унес с собой. Скверно и горько на душе.
Переехав в лес, политотдел разместился в большом блиндаже. Перекрытия крепкие, в четыре наката. Электричество. Выкрашенная белой краской дверь. Но у самого порога глубокая лужа, куда непременно попадает, промачивая валенки, всякий вновь вошедший. С бревенчатого потолка непрерывно капает. Под нарами накопилась родниковая вода. Ее черпают прямо кружкой, пьют и похваливают. Квартира с удобствами – электричество и водопровод…
Народу здесь столько, что не протолкнуться. Однако вскоре застучали две машинки, люди разложили на коленях папки, бумаги. Политотдел начал работать как обычно.
Люди предусмотрительные, мы с Белкиным запаслись хлебом, топленым маслом и флягой приличного портвейна. Уселись под соснами на санях, устланных сеном, и пообедали.
Вечером с одним из переводчиков решили вернуться в Малые Горбы, чтобы поужинать по-настоящему и, если удастся, переночевать на старой квартире. Были сведения, что столовая еще не эвакуировалась.
По дорогам можно двигаться только в темноте. Днем движение почти замирает. Германская авиация делает свое дело. Мы с трудом брели по дороге, размолотой обозами. Снег, сыпучий, как песок, глубокие ухабы. Пока доплелись до деревни, стали совершенно мокрыми и выбились из сил. Навстречу ползли, застревая в рытвинах, груженые возы, машины, группами и в одиночку, шагали темные угрюмые фигуры. Отход продолжался. Посреди дороги остановились сани. Понуро стоит лошадь, на возу полулежит человек, не шевелится. Живой ли, мертвый? На земле валяется другая лошадь, иногда взбрыкивает ногами. Еще жива. Я хотел было ее пристрелить. Канонада совсем близко. Фиолетовые зарницы освещают дорогу. Впереди, за черными силуэтами мертвых изб багровеет большое зарево.
Столовая Военторга застряла в ожидании машин. Подавальщицы укладывали посуду в корзины с соломой. С трудом удалось нам уговорить заведующего накормить нас. Получили чай, сахар, хлеб, много сливочного масла.
Подкрепившись и отдохнув, двинулись обратно. Ночевать здесь нам в политотделе отсоветовали: могут прорваться лыжники-финны. Да, перспектива не из приятных.
Ах, эта обреченная тишина, эта черная пустынная деревня, эта ночь отхода…
Но нет, не все потеряно. Я замечаю иной поток движения – в обратную сторону, на фронт. Движутся прикрепленные к тракторам и грузовикам тяжелые орудия, подразделения пехоты, лыжники. Проехали два пушечных броневика.
Мелочь, крохи, но все-таки какое-то подкрепление истекающему кровью фронту.
Когда мы приближаемся к темнеющему лесу, снова вспышки света, характерный удар, свист проносящейся над нами мины и справа – треск разрыва.
Немцы обстреливают лес, где расположился 1-й эшелон.
Весь день над верхушками сосен кружат и кружат самолеты. Теперь они занялись нашим лесом. То и дело отрывистое «т-рр, т-рр». Прочесывают пулеметами по три, четыре, по десятку «юнкерсов». «Он» сконцентрировал на нашем участке сотни самолетов. Я никогда не видел такой интенсивной, настойчивой бомбежки. Если бы у нас была авиация! Говорят, что появились и наши «ястребки», но это, если и правда, капля в море. Впрочем, эффект от этой дьявольской бомбежки главным образом психологический. Гораздо хуже, что движение по коммуникациям днем почти парализовано.
То и дело над головой вой сирен. Новая немецкая выдумка – самолеты с сиренами. Пугают, но нам не страшно.
Бои на переднем крае с переменным успехом. Общий вывод: мы оказываем упорное сопротивление, но немцы медленно упорно нас теснят.
Сегодня первый по-настоящему мартовский день – оттепель, туманное небо. Весна. Дорого она нам будет стоить.
Из блиндажа политотдела мы, в том числе Ковалевский, перебрались в другой. Там были связисты. Ни двери, ни печурки, груды бутылок в углах. Грохот бомб все ближе, с бревенчатого потолка сыплется песок, наша землянка выдерживает.
– Неуютная жизнь, – тихо и задумчиво говорит Ковалевский, сидя в углу.
Никто не обращает особенного внимания на свистопляску в воздухе. Снуют по талым тропинкам между сосен, каждый занят своим делом. Разве станут на минуту под деревом, когда гул над самой головой. Однако многие политотдельцы чувствуют себя неспокойно.
Деталь. Под елями в ямках, вырытых в снегу, лежат двое бойцов. Один громко:
– Так или иначе, не жить нам на этой даче.
Действительно, не жить.
Под вечер мы находим роскошный блиндаж, хозяева которого собираются его покинуть, – теплый, высокий, с электричеством, с огромной печью, сделанной из немецкой печки. В полном восторге мы собираемся занять новую жилплощадь, и в этот момент приходит приказ: немедленно грузиться по машинам.
В несколько минут мы на машине. Уже смеркается. Нужно признаться, мы покидаем этот сосновый бор, гремящий взрывами, без особого сожаления.
Несколько раз издали доносится длинная громовая гамма. Могучие перекаты. У всех светлеют лица.
– «Катюша» заиграла!
Несколько секунд тишины, напряженного ожидания, и вот снова повторяется та же раскатистая мажорная гамма, лишь заглушенная более отдаленным расстоянием. Первый раз залп, второй – результаты его.
Но удачны ли эти залпы? Мне вспоминаются дни, проведенные в 129-й дивизии.
…Мы отъезжаем на несколько километров назад и ночью останавливаемся в какой-то деревушке. Я, по обыкновению, залезаю на горячую печь, на какой-то подозрительный тюфяк. Возможность обзавестись вшами не пугает меня. Да, кажется, они уже завелись. Ах, баню бы! Между прочим, здешние крестьяне вместо «баня» говорят «байна». Здешний говор на «о». Выражения: «горазд», «ой, тошнехонько», «ушодцы», «пришодцы» (вместо «ушел», «пришел»).
Где редакция – не знаем. Очевидно, тоже покинула Князево. Связь с нею пока потеряна. Начинается нечто, хоть отдаленно, но напоминающее октябрьские дни, наш драп из-под Вязьмы.
Вот оно, пресловутое весеннее наступление немцев!
Ночью, под утро, я час дневалю. Густой туман, движутся, вспыхивая, на минуту фарами машины. Иногда грохот, воющий свист мины – впечатление такое, что близко. У самого крыльца, слегка огороженная, лежит неразорвавшаяся мина.
Старуха во время бомбежки сидит в избе.
– Вот, птицы небесные летают! Их не надо ругать. Кому суждено, убьет, кому не суждено – не убьет.
Рассказывает о сыне, погибшем прошлым летом. Служил в армии, «в теплых краях», города она не помнит. Пришел домой. Выпив, лег на печку, заснул. Зажигательная бомба упала на крышу, на печку, убила его и сожгла дом.
– Одни косточки остались… Собрала… Головушку кирпичом придавило – осталась головушка с волосиками. Значит, так суждено ему, дома помер.
Когда писал, снаружи крик:
– Падает, падает!
На крыльце тесно столпились политотдельцы, лица радостные. Из-за кромки леса тающий хвост черного дыма. Только что наши зенитки сбили бомбардировщик. При падении взорвался на своих минах.
Вскоре выяснилось: зенитчики сбили наш, советский самолет, погибло четыре человека. А немцы, несмотря на туман, нагло вертятся над головой, и им хоть бы что!.. Впечатление от этого случая убийственное.
