Жизнь русского обывателя. Часть 1. Изба и хоромы бесплатное чтение
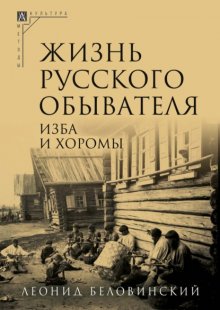
Методы культуры
© Беловинский Л.В., 2021
© Издательская группа «Альма Матер», оригинал-макет, оформление, 2024
© Издательство «Альма Матер», 2024
К читателю
Человеку, если он человек, свойственно не только жить настоящим, но хотя бы иногда задумываться о будущем и с любопытством заглядывать в прошлое. Прошлое властно притягивает к себе внутренний взор человека. Но особенно сильно это притяжение в периоды общественных кризисов, независимо от того, бурные они или вялотекущие и внешне почти не выражающиеся. Наше общество на протяжении нескольких десятилетий перманентно находилось в кризисном состоянии, сначала подспудном, ощущавшемся большинством лишь инстинктивно, а затем и получившем ярко выраженные и во многом отвратительные формы.
Этим можно объяснить такую бешеную популярность у нас исторической литературы. Тиражи изданий романов В. Пикуля еще в советское время, пожалуй, перекрывали тиражи трудов В. И. Ленина, и тем не менее они были большим дефицитом, нежели икра и заграничный ширпотреб. Исторический роман-эссе В. Чивилихина «Память» стал бестселлером, и в метро его читали едва ли не чаще, чем детективы. Люди хотели знать, что они есть, что произошло и почему.
К сожалению, романисты по самой своей природе, природе художественного творчества, не могут дать подлинной, объективной картины действительности, современной или минувшей. Романист пишет «из себя» и «себя», свое видение жизни. К идеалу объективности могут приблизиться (идеал на то и идеал, чтобы быть недостижимым) профессиональные историки, опирающиеся на комплекс подлинных документов и профессионально умеющие подвергать их сопоставлению и критическому анализу. Ведь даже медаль имеет две стороны, а люди и жизнь многогранны, и нужно обладать особым взглядом, чтобы увидеть все грани или хотя бы несколько и остаться невосприимчивым к обаянию одной из них.
Увы, профессиональная историческая литература была не на высоте положения. Прежде всего, она была недоступна широкому читателю, и не столько из-за незначительных тиражей, сколько по своей сути. Сухое, сделанное лапидарным языком изложение совокупности мелких и, казалось бы, незначительных фактов делало ее неудобочитаемой. Кроме того, многие темы были закрыты для исследователей или считались неактуальными, и лишь изредка, с трудом, пробивались через «актуальные» темы: революционное движение, борьбу пролетариата, развитие промышленности или сельского хозяйства, построение социализма. Наконец, профессиональная историческая литература постоянно находилась в поле зрения строгого, недремлющего ока идеологической цензуры. Последнее обстоятельство породило в обществе недоверие к профессии историка и профессиональным историческим исследованиям. Разумеется, далеко не все темы и не все исследования добровольно или вынужденно фальсифицировались, но широкая публика, не читавшая скучных монографий, огульно распространяла грех фальсификации на весь ее массив.
Этим, между прочим, объясняется бурный взрыв интереса читающей части общества к трудам Н. М. Карамзина, С. В. Соловьева и В. О. Ключевского в годы перестройки. С экранов телевизоров, со страниц журналов и газет повсеместно и громко утверждалось, что без Карамзина, Соловьева и Ключевского нельзя познать подлинной отечественной истории.
Не будем говорить здесь о том, что тремя этими громкими именами далеко не исчерпывается дореволюционная отечественная историография. Не будем говорить и о том, насколько адекватно показывали прошлое Карамзин, Соловьев и Ключевский – это специальный разговор. Отметим лишь, что с той степенью приближения, которая была характерна для этих почтенных историков, ознакомиться с подлинной историей можно было и без них. Ведь они преимущественно, как и надлежит ученым-историкам, показывали исторический процесс, разумеется, в меру своего времени, уровня науки и взглядов, которые ведь тоже не были абсолютно объективными. Но исторический процесс – вещь в некотором смысле абстрактная, а жизнь народа конкретна. Эта жизнь протекает в ее повседневности, в мелких делах, заботах, интересах, привычках, вкусах конкретного человека, который есть частица общества. Она в высшей степени разнообразна и сложна. А историк, стремясь увидеть общее, закономерности, перспективу, пользуется большими масштабами.
Пришло новое время, и общество получило новый массив доступной ему исторической литературы. Увы, как и прежде, он выходит из-под пера (пишущей машинки, компьютерного дисплея) журналистов и писателей: историки по-прежнему занимаются углубленным изучением частных проблем, да по большей части и не могут писать доступно: есть определенный канон научной монографии, и ученый превращается в его раба. Конечно, были ученые, большие профессионалы, умевшие писать ярко и увлекательно, – Ю. М. Лотман, Д. С. Лихачев, Н. Я. Эйдельман. Но и они по большей части ограничивали свой взгляд узкими рамками темы.
А журналисты и романисты… Что ж, их дело – создавать мифологемы.
Общество всегда питается историческими мифологемами, искусственно созданными представлениями о прошлом, позволяющими комфортно переживать не слишком-то радостное настоящее. Мифологема – это утопия, обращенная в прошлое. Не так давно бытовали мифологемы о революционерах и чекистах – рыцарях без страха и упрека («Железный Феликс – рыцарь революции»), об ужасающей отсталости царской лапотной России, о забитости народа и антинародном царском помещичье-бюрократическим режиме. Затем, по контрасту, появились новые мифологемы – о динамично развивавшейся экономике страны, о доблестном офицерстве – рабе чести, о высочайшей культуре дворянской усадьбы, об исключительной роли и подвижничестве земских врачей и учителей, о «твердом купеческом слове».
Делается это просто. Скажем, взяли цитату из воспоминаний С. Ю. Витте, который писал, что ему, в бытность министром финансов, доводилось заключать на слово соглашения с банкирами на сотни миллионов рублей (18, с. 289), убрали «министра финансов», банкиров заменили купцами (какая, дескать, разница) – и дело в шляпе, появилось «купеческое слово». А что банкир абсолютно зависел от министра финансов и мог обмануть его только один раз, что русское уголовное законодательство знало такие понятия, как «дутый», или «бронзовый» вексель, или «злостное банкротство», – это уже не существенно
Так создается ложная картина русской жизни в прошлом.
В этой книге будет заметна полемическая заостренность, направленная против расхожих представлений о волшебном мире русской барской усадьбы. Формируются они в основном историками искусства или литературы. И формируются с опорой на несколько исключительных усадеб. Лет 25 назад была прекрасная выставка – «Мир русской усадьбы». И сформирована она была на основе фондов… трех усадеб: Архангельского, Останкина и Кускова, усадеб уникальных, в которых даже не жили их владельцы и которые служили для представительства. Три усадьбы – и целый мир! А ведь в России накануне падения крепостного права насчитывалось 106 тыс. душевладельцев – это десятки тысяч усадеб, а не три. Можно ли представить весь этот огромный, сложный и противоречивый мир, оперируя материалами пусть даже не по трем, пусть даже по двенадцати усадьбам, как это сделали авторы интересного сборника, опять-таки названного «Мир русской усадьбы»?
В книге сделана попытка развернуть широкую картину повседневной жизни русской деревни, но деревни не только крестьянской: ведь в деревне жили и тысячи помещиков, и духовенство, в ней постоянно находились или просто жили уездные чиновники, служащие земств, интеллигенция. Да и в собственно деревне на одной улице с крестьянами жили и лавочники, и кабатчики, и мельники…
С деревни же начинается рассказ об истории русской повседневной жизни потому, что в ней жило подавляющее большинство населения страны, которая была страной сельскохозяйственной. Да и в городе до конца ХIХ в. значительную часть населения составляли все те же деревенские жители – помещики, их дворовые, крестьяне-отходники. Так что деревенская повседневность во многом определяла повседневность всей нации.
Формировалась же деревенская повседневность исторически сложившимися обстоятельствами жизни, исторической средой обитания, включавшей и почвенные, и климатические, и ландшафтные, и социальные, и политические условия бытия. Поэтому в книге сделана попытка осветить все аспекты этого бытия. Историческая повседневность, включающая как специализированную, профессиональную деятельность, так и обыденность, детерминируется прошлым, историческим опытом индивидуума, социокультурной группы и всей нации.
Здесь сделана попытка показать все многообразие, сложность и противоречивость этой повседневности, многие элементы которой внешне кажутся взаимоисключающими. А чтобы читатель поверил автору, он, автор, прибегнул к не принятому в научной монографической литературе обильному цитированию, особенно в тех случаях, когда материал вступает в противоречие с укоренившимися в массовом сознании представлениями. Пусть читатель читает не своего современника, который может вольно или невольно соврать, а самих людей прошлого.
Автор опирался на многочисленные свидетельства современников прошлого, о котором повествуется, и преимущественно на мемуары. Назойливое пространное цитирование может даже раздражать – тем достовернее будет картина.
Глава 1
Великорусская историческая среда обитания и национальный характер
Древние римляне полагали, что начинать любое повествование нужно ab ovo – с яйца. Того самого, из которого вылупилась курица. Собственно говоря, этого правила придерживались не только римляне. «Сначала было Слово…» – так начинается Библия. Сначала был первозданный Хаос, сначала был Мрак, сначала было одно только море… И так далее.
Ну а если речь идет о жилище, месте обитания человека, то сначала следует сказать о климате, в котором оно строится, приноравливаясь к нему, и о его строителе.
Казалось бы, ну что особенного можно сказать о великорусском (не о малороссийском, кавказском или среднеазиатском) строителе. Все строили: и китайцы, и немцы, и французы, и полинезийцы, и канадцы… Стоп. Вот интересный случай.
Канадский траппер, то есть профессиональный охотник за пушным зверем Эрик Кольер, в интересной книге своих воспоминаний «Трое против дебрей» рассказал, как поселился он вместе с женой-индианкой и маленьким сынишкой среди лесов Западной Канады, в Британской Колумбии. Климат и природа примерно соответствуют нашей центральной Сибири – где-нибудь под Иркутском. Правда, ради справедливости следует отметить, что Кольер был, как бы это поделикатнее выразиться… ну, не совсем полноценным канадским охотником. Сын управляющего одной из промышленных компаний, он родился и жил до 19 лет в Англии, служил в нотариальной конторе, уехал в Канаду (нотариус из него не получился), работал на скотоводческой ферме у родственника, торговал в лавке в крошечном поселке и, спустя ни много ни мало 11 лет после отъезда из Англии, решился переселиться в тайгу, на купленный участок леса в Британской Колумбии, схожей условиями жизни с, допустим, Иркутской областью.
Итак, первым делом обитатели дебрей должны были построить себе жилище. Бревенчатое, разумеется. И вот уже встали четыре смолистых стены. «Лилиан наколола и настрогала тонкие и прямые сосновые шесты, и я вбил их между бревнами. Мы вместе выпилили в срубе отверстия для двух окон и двери, вставили оконные рамы, навесили дверь и замазали щели густой грязью» (46, с. 32).
Если бы простой русский мужик, неграмотный крестьянин, ходивший в лаптях и сермяжном зипуне, увидел такую избу, он бы умер со смеха. Это среди лесов и моховых болот забивать щели между бревнами шестами (каковы же были щели!), а затем замазывать их грязью! Это насколько же должен быть утерян целым народом навык бревенчатого срубного строительства, чтобы, прожив 11 лет в Канаде, так строить!
Этот навык уже третье тысячелетие сохраняется в русском народе.
Когда читаешь книги североамериканских писателей, расписывающих приключения своих героев, поначалу оторопь берет, Возьмите хотя бы Джека Лондона, его аляскинский цикл. И слюна-то на лету замерзает, и тяжести непомерные американские золотоискатели переносят! Подумать только, знаменитый джеклондоновский Смок Белью переносит ни много ни мало по сто фунтов! Железный мужчина! Между тем сто фунтов – это сорок пять килограмм (британский фунт – 453 г). Вес рюкзака, который прет на себе неунывающий турист. А начинал свою эпопею Смок с пятидесяти фунтов – 22 килограммов. По советскому КЗОТу, который, кажется, еще не отменен, женщине разрешалось поднимать 20 килограмм. А поднимали (и поднимают) они гораздо больше. Но для Джека Лондона Смок Белью – герой. Ведь он даже «умывался не чаще одного раза в день»! И даже «ногтей он не чистил: они потрескались, обросли заусенцами и были постоянно грязны». Какие страшные лишения переживали люди в погоне за золотом! Даже ногтей не чистили!
Смех смехом, но это действительно были лишения. Лишения для людей, полностью утративших органическую связь с природой, утерявших навыки жизни в ней, полного слияния с ней. К счастью (или к сожалению?), русский крестьянин просто не мог потерять этой связи, не мог перестать быть ее органической частью. Поэтому в разбитых лаптях и сопревших онучах, с топором за веревочной опояской и прошел он не несколько десятков миль к золотоносному ручью, а десятки тысяч верст – от какой-нибудь Рязанщины до самого Тихого океана. И никакие писатели героизма в этом не видели и романов или хотя бы циклов рассказов о нем не создали. Что с него взять, с русского мужика… Он в сибирской тайге иной раз неделями не умывался, а ногтей отродясь не чистил, да у него и заусенцев вокруг ногтей не было, потому что кожа на руках была – хоть сапоги шей. Для английского офицера, джентльмена, которому вестовой на фронте каждое утро наполнял водой походную резиновую ванну, русский Ванька-взводный в мятых лейтенантских погонах и прожженных у костра ватных штанах и стеганке – дикарь.
Единство с природой (а не «против дебрей») необходимо и возможно там, где просторы огромны, население редко, а климат не слишком-то балует человека. Здесь без этого единства враз пропадешь. В той же Англии, где вырос Эрик Кольер, зима длится много два месяца, и в феврале уже цветут крокусы. В России же в феврале только носы и щеки могут цвести – от мороза. В Англии (не на Лазурном берегу во Франции!) сельскохозяйственные работы идут с марта по ноябрь, а скот на приморских лугах пасется едва ли не круглый год. А в Центральной России (не в Сибири и даже не на Урале) в поле можно выйти в лучшем случае в конце апреля, и к концу сентября все уже должно быть убрано. И скот на пастбище раньше середины мая выгонять не за чем – травы еще нет, а к концу сентября коровы уже должны стоять в стойлах и жевать запасенное коротким летом сено – травы уже в поле нет. Не 8–10 месяцев на сельхозработы, а 4–5, не 4 месяца коров в хлевах держат, а все 8. А на сенокос в лучшем случае отводится 4 недели, и то если дожди не зарядят… В. О. Ключевский писал о «могущественном действии» русской природы «на племенной характер великоросса»: «Это приучало великоросса… ходить оглядываясь и ощупывая почву, не соваться в воду, не поискав броду, развивало в нем изворотливость в мелких затруднениях и опасностях, привычку к терпеливой борьбе с невзгодами и лишениями. В Европе нет народа менее избалованного и притязательного, приученного меньше ждать от природы и более выносливого» (45, с. 312).
Поэтому и называется в России период сельскохозяйственных работ – страда: мужик буквально страдал в поле от темна до темна, весь световой длинный летний день. И страдал так, что рубаха бы сопревала, сгорала на плечах и под мышками от горячего соленого пота, если бы не подоплека и ластовицы: кончатся работы, выпорет баба сопревшие ластовицы, вошьет новые, – вот рубаха еще и послужит. Кажется, ни у одного народа нет этих деталей на рубахе – подоплеки и ластовиц.
«Практика, – писал помещик Афанасий Фет, – дело великое. Только одна она до последней очевидности указывает, в какие стеснительные условия поставлено наше сельское хозяйство. Это не то что в Англии, где и рук много, и времени много. У нас мало и того и другого. Из 12 месяцев в продолжение семи наша земля скована морозами, не дозволяет к себе приступиться, и в продолжение остальных пяти надо во что бы то ни стало совершить все тяжелые операции нашего гигантского земледелия. Нечему удивляться, что целое лето работы обгоняют друг друга и хозяева напрягают все силы ума и воли, чтобы не отстать от торопливого соседа» (110, с. 270).
Все дело в том, что вся Западная Европа лежит, полуокруженная Атлантическим океаном с его теплым Гольфстримом. Океан – великий аккумулятор тепла. Летом он поглощает жару, так что здесь в основном тепло, но нет изнуряющего зноя. А зимой он отдает накопленное тепло, так что здесь 10 градусов ниже нуля – катастрофа с человеческими жертвами. В России же климат резкоконтинентальный, с высокими летними температурами, низкими зимними, с неустойчивой погодой: то дожди неделями льют, то засуха, то день льет – день сушит.
Но мало этого – природа подгадала русскому земледельцу еще и неважные почвы. Речь идет об историческом ядре Русского государства, где формировалась нация, о землях, лежащих в пределах примерно от Пскова и Новгорода Великого до Владимира и Нижнего Новгорода, от Костромы или Вологды до Тулы. Здесь преобладают малоплодородные тяжелые суглинки, холодные супеси, деградировавшие лесные подзолы или кислые иловатые почвы, многими принимаемые за чернозем. Попадается и чернозем на этих землях, кое-где, пятнами, например, во Владимирском Ополье. Без интенсивного удобрения урожаи здесь стабильно низкие – «сам‑3», «сам‑4»: одно зерно в землю кинул, три зерна получил, и из них одно отложи на следующий посев. Единственное удобрение, которое знал крестьянин на протяжении веков, – навоз, для которого необходимо как можно больше скота. А скот требует кормов. А если скотина большую часть года стоит в хлеву, а на сенокос отводится три – четыре недели… И так далее. Сказка про бычка – хоть белого, хоть пегого.
Об условиях, в которых жил и работал русский крестьянин, и о результатах этого труда читатель может более подробно и с отсылками к историческим источникам прочесть в прекрасной книге Л. В. Милова «Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса».
И вот отстрадал русский мужик летние работы, отпраздновал Покров (1 октября старого стиля) и вновь на работы засобирался: лето короткое, климат плохой, почвы неродимые, своего хлеба хорошо если до Васильева дня (Новый год) хватит. Зарабатывать нужно на покупной хлебушко да на подати. А заработки эти для русского мужика зимой: лес по пуп в снегу валить, вывозить на берега рек, а ранней весной все по тот же пуп в талой воде плоты вязать. Тут уже не до чистки ногтей!
В таких обстоятельствах привыкал русский человек из поколения в поколение, веками работать тяжело, много и быстро, не жалея себя, хотя зачастую и некачественно, с недоделками и переделками, на потом огрехи оставляя. «Акуля, что шьешь не оттуля? – А я, маменька, еще пороть буду» – это о своей манере работать русский народ сказал, над собой посмеялся. А вот пишет уже образованный человек, профессор химии и смоленский помещик А. Н. Энгельгардт. «…Совершенно убежден, что ни с какими работниками нельзя сделать того, что можно сделать с нашими. Наш работник не может, как немец, равномерно работать в течение года – он работает порывами. Это уже внутреннее его свойство, качество, сложившееся под влиянием тех условий, при которых у нас проходят полевые работы, которые вследствие климатических условий должны быть произведены в очень короткий срок. Понятно, что там, где зима коротка или ее вовсе нет, где полевые работы идут чуть не круглый год, где нет таких быстрых перемен в погоде, характер работ совершенно иной, чем у нас, где часто только то и возьмешь, что урвешь! Под влиянием этих различных условий сложился и характер нашего рабочего, который не может работать аккуратно, как немец; но при случае, когда требуется, он может сделать неимоверную работу… Я совершенно согласен, что таких работников, какими мы представляем себе немцев, между русскими найти очень трудно, но зато и между немцами трудно найти таких, которые исполнили бы то, что у нас способны исполнить при случае, например, в покос, все. В России легче найти 1000 человек солдат, способных в зной, без воды, со всевозможными лишениями, пройти хивинские степи, чем одного жандарма, способного так безукоризненно честно, как немец, надзирать за порученным ему преступником» (120, с. 108). Энгельгардту вторит Ключевский: «В одном уверен великоросс – что надобно дорожить ясным летним рабочим днем, что природа отпускает ему мало удобного времени для земледельческого труда и что короткое русское лето умеет еще укорачиваться безвременным неожиданным ненастьем. Это заставляет великорусского крестьянина спешить, усиленно работать, чтобы сделать много в короткое время и впору убраться с поля, а затем без дела оставаться осень и зиму. Так великоросс приучался к чрезмерному кратковременному напряжению своих сил, привыкал работать скоро, лихорадочно и споро, а потом отдыхать в продолжение вынужденного осеннего и зимнего безделья (Мы ниже увидим, каково было это безделье и каково отдыхал великоросс зимой. – Л. Б.). Ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда в короткое время, какое может развить великоросс; но и нигде в Европе, кажется, не найдем такой непривычки к ровному, умеренному и размеренному, постоянному труду, как в той же Великороссии» (45, с. 315).
Изменение условий труда, например, внедрение машин, сразу же поставило русского работника в невыгодные условия. Парадокс? Но вот объяснение. «Машина не требует порывистых усилий со стороны прислуживающего при ней человека. Она требует усилий равномерных, но зато постоянных… Это качество машины с непривычки пока очень не нравится нашему крестьянину. Небогатый землевладелец Г. поставил молотилку и нанял молотников. Машина так весело и исправно молотила, что Г. приходил ежедневно сам на молотьбу. Через три дня рабочие потребовали расчета. Г. стал добиваться причины неудовольствия, предполагая в плохом содержании или тому подобном. Наконец один из рабочих проговорился: «Да что, батюшка, невмоготу жить. Сами ходите под машину: ишь она, пусто ей будь, хоть бы запнулась» (110, с. 76).
Итак, веками обитая в неблагоприятной природной среде, русский человек приучался работать тяжело и быстро, не считаясь ни со временем, ни с усталостью, но при этом порывисто. Одновременно он привыкал и к самой простой, бедной обстановке своего повседневного бытия: к скудному питанию, нередко впроголодь, к грубой бедной одежде и обуви. Уже упоминавшийся джеклондоновский Смок Белью, образец железного европейского мужчины-сверхчеловека, утром съедал ни много ни мало «два фунта сырого бекона» – более 800 граммов соленого копченого сала с прожилками мяса. Русский мужик, о котором певцы таких сверхчеловеков не удосужились сложить не только ни одной саги, рассказика паршивого не написали, утром съедал фунтик круто посоленного черного хлеба, запивая его, в лучшем случае, простым крестьянским квасом-суровцем, а то и простой водой («Хлеб, соль да вода – молодецкая еда», а жил он «Часом с квасом, а порою и с водою»), а если доставалось, то дополнял эту трапезу пучком зеленого лука или луковицей, а то и крошил хлеб и лук в квас и забеливал эту тюрю льняным маслом. Это был уже пир. Если читатель не верит, может поискать сведения о рационе русских солдат, которых все-таки снабжало продовольствием интендантство, потому что солдат был казенным человеком. Отмеривавшие многоверстные пешие переходы, солдаты получали в качестве дневного рациона три фунта печеного хлеба или два фунта сухарей и 32 золотника (125 граммов) гречневой крупы. Так это все-таки был казенный человек, за спиной которого было целое государство, на которого возлагались важные обязанности, которого полагалось приберегать для войны, за которым шли обозы. Мужик, отправлявшийся обживать оренбургские степи или Сибирь, был предоставлен самому себе и питался тем, что унесет в котомке за плечами или что промыслит по дороге.
Неблагоприятные климат и почвы Великороссии дополнялись не менее неблагоприятными особенностями великорусского ландшафта. Обширнейшая Великорусская равнина, лишь местами немного всхолмленная, была покрыта некогда густыми, темными, сырыми, заваленными буреломом хвойными или смешанными лесами, лишь южнее Москвы постепенно сменявшимися широколиственными дубравами, за Тулой переходившими в лесостепь. Эти леса были переувлажненные, пересекаясь во всех направлениях извилистыми ручьями, речками, реками, испятнанные озерами и болотами. Сейчас, глядя на какую-нибудь Ламу, трудно себе представить, что некогда это была полноводная судоходная река. А ведь на ней встал стольный град Волоколамск, Волок на Ламе: некогда здесь купцы переволакивали свои струги из одной водной системы в другую. Но за века, в основном в XVIII, ХIХ столетиях, были повырублены, изрежены леса, и Лама, как и тысячи других рек, обмелела, ибо пересохли и исчезли питавшие ее лесные ручьи и речки, озера и болота.
И все это – на многие сотни верст, от Новгорода Великого до Новгорода Нижнего, от Вологды до Тулы – таково было первоначальное историческое ядро Русского государства, где формировалась великорусская нация. А когда в ХVI, ХVII, XVIII веках вышел великоросс за пределы этого первоначального ядра – бескрайние лесные просторы сменились столь же бескрайними степями, еще реже населенными, да еще более обширными и пустынными сибирскими «тайгами». Недаром за Уралом до сих пор говорят: «В Сибири сто верст – не крюк, сто рублей – не деньги».
Редкими были на этих пространствах деревни и села, еще более редкими – посады и города. И жили они отъединенно, ибо была и есть в России еще одна стихия, неизвестная на Западе, – бездорожье. Даже при наличии камня и щебня не шуточное дело – проложить сотни и тысячи верст мощеных дорог. А камня в России как раз и не было под руками, нечем было отсыпать «постель», чтобы не утонул гранитный булыжник примитивного булыжного шоссе в раскисшей глине. Да и сбор этих булыжников по полям (такая повинность возлагалась кое-где на крестьян и в дореволюционное, и в советское время) не давал потребного количества материала. Поэтому, между прочим, в России была такая непростая типология дорог: были мощеные шоссе, а были и грунтовые, но благоустроенные почтовые тракты, были извилистые, натоптанные крестьянскими телегами проселки и были чуть намеченные, заросшие муравой полевые дороги. И были выработаны на Руси оригинальные способы мощения дорог – гати, лежневки и торцовые мостовые. Сырые участки гатились связками прутьев и жердями, а на совсем уже непроезжих болотах ложились лежневки: укладывались вдоль трассы в два ряда толстые бревна, на них клались одно к другому, слегка врубаясь, поперечные бревна, составлявшие полотно дороги, а сверху вновь клались два ряда бревен по краям, скрепляя лежневку. На таких «дорогах», и посейчас укладывающихся кое-где от лесосек, вылетали спицы из тележных колес, расходились ободья, ломались оси и дрожины, и едва держалась в теле душа ездока. В городах же центральные улицы мостились деревянными торцами – чурбаками, обрезками бревен, иногда обтесывавшимися на шесть граней, а чаще остававшимися в кругляке. На песчаную постель (хорошо, если был поблизости песок) плотно, один к другому, ставились просмоленные торцы, заливались сверху смолой и посыпались песком. В первые месяцы такая мостовая была довольно гладкой, хотя и слегка погромыхивали на ней тележные колеса, а через год одни торцы оседали, другие перекашивались, третьи начинали выгнивать и выбивались железными шинами колес, так что, съезжая с «благоустроенной» улицы в переулок, где не было уже торцов, вздыхал седок с облегчением от всей души. А еще через год нужно было снова мостить улицу. Автору этой книги, выросшему в маленьком северном городке, пришлось поездить в телеге и по торцовой мостовой на главной улице, и по гатям и лежневкам в сырых вятских лесах, и впечатления от этих поездок, от того, как стучали зубы и бились кости об облучок, до сих пор свежи в памяти…
Какое огромное терпение требовалось русскому мужику на этих бескрайних просторах, в темных сырых лесах, в безграничных степях, на этих, с позволения сказать, дорогах. Пока-то доберешься на лошадке до нужного места… Недаром столь протяжны и заунывны русские ямщицкие песни… «Не одна-то, да не одна во поле дороженька пролегала, ох да вот и пролегала… Частым ельничком-то все она-то да и зарастала… Частым ельничком да все березничком…»
В этих бескрайних, пустынных просторах, на этих дорогах в одиночку оставалось только погибать. Да даже и дома, на скудной пашне, хлеба с которой хватало хорошо если до Масляной, а то и до Васильева дня, выжить в одиночку было трудно. Поэтому выработался с веками из русского человека коллективист, общинный, артельный мужик. А где община, артель, коллектив, там требуется все то же терпение и, если хотите, смирение, добродушие, умение смирять себя, терпеть чужой норов и снисходительно относиться к чужим ошибкам, умение думать не только о себе. Надежда была на взаимопомощь, а чтобы получить помощь, нужно уметь ее и оказывать. Конечно, своя рубашка ближе к телу и свои блохи больнее кусаются, да чтобы сохранить эту рубашку, нужно и о чужой шкуре подумать. А тяжелые работы, например, вязку плотов, в одиночку вообще не выполнишь, здесь нужна не просто взаимопомощь, но прямо-таки самоотверженность, и не сознательная даже, а инстинктивная, чтобы вовремя подхватить тяжесть, не дать ей рухнуть на товарища по работе.
В холодной, заметаемой метелями пустыне пропадешь. Поэтому терпение к чужому норову и добродушие вылилось в русском народе в отмечавшуюся современниками, особенно иностранцами, специфическую черту характера – в гостеприимство. Эта черта была свойственна и крестьянину, и помещику. Но с помещиком еще понятно: отчего же не принять на несколько дней приехавшего за 30 верст гостя с женой, детьми, няньками, гувернерами, лакеями и кучерами и с десятком лошадей, если все свое и всего вдоволь. Крестьянин же, как мы увидим ниже, делился с путником последним куском хлеба, зная, что завтра придется самому идти «в кусочки». В русской деревне некогда принимали каждого, предоставляя место у стола и на лавке и не спрашивая, кто таков и зачем явился. Разве уж какая одинокая баба с малыми детишками, у которой муж уехал на заработки, побоится ночью чужого человека в избу впустить.
Так веками формировался сильный, выносливый и непритязательный, можно сказать, самоотверженный работник, артельный мужик.
На огромных просторах редконаселенной страны, покрытой лесами и болотами, пересеченной множеством полноводных тогда ручьев, речек и рек, предоставленный самому себе, этот работник поневоле должен был стать хитроумным и изощренным на все руки мастером. Иначе он просто погиб бы. Срубить избу, сбить печь, построить мельницу, вытесать и выдолбить ступу или корыто, вылепить и обжечь горшок, построить сани и телегу, сделать и наладить соху, соорудить мост или выдолбить лодку, насадить топор, отбить косу, назубрить серп, сплести корзину или пестерь, надрать лык и сгоношить себе лапти – все должен был уметь сделать русский мужик, на все руки он был мастер, на все горазд. Эта необычайная приспособляемость к обстоятельствам, умелость и мастерство русского человека, его самоотверженность и добродушие чрезвычайно поражали иностранцев.
Французская художница Виже-Лебрен, работавшая в России в 1795–1801 гг., писала: «Русские проворны и сметливы и оттого изучивают всякое ремесло на удивление скоро; а многие своими силами постигают различные искусства (…) Мне было показано множество предметов мебели, изготовленных знаменитым мебельщиком Дагером; причем некоторые из них являлись копиями крепостных мастеров, но отличить их от оригинала было практически невозможно. Я не могу не сказать, что русские крестьяне – необычайно способный народ: они быстро схватывают и делают свое дело талантливо» (Цит. по: 22, с. 72, 79). Ей вторит француз Г. Т. Фабер («Безделки: Прогулки праздного наблюдателя по Санкт-Петербургу»): «Русский народ одарен редкою смышленостию и необыкновенною способностию все перенимать. Языки иностранные, обращение, искусство, художества и ремесла – он все схватывает со страшною скоростью… Мне нужен был слуга, я взял молодого крестьянского парня лет семнадцати и велел домашним людям снять с него армяк и одеть в ливрею… Признаюсь, будь мне нужен секретарь, метрдотель, повар, рейткнехт, я бы все из него, кажется, сделал – такой он был ловкий и на все способный. На другой день я уже не мог узнать его… Он мастер на все; я заставал его вяжущим чулки, починяющим башмаки, делающим корзиночки и щетки; и раз как-то я нашел его занимающимся деланием балалайки из куска дерева при помощи лишь простого ножа. Он бывал при нужде моим столяром, слесарем, портным, шорником.
Нет народа, который бы с большею легкостью схватывал все оттенки и который бы лучше умел их себе присваивать. Барин наудачу отбирает несколько крепостных мальчиков для разных ремесел: этот должен быть сапожником, тот – маляром, третий – часовщиком, четвертый – музыкантом. Весной я видел сорок мужиков, присланных в Петербург для того, чтобы из них составить оркестр роговой музыки. В сентябре же месяце мои деревенские пентюхи превратились в очень ловких парней, одетых в зеленые егерские спенсеры и исполнявших музыкальные пьесы Моцарта и Плейля» (Цит. по: 22, с. 72–74). Добавим здесь, что на роге можно было тянуть только одну ноту: он не имел ладов. Играть Моцарта на рогах – это нужно было обладать врожденной музыкальностью.
Фабер сравнивает моральные качества французов и русских. «Француз любезен по характеру, русский – из религиозного чувства и природного добродушия. Если ваш экипаж сломается и застрянет, сотня рук придет вам на помощь и в Петербурге, и в Париже. Но русский оказывает вам услугу с открытой душой, видно, что он сочувствует попавшему в затруднительное положение; пожалуй, кажется даже, что он благодарен за возможность сделать доброе дело и, уходя, он поклонится человеку, которого выручил из беды. Русский, как кажется, исполняет долг христианского милосердия. Француз же, подчиняясь своей естественной порывистости, с удовольствием выполняет долг общежительности. Оказывая вам помощь, он будет оживлен и разговорчив: это человек, который, действуя из гуманного чувства, одновременно знает цену первой из добродетелей общежития – готовности оказать услугу ближнему. Надо ли остановить лошадь, закусившую удила, спасти утопающего или погибающего в огне – русский сделает это столь же решительно, как и француз. Однако ловкость и сила первого – природная, второго – сознательно развитая; в первом говорит чувство естественной силы и храбрость самопожертвования, присутствие духа второго объясняется тем, что он взвесил в уме все средства. Один подвергает себя опасности из презрения к ней, второй – из живости ума. В Санкт-Петербурге, если случается на людях какое-либо несчастье, вы всегда увидите, что русские действуют первыми. Они никогда не отступают перед опасностью, не страшатся ни огня, ни воды. Вы сразу отличите иностранцев: они станут в стороне, будут рассчитывать свои действия и обсуждать меры к разрешению затруднения… Все побудительные мотивы русского, вся его философия могут быть выражены словом «не бойсь»: в нем вся его мораль и его религия. С этим словом он сбегает на тонкую кромку льда, чтобы помочь упавшему в воду, бросает ему свой пояс, свою одежду до рубашки, протягивает руку и спасает. У француза же в минуту опасности к чувству милосердия примешивается и чувство чести. Его храбрость не лишена похвальбы, тогда как храбрость русского скромна. Смелость одного происходит, кажется, от рассудка, в смелости другого – покорность судьбе и что-то от инстинкта. Один сознает, что совершает славный поступок, другой не подозревает, что делает что-то особенное» (Цит. по: 4, с. 254).
Книгу Фабера, как и «Частные воспоминания…» французского путешественника Меэ де ла Туша, широко использовал проведший в России в 1826 г. полгода французский журналист Ф. Ансело. Думается, все же стоит воспроизвести его обширные дифирамбы русскому простолюдину, тем более что он сравнивает его со своими соотечественниками.
«Совершенно уверенные в своей ловкости, русские возницы обычно пренебрегают предосторожностями, часто так необходимыми в дороге. Оказывается, что и в самом деле почти нет такой поломки, которую они не могли бы устранить. В их искусных руках в дело идет все, что подвернется под руку: ось они сооружают из ветви дерева, прочную веревку – из березовой коры. Как бы серьезно ни было происшествие, первое, что скажет русский крестьянин, это «ничево» (то есть ничего страшного), и добавит: «небось» (не бойтесь)…
Способность русского простолюдина к ремеслам невероятна. Наугад выбранные хозяином для той или иной работы, эти крепостные всегда справляются с возложенными на них обязанностями. Им просто говорят: ты будешь сапожником, ты – каменщиком, столяром, ювелиром, художником или музыкантом; отдают в обучение – и спустя некоторое время они уже мастера своего дела! Эта естественная одаренность, счастливые способности, столь быстро развивающиеся, привычка подчиняться, превращающая любое волеизъявление хозяина в закон, делают русских слуг лучшими в мире. Внимательные и преданные, они никогда не обсуждают полученное распоряжение, но беспрекословно выполняют его. Быстрые и ловкие, они не знают такой работы, которая была бы им не по силам.
Русский ремесленник не носит с собой множества специальных инструментов, необходимых теперь нашим рабочим для любого дела, ему довольно топора. Острый как бритва, топор служит ему как для грубых, так и для самых тонких работ, заменяет ему и пилу, и рубанок, а переворачиваясь, превращается в молоток. Разрубить бревно, раскроить его, выбрать пазы и соединить доски – все эти задачи, для которых у нас требуется несколько рабочих и разные инструменты, выполняются русским крестьянином в кратчайшее время с помощью одного-единственного орудия. Нет ничего проще, чем соорудить леса для покраски здания или для строительных работ: несколько веревок, несколько балок, пара лестниц, и работа выполнена быстрее, чем наши рабочие закончили бы необходимые приготовления. Эта простота в средствах и быстрота исполнения имеют двойное преимущество, сберегая и время, и деньги владельца, а экономия времени особенно ценна в стране, где теплый сезон так недолог…
Что прежде всего поражает иностранца в русском крестьянине, так это его презрение к опасности, которое он черпает в сознании своей силы и ловкости. Можно видеть, как во время перерыва в работе люди спят на узких парапетах или на шатких дощечках, где малейшее движение грозит им гибель. Если, испугавшись за них, вы укажете им на опасность, они только улыбнутся и ответят вам: «Небось» («не бойтесь»). Это слово постоянно у них в ходу и свидетельствует о неустрашимости, составляющей основу их характера. Умные и услужливые, они употребляют все свои способности, чтобы понять вас и оказать вам услугу. Иностранцу достаточно нескольких слов, чтобы объяснить свою мысль русскому крестьянину; глядя вам прямо в глаза, он стремится угадать ваши желания и немедленно их исполнить. При первом взгляде на этих простых людей ничто так не поражает, как их крайняя учтивость, резко контрастирующая с их дикими лицами и грубой одеждой. Вежливые формулы, которых не услышишь во Франции в низших классах и которые составляют здесь украшение народного языка, они употребляют не только в разговоре с теми, кого благородное рождение или состояние поставило выше их, но в любых обстоятельствах: встречаясь друг с другом, они снимают шапки и приветствуют друг друга с чинностью, которая кажется плодом воспитания, но на самом деле есть результат народного благонравия. Если же между простолюдинами разгорается спор или перепалка, возбуждающая гнев, они осыпают друг друга оскорблениями, но, сколь бы яростной ни была ссора, она никогда не доходит до драки. Никогда вы не увидите здесь тех кровавых сцен, какие так часто можно наблюдать в Париже или Лондоне. Сколько ни пытался я найти объяснение этой умеренности, полагающей пределы гневу и останавливающей их в этом столь естественном движении, которому подчас невозможно сопротивляться и которое заставляет нас поднимать руку на того, кто кажется нам врагом, – ни одно не кажется мне убедительным. Может быть, эти рабы полагают, что терпят достаточно побоев от господ, чтобы колотить еще и друг друга?
На каждом шагу по здешним улицам иностранец встречает примеры этого удивительного благонравия русского народа. Мужик, несущий тяжесть, предупреждает прохожего вежливым обращением. Вместо грубого «посторонись», которое вырывается у наших носильщиков часто уже после того, как они толкнули или повалили вас, здесь вы услышите: «Сударь, извольте посторониться!», «Молодой человек, позвольте мне пройти!». Иногда эта просьба сопровождается даже обращением, заимствованным из семейного обихода, – например, «отец», «братцы», «детки». Даже стоящий на часах солдат сообщает вам о запрете двигаться дальше с учтивостью: требуя отойти от места, куда запрещено приближаться, он взывает к вашей любезности…
Русский крестьянин от природы добр, и лучшее свидетельство тому – его бурная веселость и экспансивная нежность ко всем окружающим, когда он под хмельком. В этом положении, снимающем внешние запреты и обнажающем сердце человека, он не выказывает ни злонравия, ни стремления задеть других. Теряя рассудительность, он сохраняет свою наивную доброжелательность…
Говоря об услужливости русского крестьянина и его готовности оказать помощь, я соглашусь, что то же мы встретим и во Франции, однако, внимательно изучив два эти народа, мы обнаружим весьма существенное различие. Француз, оказывая вам помощь, следует своей природной живости, но его важный вид непременно дает вам понять, что он знает цену делаемому им одолжению. Русский же помогает вам в силу некоего инстинкта и религиозного чувства. Один исполняет обязанность, налагаемую обществом, другой – акт христианского милосердия. Чувство чести, эта добродетель цивилизованных наций, составляет одновременно и побудительный мотив, и награду первого; второй не думает о своей заслуге, но просто выполняет то, что сделал бы на его месте всякий, и не видит возможности поступить иначе. Если речь идет о спасении человека, француз понимает опасность и рискует сознательно; русский же видит только несчастного, готового погибнуть…
Кажется, что привыкший к любым лишениям русский крестьянин вовсе не имеет потребностей: ему достаточно огурца, луковицы и куска черного хлеба; он спокойно засыпает на камнях или на снегу, а разбудите его – и он вскочит, готовый повиноваться» (4, с. 105, 116–119).
К этому нельзя не добавить впечатления от русских крестьян, принадлежащие ирландке Марте Вильмот, прожившей несколько лет компаньонкой у княгини Е. Дашковой. Нельзя хотя бы потому, что они выражены буквально теми же словами, что и предыдущие, и с той же восторженностью. «Такая независимость от обстоятельств и такая многогранность способностей, как у русского крестьянина, мне еще никогда не встречалась. Один человек может сам себя обеспечить всем: он варит квас, он и пекарь, и портной, и плотник, и строитель, и сапожник, и чулочник, и повар, и садовник… Искусность русских поразительна, тому много примеров, взять хотя бы украшение одежды – женские головные уборы просто замечательны… Работа эта столь тонка, что не всякая дама, обученная рукоделию, сможет исполнить ее. Служанки-рукодельницы могут точно скопировать любой новый фасон для своих господ… Кажется, мне уже приходилось писать о поразительной разносторонности русских… Природа наделила русских крестьян редкой сообразительностью, и, возможно, разнообразием своих талантов они обязаны капризам господ. А господа их – часто низкие, ограниченные животные…» (17, с. 222, 229, 231, 243). Вильмот тоже сравнивает русских крестьян с «нашими бедными Пэдди» (обычное прозвище ирландских крестьян, как русское Иван), не к выгоде последних.
Эта умелость, «многорукость», как уже можно было заметить из цитированных заметок иностранцев, дополнялась чрезвычайной переимчивостью. Проехавший в начале XVIII в. от Архангельска до Астрахани голландский купец К. де Бруин отмечал: «Но, однако ж, справедливо и то, что народ этот обладает замечательными способностями, кроме уже того, что он любит подражать, как в хорошем, так и в дурном. Даже тогда, когда они заметят какие-нибудь хорошие приемы обращения, различные от ихних, они откровенно признаются, что те лучше, чем их приемы, которые не дозволяют им, как они говорят, быть добрыми» (12, с. 82). Оно и понятно. Ведь крестьянин должен был не только приспособиться к новым для него условиям в чужой стороне (приспособить природную среду к себе, покорить природу попытались только большевики; что из этого получилось – мы знаем), но и к новым людям. Просторы и Заволжья, и Урала, и Сибири, и Дальнего Востока, сколь бы пустынны они ни были, все же не были необитаемыми. Всюду жили люди: мордва, вотяки-удмурты, чуваши, черемисы-марийцы, татары, башкиры, якуты, вогулы-ханты и остяки-манси, тунгусы-эвенки, якуты, камчадалы, чукчи, удэгейцы – многие десятки незнаемых народов. Русский крестьянин – не западноевропейский колонизатор, воспетый Р. Киплингом, несший «бремя белого человека» «чертям», и не американский пионер с неизменным кольтом в руке. Его не поддерживала ни мощь пушек британского флота, ни винчестеры американской милиции, и разве только топор мог послужить ему для самозащиты. И приходил он в новые края не завоевывать, не грабить, не мыть золото, а жить. Жить же нужно было в мире с окружающим полудиким населением, иначе погибнешь. Хорошо было белому человеку с его «бременем» на Аляске: ощетинившись винчестерами и кольтами, хватанул золота – и домой, к семье, в теплую Калифорнию. А тут землю пахать нужно, хлеб сеять, детей рожать, чтобы было кому кормить в старости, когда изработаешься. И обратно тебе хода нет, там тебя никто не ждет, разве что суровый уездный исправник да помещик. Нужно было осваиваться на новом, непривычном месте и жить среди новых людей, уже сроднившихся с местными условиями. Поэтому, между прочим, в огромной многонациональной России не было даже духа геноцида, когда физически уничтожались целые народы (например, тасманийцы), а остатки загонялись в резервации (например, североамериканские индейцы и австралийские аборигены). Конечно, все было – и национальная рознь, временами и вражда, и эксцессы, но смягчалось все это добродушным смирением, хитрецой «себе на уме» и приспособляемостью русского человека, отличавшегося, в общем, большой терпимостью к чужому, особенно если это чужое было «подходящим». И вражда в основном ограничивалась насмешкой, легкой иронией. Впрочем, с еще большей иронией относится русский к самому себе, а известно, что народ, который умеет посмеяться над собой – народ с будущим.
Русский крестьянин-переселенец перенимал у чуждых ему народов понравившиеся и «подходящие» обычаи и приемы выживания в привычной им природной среде, пищу и одежду, особенности жилища и сам кое-что новое прививал коренному населению, чтобы оно становилось ближе ему, а затем и роднился с ним, окалмычивался, обашкиривался, объякучивался, обурячивался, женясь на местных женщинах, перенимая местное наречие. С другой же стороны, мужик плотничал и столярничал и в деревне, и в городе, выполняя капризы и пожелания заказчика и перенимая понравившееся ему из этих пожеланий. По провинциальным городам помещичьих губерний много еще сохранилось деревянных барских особняков, выстроенных деревенскими плотниками в стиле ампир, с дентикулами, овами, пальметами, кимами, акантом, выполненными не в мраморе и известняке, а в дереве. А потом эти античные кимы и дентикулы оказывались вдруг на деревенских избах вместе с барочными наядами, превратившимися в русалок-берегинь, и геральдическими львами. Поэтому нет ничего удивительного, что у алтайских старожилов-«семейских» потолки в избах оказались украшенными ни много ни мало, помпеянскими росписями: тот, кто расписывал потолки барских особняков, мог делать это и богатому заказчику-крестьянину. Лишь бы было «подходяще».
Думается, что завершить впечатления иностранцев от русского крестьянина стоит книгой французского путешественника маркиза Астольфа де Кюстина. Книгой, настолько напитанной подозрительностью и ненавистью к России, что она не издавалась ни в царской России, ни в СССР. Но вот что писал он не о ненавидимом государстве, а о народе:
«Мои оппоненты, отказывающиеся верить в блестящее будущее славян, признают вместе со мною положительные качества этого народа, его одаренность, его чувство изящного, способствующее развитию искусства и литературы… У русского народа, безусловно, есть природная грация, естественное чутье изящного, благодаря которому все, к чему он прикасается, приобретает поневоле живописный вид…
Русский крестьянин трудолюбив и умеет выпутаться из затруднений во всех случаях жизни. Он не выходит из дому без топора – инструмента, неоценимого в искусных руках жителя страны, в которой лес еще не стал редкостью. С русским слугою вы можете смело заблудиться в лесу. В несколько часов к вашим услугам будет шалаш, где с большим комфортом и уж конечно в более опрятной обстановке проведете ночь, чем в любой деревне…
Славянин по природе сметлив, музыкален, почти сострадателен… Видя, как трудится наш спаситель-крестьянин над починкой злополучной повозки, я вспоминаю часто слышанное мною утверждение, что русские необычайно ловки и искусны, и вижу, как это верно.
Русский крестьянин не знает препятствий… Вооруженный топором, он превращается в волшебника и вновь обретает для вас культурные блага в пустыне и лесной чаще. Он починит ваш экипаж, он заменит сломанное колесо срубленным деревом, привязанным одним концом к оси повозки, а другим концом волочащимся по земле. Если телега ваша окончательно откажется служить, он в мгновение ока соорудит вам новую из обломков старой. Если вы захотите переночевать среди леса, он вам в несколько часов сколотит хижину и, устроив вас как можно уютнее и удобнее, завернется в свой тулуп и заснет на пороге импровизированного ночлега, охраняя ваш сон, как верный часовой, или усядется около шалаша под деревом и, мечтательно глядя ввысь, начнет вас развлекать меланхоличными напевами, так гармонирующими с лучшими движениями вашего сердца, ибо врожденная музыкальность является одним из даров этой избранной расы…
Печальные тона русской песни поражают всех иностранцев. Она не только уныла – она вместе с тем и мелодична и сложна в высшей степени. Если в устах отдельного певца она звучит довольно неприятно, то в хоровом исполнении приобретает возвышенный, почти религиозный характер. Сочетание отдельных частей композиции, неожиданные гармонии, своеобразный мелодический рисунок, вступление голосов – все вместе производит сильное впечатление и никогда не бывает шаблонным…
Долго ли будет провидение держать под гнетом этот народ, цвет человеческой расы?..» (50, с. 180, 223–225, 275).
Энергичный, талантливый, бодрый, выносливый, непритязательный, переимчивый, доброжелательный и терпимый к чужому норову и обычаю – таков был русский работник, покрывший тысячеверстные просторы Российской империи десятками тысяч построек.
Тяжела была работа на пашне. «Город знает теоретически, что земля тяжела, но не знает практически, что это за труд… Везде земля тяжела, а у нас в России климат, пространство, социальное положение делают земледельческий труд особенно тяжелым, – писал князь Г. Е. Львов, первый председатель Временного правительства. – Едва ли в какой другой стране земледельцы знают такой труд, как русские. Да и не только земледельцы, но и колонисты на новых диких землях, труд которых превышает обычные нормы, и те не сравняются с русским мужиком. Я видел труд земледельца… и впечатления юных лет и последующие в ближайшем соприкосновении с мужицкой работой и в личном участии в ней говорят одно: такой тяжелой работы, как у нас, нет нигде… Работают не по 8 часов в день, а по 20, не днями, а сутками. Когда бывала неуправка из-за погоды или недостатка рук, у нас брались за двойную плату по ночам… И домашняя жизнь у печки, у двора такая же, с теми же чертами. Бабы сидят ночью за прядевом и холстами, вздувают огонь в печи к свету, к скотине выходят по нескольку раз за ночь, спят только ребятишки, а хозяева, что называется, спят-не спят, ночь коротают… Особенно мало спят бабы. У них отношение к ночи такое, как будто она им помеха. Только прикорнут и опять вскакивают, прямо удивительно, как легко обходятся они без сна… Вообще ночи с регулярным сном деревня не знает. Она всегда с перерывами, всегда сокращенная, или ее вовсе нет, как в извозе, либо в полевой страде» (55, с. 146). Считалось, что для пахоты нужно две лошади, потому что если не перепрягать их в середине дня, одна лошадь за период вспашки «выпашется» так, что придется продавать ее на живодерню и покупать новую: лошадь на выдерживала, а мужик все пахал один – его некем было заменить; даже В. И. Ленин в своем раннем труде «Развитие капитализма в России» однолошадных крестьян зачислял в одну группу с безлошадными, и только потом, когда потребовалось удушить крестьянскую деревню, преобразовав ее в крепостническо-колхозную, двухлошадные хозяева оказались вдруг кулаками.
Этот поистине бешеный труд имел одну причину – неудовлетворительные условия среды обитания, и одну цель – выжить. А среда обитания включает не только природные, но и социальные и политические условия. И они также были неудовлетворительны, если не суровы. Ниже будет подробно рассмотрено социальное положение русского крестьянства, здесь же укажем только, что те или иные его группы или все оно до известного времени было абсолютно несвободным и бесправным, не имея тех прав, которые единственно и делают человека свободным: права на приобретение недвижимой собственности, то есть земли, права свободного передвижения и выбора места жительства и права выбора рода занятий. Ничего этого у русского крестьянина не было, и своим тяжким трудом он содержал не только и не столько себя, сколько государство или своего владельца, кем бы он ни был. В силу исторических обстоятельств русское государство на всем протяжении своей истории вынуждено было решать сложнейшие внешнеполитические задачи, сосредотачивая на их решении все усилия и все ресурсы. А главным ресурсом было крестьянство. В России на всем протяжении ее истории не государство существовало для человека, а человек для государства. Он был простейшим инструментом государственной политики, и, как плотник приспосабливал себе по руке свой простейший инструмент – топор, так и русское государство приспосабливало человека для своих нужд.
Все это должно было выработать в русском человеке ряд специфических черт. И одна из главнейших – знаменитое, почти безграничное терпение. «Плетью обуха не перешибешь» – нужно терпеть и по возможности уворачиваться от этого обуха. Терпеть морозы и жару, короткий вегетационный период и огромные расстояния, бездорожье, следствие этих расстояний, и бедность, следствие русских социальных и политических условий, тяжкий труд и ничтожные его результаты. И русский человек выработал в себе не только долготерпение и необычайную приспособляемость к обстоятельствам, но еще и очень характерное лукавство, «себе на уме», позволявшее обмануть и помещика, и чиновника, увернуться от него. Многие иностранцы отмечали лукавство и лживость русских. Можно думать, что во многих случаях эти обвинения были и несправедливы. Но… Но все же нельзя не согласиться с мнением зятя А. И. Герцена, французского историка Моно, сказавшего о русских: «Я не знаю народа более обаятельного; но я не знаю и более обманчивого» (Цит. по: 53, с. 281). Эта обманчивость, необязательность связана в том числе и с особенностями природной среды обитания. Ведь она была так же обманчива и необязательна. Вместо уверенного ожидания на удачу вырабатывался расчет на «авось»: никогда человек не был уверен, что сможет получить ожидаемое или выполнить обещанное. Природа, писал Ключевский, «часто смеется над самыми осторожными расчетами великоросса; своенравие климата и почвы обманывает самые скромные его ожидания, и, привыкнув к этим обманам, расчетливый великоросс любит подчас очертя голову выбрать самое что ни на есть безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставляя капризу природы каприз собственной отваги. Эта наклонность дразнить счастье, играть в удачу и есть великорусский авось» (45, с. 315).
Однако длительное терпение ведет к колоссальному нервному напряжению. И чем больше и дольше приходится терпеть, смиряя себя и понуждая себя, тем сильнее это нервное напряжение. И рано или поздно вся эта энергия должна найти себе выход. Она и находила: в буйной пляске, в широкой многодневной гульбе с обильным употреблением хмельного, в загулах и запоях, в купеческом «чертогоне», так красочно описанном хорошо знавшим эту среду Н. С. Лесковым, в непомерном увлечении цыганами и цыганской песней («Вспомним многих носителей знатных имен, – писал в рассказе «Фараоново племя» А. И. Куприн, – клавших к ногам цыганок свои гербы и родовые состояния, увозивших их тайком из табора, стрелявшихся из-за них на дуэлях… Было, стало быть, какое-то непобедимое, стихийное очарование в старинной цыганской песне, очарование, заставлявшее людей плакать, безумствовать, восторгаться, делать широкие жесты и совершать жестокие поступки. Не сказывалась ли здесь та примесь кочевой монгольской крови, которая бродит в каждом русском? Недаром же русские и любят так трагично, и поют так печально, и так дико бродят по необозримым равнинам своей удивительной, несуразной родины!» (49, с. 499).
Вообще на любви русских к песне, и особенно к песне цыганской нужно бы остановиться особо: ведь известно, что в песне выражается душа народа. Для русских была свойственна необычайная любовь к песне и песенный талант; недаром наш песенный фольклор столь необъятен. Эта музыкальность русских отмечалась многими иностранцами, в том числе цитировавшимися выше М. Вильмот и другими. В этом фольклорном наследии видное место занимает цыганская песня, полностью преобразившаяся в России на основе русских народных песен, и таборные цыгане, используя эти песни как основу, создали здесь подлинные шедевры. Что же привлекало русских в страстной и буйной цыганской песне? Думается, что безумно увлеченный цыганами Л. Н. Толстой точно выразил это устами Феди Протасова: «Это степь… это не свобода, а воля…».
Вот это слово: воля. Кажется, ни один народ не употребляет этого слова в таком контексте. Именно не свобода, а воля. Воля вольная, волюшка. Нет в русском языке такого усиления в слове «свобода»: нет ни «свободы свободной», ни «свободушки». Ведь свобода – осознанная необходимость, а необходимостью русский человек был сыт по горло. Воля же, то есть ничем не сковываемая свобода, ограниченная только своими физическими возможностями была идеалом и страстью русского. В этом стремлении к дикой, необузданной воле, когда ничто тебя не держит, ничто не ограничивает, выразилась страстность русского народа. Та страстность, которая не раз выливалась в кровавых бунтах, тем более жестоких, чем бессмысленнее, по внешности, они были. На самом же деле, был в этих бунтах потаенный смысл – страсть к воле.
Русский народ – экстремист и максималист, народ крайностей, обладающий огромной страстностью. Эту страстность, склонность к крайностям, необузданность («Ндраву моему не препятствуй!») отмечали многие иностранцы начиная с ХVII в. (Ю. Крижанич) и до Нового времени. Англичанин Стивен Грэхам, исходивший с толпами русских рабочих и странников сотни километров и написавший несколько восторженных книг о России и русском народе, писал: «Русские – вулканы, или потухшие, спокойные, или в состоянии извержения. Под поверхностью даже в самых спокойных и глупых таится жила энергии расы, ведущая к внутреннему огню и тайне человеческого духа» (Цит. по: 53, с. 267). Эту страстность, неумение обходиться разумными полумерами необычайно точно и страстно (!) выразил А. К. Толстой: «Коль любить, так без рассудку, Коль грозить, так не на шутку, Коль ругнуть, так сгоряча, Коль рубнуть, так уж с плеча! Коли спорить, так уж смело, Коль карать, так уж за дело, Коль простить, так всей душой, Коли пир, так пир горой!». Характер, в котором длительное состояние покоя и медленного накопления психической энергии сменяется ее бурным выбросом («Русские ямщики медленно запрягают, зато быстро ездят», сказал, кажется, Отто Бисмарк, долго живший в России), называется эпилептоидным (44, с. 126–131).
Этот характер и проявился в русской манере работать. И как привык русский мужик работать на пашне, на покосе, точно так же он и строил: тяжело и быстро. Вероятно, только в России были «обыденные» храмы – выстроенные по обету в один день, «обыденкой»: ранним утром, на рассвете, начинали рубить небольшую церковь, а вечером ее уже освящали. Таких обыдённых или обыденских храмов было немало по Руси; в Москве, в Обыденском переулке до сих пор стоит храм Ильи Обыденного, сейчас уже каменный, а когда-то деревянный.
Чтобы так строить, нужно было виртуозно владеть и инструментом, и материалом, знать свойства этого материала до тонкости.
Виртуозное же овладение материалом возможно только там, где есть жизненная необходимость стать частью природы, там, где эта природа сурова и скудна. Чем жестче условия жизни, чем беднее ресурсы, тем необходимее максимальное овладение ими. Гренландские эскимосы, не имевшие иных ресурсов, кроме льда, снега и тюленя с его шкурами и жиром, жили прекрасно в снежных иглу, отапливаясь жирниками. Вот где-нибудь под Марселем или Неаполем – там да, там эта виртуозность не нужна: можно прожить и под открытым небом или в шалаше. А в Гренландии – шалишь! Да и в коренной России тоже.
Глава 2
Изба: строительный материал
Основным природным ресурсом, а следовательно, и строительным материалом в России испокон веку было дерево. В той же Англии только во времена Робин Гуда шумели густые дубовые да вязовые леса с королевскими оленями и свирепыми вепрями. Затем они были быстро сведены на корабли и уголь для железоплавильных печей, так что в ХIХ в. только у богатых лордов сохранились в поместьях ухоженные парки, где хитрые браконьеры охотились на кроликов. А у нас в России не только в ХIХ столетии, но и нынче, в ХХI веке, не успеешь оглянуться, как поперла осиновая да березовая поросль то на пашню, то на пастбище. А уж как мы эти леса рубим-губим без счета и разума… Зато камнем бедна Россия. Конечно, на пашнях он есть, и кое-где мешает преизрядно, но даже если собрать его весь, то на порядочный домишко все равно не хватит, не то что на замок.
Деревом была богата просторная Россия, так что в нынешних лесостепях, южнее Тулы, по границе Дикого Поля на сотни верст тянулись своеобразные пограничные укрепления, засеки: густой лес валили навстречу потенциальному врагу, и эти огромные валы, проросшие кустарником и перевитые травами, ни пешему, ни конному было не одолеть.
И знал русский человек свойства этого леса до тонкости. А значит, и пользовался им умело. Бог даст, будем живы-здоровы, в одной из следующих книжек серии расскажем о максимальной безотходности и экономичности использования покупной древесины, следовательно, и об экологической чистоте русских лесных кустарных промыслов, хотя это новое и мудреное словечко «экология» и грамотным-то известно не было. Здесь же у нас речь идет о строительстве.
Конечно, в широколиственных южнорусских лесах рубили на все, что требовалось в жизни, дуб. Мы сейчас знаем дуб только по разреженным паркам, редко попадается он в лесу, могучий, но корявый, для строительства непригодный. Тот дуб рубили в густых дубравах, где дерево вырастало высоким и стройным. Тяжел дуб и плохо поддается он топору и пиле, но зато и долговечен. В старых деревенских оградах дубовые столбы в середине полностью выгнили, так что получилась как бы деревянная труба с трухой внутри, а порезать этот бывший столб на дрова – лучше березы будет: древесина все еще плотная, горит медленно, синеватым пламенем, зато долго, жарко. Благодаря этим высоким свойствам древесины дуба, пропитанной особыми дубильными веществами, успешно сопротивляющимися процессу гниения, археологи находят многочисленные остатки дубовых построек в древних слоях еще домонгольской Руси. Шел дуб и на жилища, и на ограды, и на крепостные сооружения, которые из-за высокой плотности древесины поджечь было не так просто. Шел он и на корабли, причалы и шлюзы, что сделало дуб в XVIII в. государственным деревом.
Не хуже дуба лиственница – самое распространенное дерево в России. Не радостные березовые рощи, не сумрачные ельники, не бронзовые сосновые боры – преобладают у нас лиственничные леса. Древесина лиственницы так пропитана смолистыми веществами, что обрабатывать ее – одно мучение: инструмент тупится, стружка ломается в крошку. Зато вещи получаются красивые благодаря чередованию резко выделяющихся темных смолистых слоев, перемежающихся со светлыми прослойками. В воде лиственница, плотная и тяжелая, почти не гниет, так что до сих пор кое-где на северо-западе России сохраняются остатки петровских шлюзов. А уж стройна-то лиственница!
При Петре I и его ближайших преемниках дуб и лиственница считались материалом стратегическим. Находившиеся под присмотром вальдмейстеров (а в Правительствующем Сенате над ними сидел обер-вальдмейстер) корабельные леса окапывались валами и на них из того же негниющего дуба ставились виселицы – для самовольных порубщиков. Ведь не будет дуба и лиственницы – не будет ни кораблей, ни шлюзов и причалов, ни крепостей. И Англия, сведшая свои дубовые леса еще в позднее Средневековье, везла древесину для своих верфей из Архангельска. Лес русский, смола русская, пенька русская, парусина русская, а над ними – Британский Юнион Джек, и владычица морей – не Россия, а Британия («Правь, Британия, морями…»).
А раз недоступны были для частного строительства дуб и лиственница, то строить уже в XVIII в. приходилось в основном из сосны. Правда, к концу XVIII столетия строгости с корабельными лесами сошли на нет, так что и дуб с лиственницей в ход пошли.
Лучше всего сосна из красных боров, растущая на песках. Ее древесина плотная, смолистая, даже в красноту отдает. В густых борах стояли лесина к лесине, без сучков, без извилин. Сосна, растущая на мокрых местах, будет похуже, гнить раньше начнет, да и сама лесина не такая стройная: болеет дерево.
А вот ель на строительство пускали не так охотно, разве что на хлева: из всех хвойных пород ее древесина рыхлая, быстро начинает гнить, а на поделки вообще не годится: плохо строгается, с задиринами. Но в сырых лесах, где сосны мало, и ель годилась. То же самое и пихта, растущая вперемежку с елью в северных лесах.
Из хвойных пород, дающих строительный материал, хорош еще кедр с его мягкой, но чистой и медленно гниющей красноватой древесиной. Но в коренной России кедр редко попадается, в основном в искусственных посадках, даже в парках. Это дерево сибирское, там из него и строили. А в Великороссию кедр с Саян на лошадке не привезешь.
Там, где дуба и вяза мало или совсем нет, а хвойные леса редки, например, в степном южном Приуралье, в Оренбуржье, там строили и из осины да березы. Осина – дерево неплохое вырастает и в меру толста, и стройная да длинная. И сырая, обрабатывается она легко, зато высохнет – как кость становится, хоть зубами ее грызи. Но трудно найти взрослую осину без гнилой сердцевины: растет она в основном в сырых местах, и гниет оттого. Зато кровельный материал из осины: щепа, дрань, лемех, гонт – лучше не надо. Прямослойная осина легко колется, а высушенная не гниет. Из березы же строить – последнее дело. Во-первых, стройные березы только в песне бывают, а как срубишь – непременно кривоватая окажется. И гниет березовая древесина очень быстро, даром что пропитана смолистыми веществами, и из нее деготь гонят, который не дает гнить кожаным изделиям. Конечно, в южноуральской лесостепи с ее березовыми колками и сейчас из березы строят: на грех и из палки выстрелишь. Но все же это не стройматериал. Зато сотни лет служили пласты бересты гидроизоляционным материалом при строительстве, пока не появился рубероид.
Из изобильно встречающихся в коренной, серединной России древесных пород остается только липа. Всем хороша, но на строительство не годится: слишком мягкое и слабое дерево, и опять же непросто найти ровную взрослую липу. Вот баню из липы поставить – первое дело: в пару она не дает ни смолистого, ни дегтярного духа, а напротив, сама впитывает запахи пара, березовых веников и хлебного кваса, который лучше всего поддавать в каменку. И на липовой лавке или на липовой полке голый зад не занозишь: липа вообще заноз не дает, а в пару – тем более. Поэтому люди побогаче строили бани именно из липы: хоть и недолговечна, а в небольшой постройке постоит, а то так недолго и новую баньку соорудить. А у кого средств не хватало – пускали липу внутрь бани, на лавки и полки.
Прочая древесина в России в строительство не шла. Всем хорош клен, да мало его, и пускали его на мелкие поделки – чашки да ложки да на хомутные клещи. Вяз, черемуха шли на дуги, санные полозья, тележные ободья да обручи на бочки. Можжевельник – бочки перед засолкой окуривать, да в комнатах, где покойник лежит, курить, да еще точить из плотной, как кость, и красивой мелкослойной древесины пуговицы, гребешки резать. Крушина и растет тонкая, и гниет в сердцевине, а пуговицы из нее получаются да коклюшки для плетения кружев – лучше не надо. Ольха быстрогниющая – лишь на топливо да мелкие поделки годится. Ветлы, ракиты большие растут, да толку от них никакого, даже топливо плохое. Прочие многочисленные ивовые породы годятся только для плетения коробов и корзин, да еще в кожевенное дело, на дубление, да и тут дубовая кора их перебивает.
Итак, Россия – страна лесов, и главным строительным материалом было дерево. Но прежде чем начать строительство, следовало заготовить строительные материалы.
Леса в России были казенные, принадлежавшие государству, удельные, бывшие в собственности императорской фамилии, кабинетские, принадлежавшие непосредственно императору (не как человеку, а как особому учреждению), ведомственные, например, адмиралтейские, и частные – помещичьи или купеческие. Крестьянских лесов почти не было, за исключением редких случаев, когда крестьяне приобретали в собственность землю, в том числе и лесопоросшую. Следовательно, для постройки крестьянину нужно было покупать лес у государства, одного из ведомств или у частных владельцев. Когда еще сохранялось крепостное право, помещичьи крестьяне рубили дерево для своих нужд в лесах своих владельцев, в основном бесплатно: брать деньги с мужика за это всеми не одобрялось: ведь и сам крестьянин принадлежал помещику.
Лес в России был одним из источников жизни, важной доходной статьей, дававшей не только строительные материалы и дрова, но и разного рода химические материалы, экспортировавшиеся за границу или использовавшиеся внутри страны: древесный уголь для металлургии, смолу, деготь, древесноуксусную кислоту для фармацевтики, сажу, канифоль и скипидар для лакокрасочной промышленности, дубильные вещества для кожевенной промышленности и так далее. Следовательно, лес был и важнейшим местом приложения рабочих рук, которые в долгие зимние месяцы в изобилии выбрасывала на рынок русская деревня. А из всего этого следует, что лес надлежало беречь и о нем заботиться.
Казенные, удельные, кабинетские, заводские, адмиралтейские леса находились под управлением лесничих – офицеров отдельного Корпуса лесничих или чиновников Министерства финансов, Министерства государственных имуществ, Департамента уделов, Кабинета Его Императорского Величества. В каждой губернии был лесничий, в каждом удельном или кабинетском округе. Работа в поле, в том числе и преследование самовольных порубщиков, требовали повышенного авторитета, поэтому служащие лесного ведомства носили форменную одежду военного покроя и наплечные знаки различия, погоны, почти как военные офицеры. Впрочем, в первой половине ХIХ в. лесное ведомство и было превращено в военизированный Корпус лесничих, и его служащие были в полном смысле военными офицерами: в мундирах, с эполетами, со шпагой, с военными чинами. В то же время это были ученые специалисты: уже с начала ХIХ в. в России началась подготовка лесничих с высшим специальным образованием, а 30-х гг. стали создаваться специальные учебные заведения.
Губернский или окружной лесничий был важной фигурой (ведь в его руках было богатство!), мог быть в высоком штаб-офицерском чине и сам мелкой работой не занимался, да повсюду и не мог поспеть.
Конкретная работа по отводу лесов для порубок, взиманию попенной (с каждого пня) платы, сбережению лесов от порубщиков и пожаров и руководству лесной стражей лежала на плечах лесных кондукторов или подлесничих, чинов не имевших, но также получивших образование в специальных средних учебных заведениях. Знания, полученные лесничими и кондукторами, нужны были не столько для контроля за состоянием лесов и порубками, сколько для их воспроизводства. Вырубленные массивы засевались семенами хвойных пород, для чего земля вспахивалась специальными лесными плугами, а у населения скупались сосновые и еловые шишки на семена. Впрочем, засевались не только вырубленные делянки, но и места степные, в южных и юго-восточных губерниях страны, вплоть до Новороссии и области Войска Донского. Например, на границе нынешней Ростовской области с Краснодарским краем уже более 120 лет существует Александровское лесничество с сеяными лесами и лесным зверьем.
Лесничим и кондукторам подчинялась лесная стража на местах: лесники и объездчики. Это были обычные крестьяне, получавшие от ведомства небольшое жалованье, земельный надел на лесном участке, избу и ружье, которое, соответственно строгим правилам, можно было применять для самозащиты и при преследовании самовольных порубщиков. Могла лесная стража и охотиться на своих участках на льготных основаниях. Лесник должен был регулярно обходить свой участок, охраняя его от пожаров и порубщиков, следить за чистотой леса. Для уборки сучьев и валежника нанимались окрестные крестьяне, которые убранный негодный лесной материал получали в свое распоряжение. Конные объездчики должны были на свой счет содержать верховую лошадь, на которой и объезжали постоянно свой участок для преследования самовольных порубщиков.
Разумеется, в частных лесах этой строгой иерархии чинов и должностей не было. Но и здесь владельцы нанимали лесников с объездчиками, а помещики назначали их из своих крепостных: они за лесами следили не менее, а может быть, и более строго, нежели ведомства или казна. И. С. Тургенев в «Записках охотника» повествует об одном помещике, который, в виде остроумной шутки, вырвал своему леснику половину бороды, чтобы доказать, что от порубок лес гуще не растет!
Рубки велись или сплошные, когда вырубалась целая отведенная делянка, или выборочные, для чего помечались переспелые деревья. В обязанности порубщика входило убрать обрубленные сучья и вершинки, ненужные комли, чтобы лес был чистый и безопасный от пожаров, а делянки можно было обработать под посев. Впрочем, если лес рубили крестьяне для собственных нужд, ничего убирать и не нужно было: все шло в дело, каждую потраченную копейку следовало оправдать.
Рубили лес для себя сами, своими силами, а для продажи – наемными артелями лесорубов из тех же крестьян. При крупной заготовке артель сбивалась еще с Покрова, отправляясь на место по первому снегу. На месте рубили себе зимовье, небольшую полуземлянку с глинобитной печью, заваленную для тепла землей по накату потолка, и ставили большие балаганы из елового лапника для лошадей. Артель избирала себе старшего, которому во всех делах подчинялась беспрекословно, и кашевара, который топил печь, готовил немудрящее варево, ездил домой в деревню за продуктами. Заготовка леса преимущественно шла зимой: летом русские леса плохо приспособлены для длительного пребывания в них, да и вывозка бревен сильно затруднена, а то и невозможна. Зимой же, по снегу и замерзшим болотам можно было вывозить заготовленный лес почти беспрепятственно. Целую зиму жили лесорубы в лесу, в зимовье, топившемся «по-черному», без трубы, разве что на Рождество отправляясь домой отдохнуть, попраздновать и попариться в бане.
Поваленные в нужном направлении деревья, очищенные от сучьев, с обрубленной вершинкой становились уже не лесинами, а хлыстами. Зимой хлыст тяжелым комлем укладывался на короткие, но чрезвычайно прочные подсанки, запряженные лошадью, а вершина тащилась по снегу. Если было возможно по условиям узкой лесной дороги, то и вершинку укладывали на маленькие подсанки, привязывая к ним веревкой: так лошади было легче везти. Если же приходилось рубить лес летом, комель укладывался на тележный передок, а вершинка – на отдельный тележный ход, ось с колесами, привязываясь веревкой.
Если предполагалась дальняя транспортировка срубленного леса, например, к морским портам или дальним речным пристаням, то лес вывозился к ближайшей лесной речке для весеннего сплава. Здесь, на берегу, с наступлением большой воды из бревен вязались плоты. Молевой сплав леса, то есть отдельными бревнами, россыпью, в России был строго запрещен и допускался, в виде исключения, только на тех речках, где уж никакой плот не мог пройти даже полой водой. Тогда дозволялось сплавлять лес россыпью, и только до того места, где уже можно было вязать плот, но под ответственность лесовладельца и под присмотром служащих лесного ведомства. Ведь при сплаве россыпью много бревен осыхает на берегах, загромождая их, некоторые бревна с пористой древесиной просто могли тонуть, напитавшись водой и затем отравляя воду гниением, а сбежистые бревна, то есть с толстым комлем и тонкой вершинкой, могли упереться в дно, в результате чего получался трудноразбираемый залом, мощная бревенчатая плотина. Прорвавшийся залом потом сметал все на своем пути. Да потери леса от топляка, залома или осохших на берегах бревен были и не в интересах лесозаготовителя или лесоторговца: ведь каждое бревно уже было оплачено, и с каждым потерянным бревном из кармана вылетала денежка. И это, не говоря уже о том, что можно было попасть под суд. Ведь реки были важнейшими транспортными артериями, а берега кому-нибудь да принадлежали, и берега судоходных рек приносили их владельцам немалый доход. При развитии бурлачества эти берега назывались бечевниками, по ним шли ватаги бурлаков, тянувшие бечевой барки с грузами. На казенных и удельных землях бечевники считались оброчными статьями: их сдавали в аренду частным предпринимателям. За проход бурлацких ватаг по бечевнику с судовладельца взималась плата. Поэтому за исправным состоянием берегов тщательно следили, и государственные крестьяне волостей, расположенных по берегам рек, несли даже особую натуральную повинность: корчевали на бечевниках пни, вырезали кусты, засыпали водомоины, строили мостики на притоках. Где уж тут загромождать бечевник осохшими бревнами! Топляк же, вставший в воде, мог запросто пропороть днище барки с ценным грузом, а когда появилось пароходство – утопить стоивший очень больших денег пароход. И тут уже судебное преследование грозило тому, кто допустил топляк. Законодательство, и лесное, и водное, было в те времена неумолимо строгим: ведь речь шла о частной собственности, а она была священной и неприкосновенной. Лишь в советское время, когда и леса, и реки, берега и воды стали всеобщим достоянием, в дело пошел «прогрессивный» молевой сплав, отравивший рыбные реки гниющей древесиной и заваливший берега толстым слоем бревен, а лесосеки превратились в дикие завалы брошенной «неделовой» древесины (термин этот тоже новый, «прогрессивный»), поломанным подлеском и подростом, гниющими вершинками, комлями, сучьями, а то и брошенной почему-либо «деловой» древесиной.
Итак, с наступлением полой воды по берегам, прямо в ледяной воде по колено, а то и по самый пуп начинали вязать, сплачивать плоты. Бревна укладывались вершинка к комлю на поперечные тонкие бревна-ронжины в два-три слоя, и концы ронжин связывались черемуховыми, березовыми или ивовыми вицами, скрученным наподобие веревок молодняком толщиной в большой палец мощной мужицкой руки. Попробуйте на даче срезать березку толщиной миллиметров в двадцать пять, скрутить ее в руках, как веревку, а затем обвязать ее плотно вокруг двух бревешек и завязать узлом, чтобы на многонедельном пути в воде бревна тяжелого плота не распались. Каково вам покажется? Плотовщики же вязали плоты в ледяной воде: ведь, связав плот на сухом берегу, в воду его не столкнешь и не стащишь.
Если леса в плотах шло много, короткие плоты связывались в длинную гибкую «щуку»: в голове плот поуже, затем плот пошире, а в хвосте снова узкий. Такая «щука» легко управлялась и могла проходить крутые излучины нешироких лесных рек. В голове и хвосте «щуки» на тяжелых колодах укреплялись попарно потеси – огромные весла из целых бревен, с прибитыми к ним лопастями из толстых широких досок и вдолбленными на другом конце прочными «пальцами»: ведь за такое весло просто рукой не ухватишься. Ими и управлялся плот. На самом широком плоту ставился шалашик для плотовщиков и насыпалась земля, костерок развести: для сугрева, чтобы обсушиться и какую-никакую пищу сварить: стремясь захватить полую воду, плоты шли круглосуточно, не причаливая к берегу. Нередко плоты эти служили и для перевозки грузов, не боявшихся воды.
Думается, если бы все это проделал не простой русский мужик, а джеклондоновский Смок Белью, о нем был бы создан не цикл рассказов, а героический роман.
Глава 3
Изба: инструмент и технологии
Знал русский мужик досконально не только свойства материала, но и инструмента. А главным инструментом был топор. Разговорчивые экскурсоводы да бойкие, но невежественные журналисты даже хлесткую фразу придумали: «Срублено одним топором и без единого гвоздя!». Чушь полная, бесящая специалистов. Еще в домонгольских слоях Киевской Руси находят археологи не только топоры, но и тесла, скобели, долота, буравы и поперечные пилы-ножовки (продольная пила, действительно, лишь в XVIII в. в Россию пришла). Это что же получается, при широком наборе инструментов в строительстве нарочито лишь топор употребляли, чтобы экскурсоводам да журналистам было чем удивить легковерных туристов и читателей? Да нет, пользовались разным инструментом, и, например, пазы под шипы без долота не вынешь. Но все же топор был основным инструментом.
Для нашего современника, владельца шести соток, топор – он и есть топор. Что в магазине было, то и купил, благо немного топором и пользоваться приходится. На самом же деле грубый топор – дело тонкое. И те, кто топором кормился, различали топоры лесорубные, плотничные, столярные, да был еще и межеумочный (промежуточный) ремонтно-строительный топор, который сейчас в основном и ходит под именем просто топора.
Лес валили только лесорубным топором. Не говоря о молодой бензопиле «Дружба», всем известная двуручная поперечная пила «Дружба‑2» которая при работе поет «тебе-мне, тебе-мне», пришла на лесосеки только с победившим социализмом и добившейся равноправия с мужчиной женщиной. Прежде русская баба-крестьянка на лесосеке не появлялась, хотя бы и по дрова. Некрасовская Дарья из поэмы «Мороз – красный нос», оставшись без мужика и без полена дров, отправилась с топором в лес, а чем кончилось? Рубила-рубила, и косыньки-то у нее растрепались, и ноженьку-то она порубила, а кончила тем, что замерзла под сосной. Не по руке бабе был топор.
Весил лесорубный топор до двух килограммов, в основном благодаря массивной толстой проушине с утолщенным обухом. При работе нужно было только энергично двинуть его, а уж летел он и врубался в ствол благодаря тяжести сам. Боек его был неширок, но длинный, с узким тонким округленным лезвием, перерезавшим дерево, а не переламывавшим его. Топорище длинное, прочное и почти прямое: чем прямее топорище, тем сильнее удар. Однако абсолютно прямое топорище недопустимо: оно сильно отдает, и за день можно так набить мякоть руки, что потом ложку не возьмешь, не то что работать на следующий день. Так что изгиб, смягчавший удар, был, но незначительный. Ствол рубился над самой землей, и проруб был узкий: ведь за каждое дерево приходилось платить попенные, и древесину экономили.
Плотничий топор иной. Во-первых, он легче, весом до полутора килограммов, а обычно меньше. Во-вторых, его боек сильно расширялся к лезвию, которое, как и в лесорубном топоре, было слегка закругленным. Топорище намного короче, чем у лесорубного топора, даже поменьше аршина и усложненной формы. Схематически оно выглядит как две пересекающихся встречных пологих дуги, и если поставить топор лезвием на плоскость, то между расширяющимся концом топорища и плоскостью должно оставаться пространство не менее двух пальцев. Иначе при работе вдоль бревна можно разбить костяшки пальцев. Все это – чтобы удар был точный, сильный, но рука не уставала и не наминалась за световой рабочий день. Вообще хорошие плотники подгоняли топорище по руке, не только выбирая длину и изгиб, но и, опробовав топор, убирали из-под мясистой части ладони лишнюю древесину. Так, некогда в старой Польше, славившейся своими саблями («В Польше мало богатства и блеску. Сабель взять там не худо…» – писал А. С. Пушкин), мастер давал заказчику жгут мягкой глины, чтобы на нем отпечаталась сжатая ладонь, а затем, высушив слепок, подгонял по нему рукоять, так что сабля становилась как бы продолжением руки.
Столярный топор легкий, менее полукилограмма. Боек расширяется к лезвию, но не слишком широкий, а лезвие прямое. Топорище слабо изогнуто. Ведь удар легким топором не сильный, руки не отобьет, зато должен быть очень точным, чтобы не испортить работу. Вообще столяры топорами работают мало, почему о грубой столярной работе и говорят, что она топорная.
Еще об одной разновидности топора, колуне, мы не говорим: в строительстве он не употребляется. Зато необходимо рассказать о тесле, которое сейчас никто не знает. Это тоже топор, но широкое прямое лезвие которого развернуто поперек обуха и топорища. Теслом стесывали широкие, преимущественно горизонтальные плоскости. Например, полы нередко в старину настилались из расколотых пополам бревен, и для выравнивания этих плах можно было использовать как раз тесло. Теслами стесывали вгладь и стены. Употребляли тесла при изготовлении долбленых гробов, огромных колод для водопоя скота, корыт, лодок-однодеревок, заканчивая работу долотом.
Так что от топоров самое время перейти к долотам. Сейчас наш современник нередко путает долото и стамеску. Между тем, это совершенно разные инструменты. У настоящего долота рабочая часть в высоту больше, чем в ширину, так что при выкалывании подрубленной древесины долото не согнется. И заканчивается старинное долото не острым хвостовиком, как стамеска, а, напротив, конусообразной трубкой, узкой воронкой. Ведь по рукояти долота били тяжелым молотком, обухом топора или, в лучшем случае, деревянным тяжелым молотком-киянкой. Если бы ручка долота насаживалась на хвостовик, она бы от ударов быстро раскололась, несмотря на надетое сверху кольцо: она просто надвинулась бы на железко долота. А так ручка только плотнее входила в воронку. У стамески железко, в отличие от долота, плоское, тонкое (бывают и полукруглые стамески и даже замысловатые ложечные стамески-клюкарзы, чтобы вынимать полусферические углубления). Долбят стамеской редко, а в основном режут, нажимая или слегка ударяя по концу рукояти мякотью руки. И вообще это инструмент не плотничий, как долото, а столярный.
Долотами долбили пазы – в потоках для укладки тесин кровли, под шипы для стропил и так далее. Но отверстия при строительстве не только долбили, а и высверливали, для чего применялись буравы разного размера. Инструментом для сверления были также перки, перовые сверла, вставлявшиеся в коловорот. У бурава на одном конце длинного прочного стержня кольцо для поперечной деревянной рукояти, на другом – одноходовая нарезка, как бы винт, заканчивающаяся небольшим тонким коническим винтовым острием; по обе стороны острия кромки заточены навстречу друг другу, они-то и режут дерево, а стружка поднимается наверх винтовой нарезкой. Перовое сверло сравнительно маленькое, со стержнем, на рабочем конце которого перо, плоскость, с острием посередине и на конце одной из кромок; кромки, как у бурава, тоже заточены. Боковым острием перка режет дерево при вращении коловорота, кромками подрезает его, а поднимается стружка сама по себе, так что перку время от времени приходится вынимать из слишком глубоких отверстий, чтобы очистить их. И опять же перками в основном пользуются столяры, а буравами – плотники.
Следующая группа деревообделочных инструментов – инструменты для пиления.
Не все знают, что различаются пилы поперечные и продольные. У поперечной пилы зубья имеют форму равнобедренного треугольника, и оба хода пилы, вперед и назад – рабочие. У пилы продольной зубья в виде остроугольного треугольника, наклоненного вперед, навстречу рабочему ходу. А обратный ход – холостой. Продольные пилы, применявшиеся для распиловки бревен на доски (а до их появления доски тесали из расколотых бревен топорами, отчего они и назывались – тес) были очень длинные, в два метра и более. Полотно их сужалось к одному концу, именно в направлении рабочего хода. А трубки для закрепления ручек были развернуты поперек полотна, и ручки были двусторонние, так что пильщики держали пилу каждый двумя руками. Бревно укладывалось на высокие, около двух метров, козлы или на край глубокой ямы, в которой стоял один из пильщиков, тот, который и давал ей рабочий ход: верхний пильщик только поднимал пилу на холостом ходу. Сделав распил, в него легко вгоняли клин, чтобы полотно пилы не зажималось, подавали бревно вперед и пилили дальше. Целый день – вверх-вниз, вверх-вниз… Такие пилы еще назывались маховыми. Вот уж за день намахаешься… То-то у пильщиков была поговорка: «Кабы подмышки чугунные были – давно бы стерлись».
Употреблялись (и употребляются сейчас) не только двуручные пилы для двух рабочих, но и одноручные – ножовки. Есть и маленькие узкие ножовки-выкружки, или лобзики, для фигурной работы, которыми однако пользовались в основном столяры. Но прежде широко пользовались еще одним типом пил, который сейчас употребляется нечасто и сильно изменился с виду. Это лучковые пилы. Полотно лучковой пилы узкое, длинное, одинаковой ширины по всей длине, а зубья чаще всего комбинированные, позволяющие пилить и вдоль, и поперек волокна. Концами полотно вставляется в две невысоких стойки, зажимаясь в поворачивающихся в стойках ручках. Посередине стойки распираются рейкой, распоркой, а на верхних концах стягиваются двойной веревкой, в которую вставлена плоская короткая закрутка, одним концом упирающаяся в распорку. Вставив полотно в ручки и закрепив его, закручивают тетиву, стягивающую верхние концы, а нижние, с полотном, расходятся и растягивают полотно, поскольку стойки упираются в концы распорки. Растянутое длинное полотно не гнется, не хлябает, и пилить лучковой пилой может один человек. А поскольку ручки вместе с полотном поворачиваются в стойках, работать лучковой пилой можно в любом направлении, в том числе и с большими плоскостями. Сейчас в лучковых пилах вместо хитрого деревянного станка стали использовать просто согнутые дугой трубки. Зато лучковая пила потеряла свой универсальный характер.
