Водолаз Его Величества бесплатное чтение
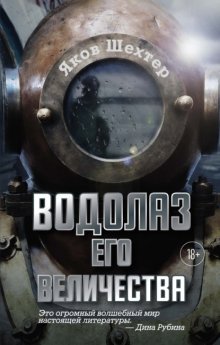
© Шехтер Я., 2024
© ООО «ФОЛД ЭНД СПАЙН», обложка, 2024
© Оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024
Издательство АЗБУКА®
Глава I
Лейтенант и мичман
Стоял жаркий, томительный июнь 1907 года. Через Чернобыль, точно морские валы, прокатывались летние грозы. Ветер приносил черные тучи, от страшных раскатов грома жалобно звенели оконные стекла, темный воздух нет-нет да разрывали адские сполохи молний. Косой дождь безжалостно лупцевал крыши, кроны, огороды и палисадники, превращая улицы в бурные речки, несущиеся к Припяти.
Потом ветер уволакивал грозу дальше, и солнце принималось поджаривать мокрую траву, почерневшие от влаги планки штакетников и жирную липкую грязь дорог.
По тракту, соединяющему уездный Радомысль с Чернобылем, урча, катился автомобиль. Высокие колеса не без труда преодолевали размытую дорогу. Сопровождающая автомобиль кавалькада конников могла бы передвигаться куда быстрее, но воняющее бензином чудовище не позволяло увеличить скорость. Впрочем, назначение кавалькады состояло в сопровождении автомобиля, похожего на пролетку, из которой по странной случайности выпрягли лошадей.
За рулем сидел великий князь Александр Михайлович Романов, контр-адмирал, младший флагман Балтийского военного флота, начальник отряда минных крейсеров. Судя по небрежности движений, управлять автомобилем было для него привычным делом. И хоть великому князю уже перевалило за четвертый десяток, его фигура, облаченная в мундир флотского офицера, хоть и без знаков отличия, все еще оставалась стройной, а цвет лица свидетельствовал об отменном здоровье.
Этого никак нельзя было сказать о его попутчике, уездном воинском начальнике подполковнике Михаиле Михайловиче Мышлаевском. Дело было вовсе не в десятке лет разницы, а в ударах, обидах и лишениях, совокупность которых принято называть тяжелой судьбой.
Двадцать лет назад Мышлаевский, тогда еще свежеиспеченный поручик, штурман императорского флота, ходил на корвете «Рында» в кругосветное плаванье вместе с выпускником морского училища мичманом Сандро Романовым. И хоть на корвете хватало высокородных представителей лучших флотских династий России, великий князь подружился с немолодым поручиком, крестьянским сыном.
Автомобиль затрясся, угодив в особо вязкий пласт грязи, Романов выжал до упора педаль газа, и бешено вращающиеся колеса вырвались из цепких объятий.
– Сандро, – Мышлаевский возвысил голос, стараясь перекричать рев двигателя, – где ты раздобыл сей аппарат? – Он похлопал по деревянной дверце, вопрошающе поднял брови и добавил: – Полгода назад тут проезжал царский кортеж, вот в нем автомобили были совсем другие. Действительно царские, не чета этому.
Контр-адмирал в ответ лишь улыбнулся.
– Знаю, знаю, Ники большой почитатель «Делоне-Белвилль». Сказать ничего не могу, машина действительно отличная. Но один недостаток у нее все-таки есть. Да такой, что в моих глазах перекрывает все прочие достоинства.
– И каков же он? – почтительно спросил Мышлаевский. Двадцать лет назад он с трудом привык к тому, как мичман, делящий с ним вахту и часы досуга, запросто называет домашним именем цесаревича Николая.
«Чему ты удивляешься? – повторял он себе. – Это для тебя, сына рязанского крестьянина, царская семья – звезды на небе. А для Сандро цесаревич – друг детства, товарищ по играм и шалостям».
Потом он все-таки привык, ведь имя Ники частенько всплывало во время их долгих разговоров. Сандро из каждого порта посылал другу письмо или открытку и всегда получал ответ в другом порту. Мышлаевский дивился плотным листам бумаги, исписанным августейшим почерком. Что и говорить, ему страшно льстило окликать товарища именем Сандро, подобно императору и его семье. Но сейчас слышать, как старый друг именует его императорское величество самодержца Николая Второго, было все-таки странно.
– Производитель сих царских автомобилей – французская компания «Делоне-Белвилль», – прервал великий князь ход мыслей Мышлаевского. – А вот эту лошадку, – подражая собеседнику, он похлопал ладонью, затянутой в лайковую перчатку, по деревянной дверце со своей стороны, – выковали у нас. Первый отечественный автомобиль! Не гляди, что с виду неказист, когда его выставили на нижегородской ярмарке, представитель «Делоне-Белвилль» ужом вокруг крутился. Сразу разглядел существенные улучшения ходовой части и кузова.
– Ну, если это наша лошадка, – воскликнул Мышлаевский, – тогда понятно! Слов нет, решающее преимущество. Хотя по внешнему виду…
Сандро прервал его, хлопнув рукой по колену.
– Не торопись, Миша, все еще впереди. Помяни мое слово, через пару лет в императорском гараже вместо французских машин будут стоять отечественные.
У Мышлаевского от такой фамильярности потеплело в груди и мысли сами понеслись в далекое прошлое.
Кругосветка на бронепалубном корвете «Рында», 1886 год. Эх, до чего же быстро прошла жизнь! Нет, не прошла – пролетела! Тем летом он получил звание поручика и страшно этим гордился. До сих пор помнит, как то и дело косил глазами, оглядывая сверкающие погоны с тремя золотыми звездочками.
Они дались ему совсем непросто: службу он начал с первой ступеньки, пройдя всю лестницу нижних чинов, от матроса до сверхсрочного унтер-офицера. Потом долго готовился и выдержал экзамен на штурманское отделение Технического училища Морского ведомства в Кронштадте, куда – в отличие от чисто дворянского Морского корпуса – принимали лиц всех сословий. Окончил училище в чине прапорщика Корпуса флотских штурманов, затем три года службы – и вот, наконец, поручик. В тридцать два года всего лишь поручик! Юноши из дворянских семейств к этому сроку уже выходили в капитаны первого ранга, а то и в контр-адмиралы.
Великому князю сразу после рождения Александр Второй, его августейший дядя, присвоил чин полковника. Сандро мог начать свою службу прямо с капитанского мостика, а вот поди ж ты, отказался от всех привилегий и пошел тянуть лямку с самого низа. Это вызывало у Мышлаевского теплое чувство сопричастности, и он, как мог, старался помочь мичману по службе.
А помочь было чем, ведь морское училище давало только основы знаний; юношам из хороших семей, не прошедшим ад и чистилище матросского кубрика, многое приходилось постигать по ходу дела. В отличие от других офицеров, для Мышлаевского в корабельной жизни не существовало сложных тем или непонятных ситуаций: любой, самый запутанный узел он мог развязать собственными руками.
Великий князь это быстро понял. Понял и то, что помощь Мышлаевского бескорыстна. Он не ждал благодарности за свои советы, скорее наоборот, боялся, что Романов захочет ее проявить. Не зная, как поступить в таком случае, Мышлаевский всячески избегал ситуации, в которой мичману придется выказывать ему свою признательность. Обрывал разговор сразу после того, как помог, старался избегать тем, содержащих малейший намек на ожидание благодарности.
В экипаже «Рынды», состоявшем из четырех сотен матросов и офицеров, хватало желающих сойтись поближе с мичманом. Шутка ли, внук Николая Первого, член царской семьи, друг детства цесаревича. Но подхалимов Александр Романов чуял за версту и на дух не переносил, а люди серьезные, с которыми у него могли возникнуть дружеские отношения, опасались сближения. Сегодня этот девятнадцатилетний юноша стоит с тобой вахту, а завтра вернется во дворец, окажется рядом с троном и начнет распекать адмиралов и генералов. Спокойнее держаться подальше.
Настоящее сближение Мышлаевского с Романовым началось с ежедневной чарки на палубе «Рынды».
Этот обычай ввел на флоте еще Петр Первый. Раздача водки давно превратилась в торжественную церемонию, напоминающую богослужение. По команде с мостика начальник караула, сопровождаемый вахтенным баталером и юнгой, спускался в трюм, отворял «винный погреб» и торжественно выносил полную ендову водки.
Боцман дудкой давал сигнал – «к вину». Матросы выстраивались на палубе, и баталер по списку выкликал фамилии нижних чинов. Два унтер-офицера, застывших чуть ли не по стойке смирно слева и справа от ендовы, следили за порядком.
Начинали с матросов старших по званию. Подойдя к ендове, вызванный, словно в церкви, снимал бескозырку, брал чарку, степенно зачерпывал из ендовы и медленно, со вкусом употреблял. Закусывать не полагалось, ведь сразу после чарки начинался обед. Пока баталер делал отметку в списке, матросы вместо закуски отпускали шутки, кто во что горазд.
– Саночками прокатилась!
– Упала, точно поп на попадью.
– Прими, душа, привет сорокаградусный!
В тот день на вахте стояли Мышлаевский и Романов. Озирая с высоты мостика вкушение чарки, Мышлаевский заметил, что с его точки зрения это вредный, портящий команду обычай.
– Общепринятое мнение о полезности водки, якобы спасающей матросов от воспаления легких и тяжелых простуд, не более чем заблуждение. Особенно вредно то, что чарку не принято немедленно закусывать. Хоть водки немного, но даже это количество вовсе не улучшает аппетит, как принято думать, а портит желудки и дурит головы.
– Совершенно с вами согласен, – поддержал его Романов. – Царь Петр был прав, на старых парусниках водка действительно помогала. Но сегодня служба стала намного легче, условия лучше, и водочный паек – вредный пережиток прошлого.
– Я думаю, было бы куда полезней, – высказал свою заветную мысль Мышлаевский, – отменить флотскую чарку, а на сэкономленные деньги улучшить питание матросов. Ведь на иных кораблях кормят так, что без водки перед обедом кусок в горло не полезет.
После этого разговора мичман попросил командира «Рынды» постоянно ставить его на вахту вместе с поручиком Мышлаевским. Федор Карлович Авелан, происходивший из шведов и во всем ценивший основательность и порядок, огладил роскошную бороду и спросил:
– Могу я поинтересоваться причиной сей просьбы?
За неделю до выхода в море, оторвав от подготовки к походу, его срочно вызвали в адмиралтейство. Командир «Рынды» не любил встречи с начальством, по его опыту, они часто протекали совершенно непредсказуемо. Готовишься к докладу по одной теме, а спросить могут нечто совершенно иное.
Так и получилось. Его провели в кабинет высокого начальника, в котором Авелану довелось бывать всего два или три раза, и представили наместнику Кавказа, генералу-фельдмаршалу, великому князю Михаилу Николаевичу. Отцу мичмана Александра Романова.
Наместник вежливо осведомился о целях похода, состоянии дел на корвете, подготовке экипажа, а потом произнес совсем другим тоном:
– Не стану вмешиваться в порядок службы, не в моих это правилах, да и вам, опытному командиру, виднее, как поступать. Об одном только прошу, не как офицер офицера, а как отец отца: приглядите за моим сыном. Он чист душой, поэтому пожертвовал всеми преференциями по службе и начал флотскую карьеру с нулевой отметки, но наивен и горяч. Романтический порыв может сорвать его с места и закружить, точно смерч. Мы все были романтиками в его возрасте, это правильно и нормально, но тут случай особый.
Просьба мичмана пробудила в памяти командира тот разговор в адмиралтействе, и ему вспомнились глаза генерала-фельдмаршала, с которого на несколько мгновений слетела маска сановника, обнажив обеспокоенное лицо любящего отца.
– У нас не принято менять сложившийся состав вахт, – продолжил командир корвета, – поэтому причина должна иметь веские основания.
– Дружеская симпатия, – ответил великий князь, – и ничего, кроме нее. Михаил Михайлович прекрасно знает службу и на многое открывает мне глаза.
– Я рассмотрю вашу просьбу, – ровным тоном ответил командир. – Можете быть свободны.
Мичман отдал честь, повернулся и вышел из каюты. Авелан проводил глазами высокого стройного юношу в ладно сидящей форме, машинально огладил живот под кителем, вспомнил слова генерала-фельдмаршала о наивности и романтизме и тяжело вздохнул.
Об этом разговоре Мышлаевский узнал много позже, отстояв с Романовым не один десяток вахт. Долгие часы на капитанском мостике располагали к откровенным беседам. Днем солнце ломилось в широкие окна, обильный южный свет лился в открытые двери. Все предметы в рубке сияли и переливались, а яркое золото форменных нашивок блестело, точно игрушки на новогодней елке. Ясный день висел над безграничной гладью, прозрачный, как венецианское стекло. Русским морякам, непривычным к такому обилию света, каждый день казался праздником.
Под вечер лиловые тучи торжественно располагались вдоль горизонта, начиная походить на острова. Корвет плавно скользил по мелким волнам навстречу подступающей темноте, дробя форштевнем белые барашки.
Ночь наваливалась внезапно и была черной и беспросветной. Тучи плотно закрывали луну, и казалось, будто солнце зашло навсегда и больше не будет ни утра, ни дня, а только вечная мокрая мгла.
Утром, под лучами встававшего солнца, море пело радостную песнь восхода, днем оно гудело сдержанно и сердито, точно рассерженный полицейский урядник, а поднимавшийся к сумеркам ветер выл и плакал десятками жалобных голосов.
За первым разговором о чарке последовал второй, уже на совсем другую тему и чуть более откровенный. За вторым пришел черед третьего, спустя три недели они перешли на «ты», а через два месяца совместных вахт Сандро перестал стесняться и начал говорить вещи, доселе Мышлаевским не слышанные. В одной из таких бесед мичман объяснил, почему отказался от привилегий члена царской семьи.
– Главное в России – это чин. Такого понятия нет ни в одном европейском государстве. Петр учредил табель о рангах, и с тех пор чин едет перед человеком. Мой дед Николай тоже немало приложил к тому усилий. Дух чинопочитания пронизывает всю российскую жизнь насквозь, как вертел пронизывает барашка на огне. У нас ведь даже женщины наряжаются согласно табелю о рангах. У генеральш один фасон платьев, у жен майоров – другой, бригадиров – третий.
– Сандро, но табель о рангах не распространяется на членов царской семьи, – прервал его Мышлаевский.
– Я не хочу поблажек! – с жаром воскликнул юноша. – Дед Николай добавил России тридцать лет испуга. Вместе с табелью о рангах они создали другого человека: труса, подхалима. Надо воспитать людей, готовых служить не ради чина и карьеры, а ради Отечества. России нужна не служба, а служение! Чинопочитание было привито сверху, и я, как потомок людей, учредивших табель о рангах, хочу личным примером доказать…
Тут Сандро запнулся, и Мышлаевский, желая его поддержать, переспросил:
– Что доказать? И кому?
– Доказать, что худшее в жизни – это потерять не чин, но честь. А самое страшное в жизни – сделать подлость. Это хуже смерти! Смерть, что же, все мы когда-нибудь умрем. Но умереть надо так, чтобы твоя смерть принесла пользу Родине и послужила примером для других. Люди должны жить для того, чтобы их имена вошли в историю, а не для того, чтобы выпросить у царя более высокий чин или орден.
Мышлаевский отмалчивался. Ему ли, крестьянскому сыну, вести подобного рода разговоры с членом императорской фамилии? Великий князь думал о другом и жил совсем иным, чем поручик Мышлаевский, да и весь экипаж «Рынды». Он впервые встретил человека, для которого вопросы улучшения государства, переделки общества к лучшему были темой постоянных размышлений и ежедневного личного беспокойства. Мышлаевский понимал, что Сандро и не ждет от него поддержки, а просто не в состоянии удержать в себе жар светлых идей и высоких помыслов и хочет выплеснуть его на другого человека. Распутывать эти узлы великий князь будет сам, без его подсказок.
Время катилось волшебным колесом, восходы сменяли закаты, красочные страны разворачивались то слева, то справа по борту. После зимней стоянки в Нагасаки капитан Авелан приказал проложить курс в южном направлении. Филиппины, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Зондские острова, Самоа и Фиджи – сами названия звучали как подслушанная сказка, как чудесный сон.
В январе и феврале «Рында» заходила в порты Ньюкасла, Сиднея и Мельбурна. Судя по статьям в газетах, за русским корветом наблюдали со смешанными чувствами. Присутствие на его борту члена царской семьи превращало обыкновенный визит в нечто большее.
Журналисты не жалели чернил, строя предположения, для чего великому князю Александру Романову понадобилось посетить Австралию под видом простого мичмана.
– Неспроста, ох, неспроста! – сокрушались одни. – Визит, несомненно, носит разведывательные цели. Неужели русский царь решил запустить свою медвежью лапу в Южное полушарие?
– Скорее всего, речь идет о дипломатической пристрелке, – предполагали другие. – Ось союза между Лондоном и Санкт-Петербургом проходит через Мельбурн.
– Мы приветствуем в наших водах великолепный корабль «Рында» и доблестных моряков, которые плавают под голубым крестом святого Андрея! – восторгались третьи. – Особенно приятно, что на борту корвета присутствует высокий гость, близкий родственник его величества царя. Поскольку визит неофициальный, мы не имеем права выказать ему полагающиеся его сану почести, но наши сердца оказывают ему истинно царский прием.
Все журналисты отмечали приятную внешность великого князя, его скромность, учтивое поведение и хорошее знание английского языка. Сандро со смехом читал газеты и пересказывал их содержание своему другу, который так и не сумел пробиться в английском дальше расхожих фраз.
В июне 1888 года корвет вернулся во Владивосток и все лето провел в Японском море, выполняя гидрографические работы и отрабатывая элементы боевой подготовки. Осенью этого же года он покинул Японское море и ушел в Кронштадт. По возвращении корабля в порт приписки князю присвоили звание лейтенанта и перевели в Гвардейский экипаж.
Друзья тепло распрощались, обещали писать, но, обнимая Сандро, Мышлаевский прекрасно понимал, что за пределами палубы «Рынды» он вряд ли представляет интерес для великого князя. Искать же от дружбы какой-либо выгоды он считал зазорным и зарекся просить хоть о чем-нибудь своего сиятельного товарища.
О дальнейшей судьбе великого князя он узнавал только из газетных сообщений. Правда, Сандро регулярно присылал открытки на праздники, всегда добавляя к традиционным фразам поздравлений несколько слов о своей жизни. От этих знаков внимания у Мышлаевского теплело на сердце. Он сдержанно отвечал на поздравления, подбирая слова и выражения, подобающие, по его мнению, в переписке с членом императорской фамилии.
Приглашение в церковь петергофского Большого дворца на венчание князя с Ксенией, дочерью императора Александра Третьего, застало его врасплох.
«Я присягал в этой церкви в день моего совершеннолетия, – приписал Сандро на официальном бланке приглашения, – и буду рад видеть товарища по службе».
Мышлаевский решил посоветоваться с Федором Карловичем. Авелан давно ушел с «Рынды» с большим повышением, получил контр-адмирала, но отношений с бывшими подчиненными не прерывал и всегда был готов помочь советом, а зачастую и не только советом.
Выслушав Мышлаевского и прочитав приглашение, он несколько минут размышлял, оглаживая изрядно поседевшую бороду.
– Очень соблазнительное приглашение, – наконец произнес Авелан. – Великая честь и большой почет. Быть рядом с императором, видеть на расстоянии вытянутой руки царскую семью, всех сановников, весь двор. Будет что в зимние вечера внукам рассказывать, а?
Он добродушно улыбнулся, словно представляя себе эту картину, и Мышлаевский невольно улыбнулся в ответ.
Авелан тяжело вздохнул и поглядел прямо в глаза Мышлаевскому.
– Я ведь, Михаил Михайлович, примерно того же роду племени, что и вы. Отец отставной поручик, в восемь лет отдали меня в кадетский корпус для малолетних, потом в Морской кадетский. Поэтому могу взять на себя смелость, да, пожалуй, и право высказаться откровенно.
Он снова воздохнул и произнес решительным, почти командирским тоном:
– Не по Сеньке шапка, дорогой Михаил Михайлович! Не наше с вами дело крутиться среди знати. Сандро – сердечный, добрый человек, но, несмотря на службу во флоте, все-таки плохо понимает сословную разницу. Вы пришли спросить моего совета, так мой совет таков: отправьте сердечное поздравление и оставайтесь дома.
В отставку Михаил Михайлович Мышлаевский собрался в чине штурманского подполковника. Неплохое продвижение для крестьянского сына. Честно говоря, он сам не стремился к большой карьере, хорошо понимая свою ограниченность. Мышлаевский был надежным офицером, служакой, прекрасным исполнителем, но не более того.
Женился он уже перед самым уходом с флота. «Кому нужен муж, который десять месяцев в году не покидает палубу?» – объяснял он давно женатым друзьям причины своей затянувшейся холостяцкой жизни. Подлинной же причиной, в которой Мышлаевский боялся признаться даже себе, был панический страх перед женщинами.
По существу, кроме матери и сестер, он никогда не видел рядом ни одного существа противоположного пола. Рано попав на флот, Мышлаевский провел всю свою жизнь среди мужчин, их он понимал, с ними умел управляться. А женщины… один Бог знает, что у них в голове.
Но одинокая старость пугала больше, и Мышлаевский решил подать в отставку, как было принято указывать в рапорте, по домашним обстоятельствам. Так именовали женитьбу. Дворяне, служившие во флоте из-за «чести», а не ради жалованья, выходили в отставку еще совсем молодыми людьми, до старости развлекая соседей, детей и внуков рассказами о тяготах морской службы. Люди, подобные Мышлаевскому, по причине отсутствия иных средств к существованию тянули лямку, сколько было сил, и перед отставкой женились на невестах из простых сословий с хорошим приданым.
Вокруг адмиралтейства вились не только поставщики, зарабатывавшие состояния на снабжении всем необходимым огромной машины императорского флота. Несколько десятков апробированных сватов устраивали личную жизнь флотских офицеров. В их табели о рангах Мышлаевский занимал не престижное, но вполне достойное место. И невесту ему предложили соответствующую его статусу: засидевшуюся дочь разорившегося, но вновь поднявшегося купца.
В матримониальных сделках личные качества роли почти не играли. Торговали не девицами, а идущим вместе с ними приданым. За большие деньги можно было выдать замуж крокодила в юбке, а с маленьким даже ангелица засиделась бы в девках.
У Мышлаевского были твердые понятия о том, как должна выглядеть его жена. Он выходил их по шканцам за томительные часы бесконечных вахт, многократно примеряя на себя и как верхнюю одежду, и как нижнее белье. Поскольку жить он намеревался скромно, только на полагающуюся пенсию и накопленный за годы службы капитал, приданое его интересовало не в первую очередь. Сбрасывать деньги со счетов он – боже упаси! – не собирался, но в выборе будущей супруги они не играли решающей роли.
Идеально было бы жениться на сироте с покорным нравом. Лицо, чуть тронутое скорбью, излучающее святую доброту, с живыми, выразительными глазами и стыдливым румянцем на впалых щеках, – стояло перед мысленным взором Мышлаевского.
Собираясь на первую встречу со сватом, он приготовился точно описать ему и ожидаемый характер, и предполагаемую внешность невесты. Разумеется, Мышлаевский хорошо понимал, что сват будет врать не по первое, а по двадцать первое число и, по его словам, все девушки в списке будут на удивление совпадать с описанным образом.
Выслушав Мышлаевского, сват важно покивал и заметил, что у него есть на примете девушка, весьма и весьма похожая на то описание, которое он сейчас услышал. Правда, за большим минусом – не сирота. Хотя ждать осталось недолго.
Батюшка Татьяны, Данила Маркович, был солидным купцом и дочери своей подыскал жениха тоже из крепкой семьи. Дело сладили быстро, оговорили сумму приданого, дату свадьбы и ударили по рукам. Жениха и невесту особо не спрашивали: когда речь идет о больших деньгах, кого волнуют сантименты? Да и волноваться было нечего, она премиленькая, он хорош собой, дело молодое, слюбится.
Но через два месяца дела Данилы Марковича пошли на спад, а через три изрядно покосились. Отец жениха попросил свадьбу попридержать до выяснения обстоятельств, а когда спустя полгода Данила Маркович пошел с молотка, и вовсе отменил. Брать в дом бесприданницу ему было и зазорно, и не с руки. Верно говорят: где деньги замешались, там правда не ночует.
Прошло пять лет. Данила Маркович снова разбогател – пусть не так, как раньше, но тоже изрядно. Дочерино приданое отсчитал отдельным капиталом и поместил у третьих лиц, чтоб ни один кредитор не добрался, если опять не дай Бог что. Другого шика приданое, чего уж говорить, однако нестыдное.
Только это мало ему помогло, вернее не ему, а Татьяне. Разорение, пусть даже давнее, точно родимое пятно на лбу. Вреда никакого, а глаза режет. Ни один серьезный делец не мог забыть Даниле Марковичу былого афронта, а от невесты с расторгнутой помолвкой сваты сразу отворачивались. Дурная примета – начинать новую жизнь с битой посуды. Поэтому досиделась Татьяна до двадцати девяти лет и, уж было махнув рукой на свою жизнь, серьезно задумалась о постриге.
Все это сват честно изложил Мышлаевскому, добавив в завершение, что не будь сих прискорбных обстоятельств, ему бы о такой невесте и мечтать не пришлось.
– Пришлось не пришлось, не тебе, любезнейший, судить, – оборвал подполковник занесшегося свата. – Только чем же она так хороша, докладывай!
– Да тем, что в точности соответствует тому образу, который вы мне только что живописали. И тем, что приданое у нее имеется такое, что дай боже каждой девице на выданье. И что три года провела в Александровском училище, обучена французскому и фортепьянам, и что, наконец, просто хороша собой.
Постоянно Данила Маркович с дочерью живут в Москве на Тверской, но сейчас приехали на пару недель в Петербург и остановились в своем столичном доме. Так что, ежели надумаете, дайте знать. Коль скоро обстоятельства благоприятствуют – Татьяна Даниловна здесь пребывают, жаль упускать такую возможность.
Мышлаевский решил знакомиться, и через два дня встреча состоялась. Сват не соврал, Татьяна очень походила на образ, нарисованный его воображением. Судя по мерцающему блеску глаз и томной улыбке, не сходившей с румяных пухленьких губ, он тоже пришелся ей по сердцу. Они проговорили почти два часа, сидя в огромной, обставленной с купеческим шиком гостиной. Количество слуг и помпезная солидность мебели говорили о том, что сведения свата о размерах состояния Данилы Марковича несколько устарели.
Но не о деньгах думал Мышлаевский, совсем не о них. Уже через полчаса от начала встречи он почувствовал странное томление в груди, а к концу понял, что влюбился. Первый раз в жизни, на первом же свидании. Разумеется, он не подал виду и, с благодарностью приняв от Татьяны приглашение на обед с ее батюшкой, что красноречиво свидетельствовало о схожести их чувств, откланялся.
Он не стал брать извозчика и прошел долгую дорогу домой, раздумывая о случившемся. В его груди теснились два чувства: неведомое доселе стремление обладать этой девушкой и хорошо знакомый страх перед непредсказуемостью женского характера.
– Мы только познакомились, – шептал он, – а я уже чувствую себя ее рабом. Когда мне попадалась в романе такого рода фраза, я злился на автора, считая ее надуманной, а чувства, приписываемые литературному герою, – выспренними. Но теперь я понимаю, что такое действительно бывает, и сам могу подписаться под этой фразой.
И что же будет дальше, в какой бараний рог скрутит меня эта милая девушка, если уже сейчас я сам готов вить из себя веревки, лишь бы заслужить милость в ее глазах?
Дойдя почти до гавани, он решительно развернулся и поймал извозчика. На его счастье, Федор Карлович оказался дома и собирался отобедать. Не обращая внимания на возражения гостя, он усадил его за стол и согласился выслушать только после десерта.
В кабинете контр-адмирала вкусно пахло хорошим табаком, радушие хозяина располагало к откровенности, но Мышлаевский и без того был готов вывернуться наизнанку, лишь бы избавиться от гнетущей двойственности.
– Главное препятствие на пути к вашему счастью, милейший Михаил Михайлович, это богатство будущей супруги, – произнес Авелан, выслушав взволнованную речь Мышлаевского. – С деньгами надо уметь управляться, а ни вы, ни я к тому не приучены. Ваш будущий тесть, несомненно, захочет ввести вас в курс своих дел как мужа единственной дочери и наследника всего состояния. Но как бы вы ни поступили, он останется недоволен, поскольку дела торговые далеки от привычной нам службы. Однако, отказавшись входить в курс дел, вы оскорбите его до глубины сердца. Что ваш будущий тесть будет говорить об офицерской заносчивости, нетрудно представить. Уверяю вас, слова он найдет самые обидные, а если сам не отыщет, добрые люди подскажут.
– Что же делать, Федор Карлович?! – вскричал Мышлаевский. – Я же не могу остаться на службе и под этим предлогом отказать тестю.
Он вдруг поймал себя на мысли, что женитьбу на Татьяне он уже считает полностью решенным делом, а ее отца, которого еще не видел ни разу, называет тестем. Авелан тоже обратил на это внимание и улыбнулся.
– Когда вы, говорите, познакомились с Татьяной? – спросил он, лукаво улыбаясь.
Мышлаевский бросил взгляд на циферблат настенных часов и произнес его же изумившие слова.
– Четыре с четвертью часа тому назад.
Авелан расхохотался.
– Не ожидал от вас такой прыти, милейший Михаил Михайлович, не ожидал! Но это приятно, значит, есть еще порох в пороховницах.
– Есть, – улыбаясь в ответ, подтвердил Мышлаевский.
– Выход у вас один: остаться на службе и под этим предлогом уехать из Петербурга подальше от тестя и его торговых дел. Погодите возражать, – Авелан предостерегающе поднял руку. – Служить можно не только на флоте. Ко мне недавно поступил запрос из другого ведомства, ищут отставных офицеров для должности уездного воинского начальника. Учет юношей призывного возраста, набор рекрутов, отправка их по разнарядке. Занятие совсем иное, чем то, к которому вы привыкли. Но это служба, настоящая царева служба, к тому же с приличным жалованьем. Можно выбрать уезд подальше, увезти молодую жену и строить с ней дом так, как вам это нравится.
Спустя три месяца высочайшим указом штурманский подполковник Мышлаевский был переименован в подполковника по армии с перечислением из морского ведомства в военное. Спустя четыре месяца, после скромной свадьбы, он заступил на должность воинского начальника Радомысльского уезда Киевской губернии. В молодой жене он души не чаял и с радостью подчинялся всем ее прихотям. Хотя прихотей у Татьяны Мышлаевской почти и не было.
Воспитание она получила весьма строгое, даже чопорное; в их купеческом роду женщины знали свое место и никогда не преступали границ дозволенного. Даже трехгодичное обучение в Санкт-Петербургском Александровском училище для мещанских девиц не смогло расшатать созданный в детстве остов привычек.
Цель обучения была весьма благородной – дать государству образованных матерей, хорошо подготовленных учительниц, полезных членов семьи и общества. Но как-то так получалось, что вместе с географией, историей, естествознанием и прочими серьезными дисциплинами в кудрявые головки многих учениц ветер вольнодумия заносил споры вздорных идей. В головки многих, но не в Татьянину. Только однажды, уже вернувшись в родительский дом на Тверской, она поддалась влиянию вольнодумства, но этого раза ей оказалось более чем достаточно.
Она хорошо помнила свою грузную бабушку, которая до глубокой старости чернила зубы, следуя принятой в ее юности моде купеческого мира. Тогда красивой считалась полная женщина, ведь полнота – от здоровья, а здоровье красит. Бабушка не стеснялась своей грузности, а вот мать Татьяны старалась выглядеть бледной и мечтательной; демонстрировать пышность здоровья считалось вульгарным. И бабушка, и мать Татьяны почти всю жизнь провели дома, укрывшись от мира крепкими дверными засовами и толстыми ставнями. Они и преподали девочке первые, оказавшиеся главными уроки.
– Наш мир существенно отличается от мужского, – повторяла мать, в юности окончившая мещанское отделение Смольного института. – Мы не служим, не стремимся к чинам, не получаем орденов, не зарабатываем денег. Наш мир – это мир чувств, мир детских комнат, мир домашнего хозяйства. Все эти победители, генералы, купцы-миллионщики вырастают на наших коленях и уносят с собой в политику, на поле брани и на биржу то, чему мы их научим.
Татьяна хорошо усвоила уроки и готовилась стать образцовой супругой, всецело преданной мужу, заботливой матерью, помышляющей лишь о благе детей, и рачительной хозяйкой, пекущейся о доме и домочадцах. Да вот только не попускал Бог, не складывался пасьянс.
После того как дела Данилы Марковича вновь пошли на лад, руки Татьяны домогалось немало охотников, но она с первого взгляда различала тех, которым нужны были не прочный дом, верная жена, покой и уют, а только ее приданое. Увидев Мышлаевского, она с трудом подавила возглас «Наконец-то!».
Михаил Михайлович в парадном мундире смотрелся весьма представительно, но лицом был прост, манерами открыт, а главное, главное, главное! – говорил именно то, что Татьяна столько лет мечтала услышать. Поэтому дело сладили быстро, на его предложение сразу после свадьбы уехать из Москвы по месту новой службы она ответила:
– Ты глава семьи, тебе и решать. А я… куда иголка, туда и нитка.
Быстро выяснилось, что это была не поза, а подлинное мировоззрение Татьяны.
Венчались они скромно, по просьбе невесты – в храме Вознесения, и свадьбу справили не в купеческом стиле, а всего лишь с двумя десятками ближайших родственников и друзей.
– Дался тебе этот храм Вознесения, – проворчал Данила Маркович, услышав странную просьбу дочери. – Ближе церквей, что ли, нет, тащиться за тридевять земель.
– Папа, я хочу венчаться там, где Александр Сергеевич.
– Какой еще Сергеевич? – вскинулся купец.
– Пушкин, – ответила Татьяна, заслужив восхищенный взгляд жениха.
Наутро после свадебной ночи, наполненной восторгами признаний и радостью узнавания, он сказал ей за чаем:
– Танюша, что бы ты ни пожелала, о чем бы ни попросила, ответ мой будет один – да.
Она нежно накрыла его ладонь своими пальчиками и прошептала:
– И мой тоже.
Спустя год, по весне, у Мышлаевских родился сын. К тому времени Михаил Михайлович уже крепко устроился в Радомысле, сумев отыскать достойное наполнение своей, казалось бы, не очень хлопотливой службе. Местное начальство только диву давалось, глядя на усердие и расторопность нового уездного начальника.
А Мышлаевский просто не умел иначе – вся его сознательная жизнь была четко разграфлена полосками вахт на время службы и часы отдыха. Научившись отдыхать на корабельном мостике за четверть часа, пока товарищ по вахте брал управление на себя, он не мог, да и не хотел быть праздным.
Депеша от великого князя Александра Михайловича застала Мышлаевского врасплох. Посыльный с почтамта чуть по стойке смирно не встал, подавая бланк.
– Буду завтра проездом инспекция Чернигов надеюсь увидеться Александр Романов, – гласила телеграмма.
Мышлаевский заметался. Что делать, как быть? Пригласить Сандро отобедать? А как? Он ведь теперь не мичман с общей вахты, а едущий с инспекцией член императорской фамилии! Просто так его не позовешь, есть порядок, правила, надо поставить в известность городского голову, начальника гарнизона, уездного предводителя дворянства, иначе потом не оберешься упреков. Мол, как же не позвал, почему не предупредил? И на неожиданность не спишешь, посыльный уже успел половине города разнести волнующую новость. Еще бы, великие князья в Радомысль нечасто наезжают.
Да и обед, это ведь не на двоих стол накрыть, Сандро наверняка едет со свитой, как и полагается инспектирующему великому князю, контр-адмиралу и прочая, и прочая… Кавалькада всадников, мундиры, золото погон, ордена, портупеи, седла, уздечки, ордена и черт еще знает какие атрибуты царского великолепия. Где их всех посадить, чем кормить?
А если не обед, так что? Встретить великого князя в конторе уездного воинского начальника? К стыду, у него так и не дошли руки навести там порядок. Вернее, переделать, покрасить, побелить и вычистить. На фоне сияющей чистоты военных кораблей затхлая, заросшая пылью и копотью, десятки лет не ремонтированная контора выглядела убого и непристойно.
Встретить Сандро на площади перед входом и поговорить с ним на улице, извинившись, что еще не вошел полностью в курс дел и не успел навести порядок? Смешно и стыдно, отговорка безусых салаг. Заступив на должность, он обязан был начать с порядка во вверенном служебном помещении, так, словно оно было его каютой или шканцами на корабле!
Переполненный сомнениями, Мышлаевский вернулся домой пообедать и нашел утешение в разговоре с женой.
– А ты скажи, что как раз собирался в Чернигов. Сядешь к нему в коляску, вряд ли великий князь поедет верхом через наше бездорожье. В пути и поговорите!
– Умница! – он нежно прикоснулся губами к кончикам ее пальцев и вздохнул с облегчением.
А вышло еще лучше. Автомобиль, сопровождаемый кавалькадой всадников, произвел на собак Радомысля потрясающее впечатление. Когда великий князь вырулил на площадь, за ним с отчаянным тявканьем неслось дюжины три псин, собачонок и собачищ. Увидев Мышлаевского, застывшего перед зданием уездной воинской конторы, Сандро подкатил прямо к нему и со смехом распахнул дверцу.
– Спасайся, Миша!
Мышлаевский вскочил в автомобиль и захлопнул дверцу прямо перед оскаленными зубами какой-то псины.
– Да тут у вас просто Австралия и дикие собаки динго! Помнишь? – воскликнул Сандро, перекрывая лай.
– Еще бы! – крикнул в ответ Мышлаевский, чувствуя, как, навеянная общим воспоминанием, возвращается былая товарищеская близость.
– А здорово мы тогда испугались! – со смехом прокричал Сандро, запрокидывая крупную романовскую голову.
Трое всадников из кавалькады достали нагайки и принялись разгонять тявкающую свору.
– Ты в Чернигов? – спросил Мышлаевский, с трудом выговорив «ты».
– Разумеется. Извини, я планировал немного задержаться, посмотреть, как ты живешь, но времени на остановку совсем не осталось. Этот автомобиль, – Сандро похлопал по рулю ладонями, затянутыми в лайковые перчатки, – оказался куда тихоходнее, чем предполагалось.
– А я ведь тоже собрался в Чернигов, – ответил Мышлаевский, в душе радуясь тому, как все удачно складывается. – Подвезешь?
– Поехали! – вскричал Сандро, срывая автомобиль с места.
Спустя час тряской езды по проселкам кавалькада выбралась на житомирский тракт и, существенно увеличив скорость, понеслась на Чернобыль. Шум мотора заглушал голоса, но тем не менее собеседники говорили не умолкая. Сандро живо интересовался жизнью в провинции, настроением крестьян, чиновников, дворянского сословия, мещанского населения.
После полудня добрались до Припяти, прокатили, громыхая по гулкому мосту, на другой берег, и Сандро остановил автомобиль.
– Ах, какая пасторальная красота! – воскликнул он, выскакивая наружу. – Передохнем четверть часа, руки устали держать руль.
Мышлаевский выбрался вслед за великим князем и огляделся. По правде говоря, никакой пасторальной красоты он не увидел, хотя в живописности раскрывшемуся виду отказать было нельзя.
Чернобыль бесстыдно распластался перед ними, выставив напоказ крепкие двухэтажные дома богачей, важно поглядывающие свысока на скопище убогих мазанок. Освещенные июньским солнцем кровли представляли собой обильную жатву для взоров путника, утомленного желтизной бесконечных полей и серой пылью разбитых дорог.
Какими оттенками зеленого, коричневого, синего, красного и ржавого цветов блестели железные крыши! Как аппетитно золотились соломенные кровли домов попроще! Сколь красочно выглядели в лучах пламенеющего полудня даже убогие земляные скаты, поросшие бурьяном и муравой!
Россыпь домов замирала перед самым берегом реки. Под зелеными пологими склонами мутными омутами плескалась Припять. Темная из-за торфяной почвы вода, казалось, стояла на месте, только посередине едва шевелилось серебристое течение.
Парило. Над рекой летали стрекозы. На противоположном берегу старичок водовоз не спеша таскал ведрами воду в бочку на колесах. Сандро перегнулся через борт автомобиля и заглушил двигатель. Вытаскивая руку, он сделал неловкое движение и надавил локтем грушу клаксона. В тишине знойного полудня звук, вырвавшийся из груши, был неожиданным и резким, словно крик трубы.
Всадники кавалькады осадили прянувших коней, а лошадь водовоза испуганно дернулась назад. Кусок плавуна, подложенный стариком под колесо, от резкого удара развалился на куски, и бочка покатилась к реке, увлекая за собой сбитую с толку лошадь.
Оказавшись в воде, лошадь забилась в постромках, но бочка неумолимо сползала дальше по резко уходящему вниз дну и тянула за собой бедолагу. Лошадь заржала, ее голос, полный ужаса и боли, наполнил сонное пространство полдня.
– Эх! – огорченно махнул рукой великий князь. – Вот же незадача.
В эту минуту на берег выбежал юноша богатырского телосложения. Сбросив с себя сапоги и шапку, он прямо в одежде бросился в реку. Оказавшись спустя несколько секунд возле тонущей лошади, он нырнул и пропал под водой.
– Постромки распутывает! – вскричал Мышлаевский.
Прошла минута-другая напряженного ожидания и неумолимого погружения лошади, и вот уже над водой осталась только отчаянно дергающаяся голова. Еще немного, и она полностью скроется под блестящей поверхностью реки. Рывок, и вода поглотила все, кроме верхушки задранной вверх головы с оскаленными в смертной муке зубами и глазами, наполненными невыразимым ужасом.
– Где же этот парень? Неужели утонул?! – огорченно воскликнул князь. – Жаль, ах как жаль, ведь такой молодец…
Он не успел завершить фразу, как лошадь рванулась и наполовину выпрыгнула из воды. Затем, поднимая волну своим большим, бьющимся телом, она выбралась на берег и остановилась, сотрясаемая крупной дрожью. За ней из воды показался вынырнувший юноша. В руках он держал постромки.
– Ловко он их распутал! – восхищенно вскричал Мышлаевский. – Да еще в мутной воде. Удалец парень, просто герой!
Юноша выскочил на берег, несколькими фразами отправил куда-то водовоза, а сам принялся взнуздывать лошадь. При этом, ласково приговаривая, он гладил ее по холке и бокам.
– Не пора ли ехать дальше? – почтительно осведомился у великого князя один из его спутников.
– Уже скоро, – ответил Сандро, не спуская глаз с противоположного берега.
Водовоз приволок моток толстой веревки, юноша сложил ее вдвое и привязал к сбруе. Взяв конец веревки в руки, вошел в реку, нырнул и надолго скрылся под водой. Вынырнув, он выбрался на берег, подозвал водовоза, они ухватились за веревку, крикнули на лошадь и медленно, шаг за шагом, выкатили на берег бочку.
Великий князь подозвал одного из сопровождающих.
– Будьте любезны, приведите ко мне этого парня.
Спустя несколько минут юноша в мокрой одежде и босиком стоял перед контр-адмиралом. Видимо, сопровождающий успел объяснить, с кем ему предстоит разговор, поэтому вид у него был весьма смущенный.
– Почему шапку не снимаешь? – строго спросил кто-то из свиты.
– У нас в знак уважения принято покрывать голову, а не обнажать, – негромко, но твердо произнес юноша.
– Значит, ты из евреев, – заметил великий князь. – Что-то не похож – ни статью, ни поведением. А звать как? Сколько тебе лет? Где ты живешь, чем занимаешься?
– Меня зовут Аарон Шапиро, – почтительно ответил юноша. – Мне восемнадцать лет, я живу в Чернобыле, до весны учился в ешиве, а теперь помогаю бондарю.
– А плавать и нырять где научился?
– Ну так я же вырос на Припяти, – улыбнулся Аарон.
– Не испугался? Мог ведь сам запутаться в постромках.
– Лошадь пожалел, – развел руками юноша. – И деда Ваню, водовоза. Он без своей бочки с голоду помрет вместе с бабкой Настей.
Великий князь вытащил из кармана золотую монету и протянул Шапиро.
– От имени дома Романовых благодарю за храбрость и доброе сердце. Ты готов послужить царю и Отечеству?
Юноша взял червонец и сбивчиво ответил:
– Большое спасибо! А послужить… ну-у-у, готов… если надо, конечно…
На обочинах дороги за Чернобылем полосами тянулась цветущая гречиха. Одуряющий аромат плыл в жаре оранжевого послеполуденного солнца, напрочь перекрывая бензиновую вонь мотора.
– Мне понравился этот парень, – произнес Сандро. – А тебе, Миша?
– Не очень.
– Почему?
– Шапку не снял. Обычаи обычаями, а члену императорской фамилии изволь выказать должное уважение. Сие относится не только к тебе лично, Сандро, это уважение власти, правящей династии, Отечества. На самодержавии империя стоит уже какую сотню лет, и инородец обязан это знать и чтить. И к тому же, ты обратил внимание, как он замямлил, когда ты спросил его про службу Отечеству? Да он просто не готов, не хочет, избегает прямого ответа. Это же видно.
– Мне он понравился, – ответил Сандро. – Действиями понравился, не разговором. Отвечать по форме его быстро научат, а вот поступать так, как он сегодня поступил, научить невозможно. Тут сердце должно быть добрым, дух бесстрашным, а тело крепким. Вот что, Миша, Чернобыль входит в твой уезд?
– Да.
– Призови этого парня. Несколько дней назад начальник Кронштадтской школы водолазов Макс Константинович фон Шульц жаловался мне на беду с набором. Нет достойных кандидатов, большинство отбраковывают по здоровью. А этот парень – богатырь. Нам такие нужны. Я хочу видеть этого Аарона через две недели в Кронштадте. Под мое личное покровительство.
– Надо проверить, подлежит ли он призыву, – произнес Мышлаевский. – Во флот, как ты знаешь, евреев не берут. Да и у каждой общины тут свои квоты и свои…
– Ну ладно! – прервал его Сандро, махнув рукой. – Отыщешь способ. Разберешься, тут я на тебя полагаюсь. А Шульцу отпишу.
Сократившаяся за последние несколько часов дистанция между ними прыжком вернулась к прежнему состоянию. Мышлаевский моментально ощутил, что теперь с ним разговаривает не его друг Сандро, а контр-адмирал императорского флота великий князь Александр Михайлович Романов.
Разговор затих. То ли князь устал от вождения, то ли Мышлаевский удовлетворил его любопытство. За всю оставшуюся дорогу до Чернигова они перебросились всего несколькими фразами.
«И что он нашел в этом мальчишке? – раздосадованно думал Мышлаевский. – Подумаешь, в реку прыгнул, эка невидаль. Удивительно тут другое: Романовы всегда евреев не жаловали, откуда у Сандро возникло этакое благорасположение к незнакомому еврейчику?»
И вдруг давно забытый эпизод из кругосветки на «Рынде» – случайно услышанный разговор между минным офицером, лейтенантом князем Михаилом Путятиным и мичманом графом Николаем Толстым – всплыл в его памяти. Тогда он не придал ему значения, решив, что дело в зависти отпрысков знатных семей, их обиде на великого князя, выбравшего в друзья не одного из них, а крестьянского сына.
Осенью 1887 года корвет «Рында» шел в Нагасаки. Молодые аристократы, цвет русских флотских династий, держали себя с Мышлаевским корректно, но холодно. Кроме вежливых приветствий он никогда от них ничего не слышал. В тот день Путятин инспектировал один из трех надводных торпедных аппаратов «Рынды», а свободный от вахты Толстой просто увязался за приятелем. Мышлаевский курил у борта, скрытый от их глаз кильблоком шлюпбалки.
– Александр Третий не зря недолюбливает Михайловичей, – донесся из-за кильблока голос Путятина.
– Ну да! – со смехом ответил ему Толстой. – И называет их Габерзонами.
– Видимо, у императора есть веские основания так именовать семью своего дяди, наместника Кавказа.
– Одного не пойму, – смех пропал из голоса Толстого, уступив место раздраженным ноткам, – куда смотрели дипломаты Николая Павловича, выбирая невесту для сына российского императора? Если даже нам известно, что урожденная принцесса Цецилия Баденская была дочерью банкира Габера из Карлсруэ, как они могли такого не знать? Или, возможно, не захотели?
– Деньги, дружок мой, во всем виноваты деньги. Одно проясняют, на другое помогают закрыть глаза. А потом все вынуждены делать хорошую мину при плохой игре, – ответил Путятин. – Только император Александр может себе позволить величать великую княгиню Ольгу Федоровну «Моя тетушка Габер».
Мышлаевский докурил и ушел, стараясь ступать как можно бесшумней. Тогда он отмел эту сплетню. Как же, подкупленные евреями дипломаты обманули царя и женили его сына Михаила на еврейке. Чушь какая-то! Дичь! Князья раздувают эту сплетню из-за ревности, из-за обиды на Сандро.
Он постарался выкинуть услышанное из головы и успешно забыл. А вот поди ж ты, оно крепко зацепилось в его памяти и сейчас всплыло. Видимо, было что-то настоящее в этой сплетне, чем и объяснялась неожиданная симпатия великого князя к безызвестному еврейчику Аарону.
Ровно гудел мотор, автомобиль, слегка подскакивая, несся по ухоженному тракту на Чернигов, а в голове у Мышлаевского сами собой возникали, раздувались и колобродили жаркие мысли.
«После чистоты патриархальных нравов дедовской Руси, – думал он, стараясь не смотреть в сторону Сандро, – пришло подражание Европе. И ладно, если бы наши умники перенимали что-нибудь полезное и доброе, нет, первым делом потащили грязь, то, что сразу прилипает к подметкам гостей. Стыдно признать, но сегодня одним из признаков современного человека стало наличие любовницы или любовника. Это модно и престижно».
Он представил свою Татьяну расстегивающей с соблазнительной улыбкой пуговки на платье перед другим мужчиной, и горячая кровь ударила ему в сердце. Недавний разговор с предводителем Черниговского дворянства тут же всплыл в памяти.
Мышлаевский обедал в единственном приличном ресторане Чернигова, гордо именовавшемся «Париж». Несмотря на название, подавали в нем обыкновенные половые – «ярославцы» – в белых рубахах из хорошего полотна, подпоясанные кушаками. К его столику подсел предводитель – упитанный мужчина лет пятидесяти с неожиданными для его возраста губами бантиком и масляными с поволокой глазами.
Он изрядно мешал Мышлаевскому обедать, с четверть часа разглагольствуя ни о чем, пока после третьего бокала шампанского ему не пришло в голову позабавить собеседника смешной историей. Смешной на его вкус, у Мышлаевского от таких слов мурашки забегали по спине. Мурашки гнева и отвращения.
– С адвокатом Стаховичем вы наверняка знакомы? – спросил предводитель.
– Нет, – ответил Мышлаевский, хотя несколько раз сталкивался с адвокатом по разного рода делам.
– Ну неважно, – махнул рукой предводитель. – Жена его узнала, что благоверный супруг завел любовницу. Узнала! Добрые люди постарались, все подробности донесли, ни одной не скрыли. Стахович сам из купеческой семьи и жену взял из своего сословия. Дама обходительная и гостеприимная, но простоватая. Пришла к мужу со скандалом, чуть не до битья посуды!
Предводитель усмехнулся и попросил еще бокал шампанского. Его самого рассказ изрядно тешил, а Мышлаевский искал хоть какую-нибудь зацепку для завершения беседы.
– И вы знаете, что ответил жене Стахович? – спросил, улыбаясь, предводитель.
– Понятия не имею, – холодно произнес Мышлаевский.
– «Ну так и ты заведи себе любовника». – «Как же так?! – вскричала жена. – Значит, ты меня совсем не любишь?» – «Глупая, – говорит ей Стахович, – как раз тебя-то я и люблю, а любовница мне для натурального удовольствия. Попробуй – сама убедишься!»
Мышлаевский тогда чуть не подавился, кое-как проглотил чай и, ничего не ответив предводителю, распрощался. Сейчас рассказанная им похабная история вдруг совместилась с подслушанным много лет назад разговором.
«Коль скоро у нас, в заштатном провинциальном Чернигове так мыслят и поступают, – думал Мышлаевский, – чему удивляться, если в просвещенной Европе мода продвинулась еще дальше? Зашла так далеко, что особа королевских кровей Баденского дома не только не стеснялась быть любовницей еврея, но не посчитала зазорным родить от него, сделать членом семьи байстрючку. А Николай Павлович действительно хорош, нечего сказать, подобрал достойную невесту сыну!»
Дорога с шумом бежала под колеса, вечерело, иволги пересвистывались в кустарнике вдоль обочины, облака с голубыми боками тянулись над головой. Сандро поглядел на посерьезневшее лицо Мышлаевского, хлопнул его по плечу и щедро улыбнулся. Мышлаевскому стало стыдно себя и своих мыслей.
«Антисемитизм несовместен с честью российского дворянина, – подумал он. – Все лучшие умы нашего времени об этом пишут. И Толстой, и Короленко, и Горький. Но, с другой стороны, Государь и его семья традиционно недолюбливают евреев. Как там сказано в Писании: сердце царя в руках у Бога. Значит, есть что-то и в отрицательном отношении к этой нации».
Стыд быстро сменила злость на себя самого.
«Какая разница, что болтали двадцать лет назад спесивые мальчишки? Где ты и где они? Путятин давно полковник Преображенского полка, чиновник по особым поручениям при Государе, Толстой контр-адмирал, а ты уездный воинский начальник жалкого Радомысля. Правильно сказал тебе когда-то Авелан: не по Сеньке шапка! И сомнениям этим в голове колобродить тоже не по Сеньке. Царю для проведения политики государства Бог внушает одни мысли, а уездный чиновник должен руководствоваться совсем другими. Знай свой шесток и будь счастлив, что Сандро вообще вспомнил о тебе».
Он улыбнулся и в знак дружбы легонько сжал плечо великого князя.
«Но я же совсем не антисемит, – продолжал размышлять Мышлаевский. – Всегда стараюсь помочь представителям этой нации. Вон, третьего дня сделал большое одолжение главе Чернобыльской еврейской общины. Тот не знал, как отблагодарить, прямо рассыпался в благословениях. Мол, все для вас сделаем, только скажите…
А вот и решение – сообразил Мышлаевский. – Завтра вызову к себе главу общины и договорюсь с ним об Аароне Шапиро. Что же до сплетни о тетушке Габер, будь в ней хоть толика правды, разве отдал бы император Александр свою дочь Ксению за Сандро? Чушь, чушь, чушь! Выбрось ее из головы!»
– И вот еще что, – сказал на прощание Сандро, крепко сжимая руку Мышлаевского. – Аарон – плохое имя для флотской службы. Выправи парню документы на Артема.
Вернувшись на следующий день в Радомысль, Мышлаевский энергично взялся за дело. Каждый его шаг щедро кормил семейство Шапиро ведрами слез и ушатами горя, но бороться с государственной машиной Российской империи с помощью рыданий было бессмысленно, и спустя две недели новобранец Артем Шапиро, как миленький, отправился в Кронштадтскую школу водолазов.
Глава II
Чернобыльские яблочки
Аккуратно выглаженное платье облегало крупные формы базарной торговки с неожиданным изяществом. От ее большого тела исходила ощутимая даже на расстоянии волна жара. Ровные зубы влажно блестели, голову украшала кокетливо повязанная косынка, под которой топорщились не покорившиеся расческе завитки волос. Но лицо, с синими тенями под глазами, красным от слез носом и искусанными губами, было искажено гримасой боли.
Ребе Аарон Тверский, третий праведник Чернобыльской династии, отвернулся от торговки и посмотрел в окно. Ветерок, залетающий в приоткрытую форточку, теребил белую занавеску. Она то поднималась волной, позволяя взглянуть наружу, то опадала, плотно перекрывая вид.
По речной глади, блестевшей под солнцем Припяти, ходили темные тени облаков. Зелень кустов и деревьев, уже тронутая желтизной осени, окружала черные крыши и серые стены домиков Чернобыля.
Служка споро отдернул занавеску; если праведник хочет посмотреть на реку, он должен посмотреть на реку. Мужчин ребе Аарон принимал с глазу на глаз, но когда приходила женщина, служка всегда оставался в комнате, чтобы праведник не оказался с ней наедине.
Разумеется, не потому, что он опасался поползновений дурного начала – какое дурное начало у праведников? О них сказал в Псалмах царь Давид: сердце пусто во мне. Служка оставался, дабы избежать ненужных пересудов. Мало ли что может взбрести в голову какой-нибудь взбалмошной даме, мало ли какие глупости начнет она нести восторженным шепотом после аудиенции? Никто ведь не проверяет честность и порядочность посетительниц, ребе принимает всех, кто просит о помощи.
В этом случае опасаться было нечего, Рохеле в Чернобыле хорошо знали. Ребе Аарон привечал ее родителей, честных, порядочных людей, и много лет назад лично принимал участие в поисках жениха для торговки. Впрочем, тогда она была еще не торговкой, а скромной девушкой, боявшейся поднять глаза на незнакомого человека.
– Ребе, – Рохеле тяжело опустилась на стул и сложила на животе красные от стирки руки. – Ребе, у меня неудачная неделя. Так не везет, хоть плачь.
Как бы подтверждая свои слова, она жалобно хлюпнула носом.
– О чем ты просишь?
– Я не знаю, о чем я прошу, – с раздражением произнесла женщина. – Я знаю только, что скоро суббота, а у меня в доме шаром покати.
Она помолчала несколько секунд, словно раздумывая, продолжать или нет.
– Я знаю, нехорошо жаловаться на мужа, но сами посудите, ребе. Михл ваш хасид. Он святой человек. В голове у него только Талмуд, ангелы, комментаторы и законы. Умные слова сыплются из Михла, как песок из дырявого мешка.
– Разве это плохо? – осторожно спросил ребе.
– Это не плохо. Это, наверное, хорошо. Плохо другое – он ничего не зарабатывает. Или почти ничего. Все висит на мне. Дом, восемь детей, стирка, торговля, готовка. Нет, я не жалуюсь, – Рохеле отерла губы уголком головного платка. – Когда Бог дает заработок, так жить можно. Тяжело, но крутимся. Но когда Он не дает…
– Так о чем же ты просишь?
– Вы попросите там, наверху, – торговка посмотрела на потолок с таким выражением, будто все небесное воинство скрывалось у ребе на чердаке. – Ну, замолвите за нас словечко.
– Ты, кажется, яблоками на базаре торгуешь?
– Точно, яблоками. Всегда покупают, а тут словно отрезало. И ведь хорошие яблочки, наливные, крепкие. Не хуже, чем обычно. Всегда их берут, никогда не жалуются, а на этой неделе почему-то перестали. Сглазили, наверное, мои яблочки.
– Ладно, – сказал ребе, – завтра я тебе помогу.
В пятницу утром, когда евреи Чернобыля отправились на рынок покупать продукты для субботы, ребе Аарон встал на место торговки и, положив руку на корзину с яблоками, негромко произнес:
– Евреи, вот хорошие яблоки. Покупайте яблоки на субботу.
Через несколько минут к прилавку невозможно было пробиться. Еще бы, если сам Чернобыльский ребе продает яблоки, значит, это не просто яблоки. Ребе Аарон не встанет за здорово живешь у прилавка. Если он оставил синагогу и положил руку на корзину, можете поверить, в этих яблоках скрывается нечто особенное.
На цену никто не смотрел. Деньги бросали на тарелку без счета и, принимая из рук ребе два, три яблока, смиренно благодарили. О, ведь даже одного слова ребе Аарона хватало, чтобы бесплодные забеременели, бедняки разбогатели, незрячие открыли глаза. А тут сразу три яблока из его рук! Три яблока, осененные святостью праведника. При чем тут деньги?
Спустя полчаса недельный запас яблок был полностью распродан. Пересчитав монеты, торговка ахнула – выручка во много раз превышала обычную.
– Вот видишь, – сказал ребе Аарон, выходя из-за прилавка, – у тебя были прекрасные яблоки, просто евреи Чернобыля ничего про них не знали.
– Ребе, еще одна просьба, – продолжила Рохеле. – Младшенькая моя, Двора-Лея, все время хворает. Чуть ветерок подул, у нее уже температура. Кто-то рядом чихнул, ее в озноб. Благословите дочку, ребе!
– У тебя остались яблоки? – спросил ребе Аарон.
Рохеле порылась в соломе, устилавшей дно корзины, обнаружила затерявшееся яблоко и протянула ребе. Тот взял его в руку, внимательно осмотрел и вернул в корзину.
– Положи его Дворе-Лее под подушку. Пусть полежит там несколько дней – и, даст Бог, здоровье девочки наладится.
Вернувшись домой, Рохеле тщательно обернула яблоко вощеной бумагой, уложила в мешочек из плотной ткани и сунула под подушку спящей дочери. Та хворала с начала недели: горло обметало, насморк был такой, что бедная малышка могла дышать только ротиком. Рохеле поила ее молоком с медом, засовывала в носик дольки лука, но эти, раньше вполне действенные средства, не помогали.
Двора-Лея даже не проснулась, только чуть всхрапнула широко открытым ртом.
– Спи, моя ласточка, – прошептала Рохеле, – цадик послал тебе яблочко, скоро все наладится.
День выдался совершенно сумасшедшим. Впервые за долгое время у Рохеле появились деньги для хорошего субботнего обеда. Настоящего, без фармазонства!
– Сегодня мясо будет не из картошки, а рыба не из репы! – повторяла она, вихрем проносясь по лавкам и собирая нужные для готовки продукты.
Рохеле соскучилась по доброй стряпне, когда на раскаленной плите шкворчат две сковородки, отдуваясь, выпускает ароматный пар кастрюля, булькает казанок, а в печке подходят халы и пироги. Уже много лет Всевышний не давал ей счастья насладиться такими приготовлениями к царице-субботе, и вот, наконец, цадик разверз твердь Небесную и вывалил на застоявшуюся хозяйку благо славной готовки.
Еле-еле завершив последнее блюдо до начала субботы, Рохеле зажгла свечи и утомленно опустилась на лавку. В голове сама собой завертелась услышанная от кого-то фраза: счастье – это покой.
– Нет, – прошептала Рохеле, – счастье – это возможность радовать близких, помогать детям, своим и чужим, кормить голодных, одевать нищих. Счастье – это большая работа и большая усталость. И вот такие редкие минуты передышки.
Она окинула хозяйским взглядом комнату. До возвращения из синагоги мужа с мальчиками оставалось еще немало хлопот, в основном по уборке. Семья должны была застать не покосившуюся избенку на окраине Чернобыля, а храм, наполненный сиянием субботних свечей и ароматами праздничной трапезы.
Подойдя к кроватке Дворы-Леи, Рохеле поглядела на девочку. Та все еще спала, но сон ее был спокойным, дыхание ровным, а на щеках играл давно не появлявшийся румянец.
– Спасибо, ребе! – прошептала Рохеле и принялась накрывать на стол.
Серебряный месяц плыл над Чернобылем. Ласково мигали хрустальные звезды, из рощи за околицей доносилась сухая, дрожащая трель козодоя. Степенно, словно вельможи царского двора, расходились по домам евреи, стараясь не подавать виду, как ждут они субботнего ужина, главной и лучшей трапезы всей недели.
Переступив порог своего дома, Михл на несколько секунд зажмурился. После темноты улицы свет нескольких свечей показался ему ослепительным. А от изумительных ароматов, наполнявших домик до самого потолка, как вода наполняет стакан, сразу защекотало под ложечкой.
Честно говоря, Михл приготовился к еще одной полуголодной субботе. Он ушел из дому еще до полудня, чтобы не мешать жене скрести по сусекам. Ведь она, подобно Всевышнему в первый день творения, совершала из ничего чудо готовки трех субботних трапез на всю семью. Распродажа яблок ребе Аароном прошла мимо внимания Михла, поэтому он настойчиво размышлял о духовных аспектах воздержания, а также о его несомненной пользе для бренного тела.
– Париться в бане куда полезнее на пустой желудок, – повторял Михл, забираясь на верхнюю полку.
«Полное брюхо мешает сосредоточенной молитве», – думал он, раскачиваясь в синагоге.
– Нет ничего полезнее холодной колодезной воды, – наставительно говорил он мальчикам по пути домой.
Положа руку на сердце, Михл давно был готов отложить в сторону глубокое изучение таинств Учения и заняться тривиальной добычей хлеба насущного. Голодные глаза детей пронзали его сердце не хуже самого острого ножа. Кто же мешал ему это сделать, кто заставлял корпеть над открытой и закрытой частями Учения? Не кто иной, как его любимая супруга.
– Я выходила замуж за мудреца и намерена оставаться женой мудреца до последнего дня, – решительно отвечала Рохеле на очередное предложение мужа стать сапожником или хотя бы водовозом. – Если я мало зарабатываю, это значит, что ты плохо учишься. Приналяг на учебу, тогда и деньги в доме заведутся.
– Такая праведница, как ты, должна сносить лишения с радостью, а не бегать за утешением к ребе Аарону, – возражал Михл.
– А кому мне еще плакаться? Околоточному?!
Повороты мысли Рохеле каждый раз ставили Михла в тупик. Стоит ли говорить, что год шел за годом, а в укладе их семьи все оставалось по-прежнему. Вернее, по тому, как это видела и представляла любимая супруга мудреца.
– Рохеле, что случилось? – спросил Михл, когда его глаза привыкли к свету множества свечей. – Мы разбогатели, Рохеле?
Супруга мудреца раскрыла рот, дабы ответить подобающим ее статусу образом, как вдруг тишину нарушил тонкий голосок Дворы-Леи:
– Мама, а чем это так вкусно пахнет?
Она выбралась из постели и с восхищением разглядывала яства, украшающие стол.
– У тебя прошел насморк, доченька? – дрожащим голосом спросила Рохеле.
– Прошел, прошел, – Двора-Лея в доказательство раздула ноздри и глубоко вдохнула носиком. – А можно медового пряника?
– Можно, – отирая набежавшие слезы, ответила Рохеле. – Сейчас папа благословит вино, потом поешь бульон с галушками, а после пряник.
– Не-е-т, – захныкала Двора-Лея, – я хочу сначала пряник.
Яблоко праведника так и осталось в мешочке из плотной ткани, тщательно обернутое в вощеную бумагу. Его использовали как панацею от любой хвори, при первых же признаках недомогания укладывая под подушку заболевшего ребенка.
Два-три раза в год Рохеле осторожно разворачивала бумагу и рассматривала яблоко. Оно чудесным образом ссохлось, не потеряв форму и цвет. Годы шли и шли, а яблоко праведника действовало безотказно.
Двора-Лея обручилась в пятнадцать лет с Лейзером Шапиро, парнем, подобно ее отцу, посвятившим себя Учению. Ей тоже предстояло стать женой мудреца и тащить на себе нелегкое бремя семейных забот.
Помолвку отмечали в самом узком кругу, домик Рохеле и Михла мог вместить только семью жениха. Его родители жили более чем скромно, почти нищенствовали, но ведь и Двора-Лея была не из Ротшильдов. В самый разгар праздничного обеда в дверь постучали. Михл глянул в боковое окошко и оторопел. На пороге стоял околоточный, в праздничном мундире, с нафабренными, щегольски закрученными усами.
– Неужели он пришел нас поздравить? – удивился Михл.
– Вот еще! – фыркнула Рохеле. – Царь сегодня что-то празднует. Немедленно поднеси ему водки!
Михл наполнил до краев граненую рюмку, вместе с кусочком черного хлеба положил на поднос и отворил дверь.
– Наши доблестные войска взяли Плевну, – сообщил околоточный. Он залпом осушил рюмку, занюхал хлебом и перевел на Михла вопрошающий взгляд.
– Поздравляем, поздравляем, Егор Хрисанфович! – вскричала Рохеле, кладя на поднос серебряный полтинник.
– Да благословит Господь святое православное воинство! – ответил околоточный. Он сгреб толстыми пальцами полтинник, повернулся спиной к хозяевам и нетвердой походкой двинул с крыльца.
Со свадьбой затянулось. Планировали сыграть ее через год, быстрее собрать деньги на празднование не получалось. Но через одиннадцать месяцев умер отец Лейзера, потом сам Лейзер уехал сдавать экзамены на раввина и застрял почти на год, а когда вернулся, пожар уничтожил улицу с его домом.
Лишь спустя три года все сложилось: назначили день свадьбы, пригласили гостей, наготовили еду, заказали музыкантов и.… За два дня до назначенного срока в Петербурге убили царя Александра. Империя погрузилась в траур, ни о каком веселье речи не могло идти. Свадьбу сыграли, но без музыкантов и очень тихо.
«Почему так все неудачно складывается? – думала Двора-Лея, стоя под свадебным балдахином. – Неужели Всевышний не хочет нашей свадьбы? Столько дурных предзнаменований, столько препятствий… Почему? Нет-нет, я буду молчать, не хочу никому портить настроения. Обещаю, слова не скажу!»
Но утром, не сдержав данного самой себе обещания, Двора-Лея поделилась сомнениями с молодым мужем-раввином. Тот объяснил это совсем по-другому.
– Видишь ли, Дворале, неправильное и пагубное всегда дается легко. Так устроен мир. Всевышний послал сюда наши души для работы – отбирать хорошее у плохого. Хорошее приходится добывать трудом и слезами. Если дело идет со скрипом, это верный знак, что ты на правильном пути.
– Какой же ты у меня умный! – искренне восхитилась Двора-Лея и успокоилась. Правда, ненадолго. Вскоре ее вновь начали терзать сомнения и одолевали до того самого дня, когда мрачные предчувствия подтвердились.
Первые несколько лет все складывалось как нельзя лучше. Двора-Лея пошла по стопам матери, тоже занявшись торговлей фруктами и овощами. Дело она поставила на более широкую ногу, сначала открыв одну лавку, затем другую, а после сделавшись оптовой перекупщицей. Лейзер не стал искать место раввина, хоть и сдал экзамены самым блестящим образом. Быть главой общины – хлопотное и беспокойное занятие, ему больше нравилось сидеть в синагоге над книгами.
– И сиди себе на здоровье, – поддерживала его жена. – На жизнь я заработаю, а ты учись, приноси в дом благословение. Может, потом сам станешь книги писать.
Все шло прекрасно и замечательно, кроме главного – детей. Год уходил за годом, а сухой колодец так и не наполнялся водой, не колосилась нива, не завязывались плоды. Вот тогда-то мрачные предчувствия начали овладевать сердцем Дворы-Леи.
Девять долгих лет длилась пора ненастья, девять безрадостных весен, одиноких зим с удручающим завыванием ледяных ветров, девять иссушающих душу жарких августов и залитых слезами дождей ноябрей.
И вдруг случилось невозможное, то, во что Двора-Лея уже перестала верить. Она понесла. Тяжело, с мучительными приступами тошноты, огромным, мешающим дышать животом, распухшими ногами-колодами и сердцем, до краев наполненным счастьем от всех этих мучений. То ли помогли благословения нового Чернобыльского цадика Шломо Бенциона, то ли Всевышний наконец услышал ночные рыдания Дворы-Леи и дневные молитвы ее мужа.
Через девять лет после свадьбы Двора-Лея благополучно родила крупного здорового мальчика. Его назвали Аароном в память о ребе Аароне, подарившем Рохеле чудодейственное яблочко. Первые несколько месяцев Двора-Лея жила боязливо, чутко прислушиваясь к миру и вздрагивая от малейшего намека на дурные обстоятельства. Приученная переносить болезненные повороты судьбы, она все никак не могла поверить, будто ее жизнь повернулась к лучшему. Месяц следовал за месяцем, год настигал и сменял год, мальчик рос, но ничего не происходило. Двора-Лея совсем было успокоилась и начала привыкать к мирной счастливой жизни, когда несчастье, наконец, произошло.
В зимние месяцы Припять замерзала, покрываясь толстым слоем крепкого льда. По нему ходили пешком с одного берега на другой, ездили на санях, катались на коньках, долбили лунки и ловили сладкую зимнюю рыбу.
И надо же было случиться, что на самой середине реки, там, где подледное течение сильнее всего, вскрылась полынья. То ли рьяные рыболовы переусердствовали с лунками и лед треснул, то ли Промысел Божий выбрал себе жертву для искупления бед еврейского народа, кто может знать?
Угодил в полынью не кто иной, как Лейзер, провалившись с разбега по самую шею. Он спешил домой на обед из синагоги и думал, разумеется, об ангелах, каббале, Небесной колеснице и прочих важных вещах, поэтому на полынью попросту не обратил внимания.
В тот день задувал ветер, и пока выбравшийся из полыньи Лейзер добирался домой, его одежда, борода, усы и даже брови покрылись тоненькой корочкой льда.
Дома он переоделся, пообедал, до пота напился чаем с вареньем и вернулся в синагогу. Вечером Лейзер чувствовал себя вполне нормально, только чуть покашливал, но утром следующего дня не смог встать с постели. Его бил озноб, щеки горели лихорадочным румянцем, а горло сдавила невидимая рука, мешая дышать и даже говорить.
Встревоженная Рохеле тут же достала из укромного места яблоко ребе Аарона и сунула под подушку зятю. Впервые за все годы оно не подействовало, больной впал в забытье. Лицо вытянулось, на смену румянцу пришла смертельная бледность.
Михл побежал к цадику, а Двора-Лея, не останавливаясь, читала псалмы, то и дело отирая катящиеся слезы. Увы, ребе Шломо Бенцион был в отъезде.
Привели доктора. Крупный, с крючковатым носом и громогласным басом, он определил плеврит, отягощенный лихорадкой.
– Вот порошки, – пробасил доктор. – Разводить в стакане теплой воды и поить больного каждые шесть часов. Но хочу сразу предупредить, надежды мало. Молитесь.
Двора-Лея инстинктивно подхватила со стола книжечку псалмов и прижала к груди.
– Да не Богу, – досадливо поморщился атеист-доктор. – Молитесь, чтобы организм переборол недуг. Будь больной постарше, я бы уже советовал заказывать саван. Но поскольку мы имеем дело с относительно молодым человеком, есть надежда, что здоровое естество возьмет верх.
Доктор ушел, Двора-Лея принялась разводить порошки, а Рохеле, вытащив из-под подушки мешочек с яблоком, побежала на могилу ребе Аарона.
Вернулась она спустя два часа, замерзшая с осунувшимся лицом. Только глаза светились по-молодому тепло. Помыв руки, она размотала шерстяную шаль, в которую была завернута от подбородка до пояса, вытащила из глубин одежды мешочек с яблоком и вернула его под подушку Лейзера.
– Все будет хорошо, доченька, – сказала она Дворе-Лее. – Все будет хорошо.
В ее голосе сквозила такая уверенность, что Двора-Лея без расспросов поверила матери.
То ли порошки сделали свое дело, то ли, как надеялся доктор, организм победил хворь, то ли яблоко после молитвы на могиле ребе Аарона вновь стало действовать, но к утру жар спал, больной открыл глаза и слабым голосом позвал жену.
– Дворале, я видел Тараса, – еле слышно прошептал он.
– Какого еще Тараса? – заподозрив неладное, Двора-Лея осела на край кровати.
– Нашего котера.
Тарасом звали кота, жившего у них много лет. Евреи Чернобыля не любили держать в доме нечистых животных. И если уж приходилось завести кота для борьбы с мышами, место ему отводили в сарае или хлеву.
Двора-Лея долго не хотела взять кота. Почему-то эти хвостатые были ей противны. От одной мысли, что по дому будет расхаживать нечто серое с усами торчком и требовательно мяукать, ей становилось не по себе. Ну не любила Двора-Лея котов и кошек, не любила, и все тут!
Мыши от такого попустительства наглели все больше и больше, пока не дошло до того, что любая не запертая под замок пища тут же становилась их добычей.
– Та я ж говорю тоби – визьмить кота чи кишку, – не выдержала украинка Маруся, торговка в одной из лавочек Дворы-Леи. – Видразу ж порядок навэдэ.
– А де ж його взяты? – устало согласилась Двора-Лея, у которой в пятничную ночь мыши обглодали субботние халы, так что утром пришлось одалживать у соседки.
– Та я чоловика пошлю, вин прынэсэ.
И действительно, под вечер муж Маруси приволок страшный сон Дворы-Леи: мордатого серого кота с длинным хвостом и нагло торчащими усами.
– Тэбэ як звуть? – спросил Лейзер, принимая животное.
– Та Тарас.
Тарасом кота и назвали. Тарас исполнял свои обязанности с большим рвением. Днем он беспробудно спал, зимой – на печке, летом – под крыльцом, а проснувшись, долго умывался, топорща усы с важностью участкового жандарма. С наступлением темноты кот выходил на охоту, и когда по двору стал расхаживать на четырех мягких лапах усатый охранник, мыши присмирели, им было уже не до хал Дворы-Леи.
Охотником Тарас был отличным, полосатая шкурка всегда лоснилась, глаза блестели, и выглядел он весьма упитанным. К его полосатой чести будет сказано, Тарас никогда не клянчил еду у хозяев. Гладить себя он позволял только маленькому Аарону. Иногда кот запрыгивал на колени к Лейзеру, сидел несколько минут, давая прочувствовать сей знак величайшей благосклонности, и важно удалялся.
Тарас умер пару недель назад, то ли от старости, то ли объевшись мышами, и Двора-Лея уже собиралась взять в дом другого усатого охранника, как грянуло несчастье с Лейзером.
– Расскажи, что ты видел, – попросила она, беря мужа за руку. Лейзера надо было разговорить, вывести из оцепенения, вернув разум и сознание.
– У кота ведь нет души, – ответил Лейзер. – Когда он умирает, на этом все заканчивается.
– Ты мне это говорил, и не один раз, – ответила Двора-Лея.
– Что-то здесь не складывается, – тяжело вздохнул Лейзер. – Во сне я оказался на берегу речки. Очень узкой, но очень быстрой. Вода неслась стремительно, до головокружения, но я знал, что могу легко перепрыгнуть на тот берег. Там стояли, взявшись за руки, покойные бабушка и дедушка, рядом ребе Аарон, а за ними какие-то незнакомые люди – видимо, мои прабабушки и прадедушки. По берегу бегал Тарас, махал хвостом и мяукал. Я прислушался и понял, что понимаю его мяуканье. «Прыгай к нам, тут хорошо! – мурлыкал Тарас. – Прыгай, прыгай!»
Двора-Лея охнула.
– Бедный ты мой, бедный, больная головушка…
– Я уже собрался прыгнуть, – продолжил Лейзер, не обращая внимания на слова жены, – как до меня донесся чудный аромат яблок. «Не оборачивайся! – замяукал Тарас. – Не оборачивайся!» Но я обернулся, тут же все пропало, и вот я здесь.
– И хорошо, что ты здесь, – Двора-Лея уже не сдерживала слез. – С нами, а не с хвостатыми ангелами.
– Хвостатые ангелы – это демоны, – еле выговорил Лейзер, уставший от долгого разговора. – Ангелы со знаком минус, верные слуги Создателя, рьяно исполняющие свою работу.
– Значит, Тарас – усатый ангел. Столько лет ловил у нас мышей, а мы даже не подозревали, кто он.
– Нет-нет, – устало прикрыл глаза Лейзер. – Он не ангел и не демон, его вообще не должно было быть на другом берегу. Или я бредил, или картина неточна. Надо разбираться…
Он заснул, а Двора-Лея, обливаясь слезами, принялась читать псалмы. Сердце говорило ей, что беда никуда не ушла, а только изменила обличье.
Через три дня Лейзер поднялся с постели. Ходил он нормально, складно беседовал на бытовые темы, но, по его утверждению, за время болезни Учение полностью улетучилось из памяти.
Полностью в себя Лейзер Шапиро так и не пришел. Всего одно купание в ледяной проруби превратило мудреца-раввина в городского дурачка. К учебе он уже не вернулся, а стал искать занятие, причем самое простое. В конце концов, его взяли ночным сторожем: ходить по улицам и бить в колотушку, отпугивая воров и грабителей.
Вообще-то в Чернобыле не было постоянного ночного сторожа. Все жители по очереди раз в два или три месяца от заката до рассвета бродили по улочкам с колотушкой. Разумеется, зажиточным людям вовсе не улыбалось таскаться по холоду или грязи, и они нанимали вместо себя бедняков, самых пропащих, готовых за гроши проводить ночь без сна. Пожалев Лейзера, горожане решили нанимать только его.
Случилось так, что в то самое время умер шамес – служка Чернобыльского ребе. Ничего удивительного в его смерти не было, шамес был уже довольно стар. Он прислуживал еще ребе Аарону, а после его ухода – ребе Шломо Бенциону.
Отыскать замену шамесу оказалось совсем не простым делом, ведь он должен был соответствовать противоположным требованиям. С одной стороны, ему полагалось быть глуповатым, чтобы не совать нос куда не следует и не мешать скрытой от посторонних глаз духовной работе праведника.
С другой – шамес обязан хорошо понимать, чем занимается праведник, и разбираться в тонкостях духовной работы, дабы по неосторожности или недоразумению не вломиться в запретную дверь.
Ребе Шломо Бенцион решил проверить, не подойдет ли ему Лейзер. С одной стороны, болезнь помутила его разум, с другой – все-таки он много лет провел над книгами и что-нибудь из собранных знаний не могло не уцелеть.
Ранним утром, задолго до рассвета, ребе вышел из дома и двинулся на звук мерных ударов колотушки.
– За кого ты сегодня дежуришь? – спросил он сторожа.
– За Хаима-галантерейщика, – ответил тот, польщенный разговором с цадиком.
– А вчера за кого охранял местечко?
– За Пинхаса-шойхета.
– А позавчера?
– За купца Милю.
– А за кого сегодня дежурит уважаемый ребе? – вежливо осведомился сторож.
Цадик задумался. В первое мгновение простоватость сторожа, задавшего столь нелепый вопрос, его обрадовала. Но это лишь в первое мгновение. Вопрос, казалось бы, прямо вытекающий из беседы, был далек от нелепости, вытягивая за собой целую цепочку образов и предположений. Якобы просто повторив слова ребе, Лейзер спросил об очень глубоком, коренном.
Все это время, словно понимая, что происходит в голове цадика, он стоял рядом, не произнося ни звука.
– Хорошо, – сказал ребе, дойдя в размышлениях до порога, за которым требовалось углубленное изучение некоторых разделов Учения. – Ты мне подходишь. Оставь свою колотушку, с этой минуты ты мой шамес.
Лейзер прослужил у ребе Шломо Бенциона полтора десятка лет. Спал в соседней комнате, ходил вместе с ним в микву, молился рядом с цадиком, прислуживал за столом, ел вместе с ним ту же самую пищу, принимал и передавал квитлы, впускал посетителей, выполнял многочисленные поручения. Ни один человек на свете не знал столько об открытой и скрытой жизни цадика.
Пришел срок, и жизнь повернулась так, что Лейзеру пришлось расстаться с праведником. Слух о том, что в Тель-Авив приехал шамес самого ребе Шломо Бенциона, моментально разнесся по Святой земле. Чернобыльские хасиды из Иерусалима, Хеврона и Тверии принялись донимать Лейзера просьбами рассказать о цадике.
– Но я ничего не помню, – недоуменно таращился тот. – Память у меня плохая, уж извините.
Разумеется, одни принимали его слова за чистую монету, другие были убеждены, что шамес специально строит из себя дурачка, не желая выставлять на свет тайные стороны духовной работы праведника.
В конце концов, хасиды насели на него и упросили припомнить хоть что-нибудь.
– Да, вот как оно было, – после долгих уговоров уступил шамес. – Пошли мы утром в микву. Зимой, до рассвета, на улице темно, тишина полная, только снег под ногами скрипит. В микве тьма египетская, хоть глаз выколи. И зябко, миква-то холодная, без печки. Я стоял со свечкой в руках, а ребе окунался. Окунался и окунался, окунался и окунался, о чем он там себе думал в ледяной воде, какие мысли в голове держал, уж не знаю. Когда свечка догорать стала, я сказал: «Уважаемый ребе, пора вылезать». А цадик словно не услышал и продолжил плескаться. Тогда я голос повысил: «Вы как хотите, уважаемый ребе, но я боюсь темноты и без огня не останусь ни одной секунды». – «Тогда почему же ты еще одну свечку не взял?» – спросил ребе Шломо Бенцион. «Да разве я думал, что уважаемый ребе купальню тут устроит, словно на дворе лето, а не середина зимы». – «Ладно, – сказал цадик, – выйди из миквы, отломи сосульку с крыши и зажги». Я за годы службы давно перестал удивляться. Вышел на крыльцо, отломил сосульку, поднес ее к огоньку, и та запылала, точно настоящая свечка.
Эта история широко разошлась по Святой земле. Кое-кто из слушателей потешался над простотой шамеса и его чудаковатостью. Ведь из всех удивительных историй, свидетелем которых ему посчастливилось быть, он запомнил лишь ту, что была связана с его страхом и гневом.
Другие превращали ее в целое учение. Служка приподнял завесу над тайной, показал скрытую от посторонних глаз работу цадика. А короткий разговор шамеса с ребе трактуют как спор об основах служения, обсуждение деталей духовного пути, которому надлежит следовать.
Письма полетели в Чернобыль из Хеврона, Иерусалима и Тверии, и вскоре история о горящей сосульке обсуждалась в Чернобыле с не меньшим жаром, чем на Святой земле. Кто-то даже рискнул пересказать ее ребе Шломо Бенциону.
– Халоймес, сны, – махнул рукой цадик.
И это все, что удалось из него выжать любопытным хасидам.
Вот тогда-то и стали поговаривать о совсем иной причине давнишнего выбора ребе.
– В ночные сторожа часто нанимаются скрытые праведники, – утверждали умники, многозначительно поднимая указательный палец. – Они ведь все равно бодрствуют по ночам, занимаясь тайными делами, и такая работа помогает избежать ненужных вопросов о причинах бодрствования. А наш Лейзер Шапиро… да, наш Лейзер… Скорее всего, он просто притворялся простаком. Сами посудите, где это видано, чтобы одно окунание в прорубь превратило мудреца-раввина в дурачка.
Но все это случилось позже, много позже. А пока жизнь в Чернобыле тянулась ни шатко ни валко, серыми полосами будней, перемежаемых светлыми вкраплениями суббот и праздников. Двора-Лея хорошо зарабатывала, ее муж, служка праведника, приносил в дом почет и уважение, а единственный сын, отрада глаз и услада слуха, рос на удивление статным и крепким. Словно не прожили его бабушки и прабабушки век свой сгорбленными над плитой и корытом, будто не гнули дедушки и прадедушки спину за столом, заваленным книгами.
Сложением Аарон походил на былинного богатыря из русских сказок, но без медлительности, присущей тяжеловесным людям. Двигался он легко и быстро, с грацией крупного хищника, но характер при этом унаследовал кроткий, более подобающий книжному червю, чем человеку гвардейского роста и телосложения. По странной причуде Всевышнего ему достались льняные волосы, голубые глаза, румяные щеки и хорошо очерченные литые губы. Совсем не унаследовав от родителей внешность, он, подобно отцу, весьма преуспевал в книжной мудрости и, подобно матери, умел быстро принимать решения в сложных ситуациях.
– Мы своими молитвами перехватили чужую душу, – смеялась Двора-Лея, расчесывая непокорные кудри сына. – Летела она себе в царский дворец, а очутилась в убогой еврейской лачуге.
Двора-Лея явно кокетничала, назвать лачугой ее просторный, чисто выбеленный, содержащийся в идеальном порядке дом не смог бы даже Ротшильд, выпади ему случай оказаться в Чернобыле.
Лейзер в ответ на шутки жены только рукой махал. «Много ты понимаешь в душах», – казалось, говорило его лицо. Но уста молчали: наученный многими словесными стычками с Дворой-Леей, он предпочитал держать рот на замке. Переспорить жену было невозможно, на любое, даже самое здравое, разумное утверждение, не совпадающее с ее мнением, она приводила тысячу сто пятьдесят семь возражений. Почти все они были маловразумительны, а оставшиеся не имели ни малейшего касательства к теме разговора, но тон и запальчивость, с которыми их произносила Двора-Лея, делали продолжение разговора бессмысленным.
– Ограда мудрости – молчание, – утешал себя Лейзер словами Писания. – Весь век свой я провел среди мудрецов и не нашел для человека ничего лучше безмолвия.
Маленького Аарона не удивляли ни шутки матери, ни постоянное молчание отца. Ему казалось, что так и должны вести себя родители, ведь у него не было возможности сравнить с другими и понять разницу. Он рос, окруженный любовью, ощущая недостаток только в карманных деньгах, которыми Двора-Лея оделяла сына с большой скудостью, не по причине отсутствия средств, а исключительно в целях воспитания. Аарон не должен был выделяться из других мальчиков хедера, а потом юношей ешивы, куда он ходил, подобно всем еврейским детям Чернобыля.
Единственное, чем он отличался от своих сверстников, была страсть к речке. На Припяти Аарон проводил большую часть свободного времени. Летом не вылезал из воды, купаясь до сливеющих губ, а осенью, зимой и весной удил рыбу. Поначалу Двора-Лея возражала, но сообразив, что перед субботой в доме всегда оказывается свежая рыба, причем не купленная втридорога у базарных торговок, а собственноручно выуженная ее сыном, перестала сопротивляться.
Особенно любил Аарон рассветы на Припяти. Он специально вставал на ватикин, утреннюю молитву, начинавшуюся до восхода солнца. Наскоро отбубнив все полагающиеся тексты, Аарон спешил на речку почти сразу после того, как тяжелый багряный шар важно поднимался над очерченной качающимися верхушками деревьев линией горизонта.
От тяжелой ночной росы трава на ведущей к Припяти тропинке была мокрой. Ветерок шевелил кроны прибрежных ив, показывая белую изнанку еще темной листвы. Лучи низко висящего солнца красили ветви теплой желтой краской. В черной воде глухо плескалась проснувшаяся рыба. Ах, до чего же все это было хорошо!
Лейзер, погруженный в общение с праведником и свои книги, почти не обращал внимания на сына. Он вообще ни на кого не обращал внимания, мир, очерченный словами со страниц старых книг, был в его представлении куда реальнее того, где пребывал Чернобыль. По крайней мере, так это выглядело со стороны.
Аарон вовсе не страдал от отсутствия родительской ласки, неустанный надзор за каждым его шагом со стороны матери с лихвой перевешивал рассеянные разговоры, которыми изредка удостаивал его отец. Аарону еще не исполнилось семнадцати, а Двора-Лея уже начала думать, к какому ремеслу его приспособить. Разумеется, вначале она поговорила с меламедом из хедера и с учителями из ешивы. Как и всякая еврейская мама, она мечтала увидеть своего сына раввином.
– Ваш мальчик способный, – словно сговорившись, твердили уважаемые старцы. – Способный, как все сыновья Аврома, Ицхока и Яакова.
Не давая себя обмануть, Двора-Лея из кожи вон лезла, донимая убеленных сединами мудрецов каверзными вопросами. Она пыталась четко и однозначно уяснить, подходит ли ее Арончик для раввинской карьеры. Поняв, что Всевышний не наделил ее сына выдающимися способностями и что Аарона ждет в худшем случае малоприбыльная должность меламеда, а в лучшем – скудный хлеб преподавателя в ешиве, она принялась искать доходное дело, которое может ему понравиться. Ведь заставить ребенка зарабатывать неприятным ему ремеслом означает сделать его на всю жизнь горемычным, а Двора-Лея хотела счастья своему мальчику. Много, много счастья!
Выяснить это оказалось совсем нетрудно: помимо страсти к реке Аарон любил возиться с деревяшками, мастеря из них всякие бесполезные в хозяйстве вещи. Двора-Лея скрупулезно хранила все эти корявые коробочки, кривые ложки, нескладные туески и абсолютно бессмысленные полочки. С какой целью – она сама не понимала, но, привыкнув доверять внутренним ощущениям больше, чем голосу разума, аккуратно складывала поделки на шкаф. Когда сыну исполнилось семнадцать лет, она достала все накопившееся там добро и предъявила Лейзеру.
– Думай, как хочешь, – сказала она, – но мне ясно, что ребенок любит работать руками, а не головой. И в ешиве он уже достаточно посидел.
– И что? – спросил Лейзер.
– Я решила отдать его в ученики бондарю. Если мальчик любит забавляться с деревом, пусть забавляется с деревом.
– Тогда почему не в ученики столяра или плотника?
– Бочки выгодней. Я проверяла.
– Ну если проверяла, – буркнул Лейзер, открывая книгу. Он ничего не сказал жене про недавний разговор с Аароном. Зачем, если они оба пришли к одному и тому же мнению, только совсем иными путями.
– Какой трактат Талмуда вы сейчас изучаете? – спросил Лейзер сына в субботу вечером, возвращаясь из синагоги.
У всякого дня есть своя вершина, свой пик чувственности и ожидания грядущей радости. Суббота – самый трепетный из всех дней недели, а лучшие ее минуты выпадают на время после вечерней молитвы, когда евреи медленно разбредаются по домам из синагоги. Никто не спешит, инстинктивно желая задержать томительные минуты предвкушения. Ведь счастье – это не само счастье, а его ожидание.
Весь этот длинный, так быстро пробегающий день отдыха, день сладких напевных молитв, день длинных трапез за празднично убранным столом, день самой лучшей еды, заботливо приберегаемой хозяйками, день разговоров с домочадцами и день блаженных часов ничегонеделанья – весь этот день был еще впереди, пока ноги медленно отмеряли дорогу из синагоги до крыльца родного дома. Откровенный разговор лучше всего вести, когда сердце собеседника открыто, и Лейзер задал свой вопрос в самую точную, правильно выбранную минуту.
– Заканчиваем Сангедрин, – ответил отцу Аарон.
– А какой трактат после него?
– Какая разница? Что выберут, то и буду учить.
Больше Лейзер ничего не спрашивал. Он уже получил исчерпывающий ответ на свой главный вопрос. Если юноше после пяти лет в ешиве безразлично, каким трактатом он будет заниматься дальше, это значит, что его дорога лежит вне пути Учения.
Через несколько дней Двора-Лея отвела сына к бондарю Велвлу. Пока просто познакомиться, посмотреть. О том, что это знакомство может переменить течение его жизни, не было сказано ни слова. В таких ситуациях она не торопилась, решение должно было прийти само, без нажима и приказного окрика.
То, что случилось в бондарной мастерской, превзошло все ее ожидания. Аарон просто прилип к инструментам и заготовкам для бочек, с наслаждением вдыхая запах стружки, он забросал бондаря десятками вопросов. Неизбалованный таким вниманием к своему ремеслу, бондарь охотно отвечал. Судя по всему, Аарон ему нравился.
– Скажи, а ты бы согласился пойти в эту мастерскую учеником? – спросила Двора-Лея, когда они вышли наружу.
– Конечно! – тут же ответил Аарон.
– И согласился бы уйти из ешивы?
– Мама, я знаю, что ты огорчишься, – сказал Аарон, – но я не хочу становиться раввином. Мне больше по душе делать бочки, чем разбирать мнения комментаторов по этому вопросу.
Бондарь взял парня на год. Без жалованья, только с кормежкой. Помогая хозяину, он должен был за этот год освоить азы ремесла. Само собой, вся грязная и тяжелая работа свалилась на плечи Аарона, что же касается обучения, оно свелось к короткому разговору, с которого Велвл начал его первый рабочий день.
– Послушай, мальчик, – сказал он, закатывая рукава. – Не рассчитывай, что я буду тратить время на объяснения. Запомни: ремесло не получают, ремесло воруют. Что подсмотришь, сам поймешь, усвоишь и повторишь – то твое. Время от времени можешь задавать мне вопросы. Будет настроение – отвечу, а не будет – не обессудь. Я сам учился таким же образом, и вот, слава Богу… – бондарь широким жестом обвел мастерскую и солидно улыбнулся.
В его улыбке, выпирающем брюшке, начинающей седеть бороде и даже в пучках еще черных волос, торчащих из носа и ушей, сквозило понимание своей значимости, важности и даже великолепия.
Аарон приступил к работе. И все ему нравилось, все приводило его в восхищение. Он подметал стружку с такой радостной улыбкой, будто в совок вместо колючих завитушек сыпались золотые монеты. То, что выходит из сердца, всегда находит дорогу к другому сердцу. Спустя неделю Велвл души не чаял в новом ученике и охотно делился с ним секретами ремесла.
Секретов хватало, но все-таки главными в бондарном деле были руки. Они у Аарона оказались вполне на месте, и через полгода бондарь разрешил самостоятельно построить кадушку для водовоза деда Вани. Его жена, бабка Настя, готовила в кадушках заваруху – вареную репу с квасом. Зарабатывал дед Ваня сущие гроши, поэтому заваруха составляла основную часть их семейного рациона.
Кадушка выдалась на славу: аккуратная, радующая глаз прожилками гладко оструганных дощечек, не большая и не маленькая, а как раз под стать бабке Насте. Отнести ее Аарон вызвался сам, домик водовоза находился неподалеку от его дома. Впрочем, в Чернобыле все было неподалеку, так что этот жест был всеми расценен как проявление доброй воли и хорошего отношения.
Водовоза и его жену Аарон знал с самого детства. Сыночка – так бабка Настя называла каждого мальчишку в Чернобыле, угощая его яблоками или яблочным вареньем. Ее единственный сын давным-давно уехал искать счастья в большом городе и пропал. Двадцать лет бабка Настя ждала его, шепча молитвы сухими от горя губами, а потом, отчаявшись, стала заказывать в церкви акафист об упокоении усопшего раба божьего Василия.
– Что же ты делаешь, глупая, – ругался поначалу дед Иван. – А если он жив? Разве можно акафист по живому?
– Если мой Васятка за столько лет ни одной весточки о себе не подал, – отвечала бабка Настя, – значит, нет его в живых. И быть по-другому не может.
Когда Настя носила ребенка под сердцем, ее молодой муж, тогда еще самый лучший, самый любимый мужчина на свете, принес в подарок беременной жене яблоко.
– Эка невидаль, – удивилась Настя, которая от тяжелой беременности постоянно пребывала в дурном расположении духа. – Мало в Чернобыле яблок? Даже у нас под кроватью симиренка рассыпана.
– Не знаю почему, – ответил Иван, – но сегодня на рынке цадык Аарон самолично продавал яблоки. Евреи их расхватывали, как сумасшедшие. Сама понимаешь, плохое они бы не стали так хватать. Ну, и я купил одно. Съешь, глядишь, и полегчает. Все-таки из рук святого раббина…
– А давай его посадим, – предложила Настя. – И будет у нас каждое лето целое дерево, полное яблок. Я буду варенье из них варить, кормить деток.
Так и поступили. И поднялась яблоня, высокая, раскидистая, цветущая по весне так густо, что казалось – ветки осыпаны снегом. Пестрые курицы расхаживали летом в ее тени, что-то выклевывая в густой траве и выражая довольство степенным квохтаньем. По праздничным дням Настя накрывала под кроной стол, и от порывов ветерка лепестки, кружась, падали в стаканы, ложились на тарелки и плавали в казанке с наваристым мясным бульоном.
Счастье, казавшееся безграничным и бесконечным, потихоньку сошло на нет. Вырос и сгинул без следа Васятка, как-то стремительно одряхлел Иван и вместо прибыльной работы взялся за самое никчемное дело – возить воду. Обветшала изба, опустели закрома, только и осталось от былого счастья, что густая яблоня.
Урожай она приносила знатный, да сколько там нужно двум пожилым людям? И бабка Настя щедро раздавала чернобыльской детворе крепкие, хрустящие, сочные, сладкие, точно сахарная голова, яблоки.
– Бери еще, сыночка, – говорила она и мальчикам, и девочкам. И дети брали.
И Аарон брал, и вместе с памятью о хрусткой сладости в его сердце навсегда вошла благодарность бабке Насте и деду Ване.
При виде кадушки бабка восторженно заахала, а затем принялась ласково оглаживать ее скрюченными от работы пальцами.
– Так ты теперь по бондарному делу, Арончик? – спросил дед Ваня, тоже любуясь кадушкой.
– Пока еще нет, я только учусь, но скоро буду.
– А ты не можешь починить мою бочку? Половина воды из нее, проклятущей, вытекает. То, что раньше я делал за две ездки, теперь приходится за четыре.
Аарон осмотрел бочку водовоза и сокрушенно развел руками.
– Я могу, деда Ваня, немножко подконопатить там и сям, но долго это не продержится. Отжила свое бочка, отвозила.
– Ох, Господи, как же быть-то? – вздохнул дед. – Другую-то взять неоткуда, не купить мне новую-то. Уж ты постарайся, соколик, подконопать получше, чтоб наподольше хватило.
Аарон постарался, вода перестала утекать, но дни старой посудины были сочтены.
Весной, спустя всего десять месяцев с начала обучения, бондарь заявил, что доверяет ученику самостоятельно построить настоящую бочку.
– Это будет твоим жалованьем, – щедро объявил он. – Материалы – за мой счет!
Но Аарон превзошел Велвла щедростью, подарив деду Ване сделанную им бочку. Именно ее он вместе с водовозом и вытаскивал из Припяти на глазах у великого князя Александра Михайловича.
Глава III
Водолаз Его величества
Киев Аарона поразил. Родной Чернобыль всегда казался ему не то чтобы очень большим, но вполне крупным городом. Выйдя из киевского железнодорожного вокзала, Аарон просто онемел. Он и представить не мог, что на свете существуют столь высокие здания, такое множество красиво одетых людей, сияющие витрины магазинов и пролетки, бесконечное число пролеток. Специальный сопровождающий, по прозвищу Франц-Иосиф, приставленный Мышлаевским, покровительственно хмыкнул при виде столь обескураживающей наивности.
– Чего варежку раззявил? В Киеве никогда не был?
– Нет, – покачал головой Аарон. – Я из Чернобыля ни ногой, только в соседние деревни.
– Темнота-а-а! – со вкусом протянул Франц-Иосиф. – В Петербурге ты вовсе мозгами тронешься.
Сопровождающий важно пригладил роскошные усы, из-за которых его и наградили таким прозвищем. Усы составляли гордость и наслаждение Дениса Бешметова, как на самом деле звали сопровождающего. Большую часть своего времени Бешметов тратил на уход за усами, посвящая меньшую часть мелким поручениям, вроде принеси-унеси. На службе он был совершенно бесполезным и бессмысленным человеком, которого Мышлаевский со второго дня вступления в должность мечтал уволить. К его великому разочарованию, сделать это оказалось невозможным: Франц-Иосиф находился под личным покровительством губернатора.
Тридцать лет назад, во время штурма Гравицкого редута под Плевной, молодой солдат Денис Бешметов прикрыл собой Белого генерала. Так в войсках называли Скобелева, который во всех сражениях появлялся в белом мундире и на белом коне.
В тот день удача отвернулась от Скобелева, Осман-паша атаковал его батальоны с обоих флангов, а турецкая артиллерия кинжальным огнем буквально расстреливала русские войска. Отразив четыре атаки и потеряв около шести тысяч человек, Скобелев приказал отходить. Он принял командование арьергардом, прикрывавшим отступление, и турки, заметив Белого генерала, послали для его захвата лучшие силы.
Спустя час Скобелев, уже без лошади, в окружении горстки солдат пытался отбить атаку турецкой пехоты. Времени перезаряжать ружья не было, сошлись как встарь, врукопашную. Сабля генерала красиво смотрелась на парадах, но против штыков была бессильной. И вот тогда-то Бешметов совершил главный поступок своей жизни.
Что заставило его броситься между Скобелевым и набегавшим турком, он так и не сумел себе объяснить ни сразу, ни за всю прошедшую после Плевны жизнь. Какая-то сила сорвала Дениса с места и толкнула прямо под лезвие. Проткнув грудь, штык застрял между ребрами, и пока турок пытался его выдернуть, Скобелев ударом сабли отправил правоверного к Аллаху.
В ту же минуту раздалось мощное «ура!». Подоспел князь Имеретинский с двумя батальонами румынской пехоты. Турки были отброшены, а Скобелев, в заляпанном кровью белом мундире, но без единой царапины, вернулся в расположение своих войск.
В пылу боя никто не обратил внимания на поступок рядового Бешметова. Никто, кроме генерала Скобелева. По его личному распоряжению смертельно раненного солдата уложили на носилки и доставили в лазарет.
– Надежды мало, – объяснил врач адъютанту Белого генерала. – Но я за эту кампанию видел столько необыкновенных излечений, что чудо стало для меня частью медицинской реальности.
Бешметов впал в беспамятство и пролежал в таком состоянии два дня. На третий он открыл глаза и ровным голосом попросил воды. К тому времени, когда русская армия разбила последние турецкие части, заслонявшие дорогу на Стамбул, и Балканская кампания завершилась поражением Османской империи, нижний чин Бешметов был комиссован подчистую.
Перед отправкой домой его нашел адъютант Скобелева.
– Михаил Дмитриевич сейчас в штабе армии и не может лично выразить свою благодарность, – сказал он, вручая Бешметову плотно заклеенный пакет с сургучными печатями. – Передай этот пакет киевскому губернатору. Он товарищ Михаила Дмитриевича по Хивинскому походу и найдет тебе пожизненную службу в одном из городов губернии.
Так Денис Бешметов оказался в Радомысле и прослужил, вернее пробездельничал, тридцать лет в конторе уездного воинского начальника. Киевский губернатор, передавая дела преемнику, упомянул протеже Скобелева. Белый генерал к тому времени стал национальным героем, и на его протеже падала тень восторга и преклонения.
Таинственная смерть Скобелева и ходившие вокруг нее кривотолки придали его просьбе позаботиться о солдате-спасителе силу завещания.
Денис поначалу расстраивался, что его подвиг остался без награды. Ни Георгия, ни медали за храбрость, ни даже «В память русско-турецкой войны 1877–1878» – ничего! Попытки похвастаться, а без этого было трудно, почти невозможно вспоминать Плевну, каждый раз упирались в глухую стену неверия. «Если ты такой герой, где же награда?» – говорили, нет, кричали глаза собеседников. В конце концов Бешметов бросил попытки поделиться и похоронил бой под Плевной в своем сердце.
Позже, много позже, спустя долгие сытые годы, Бешметов понял, что вместо бесполезной цацки на ленточке генерал Скобелев подарил ему жизнь. Да, всю эту длинную уютную жизнь, с ласковыми восходами и безмятежными сумерками у самовара, с весенним, засыпанным яблоневым цветом Радомыслем и сладким телом спящей рядом жены. Всем счастьем своим и всем своим покоем Денис был обязан Скобелеву, даровавшему своему спасителю жизнь в обмен на жизнь.
По дороге из Радомысля в Киев Франц-Иосиф пробовал было помыкать подопечным, но Аарон по простоте душевной не понимал, чего тот от него хочет, и попытки сами собой прекратились. Да и особенно наваливаться Франц-Иосиф опасался, Мышлаевский дал строгое указание уважительно обращаться с сопровождаемым.
– Шапиро находится под личным покровительством великого князя, – предостерег он, и Франц-Иосиф, знавший на примере собственной судьбы, как сильные мира сего могут изменить жизнь простого человека, смотрел на Аарона и с завистью, и с сожалением.
Зависть к молодости, силе, красоте еврейчика постепенно наполняла его желтой изжогой раздражения. С другой стороны, наблюдая дремучую наивность Аарона, Франц-Иосиф предвидел многочисленные шишки и, будучи по натуре человеком добрым, жалел парня.
Из Чернобыля они выехали ранним утром, чтобы попасть в Киев до темноты. От Припяти волнами накатывались запахи утренней воды и мокрых лип, ветерок сдувал росу с ветвей придорожных ветел прямо на коляску. Шапиро скрючился на сиденье, точно смертник, ожидающий шагов в коридоре в ночь перед казнью. Еще бы, Франц-Иосиф слышал бабий вой, с которым его провожали. Так плачут на похоронах по умершему. Видимо, по обычаям этого племени юноша, отбывающий в армию, превращался в покойника.
От Чернобыля до Киева без малого сто тридцать верст, день дороги, и весь этот день Франц-Иосиф, как мог, пытался успокоить юношу. И хоть он сам до ранения успел прослужить в армии без году неделя, сразу угодив под Плевну, удивительный оптический прибор его памяти произвел серьезную нивелировку событий. Дорвавшись до терпеливого и – главное – неискушенного в армейских делах слушателя, Франц-Иосиф целый день запоем рассказывал о службе.
Честно говоря, он просто пересказывал слышанные от других истории из солдатской жизни. Описывал Скобелева, несущегося на белом коне в самую гущу сражения, и себя самого, верного спутника Белого генерала.
Спустя два часа Аарон размяк, спустя три начал успокаиваться, а на подъезде к Киеву пришел в нормальное расположение духа. И тут большой город навалился на него, как медведь на зайчика. К счастью, до отправления поезда на Петербург оставалось не так много времени, и Киеву пришлось разжать свои объятия. Спустя четыре часа Франц-Иосиф и Аарон уже сидели друг напротив друга в качающемся вагоне, наблюдая в окно проносящиеся мимо виды, окрашенные оранжевой краской заката.
Поезд поразил Аарона больше Киева. Вернее, два впечатления, наложившись друг на друга, ошеломили провинциала. Восторг и удивление сменила подавленность, и Франц-Иосиф решил, что настало время ужина.
– В армейской кухне нет таких разносолов, – иронически произнес он, наблюдая, как Шапиро вытаскивает из заплечного мешка сверток с едой. – Щи да каша – пища наша, – назидательно произнес он, извлекая из своего мешка бутылку водки и нехитрую закуску. – А про свою еврейскую еду забудь и думать.
– Я знаю, – грустно ответил Аарон.
– Вот сейчас возьмем по стакану, и сразу все наладится, – пообещал Франц-Иосиф, откупоривая бутылку.
– Я не пью.
– Нет такого, – возразил Франц-Иосиф. – На флоте все пьют, каждый день отчизна наливает. Привыкай!
Аарон послушно выпил, моментально захмелел и через четверть часа уже спал, повернувшись лицом к стенке. А Франц-Иосиф еще долго сидел, уставившись в темноту за окном, не торопясь, в охотку и с удовольствием опустошая бутылку.
На вокзале в Петербурге и по дороге к Старо-Калинкиному мосту, откуда уходил катер на Кронштадт, Франц-Иосиф все время поглядывал на подопечного. Он явно ожидал гримасы восторга и удивления, но Аарон собрался с духом и, хотя Петербург его потряс больше, чем Киев и поезд вместе взятые, виду не подавал. Не очень-то приятно, когда на тебя смотрят свысока и каждое проявление восторга сопровождают снисходительными репликами.
При виде реки его напускное спокойствие словно ветром сдуло, а когда катер, покачиваясь на волне, вышел из Фонтанки и, направляясь к Кронштадту, двинулся прямо в глубину Финского залива, Аарон просто онемел. Он застыл возле левого борта, вцепившись в поручень, с выражением такого восторга на лице, что стоящий рядом офицер спросил:
– Первый раз море видишь?
– Да! Это… это… это…
Аарон глубоко вдохнул и отер невольно набежавшие на глаза слезы.
– Не привык к морскому ветру? – с доброй улыбкой спросил офицер. Украшавшие его лицо флотские усы не шли ни в какое сравнение с усами Франца-Иосифа.
– Это от моря. Оно так прекрасно, что хочется плакать.
– Куда направляешься?
– В Кронштадтскую школу водолазов, – отрапортовал Франц-Иосиф. – Денис Бешметов, по указанию уездного воинского начальника Радомысля сопровождаю мобилизованного.
– Вот как! – сказал офицер, внимательно глядя на Аарона. – В школу водолазов, значит. А как фамилия?
– Шапиро Аарон.
– Артем?
– Аарон.
– Артем, – еще раз улыбнулся офицер, подводя конец дискуссии. – Я капитан второго ранга фон Шульц, командир школы водолазов. Мне по душе матросы, которые плачут от восторга при виде моря. Александр Михайлович про тебя уже отписал. Вижу, не ошибся великий князь и не зря взял под свое покровительство. Александр Михайлович сам возвышенная душа и видит достойных.
Он окинул взглядом Аарона и добавил:
– Думаю, медицинское освидетельствование ты пройдешь без сучка и задоринки. Добро пожаловать, – он сделал многозначительную паузу, – Артем Шапиро.
Поездка длилась около трех часов. День выдался солнечный, необозримая синева морской глади моря сливалась с яркой голубизной неба. Артем, не отрываясь, смотрел на эту безграничную ширь и, глубоко вдыхая соленый воздух, думал о… Чернобыле.
Известие о призыве взорвалось в его доме, словно артиллерийский снаряд. Двора-Лея, отрыдав вечер и ночь, утром бросилась на поиски спасения. Быстро выяснилось, что поделать ничего нельзя, даже за самые большие деньги.
– Ты что, собираешься дать взятку члену императорской фамилии? – укоризненно спросил Двору-Лею глава общины. – Твоего сына мобилизуют по прямому указанию великого князя.
– Какой еще великий князь, – возмущенно закудахтала Двора-Лея. – Откуда ему знать о моем Арончике?!
Выслушав историю о чудесном спасении лошади и бочки, она ударила себя кулаками по голове и разрыдалась.
– Вот и делай после этого добро людям, – причитала она, раскачиваясь, словно плакальщица на похоронах. – Где правда, где справедливость?!
– Ничего не случится с твоим Аароном, – попробовал утешить ее глава общины. – Парень он крепкий, даже богатырский. Послужит царю и вернется, зато со всеми привилегиями.
– Своим детям делай такие привилегии, – завопила Двора-Лея. – У тебя шестеро сыновей, вот и отправил бы одного царю послужить! А у меня единственный ребенок, один-единственный сыночек – и его отдай!
Поняв, что обычным путем ничего не получится, Двора-Лея приказала мужу отвести ее к цадику.
– Ребе сейчас не принимает, – ответил Лейзер.
Поднявшийся в ответ смерч подхватил незадачливого служку и вместе с женой перенес в кабинет ребе Шломо Бенциона. При виде пылающей от гнева Дворы-Леи и белого от стыда и унижения Лейзера цадик молча указал им на стулья перед своим столом, а затем – на графин с водой.
– Итак, – спросил он, когда Двора-Лея, осушив два стакана, немного успокоилась. – О каком разделе Мишны идет речь?
– Я понимаю, что ребе думает только о разделах Учения, – скороговоркой начала Двора-Лея. – Но к нам пришла большая беда! Большая, настоящая беда!
Цадик слушал не перебивая. Когда через десять минут Двора-Лея, три раза высказав, что она думает о главе общины, великом князе и стечении обстоятельств, наконец, смолкла, ребе Шломо Бенцион вытащил из ящика стола книгу в потертом от времени черном кожаном переплете и спросил:
– Значит, на Бога жалуемся?
– Почему на Бога? – вытаращила глаза Двора-Лея.
– А больше не на кого. Кроме Него, никто не виноват.
– Ребе, умоляю, спасите моего мальчика! – слезы брызнули из глаз женщины с такой силой, словно она плакала первый раз в жизни. – Он же пропадет на этой службе!
– Давайте посмотрим, можно ли что-нибудь изменить, – сказал ребе, открывая книгу. Он откинулся на спинку кресла, пристроил локти на обтянутых мягким бархатом подлокотниках и углубился в чтение.
Прошло пять, десять, двадцать минут. Ребе читал с величайшим увлечением, ни на миг не отрывая глаз от книги. Иногда он перелистывал страницы назад, иногда заглядывал вперед. На его лице отражались то изумление, то грусть, то сосредоточенное внимание.
Двора-Лея, вопросительно подняв брови, тихонько толкнула ногой мужа.
– Книга «Зогар», – беззвучно прошептал он.
Прошло еще несколько томительных минут. Наконец ребе отодвинул книгу, прикрыл ладонью глаза и застыл. Двора-Лея приготовилась к очередному долгому ожиданию, но ребе почти сразу опустил руку и заговорил свежим ясным голосом:
– Вытри слезы, Двора-Лея. Служба окажется непростой. Иногда опасной. Но все закончится хорошо. Твоему сыну предстоит длинная жизнь. Думаю, ее можно назвать счастливой. Много всякого в ней случится, даже клад с золотыми монетами. И вот что передай Аарону. Нормальной еды у него не будет. Пусть ест ту, что дают. Но не обгладывает кости.
Все подробности разговора с ребе Аарон выведал частично у матери, частично у отца.
– Не обгладывать кости, – объяснила Двора-Лея сыну, – значит не наваливаться на еду с аппетитом, есть только для поддержки тела.
– В книге «Зогар» скрыт свет Всевышнего, – добавил Лейзер. – Цадик проникается им, а потом переводит свой взгляд на нужный предмет и видит прошлое и будущее.
На подходе к Кронштадту поднялся ветер. Волны с шумом били в борт катера, и от этого шума волнение в душе Аарона начало стихать. В памяти всплыло отодвинутое дорожными впечатлениями заверение цадика, что все будет хорошо, и он успокоился.
Справа потихоньку всплывал из воды остров. Сначала показались вершины колоколен и величественный купол собора, затем красный маяк и громады кораблей на рейде.
По левому борту катера приближалось внушительное сооружение: прямо из моря поднимались высокие земляные валы, на них стены из рыжего кирпича и шесть серых башен с торчащими стволами орудий.
– Это Кронштадт? – спросил Аарон офицера.
– Нет, форт Милютин. Видишь броневые башни?
Аарон кивнул.
– Лучшая в мире защита. Ни в одной стране нет такой мощной оборонительной системы! – с нескрываемой гордостью произнес Шульц.
Оглядев промокшую от брызг одежду Аарона, спросил:
– Замерз?
И вправду, несмотря на жаркую июльскую погоду, Аарон изрядно продрог.
– Немного.
– Давай спустимся в кают-компанию, выпьешь чарку, согреешься.
– Я не пью, – ответил Аарон.
– Похвально, – одобрил Шульц. – Весьма похвально.
Катер начал швартоваться. По улице, параллельной пристани, шла строем рота гардемаринов в черной флотской форме. В ярких лучах полуденного солнца сияли золотые нашивки черных бушлатов, черные ленточки с медными якорями вились за черными бескозырками, на черных лакированных поясах раскачивались палаши в черненых ножнах, дружно отбивали шаг ноги в черных ботинках. До чего же все это было красиво!
– Нравится? – спросил Шульц.
– Очень!
– Даст Бог, скоро и ты наденешь флотскую форму. Пойдем, я как раз иду в расположение отряда.
Школа располагалась в длинном двухэтажном здании на Якорной площади. Сложенное из красного кирпича и декорированное белым камнем, оно приятно радовало глаз. Аарон невольно залюбовался белыми квадратными псевдоколоннами, дугами белых арок над окнами с рамами в частую клетку, круглой башней при входе. В Чернобыле таких зданий не было, и, если бы его спросили, он бы с уверенностью сказал, что там помещается канцелярия губернатора или другого важного сановника, но никак не воинское подразделение.
Вахтенный при виде Шульца вытянулся во фрунт, его лицо побледнело и сделалось неподвижным, только глаза чуть выкатились от усердия. Второй вахтенный, подбежав, отдал честь и бодро зачастил:
– Разрешите доложить…
Шульц остановил его движением руки:
– Вот наш новый матрос, Артем Шапиро. Отведи его на медосмотр, а после освидетельствования оформи по всем правилам. Сопровождающего, – Шульц указал подбородком на Франца-Иосифа, – проводи на обед в столовую, а затем в канцелярию, пусть ему выпишут пропуск на обратную дорогу. И пусть в канцелярии поторопятся, он должен успеть на послеполуденный катер.
Спустя десять минут, перейдя вслед за вахтенным обширный внутренний двор школы, Аарон, вернее Артем, оказался в прохладной комнате лазарета.
– Михаила Николаевича сегодня уже не будет, – объяснила сестра милосердия, пышная миловидная девушка в кокетливо сдвинутой набок шапочке с красным крестом.
– Но кавторанг велел произвести осмотр сегодня! – воскликнул вахтенный. – Машенька, придумай что-нибудь, мне Артема надо еще через каптерку провести и в казарме устроить.
– Ну что я могу придумать? – развела руками Маша, сверкнув зеленоватыми, слегка раскосыми глазами. – Вот если Варвара Петровна согласится.
– Почему ей не согласиться? – спросил вахтенный. – Она ведь врач, как Михаил Николаевич.
Маша улыбнулась.
– Костя, одни умеют зарабатывать кессонную болезнь, а другие умеют ее лечить. Не суди о том, в чем не понимаешь. Варя моя близкая подруга, но она только начинающий врач, а Михаил Николаевич Храбростин – медицинское светило.
– Да ладно, – продолжал настаивать вахтенный, – посмотри на Артема. Тут без светила видно, что он годится в водолазы.
Маша поджала губки и уже хотела разразиться гневной филиппикой, как дверь, ведущая во внутренние помещения лазарета, отворилась и на пороге возникла молодая женщина в белом халате. Артем посмотрел на нее и обмер.
До сих пор он не обращал на девушек внимания. В еврейской общине Чернобыля существовал только один вид отношений между мужчиной и женщиной – супружество. Женились и выходили замуж рано, и, если бы не мобилизация, в этом году Артему предстояло встать под свадебный балдахин.
О любви никто не говорил, это чувство должно было возникнуть не до начала совместной жизни, а после, спустя год или два, когда, хорошо узнав друг друга и духовно, и физически, супруги начинали ценить доставляемую партнером радость. Если же радости не возникало, то, по крайней мере, появлялась привычка к удобствам совместного существования.
Чернобыльские девушки совершенно не волновали Артема, для него все они были на одно лицо. Поэтому с какой из них встать под свадебный балдахин – большого значения не имело. Он доверял родителям и был уверен, что они, желая ему добра, хорошенечко проверят возможных кандидаток и выберут самую лучшую.
Увидев Варвару Петровну, он за одно мгновение понял, насколько правдивы истории про безумства любви, которые он иногда слышал краем уха от иноверцев.
На ее лице Артем сразу различил и задумчивость, и трепетную, еще ни с кем не разделенную нежность, и девическую чистоту. Высокий лоб, лазурные глаза, матовая кожа, небольшой, чуть вздернутый носик, соболиные брови, маленькие ушки, чуть прикрытые коротко остриженными волосами цвета спелой пшеницы. Сердце мягко повернулось в его груди и улеглось, найдя новое, более правильное место.
– Варвара Петровна, вот новый матрос для медицинского освидетельствования, – бодро начала Маша и осеклась, заметив необычное выражение на лице подруги. Переведя взгляд на Артема, она увидела то же радостное изумление. Еще не зная, как себя вести в таком положении, она снова посмотрела на Варвару Петровну, но та успела овладеть собой и придать лицу обычное выражение.
Вся эта сцена заняла каких-нибудь несколько секунд, так что Маша даже начала сомневаться в увиденном.
«Мало ли, тени так легли или просто показалось», – подумала она.
– Храбростин будет только завтра, – ответила Варвара Петровна, изо всех сил стараясь говорить обычным голосом.
– Командир отряда просил провести осмотр сегодня, – вмешался ничего не заметивший вахтенный Костя.
– Какие-нибудь чрезвычайные обстоятельства? – спросила Варвара Петровна, усаживаясь за стол Храбростина. Ей стало тяжело стоять, не держали ноги. На нее вдруг накатило то, о чем она только читала в книгах и была уверена, что все это досужие выдумки романистов. Жаркое томление души, быстрый ток горячей крови, смутная путаница мыслей – теперь это происходило не с литературными героями, а с ней самой.
– Не могу знать, – отрапортовал вахтенный. – Кавторанг лично распорядился сопроводить матроса Шапиро к вам на освидетельствование.
– Разве можно отказать Максу Константиновичу, – ответила Варвара Петровна. – Костя, покинь, пожалуйста, кабинет на время осмотра. А вас, – она перевела взгляд на Артема, – я попрошу присесть вот сюда, к столу.
Артем послушно уселся на стул, Маша стала возле врача, а Костя быстро вышел, плотно прикрыв за собой дверь.
– Прежде чем приступить к осмотру, – начала Варвара Петровна, – я хочу предупредить вас и провести устный опрос. Труд водолаза относится к категории тяжелых, поэтому в отряд мы принимает только полностью здоровых людей. Вы подвержены частым головным болям?
– Нет, у меня еще ни разу в жизни не болела голова.
– Вы не страдаете от шума в ушах?
– Нет.
– Вам доводилось отхаркивать кровью?
– Боже упаси, никогда!
– Бывают боли в груди?
– Нет.
– Болеете венерическими болезнями?
Артем покраснел. Варвара Петровна тоже.
– Понимаете, по нашим законам то, от чего возможно заработать такую болезнь, разрешается лишь с женой. И поскольку я не женат…
– Значит, вы девственник? – спросила Варвара Петровна, из красной становясь пунцовой.
– Да, – опустил глаза Артем.
– Как часто пьете водку или другие алкогольные напитки и сколько за один прием?
– Я вообще не пью.
– Ну что ж, давайте начнем осмотр. Обнажитесь до пояса.
Когда Артем разделся, Маша и Варвара Петровна переглянулись. Им было на что посмотреть, по причудливой воле Небес торс Артема напоминал торсы классических статуй Праксителя.
Через десять минут выслушивания через стетоскоп и осторожного простукивания кончиками пальцев Варвара Петровна вернулась за стол заполнять формуляр.
– Можешь одеваться, – сказала Маша. Это «ты» самым красноречивым образом сообщило Артему, что осмотр успешно завершен и он принят в Кронштадтскую школу водолазов.
Варвара Петровна заполнила формуляр и попросила Машу:
– Позови, пожалуйста, вахтенного.
– Рада сообщить, – продолжила она, обращаясь к Артему, после того как Костя вернулся в кабинет, – что вы абсолютно здоровы и можете приступить к обучению. Возвращайтесь в казарму и доложите дежурному по отряду, что успешно прошли медосмотр.
Артем с трудом попрощался и вышел вслед за вахтенным. Жгучий жар сапфирового солнца навалился ему на плечи. Лазоревая чистота неба вдруг сгустилась до сумерек изумрудной зелени. Артем замедлил шаги и несколько раз глубоко вздохнул.
Варвара Петровна поразила его не меньше, чем море. Но про море он по крайней мере что-то слышал и немного представлял, как оно может выглядеть. И хоть на деле простор и красота моря отличались от его представления о них, но все-таки шока неожиданности он не испытал.
Девушек и женщин он видел тысячи, десятки тысяч раз, уж тут-то ничего нового оказаться не могло. И тем не менее оказалось. Незнакомое доселе ощущение исходило из повернувшего в иное положение сердца, и он еще не понимал, как со всем этим справляться и как теперь жить.
Небо просветлело, солнце из сапфирового снова стало желтым, дыхание вернулось к нормальному, и он услышал слова ничего не заметившего вахтенного:
– Что, брат, глаза вылупил? Ошалел небось от такой фамильярности? Да, у нас тут так, ни справок, ни казенных рапортов, все на словах, все на доверии. Это потому, что дело наше водолазное только на доверии и держится. Когда уходишь под воду, надо полностью доверять тем, кто остался наверху, до конца на них полагаться, а им – на тебя внизу. Иначе ни черта из работы не получится. Мы тут все – одна большая семья: и офицеры, и врачи, и матросы. А Макс Константинович просто отец родной, я тебе говорю! Докторша наша, не смотри, что молодая, ух, какая вострая! Она не только медицинский институт для женщин окончила, а посещала академика Павлова в Военно-медицинской академии. Во как! Академик ее к нам и рекомендовал вольнонаемным младшим врачом. Для изучения, как это… – он почесал в затылке, – а, физиологии подводных погружений. Вот ты ныряешь себе и знать не ведаешь, как это мудрено зовется!
Артем ничего не ответил. В Чернобыле он не успел столкнуться ни со справками, ни с казенными рапортами, ни с каким-либо другим проявлением чиновной бюрократии. Отношения между людьми в еврейской общине очень походили на то, чем сейчас хвалился вахтенный.
К счастью или несчастью, все зависит от взгляда. Артем просто не знал другого типа отношений. Ему, наивному юноше, выросшему под крылом заботливой матери и за оградой общинной поруки, только предстояло вкусить горечь несправедливых обид, презрительного высокомерия и унижающей надменности.
Проходя мимо низкого забора, огораживающего какое-то сооружение посреди двора, вахтенный дружески ухватил Артема за рукав и повел к воротам.
– Пойдем, покажу. Ты уже наш, так что можно.
Отперев замок, он провел Артема внутрь к устью большого колодца, прикрытого толстой деревянной крышкой.
– Помоги, – коротко бросил вахтенный, берясь за бронзовую ручку на крышке.
Артем ухватился за другую, вдвоем они легко сняли крышку и положили ее на вымощенный кирпичом пол.
– Колодец? – спросил Артем, заглядывая через край.
– Нет, бак для погружений, – воскликнул вахтенный. – Целых две сажени[1] глубиной! Как только тебя обучат пользоваться водолазным аппаратом, будешь сюда погружаться каждый божий день. Зимой и летом, в снег и в дождь, ломать ломом лед и погружаться.
– А зачем так часто? – удивился Артем.
– Затем, чтобы аппарат стал частью твоего тела. Чтобы не думать, какой вентиль покрутить и какой шланг расправить, а делать это, как ухо чешешь – не задумываясь.
– А ты уже научился?
– Да! Ночью меня разбуди, в ботинки могу не попасть, а аппарат с закрытыми глазами нацеплю: бултых! – и поминай, как звали.
– То есть? – не понял Артем. – Зачем тебя поминать?
– Ну, это так говорят. В смысле, нырнул и уплыл. К примеру, требуется ко вражескому кораблю незаметно подобраться и мину поставить или другое важное задание выполнить. Для этого надо себя под водой чувствовать, как за столом у тещи на блинах.
– Я не боюсь воды, – сказал Артем, перевешиваясь через край и касаясь рукой прохладной глади. – Я на Припяти вырос, на речке нашей. Купаться обожаю, особенно люблю нырять.
– Вот теперь и накупаешься, – улыбнулся вахтенный. – А то, что нырять любишь, это просто здорово. Сколько можешь под водой просидеть?
– Долго, – ответил Артем.
– Долго у тебя – это сколько? Минута, две, три?
– Не знаю, никогда не мерял. Часов-то у меня нет.
– О, хорошо, что про часы вспомнил. Заболтались мы с тобой. Пошли скорей в каптерку, надо тебе форму получить и прочее матросское имущество.
Спустя час, уже облаченный в форму, с вещмешком, туго набитым всяческим добром, назначения доброй половины которого Артем не понимал, он был представлен дежурному по отряду – старшему водолазу Ефиму Бочкаренко.
Тот и в самом деле походил на бочку: кряжистый, широкоплечий, с круглой, выпирающей грудью, обтянутой синей фланелевой рубахой, в широком вырезе которой виднелись полосы тельняшки. Бескозырка была чуть сдвинута набок, пряжка пояса сияла, словно золотая, стрелки наутюженных брючин упирались в расчищенные до блеска черные ботинки.
Артем получил такое же обмундирование, только сидело оно на нем косо и неуклюже. Подойдя к Бочкаренко, он вскинул руку к бескозырке и доложил:
– Матрос Шапиро прибыл в расположение отряда.
Эту фразу и жест он десять минут репетировал с Костей и, судя по его довольному лицу, репетиция не прошла даром.
Бочкаренко небрежно козырнул в ответ и тяжелым, точно каменным шагом обошел вокруг матроса. Сделав полный круг, он остановился напротив и, раскачиваясь с носка на пятку, произнес:
– Гюйс поправить, ремень подтянуть, пряжку надраить, брюки выгладить, ботинки чтоб сверкали. Вопросы есть?
– Вопросов нет, – весело отозвался Костя. – Сколько на все про все?
– Часа хватит. Веди парня в кубрик, покажи, как управляться, и койку ему определи. Через час вернетесь для проверки.
Он пригладил плоские, коротко подстриженные усики, плохо подходящие к размерам его лица, и приказал:
– Исполнять!
Вахтенный чуть не бегом двинулся к двери. Артем в новых, жмущих ботинках едва поспевал за ним.
Кубриком называлось большое помещение, занимавшее половину первого этажа здания. Солнце через высокие стрельчатые окна заливало светом два ряда коек, большей частью пустых.
– Почти весь отряд в Севастополе, – пояснил вахтенный. – Отрабатывают спуски на разные глубины. В Кронштадте только новенькие да пара бедолаг, вроде меня и Ефима Семеновича. Ну ничего, через три недели приедет смена, и мы с ним покатим на Черное море, делом заниматься.
– Вот эту бери. – Он указал на крайнюю в ряду койку. – Она не занята. И пойдем, покажу, где у нас щетки и вакса. Начнем с ботинок.
– Он всегда такой сердитый, этот Бочкаренко? – спросил Артем, надраивая ботинок.
– Да брось, это он перед новеньким делается! – улыбнулся вахтенный. – Ефим – душа-человек, за ребят горой. И первый, если что, на помощь придет. Скоро сам увидишь.
– А почему у него усы такие маленькие? – не удержался от вопроса Артем.
– Не маленькие, а плоские. Водолазные у Ефима усы. Вообще-то правила бороду и усы водолазам запрещают, они в шлеме помеха, но для самых старших и опытных делают исключение.
– Значит, усы – это знак отличия, вроде Георгиевского креста?
– Понимаешь правильно, только мерка не та, скромнее мерка. Но если видишь водолаза с усами, знай – перед тобой один из лучших.
Вахтенный провел пальцем по гладко выбритой коже над верхней губой и сокрушенно развел руками – не заслужил.
Когда большие часы на стене кубрика начали отбивать полный час, вахтенный и Артем уже мчались обратно к старшему водолазу.
– А ты ловкий, – уважительно заметил Костя. – Руки на месте и голова варит. Сходу все схватываешь.
– Да что тут хватать? – удивился Артем.
– Не скажи, не скажи. Иных я по часу учу койку застилать, а ты ее с первого раза в досточку заутюжил.
Старший водолаз Ефим Бочкаренко провел указательным пальцем по щеточке усов, снова обошел кругом матроса Шапиро и довольно улыбнулся.
– Теперь совсем другое дело!
Затем перевел взгляд на вахтенного и спросил:
– Как там положение с койкой?
– Полный ажур! – бодро отрапортовал Костя.
Бочкаренко протянул Артему руку и пробасил:
– Добро пожаловать в отряд, матрос Шапиро.
Артем осторожно пожал протянутую ладонь. Она была плотная и жесткая, твердые мозоли выступали, точно косточки абрикоса.
– Личный состав заканчивает занятия, – продолжил Бочкаренко, – и перед обедом будет проходить водные процедуры. Плавать умеешь?
– Да, умею.
– Отвечать как положено! – рявкнул Бочкаренко. – На военном языке вместо «да» отвечают – «так точно», а вместо «нет» – «никак нет». Плавать умеешь?
– Так точно!
– Молодец! – Бочкаренко поощрительно улыбнулся. – Значит, сразу и в воду. А пока я познакомлю тебя с перечнем дисциплин, которые ты будешь изучать. Читать и писать умеешь?
– Так точно! Но на еврейском языке.
– А по-русски?
– Никак нет!
– Плохо. Придется тебе рвать когти, иначе не справишься.
Бочкаренко окинул взглядом вытянувшуюся физиономию Артема и расхохотался.
– «Рвать когти» означает делать работу как можно быстрее. А совсем не то, о чем ты подумал.
Артем вздохнул с облегчением, глядя, как Костя тоже заулыбался во весь рот.
– Для того чтобы наизусть выучить наставление о спуске под воду, ты должен уметь его прочесть. Ну ничего, в число дисциплин входит обучение грамоте и письмо под диктовку. Вот тут ты и поднажмешь. Ночами не спи, но через три дня умей читать и писать. Ясно?
– Так точно!
– Помимо этого в программу водолазной школы входит арифметика, включая дроби. Знаешь, что такое дроби?
– Никак нет!
– Плохо. Без них ты не сможешь ознакомиться с основными законами физики, относящимися к водолазному делу. Знаешь, что такое физика?
– Никак нет!
Бочкаренко аж крякнул.
– И откуда такие дремучие люди, Костя?
– Так из Чернобыля, – ответил вахтенный.
– Придется взять парня на буксир, иначе хана, – пробасил старший водолаз. – Давай, принимай конец.
– Так точно! – с улыбкой ответил Костя. Он словно играл с Бочкаренко в какую-то пока непонятную Артему игру, и эта игра их веселила.
– Малограмотный, плохо знающий арифметику и не разбирающийся в основах физики матрос, – назидательно продолжил Бочкаренко, – не сумеет понять анатомические и физиологические сведения, нужные для понимания изменений в организме при спуске в воду, подъеме и пребывании на глубине. Ему будет не по силам освоить в должной степени минное дело, понять устройство подводной части корабля, он будет путаться в сборке и разборке водолазных аппаратов. А когда дело дойдет до практических занятий, вряд ли он сумеет правильно выполнять полную и рабочую проверку аппарата, безопасно спускаться под воду, вести такелажные работы, чинить резиновые части скафандров и должным образом хранить их.
Бочкаренко пригладил усы и перевел взгляд на вахтенного.
– Костя, отведи Артема в библиотеку. Пусть возьмет учебники. И через пятнадцать минут на построение. Да, по дороге загляни в санчасть, проверь, женский состав покинул расположение отряда или еще нет?
На построение перед бассейном явился весь личный состав школы водолазов – восемь крепких белобрысых парней с осоловевшими от учебы лицами. Они явно засиделись за партами во время занятий и хотели немного развлечься.
Бочкаренко оглядел шеренгу, выбрал подходящее по ранжиру место для Артема и указал пальцем:
– Станешь здесь.
Затем еще обвел глазами шеренгу и объявил:
– Это наш новый товарищ, Артем Шапиро. Прибыл сегодня. Многого еще не знает. Я рассчитываю на вашу поддержку и объяснения. Понятно?
– Так точно! – гаркнули восемь глоток.
– Вахтенный!
– Я! – вытянулся Костя, приложив руку к бескозырке.
– Санчасть пуста?
– Так точно!
– Личному составу приготовиться к водным процедурам.
Водолазы начали быстро раздеваться, складывая вещи перед собой прямо на плиты двора. Видимо, они не в первый раз проделывали эту процедуру и справились с ней куда быстрее Артема. Он еще стягивал с себя рубаху, а матросы уже стояли в одних портках, поблескивая на солнце нательными крестиками. Бросив косой взгляд на то, как уложена их форма, Артем привел свою в такой же вид и вернулся в строй.
– А крест твой где? – язвительно заметил сосед справа. Сейчас, когда форма не скрывала его тело, он походил на обезьяну из-за длинных, почти до колен ручищ и обилия черных волос.
– Да какой у яврея крест, – не менее ехидно отозвался сосед слева, высокий белобрысый парень с рельефно выдающимися грудными мышцами. – Евонный крест вниз головой между ногами болтается.
– Вот в том и разница между нами и нехристями, – рассудительно заметил «обезьян». – У кого Бог возле сердца, – и он закрыл ладонью нательный крест, – а у кого меткой на хере.
– Разговорчики в строю! – рявкнул Бочкаренко. – Отрабатываем задержку дыхания под водой. Лучший результат был вчера у Дмитрия Базыки – две минуты восемнадцать секунд. С него и начнем. Выполняй.
Обезьян вышел из строя и враскачку двинулся к баку. Легко вскочив на край, он несколько раз глубоко вздохнул и прыгнул. Брызгами обдало шеренгу, а Бочкаренко, недовольно поморщившись, смахнул капли с луковицы часов, которые держал в руке.
Солнце светило в затылок, свежий ветерок приятно холодил мокрую кожу, на крыше здания чем-то возмущаясь, гукали голуби. Время тянулось бесконечно. Наконец из бака раздался всплеск и громкий выдох. Бочкаренко объявил:
– Две минуты одиннадцать секунд. Следующий!
Базыка выбрался из бака, ладонями согнал воду с тела и вернулся в строй. Становясь на место, он то ли случайно, то ли умышленно задел мокрым боком Артема. Артем словно не заметил толчка, он с интересом ожидал, как будет прыгать в бак первый матрос из шеренги. Вид у него был богатырский: широкие плечи, квадратный, похожий на вырубленный из дуба, торс, длинные мощные ноги. Богатырь забрался на край бака, наклонился, взялся за торчащие из воды поручни, перебрался на лестницу и бесшумно скрылся под блестящей на солнце поверхностью. Эффектный прыжок Базыки на поверку оказался позерством.
«Минут пять просидит», – подумал Артем.
– Минута тридцать шесть секунд, – объявил Бочкаренко. – Следующий!
После каждого результата Базыка самодовольно усмехался. Очередь близилась к Артему, но ни одному из матросов так и не удалось добраться до двух минут.
– Не досраться вам до меня, – пробубнил Базыка. – Хоть раком, хоть каком, а не досраться.
– Да ладно тебе, Митяй, – отозвался белобрысый. – Кто с этим спорит…
Когда Артем, направляясь к баку, проходил мимо Бочкаренко, тот негромко произнес:
– Под водой держись за скобу.
Вода оказалась довольно холодной, и, спускаясь по лестнице, Артем понял, что долго просидеть не удастся. Погрузившись, он воспользовался советом Бочкаренко и, крепко ухватившись за скобу, стал вспоминать родную Припять летом.
Ему всегда нравились прибрежные ивы, окунающие свои ветки в тягучие воды реки. Под их кронами царила затейливая игра тени и солнечных лучей. По мановению ветерка свисающая зелень пропускала или закрывала свет, и покрытая мхом земля из сумрачной поверхности болота в мгновение ока превращалась в искрящийся изумрудный ковер. Эта световая чехарда то подсвечивала очертания, то скрывала их, то наводила резкость, то смазывала.
Просторные чаши омутов, где вода надолго застывала, словно успокаиваясь, утром и вечером казались черными из-за бездонной глубины, но в полдень солнце пробивало их насквозь, высвечивая коряги на не таком уж далеком дне.
Резво бегущие облака накрывали зыбкой тенью прохладные пестрые лощины, тесный мир песчаных откосов, узких пещерок, вырытых ящерицами. Припять была всегда: ее валуны, перекаты, ивы, камыши, дрожащий нагретый воздух, ленивая вода казались незыблемыми, вечными, непреложными. До тех пор, пока облака не отплывали в сторону, – и тогда всё менялось, плыло, бежало взапуски с полосами света и наплывами тени.
Артем хотел посидеть еще немного, как вдруг чье-то тело с шумом пробило воду, кто-то уцепил его за руку и потащил вверх. Артем послушно отпустил скобу и всплыл. Рядом над поверхностью воды торчала голова Кости.
– Что случилось? – удивился Артем.
– Что? – отфыркиваясь, прокричал Костя. – Тебя, оболтуса, не было больше четырех минут. Мы решили – потоп новобранец!
– Да я бы еще сидел, – ответил Артем, ухватываясь за поручни.
– Четыре минуты тридцать пять секунд, – возвестил Бочкаренко. – Я такого еще не видел. Откуда ты к нам приехал, парень?
– Так из Чернобыля, – ответил за него вахтенный.
Покатился, задрожал на ухабах день, нескончаемый, переполненный новыми правилами, словечками, лицами. Артем слегка терялся посреди такого обилия новшеств, но цепкая молодая память впитывала и впитывала в себя сведения, моментально вытаскивая на поверхность все, что попало в ее сети.
Ему было хорошо. Почему, отчего, по какой причине – поначалу Артем не мог понять. Мир был ему люб, и он был люб этому миру. Миру, где совсем рядом находилась удивительная, прекрасная и недоступная даже в мыслях доктор Варвара Петровна, при одном упоминании имени которой по спине начинали бегать мурашки, а сердце сладостно сжималось. Артем любил первый раз в жизни, и томительная волна первой любви накрыла его с головой, сразу и бесповоротно.
Свободный час перед сном каждый тратил по своему разумению. Большинство матросов просто завалились на койки и, лениво переговариваясь, отдыхали, коротая время до отбоя. Артем сидел за столом с букварем русского языка, жадно впитывая страницу за страницей. После пяти лет в ешиве разобраться в правилах чтения по букварю казалось ему легче легкого.
Дойдя до буквы «с», он вдруг вспомнил, как зубрил наизусть страницы Талмуда «под иголку». Проверяли так: экзаменуемый читал вслух по памяти написанное на странице, проверяющий останавливал его в любом месте и спрашивал, какое слово находится на оборотной стороне листа, если проткнуть его иголкой. При правильном ответе требовалось продолжить чтение наизусть с оборотной стороны, пока проверяющий опять не останавливал, возвращая с помощью «иголки» на лицевую.
Артем не был в числе лучших учеников, но даже он знал под иголку пару десятков листов. Запомнить написание тридцати двух букв и понять, как из них складываются слова, было совсем несложно.
Он уже добрался до буквы «ю», когда кто-то бесцеремонно толкнул его в плечо.
– Пойдем выйдем.
Перед ним стоял белобрысый сосед по шеренге, а рядом с ним богатырь, первым после Базыки спустившийся в бак. Сам Базыка стоял чуть поодаль с ухмылкой наблюдая за происходившим.
– А в чем дело? – осторожно спросил Артем.
– Поговорить надо.
– Разве тут нельзя?
– Тут несподручно.
– Ладно.
Направляясь к выходу из кубрика, Артем сообразил, что дело идет к драке. Почему, отчего – непонятно, но судя по тону и виду парней, без нее не обойтись. В детстве ему приходилось тузить чернобыльских мальчишек, желавших потаскать жиденка за пейсы. Правда, эти мальчишеские схватки трудно было назвать настоящими драками, а вот сейчас намечалось нечто действительно серьезное.
Не успел Артем выйти из кубрика, как богатырь и белобрысый крепко ухватили его за руки. Он не стал вырываться, решив подождать, что за этим последует.
Развинченной походкой из кубрика вышел Базыка. Остановившись напротив Артема, он презрительно сплюнул под ноги и произнес:
– Прописку оформляй, жидок.
Чуть напружинив руки, Артем понял, что может резким толчком стукнуть лбами богатыря и белобрысого. Но сначала спросил:
– А что такое прописка?
– Купишь завтра штоф, закуски хорошей, угостишь старожилов.
– А если не куплю?
– Тогда не жалуйся. Мы тебе предлагаем по-хорошему, а ты выбираешь по-плохому.
Внезапно дверь кубрика распахнулась, и рядом с Базыкой возник Бочкаренко. Судя по его разгневанному лицу, он все слышал.
– Это что еще за прописка?! – рявкнул он. – Прилепа и Шоронов, немедленно отпустить Шапиро! Базыка, ты сам в отряде без году неделя, молоко на губах не обсохло. Марш в кубрик! И если кто новобранца пальцем тронет, вылетит из отряда, как заглушка из кингстона!
Утром, после побудки и умывания, Бочкаренко выстроил личный состав во дворе напротив бака. Пригладив усы, он медленно прошелся вдоль шеренги, внимательно оглядывая каждого матроса. Взгляд у него был колючий и острый, точно края битого стекла.
– Вот путь человека, – начал Бочкаренко немного хриплым после ночи голосом, – родиться, прожить жизнь и умереть. Можно прожить ее абы как, а можно со смыслом. Если человек служит Отечеству и умирает за государя императора, жизнь его приобретает высокий, особый смысл.
Бочкаренко сделал длинную паузу, водя взглядом по лицам матросов. Те стояли навытяжку, боясь шевельнуться. Ни тон, ни смысл слов старшего водолаза не предвещали ничего хорошего.
– Базыка, Прилепа и Шоронов три шага вперед! – приказал Бочкаренко.
Матросы вышли из строя и замерли, вытянувшись по стойке смирно.
– Мы все здесь водолазы его величества государя императора, – продолжил Бочкаренко. – И мы должны не просто знать, а зарубить себе на носу, что жизнь каждого из нас зависит от слаженной и умелой работы его товарищей. В нашем отряде нет национальностей, нет рас, нет различий, мы все водолазы и служим государю. Вчера я был свидетелем весьма прискорбного случая. Не буду о нем говорить, думаю, что всем известно, о чем идет речь. Всем известно?
– Так точно! – рявкнули матросы.
– Когда водолаз уходит под воду, он должен быть абсолютно уверен в товарищах, которые остались наверху. Скажу без преувеличения, его жизнь – в их руках. Я многажды убедился в этом на своей собственной шкуре.
Бочкаренко пригладил усы, замолк на несколько долгих секунд, а потом продолжил почти отеческим тоном.
– Вы, наверное, успели заметить, что в нашем отряде все не так, как в других местах. Мы не просто делаем одно дело, мы семья. Без братской заботы друг о друге половина из нас останется под водой. Пока вы это плохо понимаете, но это только до первого погружения на глубину. Глубина быстро мозги прочищает. А пока, – Бочкаренко сменил тон и прищурил глаза. – Пока вы сами не докумекали, выполняйте мой приказ. Предупреждаю, если я еще раз замечу нечто, подобное вчерашнему, виновники будут в тот же день отчислены из отряда. Всем понятно?
– Так точно!
– Базыка, Прилепа и Шоронов, вернуться в строй.
Читать Артем научился за два дня. Почти все слова были ему знакомы, а запомнить буквы не составило труда. Большую часть времени начинающие водолазы проводили в учебном классе, и, к своему величайшему удивлению, Артем понял, что матросы с трудом читают по складам.
Занятия, сменяя друг друга, вели два лейтенанта. Первый обучал общей грамотности, каждый день рассказывая одно новое правило правописания. Для матросов грамматика была ужасной пыткой, но не для Артема. Ему нравился русский язык, нравилось разбираться в его правилах, нравилось узнавать новые слова.
Второй лейтенант обучал более конкретным вещам, объясняя особенности спусков под воду, подробно растолковывая изменения, происходящие в организме водолаза по мере погружения, пребывания на глубине и во время подъема. На его уроках было много трудных, интересных слов, объяснения требовалось записывать, учить наизусть и отвечать без запинки. Быстро выяснилось, что Артем лучше всех справляется с этой работой, к нему стали обращаться за помощью. Вскоре у него установились дружеские отношения со всеми матросами. Со всеми, кроме Базыки.
Тот никак не мог примириться с потерей звания лучшего ныряльщика. И хоть Артем во время ежедневных погружений в баке всплывал намного раньше, чем мог бы, стараясь не раздражать товарищей, все равно его результат был на целую минуту лучше других.
После погружения и обеда переходили в класс для практических занятий. Их вел Бочкаренко, сопровождая пояснения рассказами из обширного собственного опыта.
– Запомните, первое и главное дело водолаза есть умение правильно проверить аппарат перед погружением. Никому нельзя доверять, ни на кого нельзя полагаться. Только на свои пальцы и свои глаза. Любая неполадка может стоить вам жизни. А поэтому перед каждым спуском водолаз обязан лично провести полную проверку аппарата.
– Да, это занимает время. Да, не всегда оно есть, а начальство нервничает и всегда торопит. Но если вы захлебнетесь, оно просто пошлет вместо погибшего другого водолаза. Из-за неисправностей аппаратов я потерял трех товарищей и не хочу увеличивать этот счет. Вопросы есть?
Вопросов ни у кого не было. Авторитет Бочкаренко был непоколебим, каждое его слово матросы воспринимали как пророческое откровение.
– Если постоянно упражняться, – повторял Бочкаренко, – время проверки можно существенно сократить. Ни один из вас не выйдет из стен школы, пока не научится делать ее за пять-шесть минут.
После работы с аппаратами Бочкаренко учил матросов пользоваться водолазным аккумулятором Рукейроля и ремонтировать резиновые принадлежности скафандра. В кубрик возвращались еле живыми от усталости и, чуть придя в себя, принимались за повторение пройденного за день. С утра их ожидали безжалостные проверки, и горе тому, кто не мог правильно ответить на вопрос.
Артем чувствовал себя чужим. Хотя Бочкаренко вступился за него, устроив разнос, чтобы оградить от дальнейших приставаний, ничего, кроме личной признательности старшему водолазу, он не ощущал. Не было в нем ни патриотического восторга, ни радости сопричастности общему воинскому делу. Ему вовсе не хотелось умирать за государя императора, и к Отечеству он тоже не питал добрых чувств. Российская империя была для него не родина-мать, а родина-мачеха.
В пятницу после обеда Артема вызвал к себе командир школы. Фон Шульц занимал небольшую комнату, тесно заставленную шкафами с книгами и больше походящую на кабинет ученого, чем на служебное помещение капитана второго ранга.
– Вот что, Артем, – без обиняков начал он. – Я знаю, как ты ешь в столовой, знаю, что по утрам и перед сном молишься. Судя по всему, правила веры своей ты соблюдаешь.
– Так точно! – негромко ответил Артем.
– Уж извини, дружок, но при всем уважении к религии предоставить тебе отпуск в субботу не могу. Ради одного человека менять распорядок занятий тоже не пристало. Придется тебе потерпеть и как-нибудь договориться со своим Богом.
Артем вовсе не ожидал поблажки со стороны начальства, и слова командира школы его приятно удивили.
– Выходной день у нас воскресенье, – продолжил фон Шульц. – Мы всем отрядом с утра идем на молитву в Морской собор Святителя Николая, в пяти минутах от школы. Я тебя не приглашаю, но, если хочешь, можешь зайти послушать. Собор у нас очень красивый, и молитва весьма величественна. А ежели не захочешь, это время – свободное, погуляй по Кронштадту. Городок небольшой, но есть на что посмотреть. Рекомендую взглянуть на цветочную клумбу в виде якоря в Соборном саду. И на фонтан посреди клумбы, фигуры лягушек и аиста, из ртов которых бьют струи воды.
Фон Шульц усмехнулся.
– По причине нашей российской безалаберности кран для управления фонтаном установили в его центре. Чтобы открыть или закрыть воду, сторож каждый раз раздевается до исподнего. Тоже забавное зрелище.
Кавторанг помолчал и добавил:
– Слышал я, слышал о твоих успехах в учебе. Рад, что ты хорошо входишь в морскую науку. Уверен, что из тебя получится отличный водолаз.
Воскресным утром отряд в начищенных до блеска ботинках и в отутюженной форме отправился на молитву. Артем вышел вместе со всеми, но по дороге отстал и несколько часов гулял по Кронштадту. Полюбовался на клумбу и весьма подивился фонтану. В Чернобыле ничего подобного не было, увиденный впервые в жизни фонтан надолго привлек его внимание. Не спеша он прошелся вдоль обводного канала, оглядел доковый бассейн, о котором ему успел рассказать «буксир» Костя, посидел на чугунной скамейке в ажурной тени Овражного парка и через Пеньковый мостик вернулся в кубрик.
Воскресный обед для Артема ничем не отличался от будничного. Кормили в школе хорошо, но в первый же день он выяснил на камбузе (так по-флотски именовалась кухня), что кашу заправляют свиным жиром, а мясо в наваристых щах тоже, как правило, свиное. Поэтому питался Артем селедкой, хлебом и луком.
Шульц всегда возглавлял в отряде общую воскресную трапезу после молебна. Увидев тарелку Артема, он быстро смекнул, в чем дело, и после завершения трапезы велел повару каждый день варить для матроса Шапиро четыре яйца всмятку и несколько больших картошек, а вместо жиров выдавать десять золотников, или, по-новому, пятьдесят граммов, сливочного масла.
– Водолаз его величества должен быть выносливым и крепким, – сказал он, недовольно морщась, Артему. – Я не хочу требовать от тебя преступать уложения веры, но помни суворовское: в здоровом теле здоровый дух. А какой дух может быть у голодного водолаза?
Артем молчал, не зная, что ответить.
– Семья у тебя есть?
– Так точно!
– Зажиточные?
– Не так чтобы очень, но…
– Напиши им. Пусть присылают тебе деньги. В Кронштадте есть ваш храм, неподалеку от мечети мусульманской. Покупай там, что можешь есть, и питайся нормально. А пока перевод доберется… – Он вытащил кошелек, достал трехрублевый кредитный билет и протянул Артему: – Вот, возьми.
– Никак нет! – вскричал тот. – Я не могу!
– Бери, бери, это приказ, – свел брови фон Шульц. – Только погибших из-за недоедания водолазов мне в отряде не хватало!
Синагогу Артем нашел быстро. Существовала она уже много десятков лет, с той поры как по приказу Николая Первого Российская империя начала набирать еврейских рекрутов. Молились в ней мастеровые, рабочие Пароходного завода, санитары военно-морского госпиталя. Артема на молитву никто не отпускал, но раз в неделю Бочкаренко разрешал ему отлучиться на пару часов купить продукты.
В состав ежедневной обеденной порции входила чарка appelé – «столового вина», то есть сто пятьдесят граммов водки. Артем сразу объявил, что пить не будет, ему пообещали заменить ее деньгами, по восемь копеек за чарку, но, видимо, забыли, а он не стал напоминать.
И потянулись дни, похожие один на другой, заполненные до отказа, набитые под завязку. Скучать по дому и по стремительно отдалявшейся старой милой жизни Артем мог только после отбоя, когда, закрыв глаза, вытягивался на койке. Но стоило ему перенестись мыслями в родной Чернобыль, представить лица матери и отца, как они начинали таять и плыть, и теплое покрывало сна накрывало его лицо.
Через три недели Бочкаренко устроил показательный экзамен.
– Ну-с, голубчики вы мои, – произнес он, расхаживая перед шеренгой, – месяц вы сладко спали, вкусно ели на казенном довольствии, пришло время ответ держать. Прилепа, ты думаешь, я не заметил твоей ухмылки?
Бочкарев остановился перед богатырем и саркастически оглядел его с ног до головы.
– Расскажи мне и товарищам, что смешного ты нашел в моих словах?
– Не могу знать! – ответил Прилепа.
– Значит, мне просто показалось?
– Так точно!
– Хорошо. Тогда ответь: как должен водолаз вести себя перед погружением?
– Водолаз, спускающийся под воду, – бодро выпалил Прилепа, обрадованный легкостью вопроса, – не должен пить спиртного в течение трех часов перед работой.
– Это ты запомнил, молодец. А еще что?
– За два часа до спуска не должен есть ничего трудноперевариваемого, особенно зелени.
– Молодец! – одобрил Бочкаренко и перешел к следующему в шеренге.
– Что должен сделать водолаз перед спуском?
– Водолаз перед спуском должен убедиться в исправности всего водолазного аппарата.
– Молодец! – он сделал еще шаг. – Без чего водолазу запрещается спускаться под воду?
– Без скафандра.
– Неправильно. Подумай.
– Без аккумулятора Рукейроля.
– Неправильно.
– Без защитных рукавиц.
– Неправильно. Кто знает ответ, шаг вперед!
Артем вышел из шеренги.
– Докладывай! – приказал Бочкаренко.
– Водолазу не должно спускаться под воду без спасательного или сигнального линя.
– Молодец! Шпаришь как по писаному. Можешь продолжить?
– Так точно!
– Продолжай.
– На другом конце линя должен стоять и управлять им попеременно опытный водолаз, пользующийся личным доверием работающего под водой.
– Золотые слова! – воскликнул Бочкаренко. – Каждое кровью водолазов написано. Кровью из разорвавшихся легких. Вот ты, – он остановился напротив Базыки. – О чем должна быть осведомлена прислуга водолазного аппарата?
– О том, что спуск и подъем из воды водолаза должен производиться со скоростью не более двух саженей в минуту! – отчеканил Базыка.
– Отлично! А еще о чем?
– О том, что чем больше глубина, тем медленнее следует поднимать водолаза. Выбрасывание из воды запрещено.
– И это верно. А что еще?
Базыка наморщил лоб, пытаясь вспомнить, и наконец выпалил:
– Не могу знать!
– А кто должен знать, если не сам водолаз? – укоризненно произнес Бочкаренко. – Может быть, Шоронов нам подскажет?
Артем облегченно вздохнул. Они с Шороновым как раз вчера перед сном повторяли это место.
– Прислуга водолазного аппарата, – бодро зачастил Шоронов, – должна быть осведомлена, что в случае несчастья с работающим под водой водолазом небрежное или невнимательное отношение к своим обязанностям подвергает ее по закону ответственности как за членовредительство и убийство по неосторожности.
– Отлично! А теперь главное – сигналы линем. Итак, кто знает, что означает двойное подергивание?
Базыка сделал два шага вперед и доложил:
– Мне много воздуху!
– Вот как! – воскликнул Бочкаренко. – А тройное?
– Мне мало воздуху, – бодро отрапортовал Базыка.
– Ровно наоборот, – бросил Бочкаренко. – Вернись в строй!
Базыка сделал два шага назад и застыл. На его лицо было жалко смотреть.
– Сигналы линем – ваша единственная связь с поверхностью, ваше дыхание, ваша жизнь. Путать их недопустимо. Кто не знает их назубок, не имеет права спускаться под воду. Матрос Шапиро!
– Я! – Артем вышел на два шага из строя и замер по стойке смирно.
– Отвести наличный состав в учебный класс. Даю три часа на повторение материала. Лично проверишь каждого. Через три часа – построение на этом же месте. Кто не пройдет проверки, может собирать вещи и готовиться к отчислению. Все понятно?
– Так точно!
– Исполнять!
Спустя минут сорок Бочкаренко заглянул в класс и, отменив обед, щедро добавил еще час на подготовку. За это время Артем, знавший материал практически наизусть, прошелся вместе с товарищами по всем темам, заставив каждого два раза произнести вслух сигналы линем.
Когда матросы вновь выстроились перед баком, Бочкаренко набросился на них, словно волк на добычу, и неумолимо экзаменовал их почти до ужина.
– Молодцы! – наконец произнес он. – Я доволен. Завтра начинаем учебные погружения в скафандре.
Он пригладил пальцем полоску усов и добавил:
– Обед у вас сегодня будет вместе с ужином. И с полуторной чаркой столового вина в честь успешного завершения теоретической части курса.
Матросы поспешили в столовую, а Бочкаренко подозвал к себе Артема.
– Отправляйся в каптерку, распишись в ведомости, получи деньги.
– Какие деньги?
– Два рубля шестнадцать копеек. За невыпитое столовое вино.
– А я и забыл совсем.
– Ты забыл, а служба помнит. Служба все помнит, никогда не упускай это из виду. И вот еще что… – Бочкаренко понизил голос. – Не знаю, как у вашего роду-племени, а у нас кирпичи в стене друг к другу крепят раствором, а людей соединяют водкой. Хочешь хороших отношений в кубрике – пей с матросами. А если сам не пьешь, хотя бы наливай.
– Как наливать? – не понял Артем.
– Сегодня за ужином все получат полуторную порцию. Только что для таких здоровяков полторы чарки? Ты сейчас деньги в каптерке получишь, сбегай за штофом, я велю, чтобы пропустили. Вечером, перед сном, всех угости. На такую ораву выйдет всего по чарке на брата, а благодарности будет с ведро.
Старший водолаз Бочкаренко оказался прав. Штоф распили в мгновение ока, без закуски, как воду, и разошлись по койкам. Перед тем как лечь, Базыка подошел к Артему и протянул руку:
– Не серчай, я просто не знал, что евреи такими бывают.
– Какими? – спросил Артем, отвечая на крепкое рукопожатие.
– Да своими, как ты.
Комната стала потихоньку погружаться в сон, но медовое добросердечие стояло в ней до потолка, медленными струйками стекая по стенам.
Артему не спалось. Спустя четверть часа он поднялся и, стараясь не шуметь, вышел из кубрика на свежий воздух.
Летняя прозрачная темнота накрыла Кронштадт. Ясная ночь словно приглушила звуки, город затих, уснул, овеваемый сырым ветерком. Артем уселся на еще теплые плиты двора, поднял голову вверх и посмотрел на звезды.
«Прошел месяц после моего отъезда из дома. Армия оказалась совсем не такой страшной, как ее описывали в Чернобыле. Сказать честно, мне даже тут нравится. Правда, сказать об этом некому, друзей завести я пока не успел. Да и вряд ли заведу, матросы в кубрике уж очень чужие, душевных разговоров с ними не получится. Но и за то, что есть, спасибо. Бочкаренко молодец, хорошо присоветовал. Но ведь я и сам мог бы догадаться. Ведь написано в «Наставлениях отцов»: выбери себе раввина и приобрети товарища. Приобрети подарками. Может быть, я зря не согласился в первый раз, когда они меня под руки взяли? Хотя нет, то больше походило на грабеж, вымогательство, а сегодня я сделал подарок. Сам сделал, потому и цена у него иная».
Заскрипела дверь кубрика, в ночной тишине, висевшей над Кронштадтом, этот скрип прозвучал особенно гулко. Прилепа уселся рядом с Артемом на плиты и спросил:
– Не спится?
– Да. Никак от проверки отойти не могу.
– Я тоже. Ты молодец, здорово всех настропалил. А я боялся, ведь Бочкаренко глаз на меня положил, отчислить хочет, оттого и придирается.
– Да за что тебя отчислять?
– Из-за тебя. Ну, из-за той истории с Базыкой.
– Кто ее помнит?
– Все помнят, особенно Бочкаренко. Он ничего не забывает. – Прилепа помолчал и добавил: – Ты еще раз извини, это Митяй нас подбил.
– Какой Митяй?
– Да Базыка. Мы с ним из одной деревни. Разве ж я мог отказать? Ты не обижайся на Митяя, он жизнью ударенный. Крепко ударенный. А меня Андреем зовут, – Прилепа протянул руку, и Артем второй раз за вечер обменялся рукопожатием с бывшим обидчиком.
– А как его ударило? – спросил он Прилепу.
– Наотмашь, как только жизнь умеет. История не короткая, ежели спать не хочешь, могу рассказать.
– Расскажи.
– Дед Митяя жену с Крымской войны привез. Татарку или турчанку, кто их разберет. Чернявая, не пример нашенским, юбки длинные до полу, мониста на шее в три ряда. Трубку курила, мы, робяты малые, дыма ее боялись. Говорили, колдует басурманка, кто дым из трубки вдохнет – рабом ее станет. И будет она на нем по ночам на черные горы летать.
Прилепа тихонько засмеялся.
– От дурные мальцы! Бабка Мария перед венцом веру православную приняла, по воскресеньям первой в церкву приходила. Митяй мне сказывал, она замуж за деда пошла, чтоб жизнь свою спасти. Дедова рота квартировала в каком-то городке татарском, где бабка девушкой жила со своей семьей. Она название говорила, да кто ж это басурманское лопотание запомнит, что-то навроде Тьфу-Тьфу Поле.
– Поле? – удивился Артем.
– Да не, какое поле, в горах крепостца, перевал держит, оттого солдатов наших, поправляющихся после ранения, тудысь послали, пустую дорогу сторожить. Вся рота такая была, подстреленных да подколотых. Тогда по дорогам никто не шастал, все по деревням сидели, ждали, пока война стихнет.
Бабка сказывала, что деда сразу приметила, когда тот на посту стоял. И он ее тоже. Попросил воды принести. Принесла. На следующий день лепешкой угостила. Потом они случайно встретились, когда бабка мимо лагеря шла. Или не случайно, кто теперь разберет.
А через два дня вызывает деда поручик, ногами топает: «Что ты за бардак тут устроил?» Дед не понимает, а тот его отправляет на ворота лагеря, мол, какая-то девка к нему ломится. Приходит Митяя дед на ворота, а там бабка Мария падает ему в ноги и умоляет: женись, не то убьют.
Оказывается, по басурманским правилам, если девка гуляет с парнем до замужества, она позорит честь семьи. То есть жениться на других девушках этой семьи уже никто не будет. И вообще, пятно на всю жизнь, не смыть. Чтоб спасти честь семьи, выход один: пришить девку. И делают это не чужие люди, а собственный отец и родные братья.
– Какой ужас! – воскликнул Артем. – Ты не сочиняешь?
Андрей сплюнул сквозь зубы и продолжил:
– Дед Митяя никак в толк не мог взять: причем здесь он? Спросил бабку Марию: как же так, мы ж друг друга даже пальцем не тронули? А та объяснила: мол, одна семья в городке сватала ее за их парня, но родители отказали, не захотели с ними породниться. Вот они и решили отомстить. Воспользовались тем, что Мария три раза разговаривала с русским солдатом, и пустили слух, будто она шлюха и спит за деньги с неверными. И не объяснишь, и не докажешь. Домой ей возвращаться нельзя, любимые братики, которых она растила с малолетства, зарежут ее, как барана. В общем, или он на ней женится и забирает к себе в лагерь, или она прямо сейчас идет к обрыву и прыгает.
Поручик, который за дедом увязался, стоял рядом и все слышал. Спросил у деда: ты, мол, не против жениться? Тот говорит: очень даже за, мне девушка по сердцу. В общем, взяли ее в лазарет помощницей санитарки, батюшка с ней поговорил пару раз и окрестил. Вскоре война кончилась, деда Митяя демобилизовали, он прямо в лагере обвенчался с бабкой Марией и увез в родную деревню под Курск.
Хорошо они жили, душа в душу. Дед Митяя умельцем был, руки золотые, а сердце алмазное. Всем в деревне помогал, где плечо надо подставить, он первым бросался до самой старости. Бабка Мария души в нем не чаяла, и она для него до старости оставалась светом в окошке. Вот только с детьми у них плохо получалось, умирали дети. Лишь одна младшая дочка выжила, Настя, Митяя мамка.
Черная уродилась, в мать, глаза огромные, совсем другая краса, чем у наших белобрысых девок. Взял ее дядька Василь, плотник, работящий мужик, пахарь. С утра до вечера в своем сарае строгал-пилил, молотком стучал, весь стружкой засыпанный. Ах, как она пахла, эта стружка, как пахла!
Андрей негромко хлопнул себя ладонью по боку и сокрушенно произнес:
– Эх, сейчас бы закурить!
– А кто мешает? – удивился Артем.
– Бочкаренко. Дыхалку, говорит, портит. Ты что, не заметил, в школе ни один человек не курит. Запретил, гад усатый!
Артем стал припоминать и с удивлением понял, что за месяц своего пребывания в школе не видел ни одного курящего.
– Дядька Василь с женой хорошо ладил, – продолжил Прилепа, – а уж с тестем был как два сапога пара. Хлопотуны, жизни свои прожили от заботы до заботы.
Дед Митяя раньше всех умер: то ли старая рана открылась, то ли лихоманка одолела. Поболел с месяц и преставился. Больше всех по нему дядька Василь горевал, чисто как по отцу убивался. Бабка Мария пару лет протянула, точно птица с перебитым крылом, и тоже отошла. Я с Митяем с детства хороводился, лен не делен, из горницы ихней не вылазил, отседова все и знаю.
Остались дядька Василь с тетей Настей и Митяем одни в целой усадьбе. Прожили так годков несколько, а когда Митяю шестнадцать исполнилось, дядька Василь в одночасье помер.
Перед воскресеньем он всегда баньку топил. Крепко топил, чтоб пар ядреным получался. Не уберегся, тетка Настя щи с головизной приготовила, он умял пару мисок, да и в баню наярился. А первый пар, он суровый, ударяет. Тетка Настя через полчаса заглянула, может спинку потереть или что еще надо, а дядька синий на полу лежит.
Андрей снова сплюнул и тяжело вздохнул.
– Ты, поди, дивишься, для чего я тебе все это рассказываю. Погоди, мы уже в конце.
Схоронила тетка Настя мужа, стала долю вдовью мыкать. Баба она видная, хоть чернява, да пригожа, многие на нее заглядывались, помощь по хозяйству предлагали, только она никому ничего. Цену этой помощи всякий знает, а она не хотела, сама с Митяем управлялась. Руки у него золотые, в деда, все умеет, все само у него выходит.
А тут жандарм наш обихаживать ее стал. То тут подъедет, то там пристанет. Гнать несподручно, все-таки власть, а терпеть сил нет.
– А что терпеть? – удивился Артем. – Женщины, говорят, любят, когда их обхаживают.
– О, ты не знаешь манеры жандармские. Обращение у них простое – руку за пазуху или под юбку. И не ударишь – он же в мундире, и пожаловаться некому. Длилось так несколько месяцев, пока однораз вертается Митяй домой, а матери нет в избе. Ну, видно, в хлев пошла, за коровой прибрать. Он в хлев, и с порога слышит мычание полузадушенное. Жандарм мамку его завалил, рот ей зажал и ходит по ней, что дышло у паровоза.
Митяй поглядел пару секунд, как волосатая жандармская жопа мамку его мнет, схватил вилы, что у стены стояли, да в задницу и засадил. Ума, правда, хватило – не насквозь, а лишь на вершок.
Что там поднялось! Крик, кровь, угрозы, проклятия. Орать-то жандарм орал, а сделать что-либо побоялся, вилы-то у Митяя в руках оставались, и выражение морды было очень решительным. Ну, он рану платком залепил и поковылял восвояси.
Митяй к мамке, а та уже отошла маленько и говорит: беги, сыночка, к приставу, первым расскажи, как было. А то засудят тебя до каторги.
Ну, пристав Митяя выслушал и его же в холодную посадил, стал жандарма дожидаться. Тут тетка Настя со старостой деревни пожаловали, жалобу на сильничанье подавать. Чтоб сына выгородить, не побоялась тетка позора, ничего не утаила, все как на духу выложила. Вот только после этого жандарм и явился. Он не спешил, наверное, вообще не думал докладывать, знал, что рыльце в пушку.
Пристав от злости аж побелел. Зачем ему такие неприятности? Дойдет до начальства, он кругом виновным окажется. В общем, решил дело замять. Жандарма перевести в другой околоток, а Митяя в рекруты. Его, как единственного сына вдовы, не должны были брать, в этом году из села нашего меня уже забрили. Ну да у них закон, как дышло, куда хотят, туда и толкают.
– Жандарма понятно, а Митяя-то за что? – удивился Артем.
– Хоть тетка Настя и староста поклялись приставу, что молчать будут как рыбы, но в деревне тайн нет, все про всех знают. На Митяя бы сразу стали пальцем показывать: мол, вот парень, который жандарма на вилы поднял. Раз одному с рук сошло, и другой попробует. Отсюда и до бунта недалеко.
– А как вы в школе водолазов оказались? – спросил Артем.
– Да черт его знает! Куда послали, туда и попали. В общем, ты на Митяя зла не таи. Он не только на евреев, на весь белый свет обиженный.
– А евреи что ему сделали?
– Да ничего. Мы евреев сроду не видывали, ты первый. Слышали про ваше племя много нехорошего, это верно. Как тут не поверить? Ну да ладно, почивать пора.
Прилепа ушел. Поднялся ветер, принес перезвон склянок с кораблей, стоящих в гавани Кронштадта. Месяц лил сквозь набежавшие облака таинственный тусклый свет. Артему вдруг почудился запах яблок, которые раздавала чернобыльской ребятне бабка Настя, совсем другая Настя, из другой истории, но какой-то невидимой внутренней нитью связанная с Настей из курской деревни.
Этот почудившийся Артему запах вдруг сделал его счастливым, как можно быть счастливым только в здоровой юности, от ладности послушного тела, свежего дыхания и ясной головы.
Артем поднял глаза вверх, разглядел блистающие в разрывах облаков звезды, глубоко вдохнул морскую свежесть и вдруг понял, что связывает двух Насть. И не только их: все эти удивительные события, этих странных людей, это темное небо, белый диск луны, шум моря – все это связывает воедино он сам. Через него проходит невидимая нить, соединяющая разных людей и разные события. Огромный мир течет через его сердце, умещается в нем и создан для него.
Он улыбнулся черноте ночного неба и пошел спать.
Сладостной отдушиной для Артема стали посещения санчасти. Два раза в неделю матросы проходили обязательную проверку. Пока формальную, ведь глубинных погружений, способных повредить здоровью водолаза, еще не происходило. Купание в баке не в счет, оно скорее напоминало игру, чем серьезный спуск под воду, но порядок есть порядок.
Освидетельствование проводила сестра Маша. Врач Михаил Николаевич Храбростин, лысоватый, с оттопыренными ушами и аккуратной бородкой клинышком, почти ничего не говорил во время осмотра. Посверкивая стеклами очков в тонкой оправе, он, не поднимаясь из-за стола, внимательно рассматривал каждого матроса, изредка произнося непонятные слова на докторском языке.
Иногда Храбростина подменяла Варвара Петровна. Пересекая двор по направлению к дверям санчасти, Артем молил судьбу, чтобы доктора Храбростина отвлекли более важные дела, и судьба часто прислушивалась к его просьбе.
