Тени Донбасса. Маленькие истории большой войны бесплатное чтение
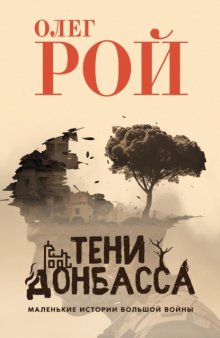
© Рой О., 2023
© ООО Издательство «Вече», 2023
Часть I. Герои наших дней
«„Музыканты“ защищают Бахмут». Апрель 2023.
Мы с Донбасса
Папа Есен завтра должен был вернуться из командировки. «Скорей бы! – думала Есен. – Интересно, папа привезет куклу? Он обещал». Папа Есен – инженер. Все вокруг его уважали, хотя он был младше многих своих коллег. А все потому, что папа Есен был очень-очень умный. Поэтому его нередко отправляли в командировки.
А когда папа уезжал, с ним часто отправлялась и мама – у мамы всегда были дела. Тогда Есен гостила у бабушки Зейнеп и дедушки Исмаила. Девочка очень любила бывать у них в гостях. Кругленькая и деятельная бабушка Зейнеп готовила самую вкусную на свете пахлаву, а еще смеялась звонко – будто она сама была совсем не бабушка, а девочка, чуть старше собственной внучки. Есен с бабушкой были большие подружки. Они вместе готовили, вместе секретничали, заплетали ленты в косы Есен, а дедушка Исмаил только качал головой и улыбался – ну и ну, как преображается его жена с приездом обожаемой внучки. «С ребенком в дом заходит счастье», – всегда говорил дедушка Исмаил.
Нельзя сказать, что Есен не скучала по папе с мамой, но все-таки у дедушки с бабушкой было так здорово, единственную пока внучку баловали все вокруг – и Зейнеп с Исмаилом, и их соседи и друзья, хвостиком носился вокруг нее шумный маленький дедушкин пёс Картал, так что она готова была на время расстаться с родителями.
Но вот, подступал срок возвращаться папе из командировки, и девочка нетерпеливо смотрела на часы – когда же закончится этот день и еще поскорее бы следующий прошел. Все-таки уже очень хотелось увидеть папу с мамой!
Ночью Есен спала крепко, она наигралась и набегалась за день. Спала и ничего не знала до тех пор, пока пёс, устроившийся в ногах девочки, вдруг не начал истошно выть.
– Картал? Ты чего? – сонно спросила Есен.
Пёс никак не утихал. Есен взяла пса на руки, как маленького ребенка, сделала круг-другой по комнате… И мир вдруг содрогнулся и сложился вокруг нее, словно карточный домик. Что-то ударило по голове…
Ночь. Темнота. Есен пробудил шершавый горячий язык Картала, вылизывавшего маленькой хозяйке лицо. Голова очень сильно болела. Девочка инстинктивно попыталась встать на четвереньки и тут же ударилась обо что-то твердое. Очень больно. Есен зашарила руками вокруг – что произошло? Вокруг были какие-то камни, куски. Вот кусок дерева. Ладонь нащупала что-то мягкое, знакомое, словно… словно это одеяло, сшитое из лоскутков бабушкой Зейнеп!
И тут Есен поняла, ЧТО ИМЕННО произошло.
– Бабушка! – закричала она. – Бабушка Зейнеп! Дедушка Исмаил!
Она звала их, звала именами, ласковыми, ведомыми только им прозвищами, кричала, что это она – их внучка Есен, она здесь. Картал звал вместе с хозяйкой. Но никто не отвечал. Тогда Есен стала звать соседей, закричала: «Помогите! Я здесь!», звала соседских девчонок Фатиму и Фериде, но никто, никто не откликнулся.
Есен зарыдала.
– Мама! Папа! Помогите! – тихонько просила девочка.
Но мамы и папы тоже здесь не было.
Она слышала о таком. Взрослые что-то говорили, знаете, бывает – соберутся и начнут вспоминать далекие-далекие времена, когда еще самой Есен не было на свете. Обсуждали, как дома складываются словно детские игрушки, на которые наступил большой хулиган. Но Есен было совсем неинтересно такое слушать.
Сколько прошло времени, Есен не знала. Она долго-долго плакала – сначала громко, навзрыд, снова кричала, звала. Потом все тише и тише. Кажется, слез больше не осталось. Очень хотелось пить. Картал тихонько скулил – маленький пёс тоже хотел воды. Но пить было нечего.
В бетонной ловушке, которой стал дом после мощного землетрясения, все время было темно. Девочка ждала, что наступит утро, и тогда кто-нибудь придет, поможет, найдет ее. Но утро не наступало. Есен не знала, что над ее головой почти два метра бетонных обломков. Не знала, что во всем доме больше не осталось живых.
Почему так темно? Может быть, Аллах покарал ее? Но ведь Есен была хорошей девочкой, она помогала маме и бабушке, молилась, никогда никому не желала зла, не брала чужого, не делала дурного – всегда поступала так, как ее учили родители.
А если ее не найдут? Если она умрет здесь со своей собачкой? Но разве милосердный Аллах затем спас ей жизнь, чтобы жестоко умертвить её в этой крохотной каменной могиле? Нет, нет, этого не может быть. Вот-вот наступит утро, и обязательно кто-нибудь за ней придет. Послезавтра должны приехать папа и мама. Папа ужасно умный, он увидит, что случилось, и обязательно ее найдет.
– Папочка! Мамочка! Пожалуйста, приезжайте! – шептала Есен. В горле пересохло. Сил на крик не осталось.
Хайраддин Озал, молодой инженер, вместе со своей красавицей-женой Мерманой возвращался на поезде в родительский дом. В чемодане у него были рабочие документы, аккуратно сложенные рубашки, бритва, носки и красивая кукла для любимой дочери. Вдруг раздался страшный треск, скрежет. С полок попадали чемоданы, люди. Хайраддин едва успел вцепиться в поручень одной рукой, а другой – ухватить жену. И держал, держал ее изо всех сил, пока поезд, сошедший с рельсов, не перестал содрогаться, словно живое существо. Чудовищное землетрясение исковеркало стальные рельсы, будто те были вылеплены из пластилина. Каким-то чудом обошлось без жертв.
Мобильной связи не было. Хайраддин понял, что случилось что-то ужасное. Не было возможности ни позвонить родителям, ни прочитать новости. Направлявшиеся на помощь пострадавшим военные сообщили о серии подземных толчков на востоке страны. Хайраддин со страхом спросил, знают ли они что-то о… Они не знали.
Пара добралась до ближайшего городка и обомлела. Населенный пункт был полностью разрушен, как Ракка после американского «освобождения». С трудом Хайраддин отыскал попутку, чтобы добраться до города, где жили родители…
…и увидеть то, что осталось от их многоэтажки.
Мерману увезли в больницу – у женщины не выдержали нервы, ведь она была уверена, что ее свекры и единственная дочь погибли. Сам Хайраддин остался бесцельно бродить у руин. Он иногда принимался растаскивать камни – может, надеялся найти тело дочери. А потом появился отряд военных, говорящая по-русски. Этот язык Хайраддин немного знал, поскольку в Турцию всегда приезжало много русских. Говорил плохо, но понимал. Большой темный «хаммер» остановился у разрушенного дома, из него выпрыгнуло несколько молодцов. Один из них держал на поводке пожилую, но резвую овчарку, чуть заметно прихрамывавшую на переднюю лапу. Хайраддина поразило то, что парень, который по виду был даже моложе его, был абсолютно седым. Он ещё не знал, что сам выглядит точно так же.
– Такого мы еще никогда не видели, – сказал кто-то из спасателей. – Как после бомбежки.
– Я видел. В Донецке, – коротко отозвался седой. – В любом случае надо проверить.
– Проверить в любом случае надо, – ответил седой. – Вперёд, Акбар.
Спущенная с поводка овчарка потрусила к груде обломков бетона. Обошла кругом, принюхиваясь, затем забралась наверх и села на одной из торчащих плит, деловито бухнув два раза.
– Ну вот, – сказал седой. – А ты заладил: вряд ли, вряд ли.
Камень за камнем, кусок за куском. Расколотый умывальник, искореженный диван с раздавленными пружинами, сдавленные, будто под заводским прессом, книги…
Спасатели трудились весь день, до вечера, и Хайраддин стал им помогать. Русские приняли помощь без слов, да и не один Хайраддин в конечном итоге оказался добровольным помощником – все, кто выжил после разрушительного землетрясения и был способен двигаться и работать, присоединились к разбору завалов. Чужих людей в беде не бывает, общее горе заставило всех трудиться в едином порыве. Только бы нашлись живые! Тяжёлые плиты и балки убирали манипулятором, обломки поменьше – осторожно вынимали руками. Однако живых не было, только мёртвые тела.
Спасатель, которого Хайраддин увидел первым, затянулся сигаретой во время короткого перерыва. Протянул другую инженеру. Тот, хоть и курил лишь в студенчестве, судорожно зачиркал зажигалкой.
– Да нет здесь живых! – бросил спасатель напарнику. – Ошибся твой Акбар.
– Акбар не ошибается, – ответил седой, покачав головой. – Можешь у Лены моей спросить или у Кольки. Восемь лет назад, когда бандеровцы Донецк накрыли из «смерчей», мой дом также перемолотило. А Акбар всё бегал вокруг руин, лаял… стали копать – отрыли Лену с Коленькой. Они уж и не чаяли спастись…
Отчего-то слова седого внушили надежду Хайраддину.
– Вы из-за этого стали спасатель? – на ломаном русском спросил он.
Седой кивнул:
– Сначала в ополчении повоевал. Ранен был у Саур-Могилы. Признали негодным к дальнейшей службе. Мы с Акбаром и пошли в спасатели. Его брать сначала не хотели, говорили, старый для обучения, а он и без всякого обучения…
Акбар деловито бухнул – раз, другой. И тут откуда-то из-под завалов донеслось тоненькое тявканье…
Хайраддин не находил себе места, пока над его дочерью разбирали завалы. Звонил жене в больницу, звал свою девочку, говорил с ней, благодарил Аллаха. Голосок Есен был очень слабым. Наконец девочку и пса вытащили из их ловушки.
Напоили водой – и девочку, и верного пса. Есен вцепилась в отца и не произносила ни слова, лишь сжимала тонкие, грязные, исцарапанные руки.
Пока ждали «скорую», возвращавшуюся после перевозки одного из выживших из соседнего дома, седой со своим Акбаром вновь обошли руины. Хайраддин хотел было спросить про родителей, но… На этот раз пёс остался спокоен – значит, увы, живых больше не было. Акбар не ошибался никогда.
– Теперь займёмся следующим домом. По машинам, братва.
– Постой, – напрягая все свои знания русского, сказал Хайраддин, вставая с дочерью на руках. – Скажи… вот, мы – страна НАТО. И мы помогали Украине. Беспилотники, которые производит Турция, воюют против вас, наша страна продаёт Украине оружия. Почему ты нам помогаешь?
Седой вздохнул.
– Потому что горе у людей одинаковое, – сказал он. – И мы, на Донбассе, это понимаем лучше других. Тот, кому самому было больно, всегда посочувствует тому, кому больно сейчас. Вот ты – ненамного меня старше, а весь седой, как я. А я поседел в ту ночь, когда руками докапывался до жены и сына. Мне не хочется, чтобы кто-то чувствовал то, что чувствовал я тогда, понимаешь?
Хайраддин кивнул:
– Понимаю. Можно, я потом буду вам помогать? Тебя как зовут?
– Арсен, – ответил седой. – Приезжай, коли не шутишь. В беде каждая пара рук на вес золота…
Шапка командира
Сержант Иван Фролов сидел на броне своей боевой машины и чистил мандарин. Один мандарин в руке, еще два – в кармане. Угощение привезли волонтеры. Они регулярно доставляли на фронт посылки, которые для бойцов СВО собирала вся страна, – тут были и фрукты, и носки, и балаклавы, и детские рисунки, письма и много чего еще, такого важного на фронте, а один мальчик из Севастополя даже передал нашим ребятам конфеты из своего новогоднего подарка.
К БМП направлялся пацан. Обычный такой мальчишка лет десяти, не старше. Только очень грязный, будто долго топал через раскисшую земля, и это было странно – вокруг-то уже все просохло. Одет паренёк был небогато – турецкая курточка с капюшоном, откинутым назад, видавшие виды джинсы и ботинки такого древнего фасона, какой сам Ваня уже по возрасту не застал. Мальчик пристально смотрел на бойца.
Ваня засунул руку в карман куртки:
– Хочешь мандаринку?
Не дожидаясь ответа, бросил мальчугану фрукт. Тот поймал мандаринку на лету и спрятал в карман. А потом подал наконец голос:
– Спасибо. Я сестричке отнесу.
– Тогда держи ещё одну, – улыбнулся Ваня, спрыгивая с брони.
Тот отрицательно мотнул головой, но потом всё-таки взял гостинец. И снова заговорил:
– Дядя, а это у вас танк?
– БРМ-1К, – поправил сержант. И пояснил: – Боевая разведывательная машина. Танки – они побольше будут, и пушка у них солиднее.
– Я знаю, – кивнул паренёк. – Танки через нашу деревню проходили. Вражеские. С крестами.
– Давно? – насторожился Ваня.
– Недели две назад, – ответил паренёк. – Говорят, их здесь, под Крюковкой, наша арта накрыла.
– А ты сам не местный, что ли? – высунулся из люка командир разведгруппы Володя Спицын. Вообще-то в экипаже БРМ – шесть человек, но у них в наличии было пятеро: командира машины на днях ранило, и Володя временно совмещал – был и комгруппы, и командиром самой БРМ.
– Не, – покачал головой паренёк. – Из Авдеевки я. Как услышал, что наши выбили из Крюковки бандер, так и прибежал. Интересно!
– Из Авдеевки? – задумчиво нахмурился Володя. – Мы как раз к вам выдвигаемся. Нам сказали, село пустое, брошенное.
– Ну, не пустое, – возразил мальчуган. – Там мы живём с сестрой и бабушкой, а ещё Черныши, дед с бабкой, и Цыганчуки… – Внезапно он тоже нахмурился. – Только вам в село нельзя!
– Это почему? – удивился Володя.
Мальчишка сделал знак, чтобы боец наклонился, приподнялся на цыпочках и зашептал на ухо, словно их мог услышать кто-то посторонний:
– У села старая ферма есть. Бывшая племенная станция. При ней общежитие. Ну, как общежитие – развалины, ни окон, ни дверей. Там бандеры засели. Дэ-эр-ге…
– Много? – уточнил Володя.
– С дюжину, – ответил парень. – У них ещё трубы с собой, здоровые такие, в них, говорят, ракеты.
– ПТУР, – догадался Ваня.
– Странно, – засомневался командир. – Наша «птичка»[1] никого не заметила.
– Так они там сидят тихо-тихо – что мыши в подполе, – ответил мальчуган. – Но я смелый, я близко подходил. Сам слыхал, они русские танки жечь будут. Ну я и метнулся сюда, поглядеть, есть ли здесь танки.
– Идти надо, – решил Володя.
– На ракеты? – переспросил Иван. – У них же ПТУРы.
– Сразу не шмальнут, – прикинул командир. – Смысл себя обнаруживать на маленькой группе, если они танки ждут? Нет, они одну машину пропустят. А вот как наши следом пойдут – ударят.
– А если подойти поближе и по ним – из пушки? – предложил мехвод Александр Борисович, выбравшийся из люка, чтобы присоединиться к товарищам.
– Тогда они нас подобьют, – сказал Володя. – Сам знаешь, мы-то – не танк, на нас «джавелина» даже не надо, из РПГ можно загасить.
– Точно! – воскликнул парнишка. – Они и про «жавелин» этот говорили, и ещё про «амбрус» какой-то…
– «Армбруст», – машинально поправил его Володя. – Значит, у них и ПТУР, и РПГ… Задачка…
– Вот с тылу бы зайти… – пробормотал Ваня.
Володя тут же достал планшет, включил, поколдовал и протянул мальчишке:
– Где, говоришь, это общежитие?
Паренёк с восхищением уставился на экран планшета:
– Ух ты, это ж наша Авдеевка! Вот это да! Прямо всё как по-настоящему! Ну, техника!.. Вот это наш дом, а здесь – Чернышей. – Мальчик ткнул пальцем в карту: – Да вот оно, общежитие, у дороги как раз.
– Удобное место для засады, – согласился Володя, присев на корточки и глядя туда, куда указывал мальчуган. – И не обойдёшь…
– Почему ж не обойдёшь? Еще как обойдешь, главное – не напрямки, – удивился тот и по-взрослому прибавил: – Места знать надо! Тут на полях и мины есть, так что прямо никак не выйдет. Дядя, а вправо эту карту мотнуть можно?
Володя сдвинул изображение.
– Глядите, – опять ткнул в экран мальчуган. – Здесь, за селом, – балка глубокая, по ней по весне талая вода идёт. Грязюки там, конечно, по колено, но вы пройдёте.
– Почему думаешь? – заинтересовался мехвод.
– Дядя Гриша из Крюковки на бульдозере гонял, так и вы пройдёте. У вас же – вон какие гусеницы, – пояснил малец. – Дойдёте до лесополосы, это вот здесь, осторожно спуститесь в балку и прямиком до крайних хат. С фермы вас видно не будет. Потом здесь развернуться, где скирда стояла, – он опять указал место на экране, – и прямо до общежития.
– Ну что, Володь, попробуем? – спросил Александр Борисович. Командир кивнул. – Малой, дорогу покажешь?
– То вы меня на танке покатаете? – обрадовался паренек. – Покажу, конечно!
– Это БРМ, – поправил Володя с улыбкой. И посерьезнел. – Покатаем, но учти, это может быть небезопасно.
– Ой, а что в наше время безопасно? – опять по-взрослому отмахнулся мальчик. Дети войны – маленькие и большие одновременно. – Зато на танке прокачусь!.. Ну, то есть на БРМ! – быстро поправился он и опять наклонился к уху Володи: – Бандеры тут шли танковой колонной, приглашали с ними проехать. Но я не стал, убежал. Кто их знает, что у них там на уме?
– Вот и правильно, – похвалил Володя. И велел: – Полезай тогда на броню. Вань, помоги парню.
– Тебя как зовут-то, герой?
– Андрей.
Когда БРМ, осторожно пробираясь по балке, выползла в тылу тёмного села, где не горел ни один огонёк, сумерки уже вступили в свои права. Но на экране тепловизора виднелись светлые пятна, в том числе в том самом общежитии, о котором говорил мальчик.
– Молодец, Андрюха! – одобрил Иван. – Ценную информацию доставил.
Вероятно, бандеровцы поставили там буржуйку – несмотря на весну, ночи еще стояли холодные. Нет-нет да и иней поутру на траве найдешь.
– Обработаем их отсюда? – спросил Ваня. Рядом примостился Андрей, приникший к окуляру одного из смотровых приборов. – Или поближе подойдём для верности?
– Если завернуть направо… – начал было Володя.
– Направо нельзя, – вполголоса возразил Андрей. – Я же вам говорил – за скирду не заезжайте, там бандеры мины ставили.
– Попробуем подойти поближе, – решил Володя.
– Дядь Ваня, – сказал Андрей, успевший со всеми раззнакомиться, глядя на экран тепловизора, – а вот эти пятна – это у нас что?
– Да мало ли что, – поначалу отмахнулся тот. А потом пригляделся: – А ты глазастый! Володя, глянь, справа и слева от общаги – кажется, у них там расчёты развёрнуты?
– Где? – уточнил тот.
Андрей, поднырнув под пушку, тут же ткнул пальцем на едва заметные пятна на экране тепловизора. Володя сверился с картой:
– Ага, засели в силосных ямах. Умно… – Он повернулся к мальчику: – Вот что, Андрей. Мы сейчас по ним ударим, так что выбирайся из машины и…
И тут мальчик… всхлипнул:
– Дядя Володя, не прогоняйте меня, пожалуйста!
– Мы в бой пойдём! – вздохнул Володя. – Это опасно.
– Так снаружи же тоже опасно! – возразил Андрей. – Тут броня, а там что, кроме лопухов? Пока ещё я до хаты добегу. Да и хата у нас, прямо скажем, не БТР…
– БРМ, – опять поправил Володя. – Ну хорошо. Слезай и иди назад, к Славику-радисту. – Видя, что Андрей готов возразить, быстро добавил: – На моём месте посидишь.
Очевидно, последний аргумент подействовал на парня – тот проворно юркнул в заднюю часть машины. Проконтролировав его уход, Володя включил переговорное устройство:
– Иван, приготовиться открыть огонь. Огонь открываешь без команды. Александр Борисович, по моей команде… вперёд!
Бой был скоротечным. Ракета с термобарическим зарядом вызвала детонацию чего-то в бывшем общежитии. «Подарки» бандеровцев сыграли против них самих. Тем временем Володя и Иван, включив инфракрасный прожектор, открыли огонь по прятавшимся в силосных ямах бойцам. С подсветкой те оказались как на ладони – завалили всех шестерых, ещё столько же трупов нашли в бывшем общежитии. Трофеями команды стали два исправных американских ПТРК «Джавелин», два немецких гранатомёта и пулемёт MG.
Володя доложил в штаб о результатах боя, и к полуночи через Авдеевку прошли танки, вклиниваясь в оборону противника. А до этого экипаж БРМ отвёз Андрея домой, где передал из рук в руки его бабушке.
– Ваш внук – герой, – сообщил начавшей было ругать сорванца старушке Володя. – Если бы не он, было бы нам трудно!
– Тогда – молодец, – сменила гнев на милость бабушка. – Слава Богу, что вы пришли! Слава Богу! Зверюги эти… – Она закатала рукав и показала свежий синяк на предплечье. – На днях брала воду у колодца, а тот меня хрясь кулаком, ведро отобрал, воды напился и в колодезь зашвырнул, насилу достала. Нормальный человек попросил бы: чи ж я не дала б? А этот… и яка его мать родила?
А Андрей деловито подошёл к сестричке Наташе и отдал ей оба мандарина. Девочка попыталась один не взять, но мальчик настоял, чтобы оба.
– Так ты и остался без подарка? – спросил Иван у Андрея перед отъездом, когда разведчики прощались с семьёй, носившей, как оказалось, почти такое же имя, как у села, – Авдеевы.
– Разве ж без подарка? – удивился тот и стал загибать пальцы: – На та… на бээрэме вашей покатался, и в бою побывал, и на командирском месте сидел… – он вздохнул, – расскажи я кому, не поверят!
– Поверят, – заверил его подошедший Володя. – Я рапорт подам о твоём награждении. Адрес я ваш записал, думаю, будешь с медалькой в школу ходить. А пока…
Он стянул с головы шлемофон, отстегнул переговорное устройство – и надел на голову парня:
– На командирском месте ты сидел, а теперь у тебя будет и настоящая командирская шапка. Бывай здоров, Андрей. После Победы свидимся.
Ангел
Ангелина из третьего подъезда выглядела как кинозвезда. Ноги – от ушей, волосы – до поясницы, широко распахнутые изумрудные глаза, а фигура… Фигура такая, что даже строгий деловой костюм не мог ее скрыть. Когда Ангелина шла по улице, женщины начинали теребить рукава своих мужчин, мужчины – восхищенно присвистывать, ну а старушки со скамейки перед парадным… Старушки, казалось, все уже сказали, но всякий раз находилось что-нибудь эдакое. Потому что, когда Ангелина шла мимо, молчать было нельзя.
– Ишь, Гелька-то вернулась, – сообщила Маргарита Петровна, занимая место рядом с подругой. – Небось с любовником куда ездила. Видала, к ней мужики с букетами так и ходят? И всё – разные…
– Матушка-то ейная в гробу небось переворачивается, – вздохнула Екатерина Семёновна. – А еще медик, называется.
– Да видно по ней, какой она медик, – хмыкнула Маргарита Петровна. – Совсем стыд потеряли.
Не то чтобы Маргарита Петровна или Екатерина Семеновна были совсем уж нехорошими людьми. Нет-нет, обе женщины прожили достойную жизнь, попали по распределению на один и тот же завод, а потом вышли оттуда в положенный срок на пенсию.
Но одинокая девушка из третьего подъезда очень уж раздражала. Нет, не нарядами, Ангелина всегда одевалась очень сдержанно. И даже не поведением – соседка была всегда приветлива, а однажды дала Екатерине Семеновне дельный совет, как избавиться от прострела в спине. И правда, ведь помогло! Но все-таки ее непростительная красота сама по себе бросалась в глаза и заставляла испытывать смешанные чувства, особенно если даже в лучшие годы вам случилось щеголять лишь куцым хвостиком мышиного цвета, прикрывая форму ног юбками и брюками, а теперь и вовсе предпочтительно смотреться в зеркало пореже. В общем, всякий раз, когда Ангелина шла мимо, Маргарита Петровна сердито поджимала губы. А теперь еще и вереница мужиков. Может, у нее там – притон какой? Нет, надо бы сообщить куда следует, пускай проверят.
И вообще, этой молодежи все дается без труда. Захотел – институт бросил, взял машинку и картинки людям на коже бьешь. Ну разве ж это работа? Вот сын Кузнецовых Сашка так и сделал. Ох и наплакалась Вера Кузнецова, когда он однажды матери сказал, что документы из института забрал. А уж чего сделано – не воротишь. Теперь от родителей съехал, в тату-салоне работает. А последние три месяца его и не видать совсем – поди от мобилизации сбежал, тьфу! «Вот были люди в другое время», – думала Маргарита Петровна.
А дальше случилось кое-что совсем уж невообразимое. Гелька-то легка на помине оказалась. Только про нее поговорили, как глядь – она уж и идет. Сначала к подъезду подкатила машина, да еще какая – сама черная, здоровенная, спереди решетка широкая. Потом из её просторного салона, через дверь, открытую молодым водителем, выпорхнула Ангелина – как всегда, элегантная и улыбающаяся. В этот день она была особенно красивая – в белом с золотом костюме, туфлях, с причёской, будто только что из салона красоты…
Но самое главное, что буквально заставило подружек оцепенеть, – на груди у девушки было необычное «украшение» – не модная брошь, а самый настоящий орден!
– Здравствуйте, – вежливо поздоровалась Ангелина. А затем, не дожидаясь ответа, простучала мимо каблучками и упорхнула в подъезд. Странное авто тоже уехало.
– С каких это пор у нас фотомоделям ордена раздают? – нарушила наконец молчание Семёновна.
– Совсем совесть потеряли, – прошипела Маргарита Петровна. – Нет, ну где это видано…
Она пару раз сжала сухонький кулак, а потом сказала:
– Ты, Семёновна, как хошь, а я этого так не оставлю!
– А что ты предлагаешь? – спросила её подруга.
– Пошли к участковому, – решительно сказала Маргарита Петровна, вставая со скамейки. – Между прочим, если меня склероз не подводит, незаконное ношение боевых наград – уголовное преступление!
Бдительные пенсионерки – это факт, с которым следует считаться, даже если ты – полицейский. Взглянув на вновь прибывших, старший лейтенант Прозоров вздохнул и проговорил в телефонную трубку:
– Ты там попробуй меня пробить всё-таки. Не хочу штаны протирать… Ну и что? Я в порядке! Ладно, ко мне тут граждане пришли. Бывай!
Прозоров грохнул трубку о белый корпус телефонного аппарата:
– Бюрократы чертовы!.. – выругался он.
– Что случилось, милок? – участливо спросила Екатерина Семеновна. – Заболел али чего?
– Да я только с Донбасса вернулся, – неожиданно разоткровенничался полицейский. – Ездил в командировку в Мариуполь. Ну и не только. В общем, под обстрел попал, контузия. Меня сюда и вернули. Я там только три месяца пробыл! Это же уму непостижимо! Мой дед всю войну до Берлина прошёл – три ранения, одно тяжёлое, а контузию тогда вообще в расчёт не брали! Подумаешь, мина взорвалась в паре метров! Даже осколками не задело, а обратно теперь не пускают – сиди, мол!
– А мои на войне познакомились, – сообщила Семёновна. – Под Курском, мать отца в тыл вытянула, раненного.
– Да уж, – вздохнул полицейский, – нет в России семьи такой… – И спохватился: – А вы ко мне по делу?
– Конечно, – важно ответила Маргарита Петровна. Она расправила плечи, вскинула для острастки брови и посмотрела на Прозорова: мол, будет она без дела туда-сюда расхаживать. – Мы из четвёртого дома. У нас там девка живёт, такая… числится медиком, а сама, наверно, фотомодель.
Прозоров тяжело вздохнул. Там, на Донбассе, идет бой не на жизнь, а на смерть, а он тут сидит, кляузы разбирает. Не для того он родился, учился, служил, чтобы стулья протирать. Сегодня фотомодель, завтра – что? Излучение от вышки сотовой связи? Борьба за парковочное место? Кража прищепок с веревки?
– И что она? – наконец спросил лейтенант. – Фотомодель ваша. Хамит? Хулиганит? Компании пьяные водит?
– Ну водит… – согласилась Екатерина Семеновна. – Да не компании, все больше по одному да с букетами. Мужики. Разные.
– Получать букеты от мужчин – это еще не преступление, – хмыкнул Прозоров.
– А вот государственный орден носить как украшение – очень даже! – не выдержала Маргарита Петровна.
– Какой орден? – посерьезнел лейтенант.
К делу Прозоров подошел серьезно. Затребовал запись с камер наблюдения и теперь в компании старушек разглядывал стоп-кадр на экране своего ноутбука.
– Похоже на орден Мужества, – сообщил он. – Ленточка красная?
– Красная, – подтвердила Маргарита Петровна. – С тоненькой белой каёмкой.
– В какой, говорите, квартире она живёт? – спросил Прозоров, вызывая на экране таблицу с перечнем зарегистрированных жильцов дома.
– В семидесятой, – хором ответили старушки.
Лейтенант пролистнул список, посмотрел запись, затем переключился на другое окно, что-то быстро там набрал… и нахмурился.
– Вот что, – сказал он после непродолжительной паузы, – бдительность – это, конечно, хорошо. Но не в этот раз. Орден ваша соседка носит по праву.
– За что ж ей его дали?! Она ж молодая совсем! – всплеснула руками Семёновна.
– И вообще – модель! – поддакнула Маргарита Петровна, выделяя букву «е». – Когда это у нас моделям ордена раздавать стали?
– А это вы лучше у неё сами расспросите, – посоветовал Прозоров. – Я вам это настоятельно рекомендую.
С этими словами он уткнулся в бумаги, всем своим видом показывая, что прием окончен. Когда и это не помогло, лейтенант позвонил по телефону, сказал:
– Знаешь что, Серёга? Пригласи-ка ко мне Иванова. Да, наркоман который. Он тут у меня по одному делу проходит…
Брезгливо фыркнув, Маргарита Петровна удалилась, прихватив с собой и подругу. Заинтригованные пенсионерки заняли наблюдательный пункт на скамейке. Ждать им пришлось долго. Однако вечером Ангелина все-таки появилась. Одета она на этот раз была не в пример скромнее – платьице в горошек, босоножки, – но всё равно выглядела так, что хоть на обложку журнала.
– Постой-ка, доча, – сказала Маргарита Петровна, вставая с лавочки. – Спросить тебя можно?
– Конечно, Маргарита Петровна, – непринуждённо улыбнулась Ангелина. «Ишь ты, помнит, как меня зовут», – удивилась женщина, но подобное не могло сбить её с толку.
Старушка ухватила соседку за рукав:
– Ты тут давеча домой возвращалась, – медленно сказала Маргарита Петровна, – и мне показалось, что у тебя на груди был орден Мужества.
– Не показалось. – Ангелина смутилась, даже покраснела слегка. – Есть у меня такой орден.
– И за что ж тебе его дали? – перешла в атаку Маргарита Петровна. – Ты же такая молодая…
– Сама не знаю, если честно, – пожала плечами Ангелина. – Я просто делала свою работу.
– В Москве? – уточнила подтянувшаяся к беседе Семёновна.
– Да нет, не в Москве, – ответила Ангелина и замолчала…
Вдруг внушительная тень накрыла девушку и пенсионерку. Отбрасывал ее широкоплечий бритый детина. В руках у детины был очень пышный «веник» из роз в очень блестящей фольге.
– Ну здравствуй, Ангел! – пробасил он, протягивая букет девушке. – Вот я тебя и нашел. По телику тебя сегодня видел.
– Да что здесь вообще происходит?! – возмутилась Маргарита Петровна. – Вы, юноша, вообще – кто? И при чем тут телевизор?
Детина подобрался, выпрямился. Четко, по-военному изложил:
– Разрешите представиться, лейтенант Сергей Желтков! – и обернулся к девушке: – Это твои соседки, Ангел?
– Да, соседки мы, – вновь встряла Маргарита Петровна. – А вы-то к ней по какому делу? Вы жених будете или чего?
– Спасла она меня, – сурово поведал Сергей. – Вы разве не знаете, что ваша соседка – настоящий герой?
На войне не до длинных бесед. Говорить стараются как можно короче, в общении между собой чаще используют позывные или краткие прозвища. В военной медицине – тоже. В госпитале одного из донбасских райцентров, всё ещё частично оккупированного врагом, её звали просто – Ангел.
Хрупкая, нежная, невероятно красивая – и при этом смелая, умелая, выносливая. Не раз она выносила бойцов с поля боя. Были среди них и гиганты – морпехи, и десантники, и суровые «музыканты» Вагнера. Некоторые были чуть ли не вдвое больше девушки, но она вытаскивала их из боя, спасая жизнь, утекающую из ран вместе с кровью, когда счёт был буквально на минуты.
В тот день лейтенант Желтков со своими бойцами на двух «Тиграх» попал под обстрел.
– По нам бьют с миномета! – Вспышка, хлопки, несколько взрывов.
– Откуда работают?
– Вроде из посадки.
Машины оказались под прицелом врага на насыпи. Мина взорвалась прямо перед «Тигром».
– У нас «трехсотые»![2]
– Уходим, пока не накрыли! – скомандовал Желтков. – Мы их не видим! Над нами наверняка «птичка».
– Куда?!
Под насыпью была бетонная труба. Женька Кривых поливал врага из пулемёта, прикрывая своих ребят, перетаскивающих раненых в укрытие. Лейтенант Желтков вызвал подкрепление.
Один за другим ребята зажимали раны: кто – в ноге, кто в плече. Снаружи рвались мины. Казалось, еще немного и…
Тогда-то и появилась спасательная команда. Два БТР, машина БМД. Шквальным огнем наши стали работать по посадке, из которой нацисты вели огонь. Где-то вдалеке точку противника искал вертолет Ми-8. В трубу, где укрылись солдаты, скользнул хрупкий силуэт.
– Так, командир, – деловито спросила девушка, присаживаясь на корточки, – сколько у тебя раненых?
– Ты откуда здесь, сестричка? – удивился Желтков.
– Оттуда. Команда эвакуационная за вами приехала, – коротко ответила девушка. – Быстрее надо, пока их арта[3] работать не начала. Выходить будем или как?
– Будем.
– Так сколько у тебя раненых?
– Все, – ответил Желтков.
– Раз все, то и вытаскивать будем всех, – кивнула Ангелина.
– Постой, – сказал Желтков, – ты одна, что ли, вытаскивать нас собралась? Девочка, у меня половина на ноги не встанет…
– Тоже мне, удивил, – ответила Ангелина. – На войне всегда так. Перетаскаем, не впервой. Только сделайте, чтобы меня саму не убили за это время, лады?
И она стала таскать их – одного за другим. Тоненькая словно тростинка, казавшаяся нереальной, полупрозрачной в этом дыму и свисте пуль. Уж не привиделся ли им этот ангел милосердия в горячке боя?
Первый, второй, третий… Из трубы – наверх, в БМД. На шестом пуля чиркнула ей по шее, но лишь слегка. На одиннадцатом – в предплечье ударил осколок, но одежда смягчила удар. Ангел поморщилась от боли и тихонько выругалась. Последними были уже дважды раненный Желтков и Кривых, которому тоже не удалось остаться невредимым. Истекая кровью, пулеметчик упрямо волок свое орудие.
В тот день она спасла двенадцать жизней. Но Ангелина не считала это подвигом. Это была её работа.
– А ведь попадись такая сестричка моему папашке, может, и жив бы остался, – сказала Маргарита Петровна. – Он из танка-то выбрался, несколько километров прополз по целине, да замёрз и кровью истёк.
– У меня матушка тоже хрупкая была, – сказала Семёновна, – как наша Гелечка. А батя – увалень, под два метра. А ведь вытащила-то…
Маргарита Петровна вздохнула:
– Мы-то думаем: мол, перевелись богатыри на нашей земле. Молодёжь нашу хаем. А потом вдруг бац! – и Гелечка. Значит, не перевелись у нас герои. Нормальная у нас молодёжь…
Подруги помолчали. В кроне клёна перечирикивались воробьи.
– Ты, кстати, Алёшку Кузнецова давно видела? – спросила Маргарита Петровна.
– Да уж, давненько, – ответила Семёновна. – Аккурат, когда он себе на щеке татуху выбил в виде дракона.
– Да сбежал от мобилизации, – вынесла вердикт Маргарита Петровна. – Да, хорошая у нас молодёжь. Но не вся.
– Чего это сбежал? – хмыкнул Сергей Желтков. – Видал я вашего Алешку Кузнецова. И дракон при нем, две головы еще прям там и набили. Позывной у него теперь – Горыныч. В тот день Алёшки с нами не было. На Донбассе он до сих пор бьётся, вас защищает.
Маргарита Петровна не нашлась что ответить. А лейтенант Желтков кивнул боевой подруге:
– Ну что, Ангел, идем? Ребята в госпитале заждались уже.
И двое людей, у которых была самая важная работа на свете – помогать своей Родине, зашагали бок о бок, осиянные солнечным светом.
Бабушка
Жахнуло где-то совсем близко. Резкая, нестерпимая боль разошлась в бедре. Алым окрасился камуфляж. Дима, будто в замедленной съемке, видел, как двигаются его товарищи, как они что-то говорят, кричат друг другу, как Мишка орёт в рацию, но звук перекрывал гул в ушах. Словно в голове был огромный колокол – пульсировало, молотило и как если бы он был в наушниках с басами, выкрученными на полную мощь. Не стало ничего – только боль, выжигающая изнутри, и гул снаружи.
Олег и Мишка подхватили его с боков – снова боль – поволокли в укрытие. Потом все было, словно в тумане – кого-то еще тащили, кто-то стрелял, приехала подмога, санитары.
– Контузия, – констатировал санитар. – Степень определим позже.
Мир снова вернулся вместе с тонким тычком укола, колокол в голове и басы в ушах умолкали. Пошла по бедру горячая волна, как бывает, когда болело и грызло, а теперь отпускает и истерзанные нервы перестают надрывно сигнализировать в мозг. Димка понемногу пришел в себя. Его довезли до сборного пункта. Здесь, на бывшей автостанции, собирались раненые из всех подразделений, освобождающих посёлок. Санитаров было немного, и они в основном занимались тяжелыми.
– Я сам, – сказал Димка и поковылял от машины. Снова замутило, в глазах поплыло – сказывалась кровопотеря. Солдат рухнул на мягкий стул с рваным сиденьем и уставился вперёд. Раньше ему везло – пуля не цепляла. А здесь прошелся миномет, и осколок мины пропахал Димке ногу. Укололи, перевязали, он ждал, когда займутся осколком. Нога вновь стала болеть сильнее.
Пришла «мотолыга»[4] из бригадного госпиталя. Оттуда высадилось подкрепление в белых халатах. Один из прибывших санитаров решительно направился к Диме. Боец сначала узнал походку. И подумал: «Не может быть». Наверное, у него бред, галлюцинации или что там еще бывает от ранения. Не может быть.
Но это была она. Совершенно точно, никакой ошибки, обмана зрения, иллюзии. Это была она.
– Ба? – выдохнул Дима.
– Ну привет, внучок, – хитро прищурилась женщина. – Вот и свиделись.
Это действительно была она – Мария Богдановна, медицинская сестра на пенсии, старшая по подъезду, гроза ЖЭКов и окрестных забулдыг, строившая всех на своем пути – от непорядочных собаководов до неисполнительных чиновников. Мария Богдановна, которую боялся весь город и которую же обожали многочисленные внуки. Лихая, обаятельная, могучая, несгибаемая, непробиваемая, самая классная бабушка на свете – это действительно была она. Бабушка поправила смявшийся в пути белый халат.
– Ты… что здесь… делаешь? – не веря своим глазам, спросил Дима. Разговаривать было тяжеловато, но невероятное, невозможное появление бабушки заставило бойца преодолеть все барьеры.
– Работаю, – коротко ответила Мария Богдановна. – Показывай, что там у тебя.
– Ба!.. Тебе восьмой десяток… пошел… А как же твоя… поясница… – подобрал наконец слово внук. – Твои цветы, кошки… подъезд, соседки? Тебе… пирожки надо печь. А еще… лучше – отдыхать. Ты… уже свое отработала. Ты зачем… на фронт… приехала, ба?
– Разговоры разговаривать будем или дело делать? Помолчал бы, сокол подбитый. Или ждешь, пока само отвалится? Ну тогда я пошла, – фыркнула Мария Богдановна. Но тут же смягчилась, взглянув на бледного раненого Димку. – Показывай, говорю, ногу свою.
Развернула, покачала головой, обработала антисептиком, появившимся из сумки, вновь забинтовала.
– Собирайся, в госпиталь едешь.
Димка уехал на фронт последним из семьи. Вернее – предпоследним. Мария Богдановна, проводившая своих – сына, племянников и даже Галеньку-медсестричку, золовкину дочь, – осталась в Хабаровске. Каждого снабжала она «на дорожку» целым баулом провизии. И хотя Дима улетал на Ил-76, который к вечеру уже был в расположении части, он все равно увез с собой бабушкины разносолы, которые тут же разделил с новыми товарищами.
Бабушка была ответственным корреспондентом. Каждый из ее родных получал не меньше двух писем в месяц, где Мария Богдановна рассказывала о жизни в Хабаровске, справлялась, как дела у ее любимцев, и никогда не жаловалась. Она вообще никогда и ни на что не жаловалась – ни на скромную зарплату медсестры, ни на еще более скромную пенсию: отработавшая всю жизнь в больнице, она умела всё, ассистировала на сложных операциях, в ее руках побывало, казалось, полгорода, но все же сумма, приходившая каждый месяц
на карточку, была несопоставимой с ее заслугами.
Мария Богдановна не унывала: она вязала носки – на продажу и на фронт, снабжала всю семью и постоянных покупателей восхитительными соленьями и вареньями, держала в узде управляющую компанию, вступаясь за жильцов своего подъезда, выбила для дома капремонт. Но места за семейным столом зияли одинокими пробелами, каждую встречу разговоры у родни велись об одном. А там, на краю огромной страны, шла война – настоящая, кровопролитная война, какую родившаяся почти сразу после Великой Отечественной Мария Богдановна знала из первых уст, по рассказам отца. Сидеть и смотреть передачи «для тех, кому за…»? Она и в мирное время их не переваривала. И ни носки, ни соленья, ни капремонт, ни очередной обмен письмами с чиновниками не могли заполнить пустоту, образовавшуюся в сердце деятельной, неутомимой женщины.
И Мария Богдановна пошла в военкомат. У военных комиссаров глаза на лоб полезли:
– На Донбасс? Бабушка, а лет-то вам сколько?
– А сколько ни есть, все мои, – уперев руки в бока, заявила старушка. – Вы бумажки подписываете? Вот и подписывайте. А я людей лечу. Надо будет, и до Президента дойду!
Доходить до Президента не понадобилось, хотя, конечно, всё было непросто. Помогла одна из внучек. Оля работала в ОНФ, рассказала там про бабушку Марию – дело и задвигалось.
Сначала – три месяца обучения в Ростове. Потом Донецк – многострадальный город обстреливали каждый день. В тот день как раз накрыли больницу, куда прибыли «новобранцы», включая бабушку Марию, так что в работу она включилась сразу же по приезде.
Руководство сразу оценило её настойчивость, самоотдачу и золотые руки. Вскоре бабушка Димы стала старшим санитаром. Ей предлагали относительно спокойную работу в тыловом госпитале…
– Хотела бы я спокойствия, сидела бы в Хабаровске, – ворчала Мария Богдановна, вновь и вновь отправляясь со своей «мотолыгой» на передовую.
– Все наши живы, слава Богу, – рассказывала бабушка внуку, накладывая повязку поверх стяжки. «Мотолыга» быстро доставила в госпиталь Димку и его товарищей. Хирурги занялись тяжелыми, а в очередь к Марии Богдановне выстроились те, кто мог самостоятельно передвигаться.
Стяжку она делать, конечно, умела, хотя обычно этим занимаются врачи. Рана у Димы и правда оказалась не опасной, но противной – осколок сорвал кусок кожи и оставил неглубокую борозду, края которой бабушка и стянула, приговаривая: «Мужчину шрамы украшают». Страшнее была контузия, но Димка разговаривал довольно сносно, а значит, все было в общем неплохо.
– Дядя Вова в госпитале, – продолжила старушка. – Они с Валеркой в артиллерии, на гаубице; недавно по ним прилетело, Валерке ничего, а у Вовки – пуля в плече. Женька в разведке, недавно ему награду какую-то вручили, наверно, поедет к Оленьке своей, в отпуск. Я за тебя словечко замолвлю – может, тоже наградят и отпустят…
– Да не надо, бабушка, – засмущался Дима. – Зачем?
– За надом, – безапелляционно ответила старушка. – Нечто, ты Вику свою повидать не хочешь? Она про тебя справлялась даже перед моим отъездом.
– Она мне пишет, – признался Дима. – По электронке, так что я не всегда могу посмотреть.
– Ну вот, полежишь в госпитале, с Викой попереписываешься, – ласково сказала Мария Богдановна.
– Вот еще! – встрепенулся Дима. – А воевать кто будет?
– Сразу чувствуется, моя натура, – гордо улыбнулась бабушка. И тут же строго сдвинула брови. – Но положенное – отлежишь.
Димка вздохнул. Когда ба так смотрит, тут уже не поспоришь.
«Мотолыга» умчалась обратно на передовую, увозя с собой санитаров, среди которых была семидесятипятилетняя Мария Богдановна. Дима, конечно, волновался – нацистам закон не писан, могут и обстрелять. С другой стороны, несмотря на всю помощь Запада, снарядов у бандеровцев стало сильно меньше. Даст Бог – пронесёт.
Дима вспомнил, что бабушка хотела походатайствовать за него, чтобы ему вручили награду. Но он знал, КТО её действительно заслуживает. Боец дал себе обещание – после Победы обязательно написать в Министерство обороны о своей бабушке, чтобы её наградили.
Надо будет – он к этому делу всю семью привлечёт. Будет у бабушки орден! Они этого обязательно добьются – если, конечно, награда не найдёт её раньше. С таким характером, как у бабушки Марии, это было бы весьма вероятно.
Отпусти мне, батюшка, грехи
В израненном храме через разбитую крышу на пол льётся золотой свет весеннего утра. Он золотит нимбы святых на пощербленных осколками иконах, он играет солнечными зайчиками на лицах прихожан, ожидающих исповеди.
Пожилой диакон степенно обходит храм, оставляя за собой приятный запах ладана из кадильницы. Чтя традицию, люди оборачиваются к нему лицом и потому не сразу замечают, как из алтаря выходит батюшка, который будет их исповедовать.
Батюшка идёт медленно, сильно припадая на левую ногу. Один его глаз прикрыт белой повязкой, за которую его причет зовёт «Володей Освящённым» – по аналогии с древними страстотерпцами. Встав у аналоя, батюшка подзывает к себе исповедников и начинает зачитывать молитвы, но на миг прерывается, увидев среди пришедших какого-то, очевидно, знакомого ему человека.
Закончив читать молитвы, отец Владимир устало садится на раскладной стульчик у аналоя и начинает Таинство. Первыми к нему подходят дети. Детей исповедовать легко – маленькие люди ещё не успели сделать ничего по-настоящему плохого; но эта исповедь очень важна, важно, чтобы человек с самого раннего детства привыкал быть с Богом, стараться не огорчать Небесного Отца своими поступками.
«Благослови, владыко!» – восклицает диакон. Начинается служба, но у отца Владимира – своё служение, исповедь. Один за одним к нему подходят люди, и отец Владимир знает, какой ад прошли все они за долгие восемь лет оккупации. Их городок лишь недавно освободили от бандеровцев, и почти сразу возродилась служба в полуразрушенном храме. Сейчас храм восстанавливается, и отец Владимир, несмотря на раны, как может, помогает в этом деле. Он знает одну простую истину, которой охотно делится с окружающими: когда тебе плохо, самое лучшее лекарство – помощь тем, кому ещё хуже.
Исповедь проходит быстро – многие приходили в храм на вечернюю службу и исповедались на ней. Другие приготовили листики из тетрадок и блокнотов, на которых записали свои грехи – кто-то по порядку, кто-то вразнобой, потому отец Владимир прочитывает их все. Потом разрывает листочек, накрывает голову исповедующегося епитрахилью…
«Прощаю и разрешаю» – а ведь это так важно! Человек бывает связан своими прошлыми грехами, парализован ими, а у священника есть власть избавлять людей от этой кабалы. Но сегодня, судя по всему, отцу Владимиру предстоит испытание. Он знает об этом, ждёт – и, как ни старается, не может избавиться от воспоминаний.
– А ну-ка, поп, скажи: «Слава Украине»!
– Слава Господу нашему, Иисусу Христу!
– Ты только посмотри на него, ещё кочевряжится! Н-на!
Он помнит, как отправил свою семью в эвакуацию. Жена плакала, а дети просто не понимали, почему они уезжают, а папка остаётся. Пожилая тёща у самого автобуса сказала:
– Поезжал бы с нами, Вова! Ты же знаешь, что то за люди! У них нет ничего святого…
– На кого же я свой приход оставлю? – пожимал плечами отец Владимир. – Что это за пастырь, что бросает овец при виде волка?
Он остался. Какое-то время его не трогали. Приезжали какие-то люди, агитировали вступить в ПЦУ к раскольникам. Сначала уговаривали. Потом угрожали.
– Мы не допустим на Украине москальских попов!
– Я не «москальский поп». Я служу Богу. Для Бога нет ни «москалей», ни «хохлов». Поэтому я и не перейду в вашу церковь. Бог принимает всех, а не только «расово правильных».
Такие слова не могли не выйти боком. Но Бог хранил и батюшку, и его приход. Правда, весьма своеобразно – нацисты втащили в усадьбу храма гаубицу, стреляли из неё по ополченцам, не боясь ответного огня, поскольку ополченцы никогда не стали бы стрелять по храму, по школе, больнице… свои орудия оккупанты как раз и размещали – у храмов, школ, больниц, в детских садах…
Ничто не бывает вечным. Позиции бандитов, конечно же, скоро стали известны командованию освободительной армии. В один прекрасный день высокоточный снаряд «Краснополь» с ювелирной точностью накрыл бандеровскую гаубицу, не повредив ничего вокруг. В тот же день, во время вечерней службы, за отцом Владимиром пришли. Он тогда вздохнул с облегчением: больше всего батюшка боялся, что за ним придут на утренней службе и осквернят Святые Дары.
Благословив дьякона закончить службу, отец Владимир протянул руки, на которых защёлкнулись наручники. Среди тех, кто пришёл за ним, были его прихожане – те, кто между Богом и нацизмом выбрал нацизм. Всю дорогу до своего узилища отец Владимир молился за них: «Прости им, Боже, ибо не ведают, что творят!»
Куда деться от этих воспоминаний? Рука привычно заносит епитрахиль, вторая осеняет кающегося крестным знамением, а перед глазами всё то же…
Его бросили в подвал Дома культуры, занятого эсбэушниками. Подвал был низким – не разогнуться в полный рост, тем более отцу Владимиру, грязным, а главное – влажным: воды, точнее, какой-то дурно пахнущей жидкости, было по щиколотку. Заключённые – а кроме отца Владимира в подвале было ещё несколько человек, посаженных за «пророссийские взгляды», – жили, забравшись на грязные трубы. На трубах ели, на трубах спали. В качестве отхожего места использовали находившийся в выгородке бетонный колодец со скользкими краями.
И это было ещё не самое страшное. Как и кормёжка. Заключённых кормили мало и нерегулярно. В основном давали хлеб, иногда – какую-то жуткую, подгоревшую кашу. Ещё хуже было с водой – её выдавали изредка, по кружке на человека в день. С жаждой боролись, собирая со стен и низкого потолка испарину. Она пахла подвалом, и организм поначалу отказывался принимать её.
Но человек привыкает ко всему. Даже к пыткам.
Пытать начали под конец. Сначала увещевали:
– Мы вас немедленно выпустим, мы восстановим вас в сане и даже поможем отремонтировать церковь…
– А что с церковью? – Сердце болезненно сжалось.
Нацист отводит глаза.
– Ну… был бой…
Что такое «был бой», отец Владимир узнает намного позже, когда в уже освобождённом городе вновь войдёт в ограду храма. Нацисты стреляли от церкви из «града», реактивные снаряды сильно повредили крышу, выбили окна, снесли главки. А потом, когда город освобождали, во дворе разорвалось несколько мин. Осколки залетели в храм, изранили фрески на стенах, пробили оба запястья большого заалтарного образа Одигитрии, словно у Матери на руках появились раны Сына…
– Чего вы хотите от меня? Я не солдат, я не воюю с вами. Я молюсь Богу.
– Вы – участник антиукраинской группы! Если вы просто молитесь Богу – какая разница, в каком патриархате? Переходите в ПЦУ, заявите о том, что не согласны с патриархом, благословляющим войну.
– Патриарх не благословляет войну. Он молится за мир. А я не могу перейти к тем, кто является раскольниками. Если бы вам предложили перейти, скажем, в российскую армию?
Нацист воровато оглядывается и тихо шепчет:
– Да хоть сейчас. Но свои мочканут. Так что приходится тянуть волыну, чтоб её…
Потом он куда-то пропал. Пришли другие – с чёрными лицами, хотя и с белой кожей. Они говорили только по-украински, притом с каким-то странным акцентом. Они начали пытать и расстреливать.
Его били – руками, ногами, обрезком трубы, цепью от велосипеда. Ему плоскогубцами выдернули ногти на ногах и несколько зубов. Левую ногу зажимали в тиски и выкручивали. А однажды «хорунжий Ондрейко» выколол ему глаз и собирался выколоть второй, да его остановил его командир. Отвёл в сторону и что-то долго говорил, не обращая внимания на истекающего кровью отца Владимира.
Пришлые бандеровцы жили прямо в Доме культуры – жили семьями, с женами и детьми. Это было похоже на жуткую пародию на цыганский табор – нары вдоль стен, бельё на верёвках, женщины и чумазые дети, сгрудившиеся у буржуек, на которых варили еду… и рядом кого-то пытают, человек кричит, но на него никто не обращает внимания…
С наступлением холодов в подвале стало ужасно холодно. Там постоянно умирали – кто-то замерзал, кто-то от пыток, от истощения. Отец Владимир служил за них заупокойную – как могу, поскольку у него даже нательный крест отобрали, а если успевал – то причащал, водой и хлебным мякишем, который носил с собой. Он даже служил службы – по памяти, и вскоре все заключённые подвала стали его паствой. Службы служили тихо, чтобы не привлекать внимания охраны.
Однажды, готовя Святые Дары перед нацарапанным на побелке крестом – его единственной иконой, отец Владимир увидел, что справа от него кто-то стоит. Лица мужчины он не рассмотрел, видел только силуэт, окутанный сиянием. Намного позже батюшка понял, что вообще не мог ничего видеть – человек стоял со стороны выколотого глаза.
…Он стоял тихо, а потом осторожно коснулся плеча и сказал:
– Не бойся, доколе повергну врагов твоих у ног твоих.
– Кто Ты? – спросил отец Владимир шёпотом.
– У тебя в кружке Моя плоть и кровь, – ответил незнакомец – и исчез.
В то утро их вывели на расстрел. Так им сказали. Заключённые недоумевали – зачем тратить на них пули? Несколько человек бандеровцы просто повесили, а теперь расстрел.
Им надели на головы мешки, погрузили в машину и повезли. Затем машина остановилась. Заключённые сидели тихо и услышали, как вдалеке кто-то переговаривается:
– Как договорились? Мы вам их оставляем, а вы нас выпускаете?
– Оружие сложите и валите, куда глаза глядят.
Какое-то время что-то происходило, но что – ни отец Владимир, ни его собратья по несчастью не знали. Потом скрипнул борт кузова, затем отца Владимира кто-то подхватил на руки – могучий священник исхудал до сорока пяти килограммов! – отнёс и заботливо уложил на что-то мягкое. Мешок с головы сняли, и батюшка понял, что находится в санитарной машине. А рядом были солдаты с буквой Z на шевронах… свои!
В госпитале отца Владимира спросили, нуждается ли он в помощи психолога.
– Я нуждаюсь в том, чтобы служить литургию, – ответил тот, хотя израненное тело, оказавшись в полном покое, поведало ему всё, что с ним сделали за это время, – болело всё, что только могло болеть. – У вас есть здесь храм?
– Конечно, – ответил врач. – Но вам пока рано служить. Поправляйтесь, набирайтесь сил…
Тот же врач рассказал батюшке, что его храм освободили и что командование уже пообещало помощь в его восстановлении. Отец Владимир оказался единственным выжившим из трёх клириков и после выписки из госпиталя стал настоятелем своей церкви, на которую военно-инженерные части краном водрузили сброшенные взрывами главки.
И вот он здесь, поют Херувимскую, а к нему подходит тот, кто когда-то держал его в подвале. Он не пытал, пытали другие, пришлые. Но он был среди тех, кто арестовал отца Владимира. Он держал батюшку в подвале. Он угрожал…
И его надо простить. Насколько велико твоё сердце?
Мужчина всю службу стоит склонившись, не поднимая глаз. У аналоя он становится на колени…
«Повергну врагов твоих у ног твоих».
– Вадим, – говорит его тюремщик хриплым, изменившимся голосом. А он вспоминает, как тот говорил ему, что готов перейти в Российскую армию, но боится мести – от «своих». – Батюшка, я всё решил. Я прятался в городе, когда ваши его взяли. Но нельзя прятаться вечно. Вы пришли навсегда. Я решил сдаться. Но сначала – хочу покаяться.
– В чём? – спрашивает отец Владимир.
Исповедник на мгновение замирает, потом говорит:
– А разве вы не знаете?
– Важно, чтобы вы это знали, – отвечает священник.
– Я потерял человеческий облик, – отвечает Вадим. – Поверил в то, что я – представитель «высшей расы». Я… отче, мне стыдно.
– Это хорошо, – отвечает отец Владимир, видя, что мужчина плачет. – Стыд и боль очищают душу. Говори мне, что ты сделал, а потом повтори это тем, к кому придёшь сдаваться.
– Я боюсь, – признаётся мужчина в конце исповеди. – Я сотворил такое… я боюсь, что Бог никогда меня не простит.
– Пусть этот страх направит твои руки, – отвечает отец Владимир. – Пусть он направляет тебя в дальнейшей жизни. Ты жив, а значит – можешь всё искупить.
Пройдёт время – и Вадим вернётся в этот храм вместе с командой заключённых, чтобы участвовать в ремонте. Он окажется мастером на все руки – справится и с сантехникой, и с электрикой. Потом пропадёт, но через несколько лет, когда на улица этого русского городка уже ничто не будет напоминать ни о войне, ни о какой-то Украине, вернётся и попросится в служки. Со временем дорастёт до церковного старосты.
Но это уже совсем другая история…
Мама
Глава сельсовета деревни с нежным именем Кринички, которого все по-простому звали дядей Мишей, зашёл к Серафиме Ильиничне рано поутру, ещё до рассвета. Серафима только-только подоила корову Ладу и как раз выходила из сарая с ведром парного молока, накрытым чистым подойником. Молока в ведре, правда, было литра три, не больше – на сене Лада доилась плохо, но Серафиме Ильиничне и того хватало с лихвой – жила она одна. Что не выпивалось, шло на творог, простоквашу-кисляк или сметану; их Серафима отдавала дочке бригадира Машеньке, та возила их в райцентр со своим товаром и продавала на привокзальном рынке, покупая «тёте Симе» продукты, каких в деревне не было, – конфеты, печенье, чай…
– Здравствуй, Симочка, – поздоровался дядя Миша.
Ему было под восемьдесят, но бывший лучший комбайнёр района сдаваться старости, кажется, не собирался. В четырнадцатом хотел даже в ополчение пойти. Усталый военком посмотрел на «новобранца» хмурым взглядом и сказал:
– Ну куда вам на фронт? Или думаете, что в тылу мужские руки не нужны? Если загребём всех подчистую, кто на земле работать будет, бабы?
Дядя Миша по этому поводу переживал сильно и почти год ходил хмурым, как туча. Потом, правда, отошёл – бандеровцев остановили, организовали им несколько знатных котлов и отбросили назад. В Кринички тем временем вернулось несколько односельчан, ушедших в ополчение и демобилизованных по ранениям. В итоге председатель сельсовета и его «слабосильная команда» скрепя сердце занялись мирным трудом. Восстановили ферму, разрушенную обстрелом бандеровцев, поставили на ход несколько стареньких тракторов и комбайнов, засеяли поля, собрали урожай…
А рядом шла война, и, хотя до Криничек боевые действия так и не докатились, война чувствовалась во всём, её мрачная тень накрывала посёлок, как мгла далёкий Иерусалим…
– Здравствуй, Михал Григорич, – ответила Серафима. – По делу пожаловал или так, мимо шёл?
– По делу, – кивнул дядя Миша.
– Так заходи, чего за калиткой стоять? – сказала Серафима, направляясь к дому. – Погодь, я сейчас ведро занесу, а потом посидим, чайку попьём. Мне Маша из райцентра привезла накануне какой-то чай «Седой граф». Необычный, но вкусный. И печенье «Любятово» – раньше такого не было.
– Да я на минуточку, – извиняющимся тоном сказал дядя Миша, заходя в калитку. Пёс Дружок вылез, гремя цепью, из конуры у курятника, повёл носом, лениво гавкнул, исполняя свой собачий долг – дядю Мишу он знал. – На пару слов, некогда мне чаёвничать, но за приглашение спасибо.
– Что ж у тебя за срочное дело? – удивилась Серафима. Жизнь в далёких от фронта Криничках, несмотря на войну, текла размеренно, и чрезвычайных происшествий в них почти не бывало.
– Тут такое дело, Сима, – сказал дядя Миша, понизив голос. – К нам в Кринички отводят роту морпехов с передка. Будут они здесь пару дней, пока им подкрепления не пришлют, потом опять на фронт. Решили их на постой по хатам поставить, не в чистом поле ж ребятам ночевать…
– Да уж точно, – согласилась Серафима. – Думаю, поле им и на передке осточертело. Ты мои условия знаешь – у меня три кровати, сама я и на печке перебедую.
– Сима, – серьёзно сказал дядя Миша, – не могу не сказать – знаешь же, что у нацистов теперь есть эти… как их, бесов? – «гаймарсы». А наши черные бушлаты у них в печёнках сидят не хуже «оркестра». Они их давеча с помпой «хоронили» – по ошибке раздолбали свою же колонну, засняли на видео и сказали, что это морпехи. Всё вскрылось, конечно, но теперь нацисты на наших ещё больший зуб затаили. Могут своим… как его, всё забываю… геморроем этим приложить. Из пушек по воробьям, конечно, но наши воробушки их так заклевали, могут и решиться.
Серафима поставила на крыльцо ведро с молоком, выпрямилась и упёрла руки в боки:
– Ты что ж, дядь Миша, думаешь, я твоих «хаймарсов» испугаюсь?
– Они не мои, – смутился дядя Миша, – они американские.
– Сказала, что троих бойцов приму – и баста, – отрезала Сима, потом смягчилась: – Себе-то сколько берёшь?
– Восьмерых, – потупился дядя Миша. – Знаешь же, дом у меня большой, два этажа. Места хватит…
После ухода главы сельсовета Серафима развила бурную деятельность: принесла дров, натаскала воды, из погреба нанесла овощей, сала, молока с творогом; зарезала курицу Юльку, самую жирную и вредную в курятнике. Ощипала, выпотрошила, начистила и нарезала овощей, поджарила на сале заправку и поставила в печь чугунок борща. Пока варился борщ – вымела хату, вымыла полы, перестелила чистым бельём три панцирные кровати. Сама ещё успела переодеться – надела яркую кофту, юбку, повязала платок и только закончила, как звонкий лай Дружка оповестил о прибытии гостей.
Они вошли во двор – три ладных, молодых парня. Чёрных бушлатов у них не было, обычный камуфляж, но из расстёгнутых воротов поглядывала «морская душа» – грозная тельняшка, которую враги боятся не хуже гаубиц и ракет.
– Добрый день, – сказал старший из них немного смущённо, что выглядело странно. – Вы Серафима Ильинична? Нас к вам на постой отправили.
– Заходите, заходите, сыночки, – улыбнулась Серафима. – Знаю, что отправили, давно жду уже. Проходите в хату, родненькие, я вам сейчас обед справлю.
– Ну что вы, не стоит беспокоиться, – сказал второй боец, опередив командира, – у нас с провизией всё хорошо, ещё и с вами поделимся.
– Да знаю я вашу провизию, – махнула сухонькой рукой Серафима. – Дед мой Филипп, упокой, Господи, его душу, что до Праги в войну дошёл, так говорил: в армии не так страшна бомбёжка, как кормёжка.
Ребята заулыбались.
– Где у вас умыться можно с дороги? – спросил старшой.
– Вон у колодца рукомойник, – показала Серафима. – Вы уж простите, у меня по-простецки всё. Сыновья перед войной насос для колодца справили было, да он забарахлил из-за перебоев со светом. Так что вода из колодца, умываюсь в рукомойнике, а уборная, простите, за погребом.
Старшой быстро зыркнул на самого младшего. Тот кашлянул:
– Можно, я потом ваш насос посмотрю?
– И сбегаешь к Кузьмичу, – приказал ему командир группы. – Пусть автомат даст, чтобы от перебоев линию защищать. Справишься?
– Ну, командир, не впервой, – улыбнулся тот.
– Вы, вообще, если надо помочь что, говорите, – продолжил старший, обращаясь к Серафиме. – Не стесняйтесь, пожалуйста, и вам легче будет, и мы без дела сидеть не будем. Вижу, хозяйство у вас большое…
– Да где там большое, – пожала плечами Серафима. – Коровёнка Лада да десяток курочек. Пока муж был да сыновья помогали, и поросят держали, и овечек, и кролики были. А сейчас сама не утяну. Спасибо дяде Мише, голове нашему, помогает с сеном да с дровами…
В хате ребята сбросили верхнюю одежду, поставили в углу тактические рюкзаки, а потом достали из большой сумки гостинцы – в основном консервы и сладости. Серафима тем временем накрывала на стол. Она постелила вместо видавшей виды клеёнки белую скатерть, расставила посуду из старого буфета, потом разлила по глубоким тарелкам вкусно пахнувший борщ, позаботившись, чтобы каждому бойцу досталось по хорошему куску мяса. Себе плеснула поменьше, хотя в чугунке ещё хватило бы, но вдруг кто-то захочет добавки? Добавки, кстати, захотели все трое, но вначале раззнакомились.
Старшим в группе был сержант по имени Виктор. Вите было двадцать шесть, родом он был с Урала, из Магнитогорска. Служил по контракту, после службы думал поступать в военную академию.
Контрактником были и остальные двое. Среднего звали Ярослав, или просто Слава. Он был родом из Питера, мечтал строить корабли – и отец, и дед Славы были связаны с конструкторским бюро Балтийского завода. Слава был ефрейтором, как и третий, самый младший боец. У того было очень необычное имя – Сила, что неудивительно. Отец Силы был священником, а семья его была из Краснодарского края. Сила был на удивление рукастый – разбирался в электрике, в сантехнике и впоследствии настроил Серафиме колодезный насос, а старый счётчик с пробками заменил на новый, с автоматами защиты.
Сытно пообедав, ребята занялись делами. В большом хозяйстве Серафимы, конечно, накопилось много проблем – где-то забор покосился, где-то в двери несмазанные петли стёрлись, где-то сквозило из-под рамы…
– Хороший у вас дом, – сказал Виктор, прибивая оторвавшийся наличник.
– Дед мужа ставил, – ответила Серафима. – Как с войны вернулся. Он в Ленинграде был, в блокаду. Вернулся худой, как скелет, и ушёл рано – семидесяти не было. Но дом построил. Плотник он был от Бога. На нашем околотке половину домов выстроил.
– Я заметил, – добавил Слава, который щепил доску на штапики для окна взамен прогнивших. – Характерный резной рисунок тех же наличников по всей улице, как у нас на севере.
– Муж мой тоже так умел, – сказала Серафима. – Рукастый был в отца, в деда. И сыновей научил.
– Он умер? – осторожно, чтобы не задеть чувства, спросил Витя.
– Давно уж, ещё до войны с бандерой, – ответила Серафима. – Он в шахтоуправлении бригадиром был, да заработал силикоз. В тринадцатом подхватил ураганное воспаление лёгких, за месяц сгорел…
Помолчали. Тем временем вернулся Сила.
– Я по телевизору передачу смотрела, про Ковид, – добавила Серафима. – До нас эта зараза не дошла, но то, что я увидела, очень похоже на то, как мой муж умирал. В Артёмовске, говорят, американская лаборатория, оттого бандеры за него и держались. Думаю, может, оттуда что-то просочилось? – Она вздохнула, потом обратилась к Силе: – Кстати, телевизор у меня совсем плохо показывает, видать, с антенной плохо. Не посмотришь, сынок?
– Посмотрю, – пообещал Сила, – как с насосом управлюсь и счётчик заменю.
Антенну Сила, конечно, тоже наладил – снег с изображения и треск в эфире исчезли, картинка стала чёткой, не хуже, чем в Москве или Питере. Но смотреть не стали – вместо этого, поужинав жареной картошкой с тушёнкой из солдатских гостинцев, уселись чаёв-
ничать.
– А неплохая у вас галерея, – заметил Виктор, разглядывая фотографии по стенам. Фотографии были увешаны расшитыми рушниками, их было действительно много.
– Ну, так то ж семья, – сказала Серафима. – Вон дед Филипп с бабушкой Марусей, – указала она на старое фото моряка, стоявшего под руку с красивой женщиной с длинной толстой косой, – а это – мой дед Мирон и его жена Катерина. Вот это – родители наши, мой отец Илья, и мама Ида, и отец мужа, тёзка твой, Витя, с мамой Настей. Это фото с нашей свадьбы – тут ещё мой брат Сергей, и мужнины брат с сестрой – Коля и Оля. Олю жалко, она в Киеве сидит,
уехать не может. Мать её мужа ногами не ходит, с собой не увезёшь, и одну не бросишь. Колька на Дальнем Востоке, а Серёга – на Черноморском флоте служит, капитан.
– А эти добры молодцы кто? – спросил Сила, указывая на фото, где Серафима Ильинишна с мужем сидели в окружении трёх справных юношей, чем-то похожих на её нынешних гостей.
Серафима ответила не сразу. Ребята обеспокоенно обернулись к ней.
– Сыновья это мои, – наконец сказала она. – Справа – старший, Илюша. Слева – Витя, а посерёдке – Миша. Все трое воюют сейчас. Илюша ранен был тяжело, у Саур-Могилы. Глаз потерял, но на фронт вернулся, санитаром. Витя в танке горел, но тоже Бог миловал – так и воюет танкистом. Мишеньку Бог бережёт, хотя он в самое пекло ходит – разведка. Пишут они мне, но редко, новости о них я через знакомых узнаю.
Стало тихо, так тихо, что было слышно, как гудит спираль лампочки накаливания и постукивают по стеклу ветки шиповника и сирени, растущих у дома.
– Сохрани их, Господь, – тихо сказал Сила, и ребята вместе с хозяйкой торопливо перекрестились на висящие в углу образа…
– Жаль, что вы уже уходите, – сказала Серафима на прощание.
Прошло три дня, часть, где служили ребята, получила пополнение. Вместе с пополнением прибыли гостинцы, которыми бойцы щедро делились со своими квартирными хозяевами. Теперь у Серафимы в буфете был годовой запас консервов, сладостей, чая…
За эти три дня Витя, Слава и Сила стали Серафиме как родные. Вернее, не так – как родные они стали сразу же по прибытии. Но в эти три дня Серафима чувствовала себя так, будто вернулись с фронта её сыновья.
«А ведь они тоже, как эти ребята, где-то останавливаются на постой, – думала она. – Дай Бог, чтобы их тоже принимали, как родных».
Ребята молчали. Было видно, что им тоже грустно.
– Вот уйдёте, а у меня и памяти не останется?
– Почему не останется, тёть Сима? – спросила из-за забора Машенька, которая тоже забежала попрощаться. На следующий день по прибытии бойцов «в распоряжение Серафимы Ильиничны» Маша зашла к тёте Симе, вернувшись из города, – и познакомилась с морпехами. А ещё точнее… в общем, так как-то получилось, что между ней и Силой возникла, как говорит молодёжь, химия. Друзья по этому поводу подтрунивали над поповичем; тот смущался. – Давайте я вас на телефон щёлкну? А потом ребятам вышлю фото, а вам, тётя Сима, в городе распечатаю и привезу.
– Мне вышли, хорошо? – тихо сказал Сила. – Только я не сразу отвечу. Мы мобильниками не пользуемся, когда на передке. Враг по ним арту наводит.
– Конечно, вышлю, – тихо сказала Маша. – И… я подожду, пока ты ответишь.
Она вздохнула, а потом решительно сказала:
– Становитесь-ка у вербы, вы, тёть Сима, у вербы, а ребята – кружком…
Теперь у Серафимы Ильиничны в доме на стене висит новая фотография. Она очень похожа на фото, где она с сыновьями. Вот только вместо Ильи, Вити и Миши – другой Витя, а ещё Слава и Сила. И Серафима Ильинична знает, что они все вернутся к ней. Её сыновья познакомятся между собой. А Сила сделает предложение соседке Машеньке – если ещё не сделал. Хотя Маша, наверное, сказала бы.
Батя
– Уходи, Отец, а мы прикроем!
Короткая передышка. Минометный обстрел бывшей трактороремонтной мастерской, взятой взводом, продолжался, но нашим удалось откинуть бандеровцев.
Ребята у него – просто орлы, даром, что половина с гражданки и до спецоперации пороху не нюхала. Все быстро влились в боевую семью, каждый стал настоящим воином. Отец считал это чудом – сторонний наблюдатель, конечно же, увидел бы, что это чудо произошло только потому, что взводом командовал опытный офицер.
От боли всё плыло перед глазами, но он силой воли «навёл резкость», сосредоточился на Володе Сивцеве.
– Отставить разговоры! Ты же видишь, сам я уйти не могу. Придётся нести. Это минимум два бойца, а у нас каждый человек на счету!
Володя нахмурился:
– Отец, тебе в тыл надо. Ты же кровью истечёшь! Там тебя подлатают, в строй вернёшься. Да отобьём мы бандеру! Что ты, нас не знаешь?
Он знал. Не сомневался, что отобьют. Позади было уже две атаки; по покрытому тонким слоем снега полю были разбросаны трупы нацистов. Те шли в бой, не прячась от пуль, и после попадания умирали не сразу, проходя несколько шагов. У многих это вызывало панику, но только не у его ребят. Во-первых, они у него были бесстрашные, а во-вторых, встречались уже с «украинскими боевыми зомби».
Секрет прост: в еду или в воду солдатам ВСУ подмешивали психотропные вещества в таких дозах, которые напрочь вырубали инстинкт самосохранения. Его группа брала таких живьём. Долго те, правда, не протягивали – химия в крови убивала не хуже пули. То есть победят «наркоманы» или проиграют, конец всё равно один – смерть. Страшная война.
Он видел и другие. Был в Афгане, ещё срочником. Был в Чечне, оба раза. Прошел Югославию, Карабах, Сирию. Встречались ему и моджахеды под гашишем, и обдолбанные «чехи», и албанские головорезы на героине. Но там всё-таки было не так цинично.
Один из захваченных вуек[5], умирая в нашем лагере, плакал. Так посмотришь – нормальный пятидесятилетний мужик, всю жизнь проработал на земле. Трое детей, внуки уже пошли. Был в райцентре – у вокзала «приняла» военная прокуратура. Зашвырнули в товарняк – и на юг.
На нем, на мужике этом, ни одной раны даже не было, ребята и не приложили его ничем – подставили подножку, он свалился, как куль, тут его и скрутили. Ничего не умел, ничему не обучили, только дали в руки автомат, накормили «наркотой» – и в бой. Ни одной раны, ни одной царапинки – он умирал от «таблетки храбрости», превращавшей людей в боевых зомби.
Почему перед смертью вспоминается такое? Разве это логично? Правильно вспомнить свой дом, семью. Любящую жену Машеньку, которая двадцать пять лет назад ухаживала за ним в госпитале Ростова, детей и внуков, родителей, друзей…
Мысли путались, боль мешала думать связно – крупный осколок ударил в бок, кто знает, что он там натворил, но рёбра сломал точно. Как минимум одно легкое пробило: отсюда была и красная пена на губах, и противный солёно-стальной привкус во рту.
Раздалось несколько выстрелов – наверно, бандеры опять поднялись в атаку.
– Уходи, Володя, к своим ребятам, – сказал он. – Отобьёте атаку – поговорим. Может, и соглашусь на госпиталь.
Володя шел, сжав кулаки, вогнав ногти в ладони. Оба они знали – ни на что Отец не согласится, хотя жизнь уходила из его тела вместе с вытекавшей из раны кровью. Но с командиром не спорят.
Он сам воспитал своих ребят. И уж кто-кто, а Отец точно знал, что его ребята с этим справятся, но… Чужих у него здесь не было. Отец вспомнил, как принял взвод. Комиссованный по ранению, он был словно списан со счетов. Ему полагались пенсия, выплаты, полагалось дожить вместе с семьей положенную старость. «Дожить». Он ненавидел это слово. Он не хотел доживать, он хотел жить – столько, сколько отмерит ему судьба, но именно жить. И потому не стал дожидаться мобилизации, а отправился на Донбасс в самом начале спецоперации. Предложили отправиться в штаб, но он хотел обучать мобилизованных, думал – кто обучит всему этих желторотых? Он выживал в самых «горячих» точках, и знания, добытые кровью, нужно было обязательно передать – новому поколению бойцов. Вот почему майор в отставке взял взвод – пятьдесят необученных ребят, которые видели войну только в кино. Все они служили на гражданке. Реальная военная жизнь могла сломать их, а уж первый боевой опыт точно прошёлся бы по ним паровым катком. И это было то единственное, что объединяло его «птенцов». Все они были разные – прибывшие со всего Донбасса, юнцы и мужчины с семьями, флегматики и холерики, задиры и тихие интеллектуалы, ребята «от станка» и те, кто тяжелее авторучки ничего в жизни не держал…
Сейчас они стали одной семьей. Пятьдесят братьев. И объединял их он – майор Прокофьев. Майор, который командовал взводом, – нонсенс для российской армии, но на Донбассе и не такое бывает. Они звали его Отцом – по сути, так и было.
Вот и выходило: на одной чаше весов оказалась его семья, жена Машенька, дети, внуки, ждавшие его с войны, а на другой – пятьдесят «сыновей», инженерно-штурмовой взвод. И приходилось выбирать.
Наверное, его действительно ещё можно было бы спасти. Не так много крови он потерял, да и медики наши – настоящие чудотворцы. Но эти полсотни – они же без него осиротеют. А им надо было держаться. Увезут Отца, и бойцы сникнут. Подмога вот-вот придёт. Важно было удержать сейчас эту давным-давно брошенную мастерскую, где среди рухнувших навесов навеки застыли проржавевшие трупы тракторов и комбайнов. Почему это было важно? Потому что ремонтная мастерская пополам разрезала оборонительную линию бандеровцев. Сейчас наши соберут ударный кулак – и прорвут эту оборону через брешь, прикрытую ребятами из его взвода.
