Россия. Путь к Просвещению. Том 1 бесплатное чтение
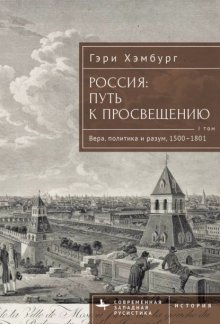
Посвящается Нэнси, Рейчел и Майклу, а также памяти моих родителей
Благодарности
Как рассказать об истоках этой книги и поблагодарить всех, кто внес вклад в ее создание?
Ее появлению более всего поспособствовали три человека. Моя дорогая русская подруга, покойная Наталья Михайловна Пирумова, сказала мне, что серьезный ученый обязан «избрать одну большую тему и через нее осветить всю российскую историю». Весной 1986 года, когда я услышал от нее это соображение, я задумывал книгу по истории конституционализма с XVIII века до наших дней. Она поддержала этот проект, но напомнила мне, что и другие темы ждут своего исследователя. Мой бывший коллега и наставник в области истории идей Анджей Валицкий показал мне хороший пример, написав книгу об истории русской мысли от Просвещения до марксизма, в которой продемонстрировал, как можно работать с несопоставимыми идеологическими направлениями на протяжении длительного хронологического периода. В 2003 году, когда я писал длинный очерк по истории русской политической мысли с эпохи Московского государства до 1917 года, Валицкий высказал острую критику, и в то же время, что характерно для него, оказал мне моральную поддержку в том, чтобы написать книгу на эту тему. Доминик Ливен, чьи великолепные работы по российской политической, дипломатической и военной истории помогли многим исследователям более глубоко понять Российскую империю, попросил меня написать главу по истории идей для второго тома «Кембриджской истории России», который он редактировал. Тогда я не осознавал, что предложение Ливена открыло мне дорогу к теперешнему, более масштабному проекту.
Весной 2005 года я предложил Джонатану Бренту из издательства Йельского университета книгу по истории русской мысли с эпохи Московского государства до 1917 года. Планируя книгу, я более пристально, чем предполагал изначально, сосредоточился на мыслителях XVI–XVIII веков, и постепенно пришел к решению посвятить им исследование полностью, оставив мыслителей позднего имперского периода в запасе.
Уильям Фрухт из издательства Йельского университета, один из преемников Джонатана на посту редактора, одобрил окончательную форму книги.
От четырех ученых я получил весомые советы. Элиc Виртшафтер, закончив свою превосходную книгу о митрополите Платоне (Левшине), рассказала мне, как сочетались православие и русское Просвещение в эпоху Екатерины II. Рэндалл Пул высказал замечание о Радищеве и о правах человека, которым я воспользовался в 15-й главе этой работы. Теренс Эммонс, мой учитель и давний друг, прочитал первый вариант рукописи, обратив особое внимание на работу с трудами русских историков. Самюэль Реймер терпеливо выслушивал мои бесконечные рассказы об изучении того или иного мыслителя и жалобы на препятствия, возникшие в ходе исследования. Он помог мне прояснить мысли и найти способ обойти препятствия.
Два анонимных рецензента, назначенных издательством Йельского университета, прочитав длинную рукопись, любезно предложили свои советы по ее улучшению. Я взвесил каждое предложение и постарался учесть большинство из них в этой книге.
Колледж Клермонт МакКенна, где я преподаю, предоставил мне идеальные условия для исследовательской работы: три творческих отпуска, стипендии для научных экспедиций в Зеленую библиотеку Стэнфордского университета и щедрый бюджет, бо́льшую часть которого я потратил на покупку книг. Мои поставщики книг, Фил Кленденнинг из Oriental Research Partners и Ирина и Майкл Брауны из Panorama of Russia, приложили все усилия, чтобы разыскать для меня нужнейшие монографии. Когда наши первоначальные усилия найти свежую публикацию оказались безрезультатными, Ирина предоставила в мое распоряжение свою обширную сеть российских контактов.
В последние пять лет в исследованиях я все чаще использую книги и журналы из электронных хранилищ: Гарвардской библиотеки (с доступом к оцифрованным книгам), Стэнфордской библиотеки, электронной библиотеки Hathitrust, российской Национальной электронной библиотеки, библиотеки Runivers и электронной библиотеки Пушкинского дома. Библиотека Хоннольд-Мадд в Клермонте заказала для меня множество бумажных томов через консорциум калифорнийских библиотек и по межбиблиотечному абонементу. Молли Маллой, библиограф Зеленой библиотеки Стэнфорда, добывала для меня библиографические раритеты и расшифровывала головоломки русского справочного аппарата.
Я благодарен редакции журнала «Kritika» за разрешение процитировать отрывки из моей статьи «Religious Toleration in Russian Thought, 1520–1825» [Hamburg 2012: 515–559]. Я также хочу поблагодарить ученых: профессора Питера Н. Белла за разрешение привести выдержки из его перевода «Поучения» Агапита [Bell 2009]; и профессора Антония Лентина за разрешение цитировать его перевод работы князя М. М. Щербатова «О повреждении нравов в России» [Shcherbatov 1969]. Я признателен Voltaire Foundation за любезное разрешение привести цитаты из выполненного Эндрю Каном перевода «Писем русского путешественника» Николая Карамзина [Karamzin 2003]; а также Bloomsbury за разрешение ссылаться на перевод «Книги о скудости и богатстве» Ивана Посошкова, выполненного Л. Р. Левиттером и Алексисом Власто [Pososhkov 1987].
Без советов коллег, материальной помощи и библиографической консультации эта книга не могла бы появиться на свет.
Больше всего я обязан моим покойным родителям за то, что они разрешили мне изучать Россию в то время, когда считалось безрассудным и даже опасным тратить на это жизнь; моим братьям Грегори, Роберту и Рэндаллу, моей сестре Гейл за их доброту; детям Майклу и Рейчел, которые оказывали мне гостеприимство и окружали сочувственным вниманием во время регулярных визитов в Сан-Франциско; моей жене Нэнси, которая поддерживала мои изыскания, мирилась с моим отсутствием во время исследований и каждодневно делилась своим глубоким пониманием человеческой природы.
Закончив эту книгу, я с грустью подумал о том, что лишился постоянного спутника, но в то же время почувствовал себя измотанным, как моряк после шторма. Книга пронеслась сквозь мою жизнь – сначала нежными зефирами, затем штормовыми ветрами, подобных которым я никогда не испытывал и о которых не слышал. Я часто чувствовал, что книга скорее грозит провалом, чем обещает удачу, – отчасти потому, что ее предмет, Россия, страна, которую мы все «знаем» и которая нам «знакома», постоянно менялась у меня глазах. Возможно, самый большой урок, который я вынес из десятилетней одержимости этим проектом, заключается в том, что «знакомое» и «известное» таит в себе множество сюрпризов. Только благодаря удаче и воле Божьей мы можем постичь некоторые из них.
Глава 1
В поисках Просвещения
В этой книге исследуются представления русских людей о вере, политике и разуме на протяжении трех столетий, от победы московского великого князя Ивана III над его политическими противниками в конце XV века до апогея просвещенного абсолютизма в конце XVIII века. Одна из главных целей книги – осветить поразительное разнообразие русской религиозной, политической и общественной мысли в эту эпоху. Именно поэтому в книге рассматриваются столь непохожие друг на друга мыслители – церковнослужители и миряне, богословы и еретики, чиновники и их критики, государственные деятели и разбойники – и множество литературных памятников, в числе которых богословские труды, проповеди, жития святых, политические трактаты, памфлеты, законодательные акты, философские трактаты, стихи, пьесы и исторические повествования. Я надеюсь передать полифонию русских голосов той эпохи, не искажая ни мыслей, ни звучания отдельных «певчих».
Особенно пристально в книге рассматриваются политические идеи – в попытке понять, как русские мыслители представляли себе хорошую жизнь в справедливом государстве: каким должен быть, по их мнению, идеальный правитель; каковы обязанности правителей и подданных; когда неповиновение правителю оправдано; приемлемы ли попытки свергнуть тирана, и если нет, то почему. В книге также рассматриваются не столь конкретные, но не менее важные политические идеи русских мыслителей: положение Русского государства в международном устройстве, а также их собственное место в потоке времени.
Московское царство и его преемница, Российская империя, были откровенно религиозными государствами. Предстоятели Русской православной церкви вмешивались в мирские дела, советуя князьям и благословляя (или не благословляя) крупные политические и военные кампании. Большинство писателей того времени считали себя православными христианами. Поэтому невозможно анализировать политическую мысль той эпохи без учета религиозных корней, отсылок и подтекста, заложенных в политических идеях. В московский период вера, политика и разум были неразрывно связаны, и эта связь сохранялась вплоть до конца XVIII века, хотя многие образованные русские уже начали читать немецкие, французские, итальянские и шотландские книги того времени, в которых переосмыслялась роль веры в общественной жизни.
Источники идей и методы исследования
Среди многих источников вдохновения для этой книги – три разнохарактерные книги о политике. Первая из них – классическое исследование В. Е. Вальденберга, посвященное древнерусским учениям о пределах царской власти [Вальденберг 1916]1. Византинист по образованию, Вальденберг показал, что для обоснования своих взглядов на политическую власть древнерусские и московские писатели обильно цитировали библейские, святоотеческие и византийские тексты, но в собственных суждениях по этим вопросам не были ими ограничены. Реагируя на политическую обстановку, авторы принимали позицию, которую считали правильной, – а затем обращались к интеллектуальным авторитетам, чтобы придать вес своему мнению. Вальденберг хотел продемонстрировать изощренный ум древнерусских мыслителей, в противовес представлению о них как о подражательных, нетворческих авторах, которые мало что могли сказать соотечественникам. У его книги были два отличительных свойства: во-первых, она содержала тончайшие размышления о пределах царской власти из всех, что были опубликованы до падения старого режима в России. Во-вторых, из-за удивительно своевременного, но неуместного выхода в свет (она была опубликована в 1916 году) книга оказалась в забвении у революционеров, которые поставили своей задачей построение нового, не имеющего прецедентов порядка.
Второй источник вдохновения – книга Квентина Скиннера «Источники современной политической мысли» [Skinner 1978]. В авторитетной работе, посвященной идеям Возрождения и Реформации о месте государства в жизни христиан, Скиннер, опираясь на свою обширную эрудицию, доказывает, что лучший способ понять политические идеи – внимательно изучить язык политических писателей. По его мнению, в политическом мышлении используются слова со специфическими значениями и коннотациями, смысл которых (в ретроспективе) можно понять, только изучив их интеллектуальный и исторический контекст. Применяя свой метод к ряду хронологически близких текстов, Скиннер противостоит аисторическим и антиисторическим методам написания интеллектуальной истории.
Третий источник – методы варшавской школы истории идей, которые Анджей Валицкий применял к русским мыслителям. Последователи варшавской школы – Валицкий, Лешек Колаковский и Бронислав Бачко – возражали против топорного советского подхода к интеллектуальной истории, согласно которому воззрения писателя обусловлены исключительно его классовым происхождением, и только на этом основании их можно отнести к «прогрессивным» или «реакционным». Члены Варшавской школы, напротив, настаивали на более широкой социальной контекстуализации идей и на анализе, основанном на их оригинальности и логических связях. В своих лучших книгах по истории русской интеллигенции, – истории славянофильских споров и исследовании о русском либерализме – Валицкий рассматривает идеологические системы как ответы на вопросы, стоящие перед поколением [Walicki 1975; Walicki 1987]. Вальденберг и Скиннер проиллюстрировали, как возможно написать историю идей поверх географических и хронологических границ. Валицкий показал, что интеллектуальная история может обладать строгостью философской системы и в то же время быть чувствительной к социальным переменам.
Исследуя политическое мышление в России с 1500 по 1801 год, эта книга пересекает два хронологических водораздела: первый – между Московской и имперской Россией, второй – между тем, что ученые называют «традиционной» и «просвещенной» русской культурой. В первом случае, конечно, символической демаркационной линией являются реформы Петра I, которые, по замечанию В. О. Ключевского, усвоили «характер и приемы насильственного переворота, своего рода революции» [Ключевский 1937, 4: 232]. Во втором случае хронологический рубеж, знаменующий разрыв между «традиционным» и «просвещенным» российским политическим мышлением, более размыт. Некоторые исследователи, например выдающийся историк Эдуард Винтер, помещают начало русского Просвещения в конец XVII века, начиная с педагогической деятельности монаха Симеона Полоцкого, хотя Винтер также настаивает на том, что вклад Петра I в раннее русское Просвещение «невозможно переоценить» [Winter 1966: 272, 276]. Схожую позицию занимает российский ученый П. С. Шкуринов, который в своей книге о Просвещении, прежде чем сосредоточиться на мыслителях петровского и послепетровского периодов, кратко исследует исторические корни Просвещения в XVII веке [Шкуринов 1992]2. Недавно Майкл Шиппан отметил, что в настоящее время самый широкий хронологический диапазон, к которому относят русское Просвещение, простирается с 1650 по 1825 год, но, по его мнению, подлинная эпоха Просвещения совпала с царствованием Екатерины II (1762–1796) [Schippan 2012: 39–41]. Анджей Валицкий также рассматривал екатерининский период как ключевую эпоху в развитии философии Просвещения в России [Walicki 2005].
Из-за этих двух демаркационных линий лишь немногие историки интеллектуальной мысли России пытались проследить ее развитие в период с 1500 по 1801 год. До начала советского периода к тому были предприняты лишь три первоначальные попытки. Первую из них осуществил либеральный историк П. Н. Милюков в своих монументальных очерках по истории русской культуры [Милюков 1903]. Милюков считал, что именно в московскую эпоху обрели форму русские националистические идеи, а в XVII и XVIII веках эти идеалы подверглись пристальному критическому изучению со стороны русских, имевших контакты с Западом. Его интерпретация сводилась к переносу спора славянофилов и западников XIX века в более ранний период, а также к установлению происхождения протоинтеллигенции, культурной группы, которую Милюков считал автономной от государства. Оппонент Милюкова, историк-марксист Г. В. Плеханов, написал «Историю русской общественной мысли» (1914–1917). Работа имела целью соотнести политические трактаты с их классовыми основами. Временами Плеханов был механистичен в своем методе, а его ученость никогда не была глубокой, но иногда его наблюдения за отдельными мыслителями бывали проницательными [Плеханов 1914–1917].
Третьим, самым значительным исследованием была «История политических идей в XVIII веке» А. С. Лаппо-Данилевского [Лаппо-Данилевский 2005] (написана в 1906–1919 годах, первый том опубликован посмертно в 2005 году). Несмотря на название работы, в первом томе Лаппо-Данилевский рассматривает период с XVI века до смерти Петра в 1725 году. Подобно Милюкову, Лаппо-Данилевский исследовал влияние Запада на русскую национальную идентичность, но особое внимание уделил влиянию схоластической мысли, проникавшей в Московское государство через Польшу и Украину3, и протестантских идей в конце XVII – начале XVIII века. Лаппо-Данилевский надеялся постичь, согласно его терминологии, «православно-прогрессивное направление» петровского времени, и его роль в формировании петровского абсолютизма. Его первоначальный план состоял в том, чтобы распространить анализ на 1860-е годы, но он умер, не успев завершить свой magnum opus4. Посмертно опубликованный том, которым мы располагаем, заканчивается на царствовании Петра, но его издатель, Марина Сорокина, пообещала выпустить следующий том, в котором Лаппо-Данилевский охватил период от царствования Петра до екатерининских времен5.
В 1937 году Г. В. Флоровский опубликовал большой обзор русской религиозной мысли от христианизации Руси до революций 1917 года. Эта книга, «Пути русского богословия», содержала в себе страстную критику тех русских мыслителей XVIXVIII веков, которые поддались «нездоровому» западному влиянию и поэтому уводили Россию от ее «истинной» византийско-греческой идентичности. Флоровский судил о русских богословах исходя из того, поддерживали ли они в своих идеях возврат к святоотеческой мудрости или нет. По его мнению, усвоение западных идей Просвещения в России в целом было скорее негативным, чем позитивным процессом [Флоровский 1937]6.
В 1966 году один из учеников Флоровского, Джеймс Биллингтон, написал еще один обзор истории русской культуры, «Икона и топор». В нем Биллингтон исходит из предпосылки, что досоветская русская культура была лишь «драгоценным кладбищем»7. Интерпретируя русскую культуру, Биллингтон подчеркивал взаимодействие между природой, византийским христианским наследием и контактами с Западом. Однако в его главах о Московской Руси рассматривался не столько интеллектуальный, сколько психологический аспект контактов России с Западом: по его словам, московский страх, «фанатизм» и «радикализм» противостояли «урбанистическому» и «мирскому» Западу. В главе о русском церковном расколе XVII века Биллингтон неубедительно сравнивает официальную церковь с католиками Контрреформации, а старообрядцев, отвергших реформы патриарха Никона, с «радикальными протестантами» и «евреями-субботниками» (!) [Биллингтон 2001: 105]. Он описывает русское Просвещение XVIII века как продукт западного рационализма и прусской дисциплины, импортированных аристократической культурой, которая постепенно становилась независимой от государства [Биллингтон 2001: 257–311]. Несмотря на проницательный ум автора, русские произведения о политике в книге Биллингтона рассмотрены недостаточно глубоко, чтобы помочь читателю вникнуть в основные тексты в их собственных выражениях.
После 1991 года российские историки под влиянием Ю. М. Лотмана написали серию трудов, интерпретирующих позднемосковскую и раннеимперскую русскую культуру [Кошелев 1996, 3, 4]. А. М. Панченко подчеркивал, что времена московского правления бывали бурными, и, следовательно, культурные ценности в XVII веке не отличались стабильностью. Подчеркивая бинарные оппозиции (вера и разум, «вечность настоящего» и неведомое будущее, секуляризация и конфессиональность), он объяснял вытекающую из них «двойственность» личностей и московской культуры [Панченко 1996: 11–261]8. Сам Лотман указывал на противоречия между Россией и Западом, старым и новым, безумством и мудростью [Лотман 1996: 13–26]. Он выделил две древнерусские идеи происхождения политической власти: одна из них основывалась на магии, а другая – на религиозном восприятии соглашения, или договора, между князем и дружиной. Эту договорную систему он считал асимметричной: князь в ней облечен в «святость и истину», а отдельные члены элиты – всего лишь «капли, вливающиеся в море» [Лотман 1996: 36–37]. По мнению Лотмана, в XVIII веке русские отошли от «средневековой» религиозной концепции княжеской власти и создали «светское государство», в котором, как это ни парадоксально, царь требовал от подданных «религиозной покорности». Главная идея Лотмана заключалась в том, что в XVIII веке церковь и государство поменялись местами: в старой России «всеобщие ценности» представляла Церковь, а в Петровской России олицетворением всеобщности стало государство, теперь уже обожествленное. Короче говоря, христианская религия была заменена «государственной религией» [Лотман 1996: 41–76]. Лотман добавил, что в конце XVIII века древнерусская идея договорного государства уступила место новым, совершенно иным представлениям об общественном договоре между государством и его подданными, основанном на естественном праве и достоинстве личности [Лотман 1996: 59–81]. Нет нужды указывать, что интерпретация Лотмана одновременно и наводит на размышления, и является непоследовательной, даже логически самопротиворечивой. Он ссылался на договорной аспект древнерусской государственности, не анализируя его во всей сложности. Он преувеличивал секуляристский элемент петровского государства, но также, как ни странно, и его якобы новую религиозную роль.
Эти и другие историки справедливо полагали, что невозможно понять русских политических мыслителей периода 1500–1801 годов, не исследовав связи между православием и политической жизнью, социальные основы политических идей, степень западного влияния на Церковь и политическую жизнь, долю секуляризма в политической мысли XVIII века и то, как понимали «просвещение» русские мыслители. В этой книге мы будем анализировать эти явления при помощи двух простых методов. Первый из них – анализ отдельных мыслителей с особенным вниманием к их образованию и социальному происхождению, личным устремлениям и интеллектуальному пути. Второй метод – внимательное чтение их основных трудов в контексте главного произведения всей их жизни, дискутирующих с ними литературных памятников и более масштабных религиозных и политических событий. Недостатком этих методов может быть то, что они приведут к созданию набора отдельных портретов, из которых нелегко будет составить целостную картину русской культуры. Тем не менее преимущества наших методов компенсируют этот недостаток. Изучая внутренние противоречия, индивидуальные черты и новаторские ходы отдельных мыслителей, мы сможем избежать неосторожных обобщений о политике и религии. Сравнивая множество индивидуальных портретов, мы можем начать постигать всю сложность российской политической мысли в определенный период. Рассматривая такие портреты в разные периоды времени, мы сможем точнее выявить преемственность и уход от нее в образе мысли, не сглаживая нюансов, отличающих одного мыслителя от других. Эти методы анализа также предоставляют нам достаточную свободу интерпретации отдельных текстов в соответствии с традициями их жанра. Таким образом, наш подход к рассмотрению этих трех веков русской мысли является эмпатическим (услышать каждый голос, понять каждого человека изнутри), демократическим (внимание к мыслителям из разных слоев общества) и аналитическим (оценка каждого литературного памятника с помощью соответствующих ему инструментов, суждение о каждом мыслителе sine ira et studio, сравнение мыслителей поверх хронологических разрывов).
Исходные допущения: открытость и устойчивость национальной идентичности
В настоящей книге предполагается, что русская культура всегда была открыта для внешних влияний, – хотя и никогда не была открыта полностью, – и поэтому подобающей для историков задачей будет изучение взаимодействия и баланса внешних культурных сил и основных внутренних культурных установок в определенный период. В книге также постулируется, что в период между возникновением Киевского государства и концом Московского периода доминирующим течением в религиозной и политической жизни России и, следовательно, в русской культуре, стало православное христианство. Чтобы продемонстрировать справедливость этих предположений, потребуется отдельный том, но здесь мы вкратце проиллюстрируем их обоснованность, сфокусировавшись на двух моментах русской истории: основание Киевского государства и XVI век.
В великолепном эссе о происхождении Руси Джонатан Шепард показал, что задолго до 862 года, времени предполагаемого основания Днепровского государства, к северу от среднего течения Днепра уже существовало политическое образование, народ которого назывался росами, а правитель, возможно, скандинавского происхождения, носил титул хакана или кагана, что указывает на возможную подчиненность кочевому племени хазар. Хазары участвовали в торговле, связывающей северные области с персидскими, византийскими и арабскими рынками, вовлекая таким образом росов в густую сеть контактов. В конце IX века на средней Волге сформировалось еще одно государственное образование, возглавляемое булгарским каганом. Эта полития, лидеры которой вскоре приняли ислам, также активно развивала торговые связи, в том числе с зарождающимся Киевским государством [Shepard 2006: 49–56]. Таким образом, на протяжении всего периода становления Киевского государства древние русы взаимодействовали с другими народами, культурные практики которых резко различались.
Отношения древней Руси с Византией – то, что Шепард назвал «византийскими связями» – были сначала свободными торговыми и дипломатическими контактами, которые постепенно, несмотря на внутреннюю оппозицию в Киевском государстве, переросли в религиозные связи [Shepard 2006: 56–66]. «Обращению» князя Владимира в византийское христианство в 988 году предшествовало, согласно знаменитому рассказу из «Повести временных лет», тщательное исследование различных религий. Согласно летописи, Владимир расспрашивал булгар об исламских верованиях, хазар-иудеев – об иудаизме, а также западных христиан, прежде чем обратиться к греческому «философу» с вопросом о православии [Лаврентьевская летопись 1962: 83107]. Летописец подчеркивает решимость Владимира принять крещение и последствия его решения для подданных, но автор летописи наверняка понимал, что новокрещеные русские действовали в конкурентном, многоконфессиональном контексте и поэтому не могли избежать общения с неправославными народами. Внутренняя христианизация Киевского государства была постепенным процессом, который сопровождался яростным уничтожением языческих идолов [Лаврентьевская летопись 1962: 118] и насильственной индоктринацией маленьких детей, матери которых «плакали о них; ибо не утвердились еще они [матери] в вере» [Лаврентьевская летопись 1962: 119]. Летописец тем не менее утверждал, что крещение дружины, приобщение к греческому учению и строительство христианских церквей принесли русским множество чудес и «свободу от греха» [Лаврентьевская летопись 1962: 118–120]. Летописец трактовал христианизацию как процесс просвещения: «Владимир же был просвещен сам, и сыновья его, и земля его»9 [Лаврентьевская летопись 1962: 121]. Начиная с X века Древняя Русь постепенно становилась частью «византийского содружества», по выражению историка Дмитрия Оболенского, то есть входила в византийскую цивилизацию [Оболенский 1998]. Это утверждение Оболенского нельзя принять безоговорочно, поскольку не каждый исследователь большого византийского мира убежден, что Русь действительно к нему принадлежала10. Тем не менее византийское влияние в Киеве было бесспорным. Владимир финансировал строительство церквей в крупных городах. В самом Киеве он построил каменную церковь по образцу византийской императорской церкви в Фа росе и поставил настоятелем греческого священника. Как заметил Шепард, «Владимир поощрял сравнения между своей резиденцией и резиденцией императора» [Shepard 2006: 67].
В последующие столетия греческое культурное влияние на Древнюю Русь – в искусстве, литературе, праве и прежде всего в религии – было огромным. Если ограничиться оценкой религиозного влияния Византии на Киев и Москву, необходимо учесть следующие аспекты: собственно православное христианство; богослужебные книги, которые стали основой христианских обрядов на Руси; жития святых, которые могли служить русским как образец для подражания и как источник шаблонов для произведений русской агиографии; иконописный канон; архитектурный стиль древних русских церквей, архитекторы, руководящие строительством; Студитский устав, который стал основой для русских монастырских уставов; «Эклога» (726), краткая сводка римского права, которое к концу XIII века было включено в русское каноническое право; традиция исторической хроники, которая стремилась интегрировать современные политические события в более широкий христианский космологический нарратив. К этому списку следует также добавить, что Вселенский патриарх назначал митрополитов Киевского и Московского. До татарского нашествия в XIII веке 17 из 23 митрополитов Киевских и всея Руси были греческого происхождения; даже после установления татарского владычества греки и русские занимали должность митрополита попеременно. Греческое присутствие в русской церковной жизни сыграло большую роль в отвращении большинства русских христиан от латинского христианства, в воспитании в них приверженности священным греческим текстам и ритуальным практикам, а также в формировании у русских чувства единства, выходящего за рамки местных княжеств. В период татарского ига, как отмечает Иоанн Мейендорф, митрополит Киевский и всея Руси «возглавлял единственную административную структуру, охватившую всю Русь»11.
Политическое влияние Византии на Древнюю Русь было не столь прямолинейным, и поэтому его труднее оценить. В течение первых веков после христианизации Киева престиж византийского императора среди русской элиты был в целом высоким. Бесспорно, этот престиж изначально был связан с военной доблестью Византии, но также он был обусловлен аксиоматическими установками византийской политической мысли. Во-первых, византийский император считал себя главой всемирной и единственной христианской империи. Не имея всемирной светской власти над православными христианами, он тем не менее ожидал от них почитания как защитник Церкви. Так, в 1393 году патриарх Антоний писал Великому князю Московскому Василию I: «…невозможно для христиан то, что у них есть церковь и нет императора. Ибо империя и церковь имеют крепкое единство и общность, и невозможно отделить одно от другого»12. В настенных фресках в церкви Святой Софии в Киеве нашла отражение значимость византийского императора для восточного христианства. На них были изображены и киевский князь Ярослав Мудрый, и византийский император, но голова императора, в отличие от головы Ярослава, была окружена нимбом. Как отметил Оболенский, этот факт, «…возможно, свидетельствует, о том, что князья признавали некое идеальное превосходство императора над собой» [Оболенский 1998: 371]. Во-вторых, византийские императоры стремились играть главенствующую роль в так называемой «симфонии» церковно-государственных отношений в восточнохристианском мире. Кодекс Юстиниана в VI веке провозглашал: «Величайшее благословение, которое Божья милость, нисходящая с небес, ниспосылает роду человеческому, есть священство и царство (basileia). Священство вершит дела божественные, а царство руководит делами человеческими и за ними надзирает. Однако и то и другое происходит из одного источника, и оба служат украшением жизни человека»13. Этот параграф кодекса Юстиниана был включен в византийское каноническое право, затем переведен на церковнославянский язык и, наконец, включен в русское каноническое право. Таким образом, он оказал влияние на русские представления о княжеской власти, начиная с Киевского периода и далее. Как мы увидим ниже, более детальное понимание обязанностей правителя было донесено до внимания русских читателей благодаря труду византийского диакона Агапита.
К XVI веку даже при зачаточных познаниях в политике наиболее наблюдательные русские были знакомы как минимум с тремя моделями правления. Самыми непосредственными конкурентами Московской Руси были ее соперники на юге – мусульманские степные ханства и, после 1453 года, Османская империя. Из этих государств наиболее значимым, безусловно, была так называемая Орда, или Кыпчакское ханство, самое западное владение Монгольской империи14. Историк Дональд Островски утверждает, что Кыпчакское ханство повлияло как на военную тактику, так и на гражданское управление в Московской Руси. Так, русские подражали кыпчакским способам дислокации конницы и ведения верхового боя. Также была адаптирована кыпчакская административная практика, например способы разделения власти между гражданскими и военными начальниками. Островски считает, что главный московский орган подготовки политических решений, Боярская дума, был частично смоделирован по образцу ханского совета, куда входили четверо сановников, с которыми хан совещался по государственным вопросам. Островски, наряду с Ярославом Пеленски, предположил также, что Земский собор, созванный в Москве в 1549 году, был создан по образцу ханского курултая.
Если доказательства того, что Московское государство заимствовало ханскую военную тактику и двухсоставную структуру государственного управления, достаточно убедительны, то подражательный характер Боярской думы и Земского собора по отношению к кыпчакским институтам не столь очевиден. Тем не менее перечень примеров татарского влияния на Московское государственное управление можно дополнить. Некоторые татарские процедуры сбора налогов применялись также на Руси. Перепись населения в Московской Руси проводилась по прямому указанию ханов. Татарская почтовая система стала в Московском государстве основой для доставки официальной корреспонденции. На некоторых имевших хождение монетах были арабские, а не кириллические надписи, свидетельствующие о южном влиянии в великом княжестве. Наконец, слово «царь» использовалось для перевода титулов как византийского императора («basileus»), так и кыпчакского хана. Таким образом, можно обоснованно предположить, что политическое самосознание русских правителей содержало отсылки к идее суверенного государя в Кыпчакском ханстве. Островски отмечает, что после завоевания Казани Иван IV видел себя преемником ханов15.
После захвата турками Константинополя в 1453 году Османская империя стала международной силой, которой Московские государи боялись и которой хотели подражать. На первый взгляд, Османская империя напоминала степные ханства, представляя собой нечеткую децентрализованную структуру, которая держалась вместе благодаря военной силе, относительно простой системе сбора налогов и исламу. На вершине власти находился султан, но на практике его власть была ограничена придворными, ведущими советниками и мусульманским религиозным советом, или улемой. На этапе османской экспансии с 1453 по 1683 год от султана иногда исходила харизма, гальванизирующая энергия, которая придавала империи кажущиеся единство и целенаправленность, которых ей не хватало в последующие века. Это силовое лидерство, безусловно, пугало западные правительства и объясняло склонность западных политических мыслителей классифицировать османский режим как деспотический. Со своей стороны, московские правители смотрели на империю с иной точки зрения. Сожалея об исчезновении Византийского государства и страшась надвигавшейся с юга исламской угрозы православию, они вначале не были вынуждены противостоять османам в военном отношении. Поэтому возможно было с безопасного расстояния восхищаться политическими достижениями османов.
На западе Московская Русь противостояла нескольким соперникам, включая Швецию и различные балтийские державы16, но ее главными непосредственными противниками были Польша и Литва, которые между 1386 и 1569 годами постепенно объединились в огромную унию. Как в Польше, так и в Литве политическую культуру определяла не столько корона, сколько самоуверенное дворянство, которое пользовалось широкими политическими привилегиями. С 1382 года в Польше существовала выборная монархия, – по крайней мере, теоретически. Начиная с 1573 года каждый вновь избранный польский король должен был принести клятву о том, что он будет защищать существующие законы. С 1493 года в Польше и с 1569 года в Речи Посполитой действовал двухпалатный парламент, в котором было представлено дворянство, составлявшее примерно 10 % всего населения. С 1422 года польские дворяне пользовались неприкосновенностью имущества, а с 1430 года – личной неприкосновенностью от произвольного ареста. Польша XVI века была страной, которая решительно противилась религиозной нетерпимости. В 1573 году был принят закон, запрещающий религиозные преследования и предоставляющий равные права всем конфессиям. Ключевым инструментом защиты этих свобод была процедура liberum veto в польско-литовском сейме, согласно которой на основании единственного протеста против законопроекта автоматически аннулировались все законы, принятые на этом заседании. В середине XVI века польско-литовская «шляхетская республика» была, безусловно, самым сильным и самым большим государством Центрально-Восточной Европы. Уникальное сочетание монархии и республики сохранялось более двух столетий, пока внутренние противоречия не подорвали его жизнеспособность.
Третьей концепцией правления, хорошо известной на Руси в XVI веке, была имперская «симфония» между православной церковью и византийским государством. Византийское государство прекратило свое существование в 1453 году, и это событие, по выражению Оболенского, вызвало в странах византийского содружества «волну страха и смятения» [Оболенский 1988: 388]. Однако в Московском государстве она вскоре улеглась, – отчасти потому, что русские теперь стали считать собственную державу единственной защитницей православного христианства, а отчасти – потому, что продолжили адаптировать ключевые элементы византийской политической системы к собственным нуждам.
Филолог Б. А. Успенский показал, что обряды посвящения высших иерархов Русской церкви и миропомазания великого князя во многом опирались на византийские ритуалы поставления Вселенского патриарха и миропомазания императора. Что самое интересное – русские не только свободно адаптировали византийские ритуалы к местным условиям. Более того, в московском изводе эти ритуалы стали более точно соответствовать основным «византийским» представлениям о роли патриарха и монарха в идеальном теократическом государстве. Так, великий князь Московский влиял на выбор митрополита, действуя точно так же, как византийский император при назначении Вселенского патриарха. После того как Иоанн IV принял титул царя, как светские, так и церковные власти сочли обоснованным требовать учреждения в Москве патриаршества, чтобы окончательно воплотить византийскую модель (царь = basileus, патриарх = Вселенский патриарх). Чин возведения священнослужителя в сан митрополита или патриарха Московского включал в себя второе рукоположение (хиротонию), что указывало на вступление в чин более высокого достоинства, чем у простого епископа. После хиротонии митрополит или патриарх должен был совершить верховую поездку по кафедральному городу. В Византии эта поездка совершалась верхом на лошади; митрополит Московский ехал на осле – в подражание Входу Христа в Иерусалим. По словам Успенского, некоторые русские понимали учреждение в Москве патриаршества как завершение «…реставрации Византийской империи (в духе концепции “Москва – третий Рим”)» [Успенский 1998: 87].
При венчании на царство митрополит или патриарх Московский провозглашал царя «святейшим» и помазывал его «печатью и даром Святого Духа». Помазание происходило в Успенском соборе Кремля, перед царскими вратами, что призвано было символизировать духовное возвышение царя над подданными. Религиозный аспект церемонии был особенно важен: в русском православии за крещением следует миропомазание, причем эти таинства нельзя принять повторно. Однако помазание царя богословски понималось не как повторение таинства крещения, а как вступление в его «новый аспект», предназначенный для власть имущих. Эти элементы венчания на царство были заимствованы из Византии, но русские внесли в них определенные изменения. В отличие от Византии, где помазание предшествовало венчанию императора на царство, в России оно следовало за венчанием, представляя собой кульминацию ритуала. Также в отличие от Византии, где помазание императора происходило по образу помазания еврейских царей, в России помазание царя содержало в себе символические отсылки на помазание Христа. Итак, по сути, московский обряд венчания на царство возвеличивал царя, уподобляя его Христу.
Если понять эти обряды как символическое отображение политических идей, то московские чины хиротонии высших церковных иерархов и помазания на царство можно прочесть как явное утверждение божественной природы церковных и политических должностей и, следовательно, как проявление «симфонии» церковной и государственной власти. То, как далеко зашли русские, подчеркивая сходство между Христом и представителями власти, показывает, что, возможно, они лучше понимали христианскую логику, чем византийцы. Или, говоря иначе, русские были более византийцами, чем сами византийцы. Поскольку к 1453 году византийская государственность прекратила свое существование, верность русских византийскому укладу в XVI веке была глубоко парадоксальной, но в то же время свидетельствовала о внутренней идентификации с более широкой православной культурой.
Мы также должны отметить, вслед за Успенским, что уподобление Московского царя Христу непредвиденным образом отразилось в последующем развитии русской политической теории: «…если на Западе неправедных монархов обыкновенно сопоставляли с нечестивыми библейскими царями, то в России их сопоставляли с Антихристом» [Успенский 1998: 20–21].
Знакомство русских с этими тремя политическими системами говорит о том, что в XVI веке русская культура была открыта для внешних влияний (то есть влиянию исламских государств на юге, юго-востоке и юго-западе и польско-литовского государства – на западе), но открыта не полностью (поскольку многие русские были сторонниками византийской политической модели). В те времена православие оставалось доминирующим направлением в русской культуре, даже когда его гегемонии угрожали внешние силы. Если наши предположения относительно открытости и устойчивости российской идентичности верны, то из них вытекают определенные следствия. Во-первых, следует ожидать, что большинство русских церковных деятелей будут интерпретировать внешние политические угрозы в религиозных терминах: степные набеги Кыпчакского ханства и его преемников могут восприниматься как мусульманские вторжения; военный конфликт с Османской империей будет интерпретирован как смертельный вызов со стороны ислама; войну с польско-литовским государством можно трактовать как «латинскую» или католическую угрозу православию. Во-вторых, следует ожидать, что в надежде сохранить «чистоту» русской культуры от внешних угроз религиозно настроенные русские попытаются создать социальную утопию. В-третьих, несмотря на усилия церкви по обращению «врагов» веры и государства и на утопические попытки защитить культурную чистоту, следует ожидать, что некоторые интеллектуалы и представители власти адаптируют Московское государство к новой многоконфессиональной реальности посредством религиозных преследований и (или) выборочной веротерпимости. В-четвертых, по мере территориальной экспансии России в XVI–XVIII веках мы, естественно, должны ожидать, что неправославное влияние скорее усилится, чем ослабнет, – именно по той причине, что источники этого влияния будут уже не внешними, а внутренними по происхождению. В-пятых, мы должны допустить, что со временем эти неправославные влияния проявят себя с наибольшей силой не в противостоянии различных течений, а во внутреннем конфликте того или иного политического мыслителя.
Определения
В настоящей книге некоторые ключевые термины используются в особом смысле, поэтому остановимся, чтобы дать рабочие определения.
Вера
Вера – это одновременно и условие верности, и набор действий, вытекающих из этой верности17. В Древней Руси и Московском государстве иметь веру означало, как правило, исповедовать православное христианство и участвовать в православных обрядах. В православном благочестии была эмоциональная составляющая: верующий должен был любить Бога и доверять Ему, почитать Богородицу, восхищаться святыми и подражать им, а также отвращаться от дьявола и всех его дел и суеты. Поскольку многие православные склонны думать о христианстве как о практической живой религии, а не как о догме, они не считают необходимыми какие-либо эзотерические знания, помимо основ веры, утвержденных древними христианскими Соборами. По этой причине многие православные мыслители с недоверием относились к эзотерическим знаниям и считали их обладателей еретиками, действительными или потенциальными. Для православных источником авторитетного учения было откровение и Писание, истолкованное Церковью. Церковная власть не обязательно принадлежала какому-то отдельному епископу, митрополиту или патриарху, но скорее заключалась в постановлениях церковных соборов. Такая децентрализованная модель церковной власти способствовала возгоранию ожесточенных споров о последствиях действий церковной иерархии, как, например, спор XVII века об «исправлении» патриархом Никоном православных богослужебных книг. Поэтому, например, протопоп Аввакум, порицая церковную иерархию, при этом прибегал к авторитету Церкви как источнику толкования веры. Конечно, в допетровской России православие было доминирующей конфессией, но все же не единственной. Поэтому на практике православные иногда проявляли ограниченную веротерпимость к религиозным общинам, которые они считали еретическими или сектантскими18. Сосуществование господствующей Церкви и иноверцев, как правило, усиливало культурное беспокойство по поводу положения православия в религиозном сообществе России, вызывало ожесточенные «споры о границах» – о том, что является истинно православным, а что нет, – но также способствовало осторожному сближению между православными и иноверцами.
Разум
И в Московской Руси, и в молодой Российской империи большинство политических мыслителей считали религиозные обязанности разумными, – в той мере, в какой они соответствовали учению Церкви, общепринятой христианской практике, добродетелям, предполагаемым христианской верой, или накопленной человечеством мудрости. Большинство этих русских жили до выхода в свет «Критики чистого разума» Иммануила Канта (1781), в которой Кант решительно отверг догматическое знание и то, что он считал духовным деспотизмом. Поэтому они не видели смысла в противопоставлении разума и веры, как того, что основано на интуиции или на некоем сверхчувственном восприятии, источнике тайного знания. Более того, они считали, что сверхчувственный духовный мир и физический мир, в котором обитают люди, взаимопроницаемы, и утверждали, что эти взаимосвязанные миры живут по законам божественной логики, которая по своей природе разумна. Большинство православных мыслителей полагали, что разум соотносится с логикой, которую можно проследить в сочетании повседневного человеческого опыта и истины откровения, содержащейся в Писании и святоотеческих текстах. Для православных магия и ересь были иррациональны, поскольку они отклонялись и от общечеловеческого опыта, и от Писания.
С конца XVII века русские мыслители начали переосмыслять значение эрудиции в толковании Писания и учения Церкви. Они стремились понять, насколько классические греческие и римские представления о добродетели совпадают с православными, то есть разумны ли они в той же мере. Они пытались решить, до какой степени можно руководствоваться западной политической философией в управлении Русской Церковью и государством. По сути, эти вопросы поднимали проблему того, может ли разум, а значит, и авторитет, существовать вне Церкви. Как мы увидим ниже, дебаты по этим вопросам указывали на противоречие между двумя различными концепциями Просвещения, которые сосуществовали в России XVIII века: одна из них была основана на православной идее духовного просвещения; другая вытекала из попыток определить Просвещение как рациональность. По ряду причин, однако, различия между ними были скорее скрытыми, чем явными, так что большинство русских политических мыслителей послепетровского периода считали себя и православными, и рациональными.
Секулярность
Историки часто описывают российское государство XVIII века как светское. Считается, что петровское государство приобрело светский характер, когда в ходе церковной реформы 1721 года Петр в административном отношении подчинил церковь государству, учредив Святейший Синод. При невнимательном знакомстве с реформой 1721 года можно сделать вывод, что отныне государство контролировало церковное имущество и что Петр объявил себя духовным главой Православия. Однако оба этих вывода ошибочны, хотя петровская церковная реформа действительно коренным образом изменила отношения между Церковью и государством. Более проблематичным является предположение о том, что Просвещение в России способствовало процессу секуляризации и ускорило его, – то есть, что оно привело к упадку православных верований, практик и институтов, а также к «маргинализации» религии, к ее вытеснению из общественной жизни в частную19. На самом деле, нет достоверных статистических данных в пользу того, что в раннюю эпоху Российской империи произошла дехристианизация. Нет и доказательств формирования частной сферы в области веры, хотя по меньшей мере один мыслитель конца XVIII века и выступал за ее создание через закрепление принципа свободы совести. На самом деле в имперской России разграничение «частного» и «общественного» никогда не было четким20.
В этой книге мы будем следовать идее Чарльза Тейлора о том, что светское общество – это современное общество, «в котором вера, даже для самого непоколебимого верующего, является одной из многих человеческих возможностей» [Taylor 2007: 3]. По определению Тейлора, ранняя императорская Россия была традиционным религиозным обществом, а не современным светским. Среди русских мыслителей конца XVIII века, пожалуй, только Александр Радищев прямо выступал за светское общество в понимании Тейлора.
Политика
Писатели Древней и Московской Руси часто упоминали как обязанности христианского князя, так и обязанность подданных повиноваться ему. В настоящей книге таким авторам дается широкое определение политических мыслителей, а совокупность действий и замыслов, относящихся к княжеской власти, понимается как политика21. В древнерусских текстах, однако, для обозначения механизма государственного управления не использовались слово «политика» и термин «государство». Обычно древнерусские авторы называли область, в которой правил князь, его землей. Термин государь, который первоначально означал «рабовладелец», вошел в обиход в качестве наименования князя лишь в конце XIV века [СДЯ 1989, 2: 373–374]. Титул царь не использовался Московскими князьями до XVI века, хотя и был опробован в XIII веке по отношению к татарским ханам [Срезневский 1895, 2: 1433–1434]. Термин царствовати впервые встречается в источниках конца XV века и стал обычным в XVI веке – то есть именно в рассматриваемый нами период. Русские XVIII века, с другой стороны, обычно использовали существительные политика и политик для обозначения, соответственно, науки государственного управления и государственного деятеля, а также прилагательное политический – относящийся к управлению государством [Словарь Академии Российской 1793: 965–966].
Просвещение
В декабре 1784 года Иммануил Кант опубликовал эссе под названием «Ответ на вопрос: что такое Просвещение?» [Kant 1784: 481–494], в котором дал определение просвещению («выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине» [Кант 1994, 8: 29]) и предложил программу его осуществления («свобода во всех случаях публично пользоваться собственным разумом» [Кант 1994, 8: 31], «надежно и хорошо пользоваться собственным рассудком в делах религии» [Кант 1994, 8: 35] и принятие законов, позволяющих подданным короны «публично пользоваться своим разумом и открыто излагать свои мысли относительно лучшего составления законодательства» [Кант 1994, 8: 36]). Высказанные им мысли повлияли на все последующие представления о просвещении, по крайней мере в Западной Европе. Концепции Канта о господстве над собой как цели жизни, его враждебность к религиозным «предрассудкам» и деспотическому правительству как к угрозам личной свободе, его одобрение дискуссионной среды в публичной сфере при благожелательности государства, его зарождающийся республиканизм и вера в исторический прогресс – все это находится в центре многих дебатов о признаках просвещенных обществ, и в той или иной степени повлияло на формирование личности многих интеллектуалов, считающих себя «просвещенными».
Однако определение Кантом религии как «основного момента просвещения» и его трактовка религиозной незрелости как «не только наиболее вредной, но и наиболее позорной» [Кант 1994, 8: 36] заслуживают критического внимания по трем причинам. Во-первых, Кант полагал, что при исполнении своих обязанностей священнослужители не вправе излагать учение, расходящееся с доктринами религиозной общины. Он признает, что священник «…не свободен и не может быть свободным, так как он выполняет чужое поручение» [Кант 1994, 8: 33]. Идея Канта о том, что ученый может быть свободен в общественной сфере, но обязан подчиняться в сфере частной, основывается на странном представлении об интеллектуальной свободе, согласно которому мы должны говорить правду перед равными нам интеллектуалами, но не внутри иерархических организаций, в которых работаем22. Во-вторых, обоснование Кантом абсолютной свободы в публичной сфере очень странно сочетается с его защитой авторитета монарха, который, «не боясь собственной тени», скажет интеллектуалам: «рассуждайте сколько угодно и о чем угодно, только повинуйтесь!» [Кант 1994, 8: 36]. Такая позиция Канта подразумевает, что на практике публичное выражение идей не имеет отношения к политическому повиновению, – такого мнения не придерживался ни один крупный мыслитель XVIII века, и, надо сказать, оно противоречит здравому смыслу. В-третьих, презрение Канта к религиозным догмам было спорным в XVIII веке даже среди высокообразованных людей, которым были важны прочие ценности Канта – самообладание, управление на основе консенсуса, свободная общественная сфера, правовое государство и исторический прогресс. Его взгляд на религию и просвещение был, возможно, логическим следствием политики, проводимой Фридрихом II при жизни Канта, но не каждый пруссак согласился бы в трактовке религии как формы «незрелости» или недостаточного самообладания. Стоит подчеркнуть, что с точки зрения большинства русских конца XVIII века концепция просвещения Канта выглядела спорной, неправдоподобной или просто ложной.
Чтобы реконструировать русские представления о просвещении, проделаем обратную работу от современных значений термина «просвещение» к более ранним. Оксфордский русско-английский словарь (1972) определяет глагол «просветить» как «to educate, to enlighten» («образовывать, просвещать»), а существительное «просвещение» как «education, instruction» («образование, обучение») или как «эпоху Просвещения» [Wheeler 1972: 638–639]. В этих определениях отразилось как академическое, так и разговорное словоупотребление XX столетия, хотя они лишены политических коннотаций, присущих этим словам в советский период. «Толковый словарь русского языка» Д. Н. Ушакова (1939) определяет просвещение как «образование», ассоциируя этот процесс с «политическим образованием», проводимым коммунистическим правительством. Кроме того, просвещение определяется как «период развития буржуазной философии и науки в Западной Европе XVIII века» [Ушаков 1939, 3: 996]. «Русский толковый словарь» В. В. и Л. Е. Лопатиных» (1994) также устанавливает связь между образованием и передачей прогрессивных политических ценностей. Согласно словарю, «просвещать кого-либо» означает «сообщать кому-либо знания», «распространять знания или культуру». Просветитель – это «прогрессивная общественная фигура, распространитель прогрессивных идей и знаний» [Лопатин, Лопатина 1994: 539–540].
Однако в более ранних словарях мы обнаруживаем, что этот комплекс терминов имел иные коннотации. В великолепном труде М. И. Михельсона «Русская мысль и речь» (1912) отмечается связь между «просвещением» и здоровой нравственностью: «Просвещение без нравственной жизни – не просвещение» [Михельсон 1912: 709]. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля (1882) просвещение определялось как «свет науки и разума, согреваемый чистой нравственностью», «развитие умственных и нравственных сил человека», «научное образование при ясном сознании долга своего и цели жизни». По мнению Даля, просветитель – это «наставивший в истинах». Учить или просвещать кого-либо означало «даровать свет умственный, научный и нравственный, поучать истинам и добру; образовать ум и сердце» [Даль 1882: 508]. Таким образом, в словаре Даля подчеркиваются нравственные коннотации просвещения. Как выясняется, эти коннотации – отголосок более ранних денотативных и коннотативных употреблений термина «просвещение».
В литературном языке киевского и раннемосковского периодов нравственное содержание таких терминов, как «просветитель», «просвещати» и «просвещение», было весьма ощутимо. Просветитель – это «тот, кто духовно наставляет другого». Просвещати означало «светить», обычно с помощью разума или рассуждения; «освещать, озарять» верой; «делать светлее или благоообразнее», как, например, украсить монастырь; «совершать обряд крещения»; или «наставлять в духе истинной веры», «улучшать, просветлять, совершенствовать». Просвещение означало «свет», «сияние», «озарение», «просвещение» в смысле нравственного знания или рассуждения, «совершение обряда крещения» и «Праздник Крещения Господня» [СДЯ 2012, 9: 151–156].
Таким образом, в истории русского языка мы сталкиваемся с тремя различными понятиями просвещения: первоначальная религиозно-нравственная идея, связанная с христианской верой, означающая «духовное просвещение»; понятие XIX века, смешивающее науку, разум и этический долг; и понятие XX века, связанное с процессом образования, означающее «рациональное обучение», «прогрессивное политическое образование» или просто «рациональность». Говоря языком Хайдеггера, под «шелухой» светского слова XX века «просвещение» скрывалось «зерно» первоначального нравственного смысла.
В рассматриваемых нами текстах XVI–XVIII веков термин «просвещение», как правило, нес в себе нравственный заряд в полной мере, но начиная с конца XVII века идея духовного просвещения подверглась проверке разума, так что к середине XVIII века в слове «просвещение» одновременно присутствовали коннотации духовного просвещения и этически обоснованной рациональности. Благодаря такому семантическому сдвигу некоторые мыслители, например Платон Левшин, могли употреблять этот термин в двояком смысле. В целом на лексическом уровне в нашем 300-летнем периоде происходила медленная трансформация слова «просвещение», в результате которой понятия духовного просвещения и этической рациональности в литературном употреблении слились.
Прирастание смыслов этого слова наводит нас на более общий вопрос о просвещении в России как историческом процессе: имела ли место медленная эволюция православных представлений о вере, политике и разуме в просветительские представления об этике, справедливом обществе и рациональности? Иначе говоря, было ли явление, которое мы называем русским Просвещением, в такой же степени следствием исторической преемственности в восприятии мира русскими мыслителями, как и разрыва в историческом развитии – петровской «революции сверху»?
Структура
Мы попытаемся ответить на эти вопросы в процессе трехчастного анализа. В первой части книги, затронув предшествующие византийский и древнерусский периоды, мы исследуем веру, политику и разум в Московской Руси, обратив внимание на ее «боголюбивых» мыслителей, на дебаты XVII века о Церкви и государстве и на попытки выяснить, когда оправдано сопротивление нечестивым правителям. В главах этого раздела мы совершим воображаемое путешествие из картины мира «охотника за еретиками» конца XV века (Иосифа Волоцкого) в картину мира «еретика» конца XVII века (Сильвестра Медведева), отслеживая в процессе, как менялось русское понятие просвещения. Во второй части мы исследуем связи между добродетелью и политикой в бурную эпоху Петра Великого, когда в представления русских о политике и религиозной жизни внедрялись новые идеи об отношениях Церкви и государства, новые концепции экономической жизни и новое ви́дение взаимозависимости России и других государств. Мы также рассмотрим нескольких русских философов-моралистов середины XVIII века: Дмитрия Голицына, Василия Татищева и ученого-энциклопедиста Михаила Ломоносова – мыслителей, сочетавших традиционные идеи о праведной жизни с современными европейскими представлениями о добре и зле. На протяжении всей второй части мы проследим, как менялись русские представления о политике, этике и «просвещении». Часть третья, самый большой раздел книги, представляет собой серию глав об этике и просвещении в конце XVIII века. В этом разделе мы проанализируем вклад Екатерины Великой в русскую мысль, границы просвещения в России, «умеренные» и «радикальные» направления в русской мысли конца XVIII века, а также происхождение просвещенного консерватизма в конце XVIII века. В заключении книги будут проиллюстрированы как преемственность, так и разрывы в российских представлениях о справедливости и идеальном обществе начиная с XVI века.
Стоит повторить, что цель книги состоит не в том, чтобы дать полный обзор русской мысли на протяжении трех столетий, а в том, чтобы выделить ее наиболее интересные черты и задокументировать ее необычные повороты и изгибы. Основное название книги – «Путь России к Просвещению» – не означает, что в России с 1500 по 1801 годы происходил целенаправленный процесс, в ходе которого религиозное мировоззрение русских было вытеснено «просвещенным» светским мировоззрением. В течение этого периода происходило нечто более сложное и гораздо более интересное. У православных христиан слово «просвещение» означало «духовное озарение» – просветленность души, воспитанной Церковью и направляемой к спасению. В конце XVIII века такие мыслители, как Екатерина Великая и Александр Радищев, использовали то же самое слово для обозначения «этически обоснованной рациональности», которую отстаивали Вольтер, Монтескьё, Адам Смит и другие. Однако иногда русские – например, митрополит Платон Левшин – утверждали, что они просвещены в обоих смыслах одновременно – явление весьма любопытное и занимательное.
Часть I
Мудрость и нечестие
1500–1689
Глава 2
Бог и политика в Московском государстве
Каждое исторически известное крупное общество обладало политической системой, с помощью которой оно управлялось. Система могла быть более или менее централизованной, более или менее формализованной, более или менее консенсусной. Но не в каждом обществе политика осмыслялась систематически, как особый набор действий и норм для ведения общественных дел. На европейском Западе со времен так называемого «макиавеллизма» государственные деятели и мыслители часто, хотя и не повсеместно и не последовательно, рассматривали политику как светское занятие, отдельное от религиозных установок и, следовательно, в значительной степени независимое от них. Более того, преобладала тенденция рассматривать политику как систему внутренних и международных взаимодействий, в которых проявляются воли суверенных государей или суверенных республик, не сдерживаемые моральными или этическими преградами. Таким образом, с точки зрения Макиавелли, Гоббса, Ламетри, Дидро, Гольбаха, Константа, Гегеля (в позднем прусском периоде), Маркса и его последователей, Милля, Ницше, Хайдеггера, национал-социалистов, большинства фашистов и современных политических «реалистов», критерии политического успеха имели мало (или ничего) общего с соображениями откровенно религиозного характера. Политика в их представлении была сферой власти, материализованной воли, конкретизированного интеллектуального творчества, контроля над природными ресурсами и над народами. Конечно, не все на Западе рассматривали политику подобным образом. Назовем лишь нескольких мыслителей: гуманисты эпохи Возрождения Пико делла Мирандола, Марсилио Фичино и Лоренцо Валла, французский скептик Монтень, Спиноза, Монтескьё, Вольтер, Руссо, Адам Смит, Уильям Уилберфорс, Шатобриан, Кант, Маколей, Гавел, Ролз и Чарльз Тейлор, каждый из которых по-своему предположил, что политика неизбежно имеет этическое измерение. Этический элемент при этом имеет свое основание либо в какой-то религиозной системе, либо в постулате о Боге, либо в предположении о человеческом альтруизме, чувствах или добродетели за пределами сферы материального. Для этиков политика – это область долга, уважения к человеческому достоинству, общего дела, подчиненного моральным императивам. Тем не менее характерно, что и западные политические реалисты, и политические этики рассматривали отношения между этикой и политикой более или менее систематически.
Живость западной политической мысли обусловлена многими факторами. Среди них мы должны помнить о влиянии ранних политических мыслителей: Платона и Аристотеля, которые сформировали политическую философию как метод упорядоченного исследования; римских стоиков, которые представляли взаимодействие между политикой и этикой как внутреннюю драму; Августина, который в полемике против Рима учил, что град Божий управляется по иным законам, нежели мирские империи; и схоластов, чей метод постановки вопросов придал этическому мышлению диалектический оттенок, превратив политическое исследование в бесконечный диалог. Но мы также должны учитывать, что образ современной западной политической мысли складывался под воздействием европейской государственной системы с ее политическими границами, поразительными различиями в способах управления и избирательной лояльностью граждан. Мыслитель, желающий критиковать политическую систему или культуру определенной страны, иногда мог это сделать, находясь в относительной безопасности в другом государстве. Так, Вольтер и Маркс написали свои лучшие книги о политике в эмиграции. Дидро, Вольтер и Гавел публиковали важнейшие работы за пределами стран проживания и могли благодаря своей высокой репутации в других странах надеяться, что им удастся избежать ареста за инакомыслие у себя дома. Барух Спиноза, понимавший, как важно не попадаться на глаза цензорам, опубликовал свой шедевр «Богословско-политический трактат» (1670) анонимно, на латыни, а не на родном голландском языке, с фальшивым именем издателя и фальшивым местом публикации (Гамбург, а не Амстердам или Роттердам).
Русские к политическим темам подходили с совершенно иных позиций. Начнем с того, что направленность их мышления в основном была задана византийским христианством, в котором государь воспринимается как член православной церкви, обязанный отстаивать справедливость, благотворить бедным, защищать церковь от врагов, внутренних и внешних. В московский период, как мы увидим, для русского человека было практически немыслимо размышлять о политике как о занятии, отдельном от религиозных соображений. Даже после «петровской революции» в начале XVIII века политика и религия были неразрывно связаны друг с другом. Можно сказать, что, как правило, русская политическая мысль до конца XVIII века была ответвлением прикладной христианской этики, либо находилась под ее сильным влиянием. Поэтому было бы принципиальной ошибкой рассматривать русскую политическую мысль до XIX века как исключительно светское явление.
В целом русская политическая мысль не была систематической в западном понимании. Часто говорилось, что русской философии и русскому богословию не хватает формальных качеств западного мышления, – абстрактности, умозрительной точности, строгого логического изложения. Это отчасти объясняется тем, что свои философские идеи большинство русских строили не на логических основах, заложенных Аристотелем, Платоном или римскими стоиками, а теологию – не на фундаменте Августина, схоластов или (до XIX века) гуманистов эпохи Возрождения. Также это происходило еще и потому, что русское правительство не оказывало последовательной поддержки гуманистическому образованию: первый русский университет появился лишь в XVIII веке. Кроме того, русское государство скорее стремилось к заимствованию западных технических и научных знаний, чем к внедрению в стране западной философии или теологии. Профессиональная философия пустила прочные корни в России лишь во второй половине XIX века, а расцвет академической философии начался не ранее чем в 1890-х годах. Помимо упомянутых факторов, препятствовавших систематическому развитию политической мысли, российское государство было самодержавным, – унитарным централизованным режимом, который, как известно, подозрительно относился к политическому инакомыслию. До 1905 года российская цензура была в целом более жесткой, чем в Европе. Кроме того, до середины XIX века русских за границей жило не так много, чтобы эмигрантские публикации себя оправдывали. Таким образом, по целому ряду причин развитие систематической политической философии в России было резко ограничено.
Тем не менее, несмотря на сложности, с которыми столкнулись русские, и, возможно, благодаря тому, что они смешивали политику и нравственность, между 1500 и 1801 годами в России были созданы богатые, интеллектуально насыщенные произведения в области политической мысли, опирающейся на веру. В этой главе мы исследуем первоначальную историю русской мысли о вере и политике. Сначала рассмотрим несколько (из многих!) древнерусских текстов, затрагивающих проблему праведного правления, а также переведенный на древнерусский язык византийский текст, который стал ориентиром в дискуссиях о политике XVI века. Затем мы проанализируем несколько литературных памятников XVI века, освещающих такие вопросы, как место России в мире, оправданность повиновения государственной власти и сопротивления ей, роль веры в политике, отношение Церкви к государству и возможность построения Царства Божьего на земле.
Социальная справедливость и праведное правление: первоначальные размышления
Со времен христианизации восточных славян при киевских князьях священнослужители старались наставлять князей в отношении их этических обязанностей перед сообществом верующих.
«Слово о законе и благодати» (написано между 1037 и 1050 годами, наиболее вероятная дата составления – 1049 год) – один из первых древнерусских текстов, в котором рассматриваются отношения между верой и политикой. Возможно, среди этих текстов «Слово» – самый обличительный и самый изысканный по стилю23. Об авторе «Слова» нам известно мало – лишь то, что в 1040-х годах он служил священником в церкви святых Апостолов в Берестове, где на него обратил внимание великий князь Ярослав Владимирович. В 1051 году Ярослав собрал в Киеве собор епископов, который поставил Илариона митрополитом Киевским. Таким образом, Иларион стал первым русским митрополитом на Киевской кафедре. Историк А. М. Молдован интерпретировал поставление Илариона как «акт неповиновения» византийским властям [Молдован 1997: 480]. Если это так, то в судьбе Илариона была своя ирония. Он знал греческий и читал византийских отцов Церкви, судя по его собственным свидетельствам в тексте24. Не будучи греком по рождению, он, несомненно, был продуктом православной культуры, которую распространяла Византия.
Первая часть «Слова о законе и благодати» излагает священную историю, в которой различаются Ветхий и Новый Заветы. Свое рассуждение Иларион построил на бинарных противопоставлениях: закон Моисеев и христианская благодать; еврейское обрезание и христианское крещение; Сарра, бесплодная жена Авраама, и плодовитая Мария, Матерь Божия; народ Израиля, который Иларион назвал «сынами рабыни», и христиане, которых он изобразил «сынами свободной»; земное оправдание и небесное спасение. По Илариону, Моисеев закон был необходимым этапом в Божьем плане по спасению падшего человечества, но это был лишь первый шаг к искуплению человека, а не само искупление. Моисеев закон держал народ Израиля в своего рода «рабстве», жестко ограничивая его «прямым путем», как неспособного жить свободно. Иларион описывает Израиль как иссушенную землю, народ которой не принимает «росы благодатной». Согласно Илариону, во тьме невежества и идолопоклонства закон Моисеев давал лишь слабый свет, подобный слабому свету свечи или бледному «свету луны» [Молдован 1997: 31]. Однако с приходом Христа живительная роса и «дождь благодатный» крещения сошли на иссохший Израиль, обильно орошая его народ верой. Благодать Христова, «объяв всю землю, ее покрыла, подобно водам моря» [Молдован 1997: 33]. Рабство закона уступило место свободе благодати. Когда Христос был распят, вкусив горечь уксуса и желчи, Он «упразднил преступление и грех сладострастного вкушения Адамова от древа <познания добра и зла>» [Молдован 1997: 37].
Христос принес восходящее солнце благодати, «солнечное тепло, [которое] согревает землю» [Молдован 1997: 31]. Христос Сам излучает солнечное сияние: «Предвечно от Отца рожденный, единосопрестольный Отцу, единосущный <ему>, как и свет – солнцу, сошел на землю…» [Молдован 1997: 35]. Со Христом «подобало благодати и истине воссиять над новым народом, …ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и достигла нашего народа русского» [Молдован 1997: 35]. В «Слове» Илариона свет благодати – это «свет разума к познанию Его [Бога], по пророчеству» [Молдован 1997: 41]. Согласно логике Илариона, христиане, принявшие божественный свет Христа, достигли духовного понимания и обрели возможность спасения, но иудеи, как пишет Иларион, «не возлюбили свет, чтобы не стали явными дела их, ибо они темны». Слепое неверие иудеев привело к разрушению Иерусалима. Таким образом, по словам Илариона, после распятия Христа «иудейство пришло к погибели, затем же и закон, как и вечерняя заря, угас, и иудеи рассеяны были среди язычников, чтобы зло не пребывало в скоплении» [Молдован 1997: 39].
Во второй части «Слова о законе и благодати» Иларион рассуждает о месте Руси в христианской истории, хвалит князя Владимира за крещение народа и размышляет о признаках праведного правителя. По словам Илариона, до Владимира русские жили в «тленном», в «прахе неверия». Когда Владимир принял крещение, «идольский мрак стал удаляться от нас – и явилась заря правоверия». Никто из подданных Владимира не противился крещению, «…даже если некоторые и крестились не по доброму расположению, но из страха к повелевшему <сие>, ибо благочестие его сопряжено было с властью». Русские перестали поклоняться идолам и служить бесам; когда они возводили церкви и монастыри, «гром евангельский огласил все грады; фимиам, возносимый Богу, освятил воздуха́» [Молдован 1997: 45–47].
Иларион прославляет Владимира, который обрел веру не от встречи с апостолом и не от лицезрения чудес, «лишь благомыслием и острым умом постигнув, что есть единый Бог». По словам Илариона, Владимир проявил себя как праведный князь, «веру утвердивший в Него [во Христа],– не на одном соборе, а по всей земле сей», а также творя множество «милостынь… и щедрот денно и нощно… убогим, сиротам, вдовам, должникам и всем, взывающим о милости» [Молдован 1997: 49]. В добродетелях Владимир подобен «великому Константину, равный умом, равный любовью ко Христу, равный почтительностью к служителям его!» По словам Илариона, Константин «покорил Богу царство», а Владимир подражал Константину [Молдован 1997: 49]. Иларион описывает Киев как «иконами святых блистающий и освящаемый», «величием сияющий» [Молдован 1997: 51]. Иларион молится, чтобы преемник Владимира увековечил добрые дела князя, сохранил русских «в мире и благочестии, данном тобою, и да славится в нем правая вера и да проклинается всякая ересь» [Молдован 1997: 53].
Итак, «Слово о законе и благодати» – это ви́дение человеческой истории, сопоставляющее иудаизм и христианство, идолопоклонство и православие – возможно, эти темы Иларион позаимствовал у Кирилла Александрийского, Иоанна Дамаскина и Ефрема Сирина [Шевырев 1859–1860: 26]. В «Слове» Киевская Русь располагается в конце реки событий, начинающейся с падения человечества, протекающей через ветхозаветное владычество закона и впадающей в море христианской благодати. «Слово о законе и благодати» ставит Киевскую Русь в один ряд с империей Константина как славное христианское государство и уравнивает святого Владимира с Константином в уме, любви ко Христу и почитании Его служителей. По мнению Д. С. Лихачева, тема «Слова» – «тема равноправности народов, резко противостоящая средневековым теориям богоизбранничества лишь одного народа, теориям вселенской империи или вселенской церкви» [Лихачев 1945: 25]. Лихачев, однако, подчеркивает и «национальный момент» в «Слове», указывая на «полемику» Илариона, направленную против византийского понятия вселенской империи. Согласно Лихачеву, в критике Иларионом Ветхого Завета можно видеть «прямые укоры Византии, стороннице не свободного, а рабского наделения христианством». Напоминания Илариона о разрушении Иерусалима Лихачев рассматривает как указание на стремление Византии монополизировать контроль над верой [Лихачев 1945: 26–27]. Такое прочтение, усматривающее признаки национализма в произведении XI века, оказало сильное влияние на последующие интерпретации «Слова о законе и благодати», но, на первый взгляд, интерпретация Лихачева противоречит логике Илариона, который уподобляет русское государство империи Константина.
Как и в первой русской летописи, «Повести временных лет» (которая была составлена, вероятно, полвека спустя, возможно, в 1113 году), в «Слове» Илариона идолопоклонство отождествлялось с «тьмой» и «невежеством», а христианство соотносилось с просвещением через крещение и через разум – то есть со «светом разума». Связь между христианством и духовным просвещением стала аксиомой древнерусской, а затем и российской мысли. В произведении Илариона царство покорено Богу, а значит, политика покорена вере. В молитве, которой завершается «Слово», Иларион просит Бога: «…врагов изгони, мир утверди, языки усмири, глады утоли, владык наших угрозой языкам сотвори, бояр умудри, грады <умножь и насели>, Церковь твою возрасти, достояние твое соблюди, мужей и жен с младенцами спаси, пребывающих в рабстве, в пленении, в заточении, в пути, в плавании, в темницах, в алкании и жажде и наготе – всех помилуй…» [Молдован 1997: 57]. Иларион, таким образом, уповает на христианского правителя, твердого в вере, враждебного ереси, милосердного к нуждающимся и могущественного в брани. Его «Слово», широко распространившись в рукописях по всей Киевской земле, послужило позднейшим мыслителям источником для образа праведного князя-христианина.
Большой нравственный и политический интерес представляет сказание о Борисе и Глебе, ростовском и муромском князьях, которые в 1015 году, после смерти их отца Владимира (правил в 980–1015 годах), были убиты своим старшим сводным братом Святополком. Сказание, о происхождении которого ведутся дискуссии, дошло до нас в двух редакциях: «Съказание и страсть и похвала святую мученику Бориса и Глеба» (рус. «Сказание о Борисе и Глебе»), написанное неизвестным автором или авторами, и «Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба», авторство которого чаще всего приписывают монаху-летописцу Нестору, датируя его между 1081 и 1108 годами25. По мнению Л. А. Дмитриева, «Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба» – один из наиболее ярких и широко известных литературных памятников Древней Руси, но также и важнейший политический документ, поскольку в нем подтверждается принцип старшинства в распределении княжеских престолов между городами Киевской Руси26.
В «Сказании» Святополк представлен не как родной, а как приемный сын Владимира, рожденный от «гречанки, [которая] прежде была монахиней» и брата Владимира, Ярополка. Незаконнорожденность Святополка имеет решающее значение для понимания последующих событий «Сказания», поскольку из-за отношения отца Святополк рос нервным и неуверенным в себе: «…не любил его Владимир, ибо не от него был он» [Дмитриев 1997: 329]. В 1015 году Святополк, старший князь и признанный наследник киевского престола, скрыл от своих соперников Бориса и Глеба известие о смерти Владимира, а затем послал своих приспешников убить их.
Борису и Глебу еще до их убийства стало известно о заговоре Святополка. Узнав о смерти Владимира, Борис «стал телом слабеть и все лицо его намокло от слез, обливаясь слезами, не в силах был говорить». Как всякий хороший сын, Борис оплакивал кончину отца: «Увы мне, свет очей моих, сияние и заря лица моего, узда юности моей, наставник неопытности моей! Увы мне, отец и господин мой! К кому прибегну, к кому обращу взор свой?» Борис догадался, что Святополк подослал к нему убийц, но решил не сопротивляться: «Но тот, чувствую я, о мирской суете печется и убийство мое замышляет. Если он кровь мою прольет и на убийство мое решится, буду мучеником перед Господом моим. Не воспротивлюсь я, ибо написано: “Бог гордым противится, а смиренным дает благодать”». Борис понимал, что противостояние замыслу Святополка потребует от него поднять оружие против брата: «Если пойду в дом отца своего, то многие люди станут уговаривать меня прогнать брата, как поступал, ради славы и княжения в мире этом, отец мой до святого крещения. А ведь все это преходяще и непрочно, как паутина» [Дмитриев 1997: 331]. Борис чувствовал, что все награды, ждущие его в случае вооруженного сопротивления – «богатство, множество рабов, слава мира сего» – не сулят ничего, кроме суеты. Все это меркнет перед возможностью спасения «в добрых делах, в истинной вере и нелицемерной любви» [Дмитриев 1997: 331]. Итак, Борис готов был умереть. В воскресный день на заутрене он пел псалмы из Псалтири, затем стал молиться перед иконой, прося Иисуса Христа «сподобить [его] принять страдания» [Дмитриев 1997: 335]. Он промолвил: «Любовь долготерпелива, всему верит, не завидует и не превозносится… В любви нет страха, ибо истинная любовь изгоняет страх» [Дмитриев 1997: 337].
Глеб, со своей стороны, чувствовал себя раздавленным известиями о смерти Владимира и об убийстве Бориса. Глеб воскликнул: «Плачу горько по отце, а еще горше плачу и горюю по тебе, брат и господин мой, Борис». Глеб решил: «Лучше бы мне умереть с тобою, нежели одинокому и осиротевшему без тебя жить на этом свете». Как и Борис, Глеб молился о даровании сил принять мученическую смерть [Дмитриев 1997: 337]. Как и Борис, Глеб умер, прося у Бога прощения и милости: «Терпением укрепляйте души свои» [Дмитриев 1997: 337].
С точки зрения автора (авторов) «Сказания», ни Борис, ни Глеб не были христианскими пацифистами. Последним поручением, данным Борису Владимиром, был приказ вести «много воинов… против безбожных печенегов» – и Борис «с радостью пошел» [Дмитриев 1997: 331]. Глеб также сражался против врагов христианской веры, но, как и его брат Борис, отказался проливать кровь, защищая себя против отряда наемных убийц Святополка. Опустившись на колени, Глеб сказал убийцам: «…свершите то, на что посланы!» [Дмитриев 1997: 343]. Борис и Глеб умерли не как пацифисты, а скорее как князья-воины, решившие пострадать за свою веру: православная церковь канонизировала их в чине страстотерпцев – термин, который обычно переводится на английский как «passion-bearers», но обозначает лишь, что они приняли страдания за святое дело.
Автор(ы) «Сказания» задумывал(и) повествование о святых как нравственное и политическое руководство для киевских князей. В «Сказании» поощряется применение вооруженной силы против «безбожных» врагов Киева, воинственных печенегов, но запрещается вооруженное сопротивление внутренним врагам веры, если они обладают политической властью. Правильное отношение к неправедным князьям, таким как Святополк, – терпеть любые мучения, которые они могут причинить, – ради спасения и с осознанием того, что земная власть «мучителей» «преходяща и непрочна, как паутина». Добрые князья, такие как Борис и Глеб, должны быть богобоязненными. Они должны исповедовать православную веру и подчиняться воле вышестоящих князей; они также должны быть исполненными молитвы и мужественными перед лицом смерти. В «Сказании» порицаются любые княжеские амбиции, отклоняющиеся от христианской веры. Автор повести именует Святополка «окаянным» [Дмитриев 1997: 333]. Решив убить Бориса и Глеба, Святополк стал орудием дьявола, «исконного врага всего доброго в людях». Дружина Святополка – «скопище псов» [Дмитриев 1997: 335], «злые слуги… безжалостные кровопийцы, лютые братоненавистники с душою свирепых зверей» [Дмитриев 1997: 341]. «Сказание» отмечает, что, приказав убить Бориса, Святослав непременно должен был убить Глеба и прочих: «Ибо я погубил возлюбленного Господом и к болезни добавил новую язву, добавлю же к беззаконию беззаконие» [Дмитриев 1997:339]. Так, по ви́дению «Сказания», вкус злого князя ко злу возрастает по мере того, как он его совершает.
«Сказание» сыграло важнейшую роль в русском политическом мышлении. Оно дало максимально четкие образы «добрых» и «злых» князей, подчеркивая, что высшим долгом князя является исповедание веры и покорность высшей власти, а не стремление к политическому выживанию, богатству, власти, множеству рабов или другим выгодам. Любой князь, который ставил себя выше этого долга, становился, как и Святополк, окаянным, злым, «треклятым». Рано или поздно такой злой князь предавался оргии убийств, и его власть в конце концов слабела и истощалась: так, согласно «Сказанию», Святополк закончил свою жизнь, будучи изгнанным из Киева, опасаясь преследования своих «врагов». Влияние «Сказания» на киевскую знать, а впоследствии и на набожных подданных Московского государства было весомым, поскольку его обычно интерпретировали как предостережение против силового низложения законных государей. Согласно общепринятому толкованию «Сказания», подданным помазанного правителя запрещалось объявлять войну «мучителям» и «тиранам» даже в целях самозащиты. В позднекиевский период некоторые князья могли также воспринимать «Сказание» как запрет или неодобрение применения силы вообще.
В основе своей «Сказание» противоречиво: если можно брать в руки оружие против «безбожных» внешних врагов, то почему нельзя защищаться от «треклятого» орудия сатаны, каким был Святополк? Автор «Сказания» никак не разрешает эту трудность, – возможно, потому, что смотрит на Киевскую Русь не как на государственную систему, а как на семейство, в котором отдельные князья были морально обязаны подчиняться старшему члену семьи: отцу, старшему брату или старшему дяде. Нравственный императив коренился в божественной заповеди «Чти отца и мать», – то есть подчиняйся должным образом учрежденной семейной власти. При таком понимании нравственное наставление «Сказания» было неоспоримо; в нем заключалась возвышенная истина божественной мудрости. Однако, изображая Святополка «мучителем», который послушался сатану, «Сказание» предлагает христианам еще одну горькую «истину» – а именно, что ради спасения они иногда должны подчиняться служителям сатаны. Несомненно, это осознание кроется за предсмертной агонией Бориса, ибо, принимая смерть без сопротивления, он оставлял власть злому князю. Русским политическим мыслителям потребовалось много времени, фактически столетия, чтобы избавиться от неразрешимого логического противоречия «Сказания».
Если в «Сказании о Борисе и Глебе» и была неоспоримо положительная идея, то заключалась она в другом – в стремлении Бориса создать политический порядок, основанный на любви, а не на страхе. Это был высокий этический императив, – именно тот, которым был вдохновлен Зосима в «Братьях Карамазовых» Достоевского.
«Поучение Владимира Мономаха» (написанное, вероятно, в 1117 году) было распространено еще шире, поскольку было включено в лаврентьевский текст великой исторической хроники «Повесть временных лет». В отличие от «Слова» Илариона, «Поучение» видит идеального князя не глазами духовенства, а глазами самого князя. Как и в «Слове», в «Поучении» добрый князь изображен воином, ревностно защищающим свое княжество, и верующим человеком, проявляющим милосердие к менее удачливым. Однако в «Поучении» также подчеркивалась важность для князя внутренней жизни. Мономах советовал сыновьям благотворить другим не столько потому, что милосердие заповедано Богом, сколько потому, что «милостыня… начало всякого добра». Созерцая мир, Мономах предостерегал князя от уныния и «душевной печали»: у князя должна быть внутренняя уверенность в том, что злые в итоге не смогут одержать верх над добрыми, потому что Господь не допустит, чтобы зло восторжествовало. Князьям иногда приходится по необходимости идти на войну, но Мономах велел им молиться Господу: «Избавь меня от творящих беззаконие и от мужа крови спаси меня, ибо уже уловили душу мою». Мономах умолял Бога словами Василия Кесарийского: «Отними от сердца моего бедного гордость и дерзость, чтобы не величался я суетою мира сего». Мономах, очевидно, считал, что если князь сознательно живет праведной внутренней жизнью, то он будет способен праведно вести себя и в миру. Внешняя праведность предполагала не только благотворение («Всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам кормите»), но и сознательное воздержание от любого насилия над другими христианами. «Поучение» требовало: «Ни правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его; если и будет повинен смерти, то не губите никакой христианской души» [Творогов 1997: 457–476]. В этом фрагменте, который, вероятно, был вдохновлен заповедью Христа в Нагорной проповеди «не противься злому», мы встречаем, возможно, первый в политической мысли восточных славян пример запрета князем смертной казни. «Поучение» Мономаха завершается советом непрестанно учиться хорошему, ибо только через познание добра князь сможет творить добро. Мономах приводит в пример собственного отца, который, «дома сидя, знал пять языков» [Творогов 1997: 465]. Образ князя как искателя знаний у Мономаха является важным дополнением к портрету идеального восточнославянского князя.
Одним из самых любопытных документов в корпусе раннеславянской политической литературы является «Слово Даниила Заточника». Исследователи предполагают, что первоначальный текст («Слово») был составлен в последние десятилетия XII века (около 1180–1190 годов) и адресован новгородскому князю Ярославу Владимировичу, но оригинал рукописи так и не был обнаружен. Второй «первоначальный» текст (который называют «Моление», в отличие от «Слова»), возможно, был создан в начале XIII века (около 1213–1236 годов) и адресован переяславскому князю Ярославу Всеволодовичу. В московский период существовали десятки рукописных редакций «Слова» и «Моления», но наиболее полная из сохранившихся, из собрания Кирилло-Белозерского монастыря, относится к XVII веку [Соколова 1997: 635–639]. Из-за неопределенности авторства и происхождения текстов, возможно, лучше рассматривать «Слово» и «Моление» как коллективные произведения, созданные неизвестными авторами, которые основывались на первоначальном произведении одного или нескольких писателей.
С точки зрения политической мысли, «Слово» и «Моление», созданные множеством рук, относятся к жанру «княжеского зерцала». В «Слове» Даниил предстает в двух обличьях: во-первых, он самоучка, который «за море не ходил, у философов не учился», но все же «из многих книг выбирая сладость словесную и мудрость, / Собрал их, как в сосуд воды морские». С другой стороны, он предстает человеком, который терпел бедность и из-за этого подвергался насмешкам со стороны врагов, друзей и родственников. В качестве самоучки Даниил берет на себя право требовать от князя внимания к его мудрости. Он говорит князю: «Не смотри на внешность мою, / Но вглядись в сущность мою. / Ибо одеждой я оскудел, но разумом богат; / Юный возраст у меня, но зрелый ум во мне» [Соколова 1997: 277]. Даниил предостерегает князя от общения с «богатыми – разодетыми, но глупыми», похожими на «шелковые наволочки, соломой набитые». Даниил выражает опасение, что князь, вместо того чтобы прислушаться к мудрым советчикам, предпочтет довериться глупым и злым людям: «…князь не сам впадает в грех, а советники вводят. / С мудрым советником совещаясь, князь высокий престол займет, / А с плохим советником совещаясь – меньшего лишен будет». Это мудрое наблюдение, достойное Бальдассаре Кастильоне или Томаса Мора, сопровождается поразительными замечаниями о плачевном положении новгородских бедняков. Даниил жалуется, что, будучи бедняком, он «…всего лишен, / Ибо огражден страхом гнева твоего, / Как оградой прочной». Он сетует: «Ибо, господине, богатый муж везде известен, / Он и на чужой стороне друзей имеет, / А убогий и в своей презренным ходит. / Богатый заговорит – все умолкнут / И вознесут речь его до небес, / А убогий заговорит – все на него крикнут» [Соколова 1997: 273]. Эти замечания перекликаются с библейской Книгой притчей: «Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у богатого много друзей» (Притч 14:20) и Книгой премудрости Иисуса, сына Сирахова: «Заговорил богатый, – и все замолчали…» (Сирах 13:28). Сетуя на невидимость бедных в обществе, где главное – богатство, Даниил замечает: «Как олово гибнет, часто переплавляемое, / Так и человек, претерпевающий много бед» [Соколова 1997: 273].
Два аспекта самопрезентации Даниила усиливают друг друга: без защиты князя бедняк, каким бы мудрым он ни был, будет подвергаться социальному остракизму, и в итоге пострадает княжество. Таким образом, державе необходим мудрый, проницательный и милосердный князь. Даниил сравнивает страдающих людей своего времени с войсками, которые «из-за беспорядка… погибают… без мудрого князя». Он утверждает, что праведный князь – «как равнинная река с пологими берегами, / Насыщающая не только людей, но и зверей, / А скупой князь – как река в каменных берегах: / Нельзя ни самому напиться, ни коня напоить» [Соколова 1997: 275, 277]. Он прямо говорит князю, что государь должен протягивать руку помощи бедным и всегда помнить о них: «Когда лежишь на мягкой постели под собольими одеялами – / Вспомни меня, под единой тряпицей лежащего и от холода умирающего, / И каплями дождевыми, словно стрелами, до сердца пронзаемого» [Соколова 1997: 275].
В «Молении» социальная критика Даниила обостряется. Он обличает монастырскую жизнь как расточительную и порочную, указывая князю: «где свадьбы и пиры, тут монахи и монахини, и беззаконие». Даниил утверждает, что, несмотря на религиозные обеты, данные епископами, монахами и монахинями, «их нрав блудный» [Зарубин 1932: 70]. Даниил решительно настаивает, что, принимая религиозные обеты, большинство христиан лгут Богу. Даниил обличает то, что, по его мнению, является нечестием в супружеской жизни. Ради приданого или из-за богатства тестя молодые люди женятся на злых женщинах. Также жизнь мужчины может отравить властная или некрасивая жена. Даниил заявляет: «Но лучше мне бурого вола ввести в свой дом, чем злую жену взять» [Соколова 1997: 281]. Он считает, похоже, что позволить женщине управлять домом значит положить начало разрушению устоявшегося порядка вещей.
«Слово» и «Моление» Даниила выражают мировоззрение человека, который считает себя мудрецом, достойным быть советником князя, но осмеиваемым соседями; человеком, который отстаивает истинность христианства, но в представителях христианского духовенства видит лжецов и лицемеров; человеком, который верит в достоинство супружеской жизни, но наблюдает в браке тиранию «злых» женщин. На первый взгляд «Слово» и «Моление» поддерживают авторитет праведного князя, но в них сквозит негодование по поводу его неспособности исправить очевидное социальное зло. Не без основания Б. А. Романов назвал Даниила «мизантропом XII–XIII веков» [Романов 2002: 24–44]. Тем не менее этот высокообразованный и материально нуждающийся «мизантроп» внес весомый вклад в жанровую традицию «княжеского зерцала», дополнив предыдущие тексты. Подчеркивая важность княжеского милосердия и милости, он также настаивал на решающем значении княжеской мудрости в понимании нужд общества, пораженного нищетой.
Существенный вклад в развитие русской политической мысли внесло сочинение Агапита, диакона церкви Святой Софии в Константинополе, который в начале правления императора Юстиниана написал для него книгу наставлений, состоящую из 72 глав27. «Поучение» Агапита императору было широко распространено на европейском Западе в рукописном виде задолго до печати; после публикации в 1509 году книга быстро стала настольным руководством монархов28. Игорь Шевченко указывает, что мысли Агапита были известны на Руси задолго до типографской публикации в Европе, – они встречаются, например, в документе XII века «Пчела. О власти и княжении» (около 1175 года), в сказании о Варлааме и Иоасафе, в проповедях Кирилла Туровского. Существует и прямой перевод XV века под названием «Поучение благаго цесарства» [Shevchenko 1954: 141–179]. В недавнее время две русские редакции «Поучения» XVI века опубликовала И. А. Лобакова [Лобакова 2006: 285–296]. В России XVI века с произведением Агапита были знакомы Иосиф Волоцкий, митрополиты Макарий и Афанасий, царь Иван IV и его критик князь Курбский, а также автор «Жития митрополита Филиппа» – и это не исчерпывающий список.
Бо́льшую часть материала для своей книги Агапит заимствовал у классических греческих, эллинистических и раннехристианских авторов: у афинского ритора Исократа; у различных философов неопифагорейской школы, которые сравнивали власть царя над страной с владычеством Бога над мирозданием; из «Слова василевсу Константину» епископа Евсевия Кесарийского, прославлявшего первого христианского императора как подобие образа Божьего; у греческих отцов церкви (Василия Кесарийского, Григория Назианзина) и монахов (Нила Синайского и Исидора Пелусиотского), которые предлагали общие советы людям всех сословий [Bell 2009: 27–32]. Проработав эти источники, Агапит вывел лаконичные и содержательные формулы, предназначенные для практического руководства правителю29. Питер Белл охарактеризовал «Поучение» как «искусно созданное литературное произведение» [Bell 2009: 36–37].
В свое время Агапит, вероятно, не считался крупной интеллектуальной фигурой, и, соответственно, впоследствии на его работы не опирались при создании византийской имперской идеологии30. Скорее, он был малозначительным участником споров начала VI века о легитимности императорской власти. К тому времени, когда Агапит написал свой труд, Зосима в своей «Новой истории» уже предостерегал от нововведений в управлении, от чересчур властных правителей и от влияния христианства на политику. С другой стороны, в «Хронике» Марцеллина Комита Юстиниан охарактеризован как законный правитель, который не преступал пределов своей власти. Работавший после Агапита Прокопий Кесарийский проанализировал в нескольких книгах войны Юстиниана, а также написал замечательную «Тайную историю», в которой критиковал Юстиниана за продажность и тиранию31.
В «Поучении» Агапит изображает императора как того, кто «превыше всякия чести имеет царское достоинство» [Писарев 1771: 2], как «Богозданный благочестия образ» [Писарев 1771: 4], как «неприступнаго человекам по высочеству дольняго царствия» [Писарев 1771: 5], как «венцем целомудрия украшеннаго, и в порфиру правосудия облеченнаго» [Писарев 1771: 11]. По Агапиту, царская власть наиболее почетна («честнее всего есть Государствование») [Писарев 1771: 20]; император «от Бога будучи охраняем, и врагов храбро побеждает» [Писарев 1771: 30]. В то же время, утверждает Агапит, император – обычный человек, «со прахом земным смешан» [Писарев 1771: 12], и, как и прочие, проходит «круг некий человеческих вещей» [Писарев 1771: 7], видит преходящий характер богатства [Писарев 1771: 9], претерпевает всевозможные искушения и смерть. «Ибо хотя он и сделался Властителем на земли, – предупреждает Агапит, – однако надобно ему ведать, что и он из той же земли сотворен, от персти на престол возведен, и по неколиком времени опять в нее снидет» [Писарев 1771: 35]. В 21-й главе «Поучения» Агапит передает противоречие между божественным достоинством императорской власти и его человеческой ограниченностью:
По существу тела равен со всяким человеком Царь, а по власти достоинства подобен всех властителю Богу. Не имеет он на земли пред собою вышшаго. И так надобно ему, и яко Богу не гневатися, и яко смертному не превозноситися. А хотя он образом Божиим и почтен, однако и со прахом земным смешан: по чему научается признавать в себе со всеми равность [Писарев 1771: 12].
Из этого двойственного представления об императоре вытекало ви́дение безраздельного царского владычества, основанного на божественной власти, но умеряемого добродетелью. Агапит уподоблял жизнь «прехождению морешественнаго корабля», а людей – мореходам на судне жизни [Писарев 1771: 34]. В этой метафоре правитель выступает в роли кормчего: «Как кормчий многоочитый ум царский всегда бодрствует, держа твердо законнаго правосудия рули и отревая сильно беззакония струи, чтобы всемирнаго жительства ладия волнам обиды подвергаться не могла» [Писарев 1771: 2]. Агапит отмечает, что «когда же сам кормчий [погрешит], то погибель тем наводит всему кораблю… а если сам Властитель, то производит всему гражданству вред». Таким образом, безраздельная власть правителя предполагает страшную ответственность: необходимо «с крайней осторожностию и говорить все, и делать» [Писарев 1771: 6–7], в делах не торопиться, проявляя осмотрительность, «тщаться все присматривать, и ничего не презирать» [Писарев 1771: 14].
Метафора правителя как кормчего предполагает не только единоличную царскую власть, но и необходимость защиты государственного корабля от внутренних врагов в качестве первоочередной задачи правителя. Агапит пишет, что правитель должен «показать власть» врагам и победить их «силою оружия» [Писарев 1771: 12]. Чтобы непогрешимо управлять государством, утверждает Агапит, правитель должен твердо стоять на пути благочестия, украшаться благочестием как венцом [Писарев 1771: 9]. На практике христианское благочестие требовало от императора совершать добрые дела, такие как: внимать бедным [Писарев 1771: 5], перераспределять доходы от богатых к бедным [Писарев 1771: 10] и любить обездоленных [Писарев 1771: 23]. Человеческая сущность императора, считает Агапит, требует от него всегда быть «удобоприступным имеющим… нужду» [Писарев 1771: 5]. По Агапиту, благочестивый правитель должен быть беспристрастным при вынесении судебного решения [Писарев 1771: 21], внимательно вникать в суть судебного дела и никогда не обижать подданных [Писарев 1771: 21, 24]. Вводя новые законы, правитель сам не должен действовать вопреки им [Писарев 1771: 24]. Император должен «понуждать сам себя сохранять законы», ибо так «ты законам честь воздашь, яко прежде других сам оныя почитающий» [Писарев 1771: 15]. По мнению Агапита, благочестивый государь «солнца еще светлее», так как не терпит алчности злых людей и «светом истины изобличает скрываемыя обиды» [Писарев 1771: 24].
При рассмотрении государственных дел, утверждает Агапит, правителю необходимо «уклонение от обхождения с людьми нечестными» [Писарев 1771: 16], он должен «отвращаться от льстивых слов ласкателей, как от врановых хищных нравов» [Писарев 1771: 7], и принимать «хотящих советовать благая» [Писарев 1771: 12], считая «друзьями истиннейшими не тех, которые все твои слова хвалят; но оных, которые по справедливому рассудку производить все дела тщатся» [Писарев 1771: 17].
Подобно Богу, император управляет своими подданными, потому что, подобно Богу, любит их и хочет делать то, что идет им на пользу [Писарев 1771: 4]. Подданные императора должны подчиняться законам и поступать справедливо, но правитель должен превзойти их всех в творении добрых дел [Писарев 1771: 26]. Он должен быть самым послушным из подданных Бога – тем, кто лучше всех осознает необходимость благоразумия, благочестия, благотворительности, справедливости и мудрого совета. Короче говоря, «Государем над всеми есть Царь, но со всеми раб он есть Божий» [Писарев 1771: 33]. Другими словами, по утверждению Агапита, власть хорошего правителя ограничена не юридически, а нравственно.
Почему «Поучение» Агапита понравилось московской элите? Один из ответов заключается в том, что Агапит усматривал основу политической власти в Божьей воле, что отвечало древнерусским размышлениям об обязанностях князя, согласно которым хорошее правление предполагает неуклонное повиновение Божьим заповедям. Другой, более циничный ответ состоит в том, что в «Поучении» Агапита каждый находил что-то близкое для себя. Как и другие авторы «зерцал правителя», Агапит изображает праведного царя обладателем целого ряда добродетелей, каждая из которых соответствует определенному аспекту или функции царского правления. Царь одобрил бы метафору Агапита о кормчем, который самовластно ведет корабль государства через волны беззакония. Бояре и думные чины нашли бы причины, по которым к их советам государю стоит прислушаться. Представители Церкви согласились бы с Агапитом в том, что царь должен быть покорным Богу, благочестивым и не отвергать духовных наставлений. Как мы увидим ниже, русские XVI века цитировали Агапита с разными целями: Иосиф Волоцкий – чтобы польстить князю, напомнив ему в то же время о долге перед бедными, автор «Жития митрополита Филиппа» – чтобы уличить Ивана IV в тирании. В целом представление Агапита о праведном государе, в котором сочетаются внушающая благоговение суверенная власть князя и необходимость смиренно выслушивать прошения подданных, существенно не отличалось от других «зерцал», распространенных в киевский и раннемосковский период. Если Агапит и подтолкнул Ивана IV к абсолютизму, как полагают некоторые историки, то это «влияние» было результатом избирательного прочтения «Поучения».
Иосиф Волоцкий: сращивание церкви и государства
Самым выдающимся русским церковным деятелем конца XV века был Иосиф Волоцкий (1439 или 1440–1515). С юных лет воспитанный в монастырских школах, в 1460 году он принял постриг в небольшом монастыре близ города Боровска в Калужской земле. Там он прожил 18 лет под духовным руководством преподобного Пафнутия, который наставлял его в простой жизни, что сводилась к самоотверженному труду и непрестанной молитве, внушил милосердие к нуждающимся, уважение к справедливости и любовь к соблюдению монастырского устава [Булгаков 1865: 21–22]. После кончины преподобного Пафнутия Иосиф отправился посетить другие монастыри в надежде найти образец общежительного устава. Изучив в течение года несколько общин, он пришел к выводу, что устав Кирилло-Белозерского монастыря ближе всего соответствует тому образу благочестивой жизни, который он искал. Однако повсюду в монастырях, даже в Белозерском, он видел бесчиние, леность и произвол [Булгаков 1865: 25–32]. Иосиф решил основать новую общину, где строго соблюдались бы благочестие и христианский идеал равенства перед Богом. В 1479 году при содействии местного князя он основал с немногими разделявшими его взгляды монахами монастырь к западу от Москвы, недалеко от слияния рек Сестры и Струги, в окрестностях города Волока Ламского. К концу его жизни, почти четыре десятилетия спустя, Волоколамский монастырь стал средоточием религиозной и политической жизни Руси. На протяжении всего XVI века он останется одной из ведущих религиозных общин России.
В Волоколамске Иосиф намеревался учредить христианское братство, основанное на «всей истине от Божественных Писаний пророческих и апостольских и евангельских», ибо только в таком братстве можно было противостоять искушениям мира. Там же, считал Иосиф, легче всего разоблачить ложь ереси [Зимин, Лурье 1959: 296]. Монастырский устав Иосифа (составлен после 1479 года, записан в 1514 году, опубликован в 1959-м) требует, чтобы «чин церковной службы» соблюдался «благообразно и по чину» [Зимин, Лурье 1959: 297], чтобы монахи во время молитвы отлагали «всякое земное дело и попечение и леность» [Зимин, Лурье 1959: 298], чтобы, готовясь к «божественному пению и славословию», братья пеклись «прежде о телеснем благообразии и благочинии… потом же и внутреннем хранении и внимании» [Зимин, Лурье 1959: 300]. Он призывал монахов питаться простой пищей, избегать обжорства, «держати чрево и собрати сердце» [Зимин, Лурье 1959: 303–304] и отсечь «всех лютейшую страсть и начало всем злым, …еже есть тайноядение» [Зимин, Лурье 1959: 305]. Он требовал, чтобы братья носили простую, грубую одежду, призывая их избегать излишества и роскоши, ибо тот, у кого «смиренная и худейшая… одежда, на небесех славу себе притворяет» [Зимин, Лурье 1959: 306]. В пятом «слове» монастырского устава Иосиф увещает придерживаться общего жития, продать имущество, соблюдать нестяжание, «отречься всякия вещи», ибо «вещелюбие и стяжание» порабощают монаха. Иосиф наставляет собратьев, что «лучше есть оскудение имети и со Христом быти, нежели кроме того приобщениа всеми житейскими богатети, и с теми осуждену быти» [Зимин, Лурье 1959: 308].
Монастырский устав Иосифа Волоцкого запрещал присутствие женщин и детей на территории монастыря. Он опасался, что вид таких посетителей может соблазнить монахов на похотливые помыслы или даже на сексуальные связи [Зимин, Лурье 1959: 318–319]. Он хотел, чтобы монастырь был местом, свободным от чувственных отвлечений, но также и от всех внешних различий между людьми. Иосиф задумал Волоколамский монастырь как христианскую утопию, достигаемую за счет устранения поведенческих, материальных и гендерных различий.
Конечно, для соблюдения устава нужна была иерархия, и для решения этой задачи Иосиф, как и многие главы религиозных общин на протяжении веков, призвал избрать настоятеля и совет из 12 старцев. За нарушением устава в Волоцком монастыре могли последовать различные наказания. Мелкие и невольные проступки могли быть прощены по усмотрению настоятеля. Более серьезные, преднамеренные нарушения устава влекли за собой телесные наказания (многократные поясные поклоны, ограничения в питании – хлеб и вода) или духовную епитимью (отлучение от таинств), но только по усмотрению настоятеля и старцев. Самые тяжкие нарушения влекли за собой заключение в кандалы или даже изгнание из монастыря, опять же по усмотрению настоятеля и старцев [Булгаков 1865: 206–207]32. По мнению Иосифа, самым серьезным наказанием в этой шкале было изгнание из монастыря. Он считал его оправданным, когда нарушители предпочитали свои индивидуальные желания общему благу. По его мнению, индивидуальные действия не приносят ничего, кроме «безчинства и преслушания» [Булгаков 1865: 208].
Монастырский устав Иосифа Волоцкого предполагал постоянное наблюдение старцев за рядовыми монахами. Денно и нощно старцы наблюдали за насельниками, чтобы убедиться, что все они заняты трудом, не разговаривают и не смеются на службах, смирно стоят на своих местах в церкви и не имеют недопустимых контактов с мирянами [Булгаков 1865: 205–206]. В итоге, однако, соблюдение устава опиралось не на внешние правила, а на внутреннее осознание монахами того, что мирской и духовный порядки незримо взаимосвязаны. Иосиф призывал собратьев помнить: «Ты же Небесному Цареви предстоя, ему же аггели трепещуще предстоят… И как не боишися, ниже трепешещи, окаянне» [Зимин, Лурье 1959: 301]. Он также предупреждал монахов: «Диавол бо лукав сый и весть, яко вместо малых трудов Царствия небеснаго наследие прииметь, аще кто потщится и понудит себе на дело Божие» [Зимин, Лурье 1959: 298–299].
Благодаря исключительной дисциплине и упорному труду Волоколамский монастырь постепенно достиг процветания. Уже через несколько месяцев после основания монастыря монахи построили небольшую деревянную церковь в честь Успения Божией Матери. В последующие десятилетия монастырь построил четыре каменные церкви, трапезную и кухню, склады, монашеские кельи [Булгаков 1865: 38–39]. Растущий монастырь получал много даров, деньгами и землей, от богатых местных семей, от новгородского архиепископа Геннадия (Гонзова) и от великого князя Ивана Васильевича. К концу жизни Иосифа Волоцкого монастырь владел землями, на которых жило более 11 тысяч крестьян [Булгаков 1865: 35–38].
Ресурсы монастыря не только давали монахам возможность вести религиозную жизнь: через них община вовлекалась в экономику и политику Московского государства. Однажды Иосиф подсчитал, что монастырь кормит ежедневно «иногда шесть сот, а иногда семь сот душ». В голодные годы он занимал деньги, чтобы купить зерна и накормить голодающих местных крестьян. Щедрость его милостыни в голодные времена даже вызывала у братии ропот, что он разорит монастырь [Булгаков 1865: 50–51]. В 1512 году Иосиф умолял соседнего князя Юрия Ивановича помочь страдающим крестьянам, раздавая им зерно бесплатно или продавая его по разумной твердой цене33. Славясь своей милостыней бедным, монастырь, как магнит, притягивал к себе беглых крепостных. Иосиф склонялся к тому, чтобы принимать беглецов в общину, если они просили пострига, напоминая их бывшим хозяевам «имети попечение о рабех… и наказывати их всегда на благая дела на Божий путь спасеный…»34. Просьбам вернуть беглецов хозяевам Иосиф противился. Более того, в одном печально известном случае, связанном с жестокостью господина, Иосиф бранил хозяина за его «немилосердие… и нежалование… к рабом и сиротам домашним». Он писал виновнику: «И ты, господине, зри о сем, какой Божественное писание страшно претит и глаголет: есть беда велика и страшна и мучение бесконечное, еже не пекутся, ни имеют печали о домачных своих сиротах»35.
Милосердие Иосифа Волоцкого по отношению к бедным и его готовность защищать крепостных перед их хозяевами поднимают вопрос о его отношении к общественному строю Московской Руси. С одной стороны, он формально признавал «факт» существующего общественного устройства: разделение людей на господ и крепостных, необходимость для Волоколамского монастыря полагаться на крестьянский труд. С другой стороны, он напоминал власть имущим об их обязанностях перед слугами и использовал богатства монастыря для иллюстрации того, как можно улучшить жизнь на Руси при помощи христианской милостыни. Из-за этой двойственной позиции Я. С. Лурье различал «объективный смысл» идей Иосифа, которые косвенно поддерживали существующий общественный строй, и его «субъективные симпатии» к бедному крестьянству [Зимин, Лурье 1959: 66–67]. Однако нравственное порицание Иосифом социального угнетения простиралось дальше, чем полагает Лурье. Иосиф Волоцкий считал, что милостыня может не только помочь утолить голод, но и способствовать исправлению порочной жизни36. Дела праведности он считал шагом к установлению Царства Божьего на земле. Более того, в одном из своих писем он заметил:
…на страшнем судищи Христове несть раб, ниже свободна, но кождо по своим делом приимет; и аще будет князь или властелин благ, и праведен, и милостив и имел раб тако, яко же и чада, и пеклъся душами их, якоже Божественное Писание повелевает, за то примет Царства небеснаго наследие37.
Эти замечания показывают, что Иосиф рассматривал социальную несправедливость не столько как оскорбление его личных «субъективных симпатий», сколько как преступление против объективного, утвержденного Богом нравственного устройства. Если Иосиф был прав, утверждая взаимопроникновение духовной и мирской сфер, то его социальный идеал предполагал абсолютное равенство душ перед Богом.
Н. А. Казакова обратила внимание на житие Иосифа Волоцкого, написанное его почитателем. В нем автор повторяет доводы Иосифа в пользу милосердия к крепостным. По словам автора, Иосиф утверждал, что хозяева богатеют, если их крестьяне («тяжари») производят хороший урожай, но и страна в целом выигрывает от благоденствия народа. Люди, живущие при «тихом и кротком» князе, по словам Иосифа, будут молить Бога о даровании ему многолетнего правления, кроме того, «тем богатеющим умножат казну его частостию тамги и дани». Иосиф спрашивает: «Откуда бо… имение приимет казна ему, не сущу богатству в народех?» [Казакова 1958: 242–243]. Если этот анонимный источник отражает действительные взгляды Иосифа, то его отношение к существующему социальному порядку было многогранным: он принимал социальное разделение как «факт», с которым русские должны были считаться, но критиковал социальную несправедливость с нравственной и практической точек зрения.
Отношение Иосифа Волоцкого к политической власти никогда не было простым, – отчасти потому, что великий князь Московский Иван III пытался упрочить свою власть над соперниками, а отчасти потому, что эта политическая борьба происходила одновременно с распространением «ереси» в русских землях. Вначале у Иосифа были теплые отношения с Иваном III. Он несколько раз встречался с ним в 1478 году, и великий князь привечал его и провожал «с великой честью». Однако отношения между Иосифом и Иваном начали портиться уже в 1479 году, когда Иосиф перешел под покровительство соперника Ивана, князя Волоцкого Бориса Васильевича. Лурье трактует «переход» Иосифа к князю Борису Волоцкому как «разрыв» с Иваном III [Зимин, Лурье 1959: 42]. К 1490 году Иосиф начал подозревать, что Иван III привечает в Москве еретиков. Он полагал, что решение Ивана III назначить архимандрита Зосиму митрополитом Московским равносильно тому, чтобы поставить еретика во главе православной церкви [Булгаков 1865: 66–67]. В письме к епископу Нифонту Суздальскому Иосиф писал, что Зосима – «скверный злобесный волк, оболкийся в пастырскую одежду», «Июда предатель и причастник бесом» [Зимин, Лурье 1959: 160–161]. К 1494 году Иосиф считал Ивана III князем-убийцей [Зимин, Лурье 1959: 43]. Политическую и религиозную ситуацию, в которой оказались русские, Иосиф называл «бедой», «злым временем», предвидя скорый конец света. По его мнению, из-за своего отступничества Зосима стал «антихристовым предтечей» [Зимин, Лурье 1959: 161]. Обличение Иосифом митрополита более чем на столетие предвосхитило яростную критику Аввакума в адрес патриарха Никона.
С 1490 по 1504 годы иерархи Русской православной церкви сосредоточились на обвинениях в ереси, выдвинутых новгородским архиепископом Геннадием и Иосифом Волоцким против так называемых жидовствующих – небольшого сообщества священников и мирян. Жидовствующие якобы стремились реформировать православие, отрицали Святую Троицу и божественность Христа, отвергали идею, что Бог Отец послал Своего Сына на землю, чтобы искупить человечество от греха, не признавали воскресения Христа из мертвых. На основании этих предпосылок жидовствующие якобы заключили, что Христос не был Мессией, что таинства не имеют духовной силы, являясь лишь утешением или воспоминанием, что святых и иконы почитать не следует, а монашеская жизнь – это либо явное отклонение от Божьей воли, либо грубое лицемерие, неугодное Богу. Жидовствующие якобы отрицали телесное воскресение в конце времен и загробную жизнь. Их обвиняли в том, что они предпочитают иудейский календарь христианскому, «искажают» псалмы, пытаясь восстановить их оригинальные тексты, и предпочитают иудейское благочестие православному38.
С точки зрения христианских традиционалистов, каким был и Иосиф Волоцкий, все выглядело так, как будто жидовствующие хотят полностью уничтожить церковь как институт и богословие, на котором зиждется спасение христиан. Однако если жидовствующие действительно придерживались взглядов, которые им приписывал Иосиф, их конечной целью могло быть не уничтожение христианства, а его реформирование в пророческую религию путем приближения образа Иисуса к Его историческим корням и «очищения» христианской практики от дополнений, которых нет в Писании. «Программа» жидовствующих, даже в том виде, в котором ее описал Иосиф, была примером ультра-традиционализма в том смысле, что она предполагала «возвращение» к прежним верованиям и практикам, но также она была примером рационалистического реформизма, поскольку стремилась очистить христианство от «иррациональных» суеверий. По заключению Иосифа, учение жидовствующих угрожало церкви и общественному устройству Московской Руси, вызывало отвращение у большинства церковных иерархов. Однако некоторые его аспекты, особенно неприятие монастырского землевладения, несомненно, склонили Ивана III к тому, чтобы смириться с существованием ереси.
Однако вполне вероятно, что реальные убеждения жидовствующих в значительной степени отличались от тех, которые обычно вменялись им Геннадием, Иосифом и другими церковными авторитетами. По мнению Моше Таубе, «ересь» жидовствующих, вероятно, выросла из переводов на русинский язык ряда ивритоязычных текстов. Сами тексты были переписаны или переведены киевским евреем Захарией Ха-Коэном, который в середине XV века посетил Новгород и, возможно, ввел эти тексты в обращение на Руси. Тексты предположительно включали фрагмент астрономического трактата Аль-Фергани «Книга о сфере» и, возможно, его же «Книгу о небесных движениях и свод науки о звездах» (комментарий к «Альмагесту» Птолемея); редакцию «Трактата о сфере» Иоанна де Сакро-Боско; так называемый «Шестокрыл» Эммануеля бар Якоба Бонфилса из Тараксона; перевод «Тайная тайных» («Secretum Secretorum»); этические и философские работы школы Маймонида [Taube 1995: 168–198].
В «Книге о сфере» Земля описывается как «самый центр Небес, не отклоняющийся от своего положения». Небесные сферы состоят из «верхнего» неба и «нижнего» неба, а движения планет соотносятся с их расположением на этих небесах. Также в трактате предпринята попытка описать физические причины лунных затмений [Taube 1995: 184–189]. «Шестокрыл» – это метод расчета периодичности лунных и солнечных затмений, но его математика исходит из того, что мир приближается к концу седьмого тысячелетия своего существования – то есть, по мнению русских читателей, к концу света39. Предположительно среди жидовствующих, а затем среди русских христиан ходили оба эти текста, поскольку тема Апокалипсиса пользовалась большим интересом.
«Тайная Тайных» – арабский текст, широко известный в Европе в латинском переводе, приписывавшийся Аристотелю, который якобы в письме к Александру Македонскому давал ему наставления по самым разнообразным вопросам, от астрологии и ботаники до политической этики и души. В славянской редакции «Тайная тайных» большой интерес представляет упоминание о «двух кругах»: круге мира и круге души. В ивритоязычном источнике славянской редакции круг мира состоит из восьми частей, или максим. В переводе Таубе с иврита круг мира выглядит следующим образом:
1. Мир есть сад, огражденный владычеством. 2. Владычество – это господство, возвышенное законом. 3. Закон – руководство, управляющее царем. 4. Царь – это пастух, собирающий войско. 5. Войско – драконы, вскормленные деньгами. 6. Деньги – это пища, собранная народом. 7. Народ – слуги, подчиненные правосудию. 8. Правосудие – счастье и утверждение мира [Taube 1994: 343].
В славянском переводе текст о круге мира был просто опущен, хотя переводчик обещал включить его, поскольку он имеет отношение к «царским делам».
Текст о круге души также был исключен из славянского перевода, но Таубе утверждает, что он соответствует «Поэме о душе», которую обычно приписывают московскому дьяку Федору Курицыну, одному из сторонников жидовствующих. Курицын сохранил «Поэму о душе» в зашифрованном виде. Таубе реконструировал ее следующим образом:
1. Душа – отдельная субстанция, предел которой – религия. 2. Религия – руководство, установленное пророком. 3. Пророк – это вождь, которого узнают по чудотворению. 4. Чудотворение – дар, подкрепленный мудростью. 5. Мудрость – сила ее – жизнь в воздержании. 6. Воздержание – это путь жизни, цель которой – знание. 7. Знание преблагословенно – через него мы достигаем страха Божьего. 8. Страх Божий – это начало добродетели, которым назидается душа [Taube 1994: 346–347].
Если характеристика литературы жидовствующих, данная Таубе, верна, то мы, вероятно, должны предполагать, что они ожидали скорого конца света. Свой эсхатологизм они обосновывали математическими расчетами и научными данными того времени, а также словами пророков. Они не отвергали ни бытия Бога, ни возможности чудес: более того, их понимание пророчества допускало чудотворение. Их религиозные взгляды были основаны на разуме, мудрости, трезвении и самодисциплине. Душу они считали «отдельной субстанцией», то есть элементом, автономным от тела и мира.
Возможно, русские жидовствующие не знали о политических идеях книги «Тайная Тайных», представленных в «круге мира», поскольку эта часть текста была исключена из славянского перевода. Однако можно хотя бы предположить, что это знание передавалось устно. Из восьми максим круга мира наиболее спорными в контексте Московской Руси были третья (о подчинении царя законам) и пятая (сравнивающая войско с паразитирующими «драконами»). Максима восьмая, описывающая справедливость как «утверждение мира», могла вызвать возражения двоякого рода. С одной стороны, с православной точки зрения утверждение мира – Бог, Христос – «столп и утверждение истины». С другой, не так уж часто в русских текстах «правосудие» и «счастье» приравнивались друг к другу. В целом и «круг души», и «круг мира» основывались на рационалистическом мировоззрении. Такой взгляд на вещи в сочетании с математико-астрономическим эсхатологизмом движения побудил русские церковные круги противостоять эзотерическим текстам «извне».
На церковном соборе 1490 года по меньшей мере девять человек были осуждены как еретики, причем все осужденные, кроме двоих, были из Новгорода. Иосиф Волоцкий выразил недовольство таким исходом по двум причинам: во-первых, он считал, что на самом деле еретическое сообщество намного обширнее; во-вторых – полагал, что наказания, вынесенные еретикам, были мягче, чем они того заслуживали40. За чересчур мягкие приговоры он порицал митрополита Зосиму, а также некоторых придворных Ивана III, например Федора Курицына. Задачей Иосифа на последующее десятилетие стало обеспечить себе сотрудничество Ивана III в подавлении оставшихся в государстве еретиков, после того как события 1490 года показали, что великому князю в этом доверять нельзя. Лишь в 1503 году, когда Иосиф приехал в Москву на церковный собор, посвященный вопросам о вдовствующих священниках и монашеской жизни, ему удалось достичь согласия с Иваном. Великий князь признался Иосифу, что раньше он «ведал новгородцких еретиков», и теперь просил Иосифа: «…и ты меня прости в том». Иосиф Волоцкий ответил Ивану: «Государь! Только ся подвигнешь о нынешних еретикех, ино и в прежних тебе Бог простит». По словам Иосифа, Иван III тотчас же решил разыскивать еретиков в Новгороде и других городах [Зимин, Лурье 1959: 175–176]. Начатые в 1503 году расследования закончились тем, что проведенный в следующем году церковный собор осудил множество еретиков: нескольких сожгли, другим вырезали языки, третьих отправили в монастырские тюрьмы [Голубинский 1900, 2: 582].
Несмотря на соглашение с Иваном III, Иосиф Волоцкий с подозрением относился к московскому великому князю до самой его смерти в 1505 году, и перенес эту же подозрительность на преемника Ивана Василия III. Лишь в 1507 году, когда Волоколамский монастырь испытывал давление князя Ф. Б. Волоцкого, Иосиф обратился за защитой к Василию. Разворот Иосифа Лурье расценил как «новый этап в биографии Волоколамского игумена» [Зимин, Лурье 1959: 84]. Либеральный историк П. Н. Милюков рассматривал обращение Иосифа к Василию III как доказательство поддержки им московского политического устройства и как средство установить «тесный союз церкви с государством» [Милюков 1899, 2: 27]. Зимин считает, что в течение всего периода с 1507 года до своей смерти в 1515 году Иосиф «развивает теорию теократического происхождения самодержавия» [Зимин 1953: 174]. На самом деле, однако, даже после «перехода» Иосифа к Василию в его отношениях с великим князем сохранялась напряженность [Зимин, Лурье 1959: 88–89].
Коварные извивы московской политической жизни между 1479 и 1515 годами и меняющееся на их фоне отношение Иосифа к государству объясняют, по крайней мере частично, кажущуюся непоследовательность его политических учений. Свои взгляды на такие проблемы, как подчинение светской власти и христианский долг противостоять нечестивым правителям он излагал во-первых, в коротких «посланиях», во-вторых, в официальных проповедях («словах»). Короткие послания, как правило, были адресованы тому или иному церковному деятелю или князю. В них Иосиф затрагивал вопросы, представляющие интерес для его монастыря, либо конкретные вопросы религиозного значения. Поскольку он обычно стремился убедить своего читателя совершить конкретное действие или принять определенную позицию, его эпистолярный стиль часто описывается как «деловой», лаконичный, практический. Но такие характеристики слишком просты, хотя бы потому, что свои советы он подкреплял ссылками на Священное Писание и другие религиозные источники. На самом деле в его стиле несентиментальный практический ригоризм неуклюже сочетался с моральным увещеванием. Его интонации были уверенными, необычайно властными, но в письме великому князю он уничижительно пишет о себе: «нищий… грешный чернец Иосиф з братьею челом бью» [Зимин, Лурье 1959: 178]. Историки идентифицировали более двух десятков писем, написанных Иосифом между 1478 и 1515 годами41.
Между 1490 и 1511 годами Иосиф написал 16 проповедей, посвященных ереси жидовствующих и ее подавлению. В первых 11 «словах», написанных между 1490 годом и церковным собором 1504 года, он обличал догматические ошибки еретиков, а также излагал основные доктрины Церкви о Троице, об Иисусе как Мессии, о роли Церкви в спасении, о воплощении Иисуса, о почитании икон, о христианской эсхатологии и о роли монастырей в православной жизни. Последние пять проповедей Иосиф написал после подавления ереси, вероятно, в 1505–1511 годах. В 12-м «слове» рассматривался вопрос о том, обладают ли еретики, наделенные высоким церковным саном, духовной властью. В «словах» 13–16 обсуждались этические проблемы, связанные с подавлением еретиков и отступников: обязаны ли церковные чины и светские служащие судить и наказывать еретиков; какая степень бдительности необходима при расследовании ереси; на каких условиях раскаявшиеся еретики могут быть приняты в Церковь.
Иосиф писал проповеди в разное время, но впоследствии расположил их не в хронологическом порядке. Например, «слова» с пятого по седьмое он, вероятно, написал между 1502 и 1504 годами, незадолго до церковного собора, хотя можно предположить и гораздо более раннюю датировку. «Слова» первоначально имели другой порядок: первое и второе, о почитании икон, стали шестым и седьмым в окончательной нумерации Иосифа; третье «слово» об иконах стало пятым. Для наших целей важно как решение Иосифа объединить первые 11 «слов» в сборник «Против ереси новгородских еретиков», так и его последующее решение, принятое, вероятно, в 1510 или 1511 году, добавить к сборнику остальные проповеди. В XVII веке книга Иосифа Волоцкого против еретиков ходила в рукописи под названием «Просветитель». Православные традиционалисты до сих пор считают «Просветитель» шедевром Иосифа. Историки смотрят на сборник как на одну из самых влиятельных русских книг XVI века.
Нашего внимания заслуживают несколько аспектов «Просветителя». Во-первых, «Просветитель» как краткое изложение христианских догм и их обоснований может сравниться лишь с немногими произведениями православной литературы. Иосиф четко выделил основные положения христианской веры и подробно процитировал тексты Писания, на которых они основаны. Поскольку книгу он задумывал как опровержение жидовствующих, многие цитаты он взял из Ветхого Завета. Он не изучал оригинальные еврейские тексты, но приводил цитаты из современного ему церковнославянского перевода Библии. Еврейские Писания Иосиф покрывал христианским глянцем, воспринимая цитируемые отрывки как выражение христианского учения до появления самого христианства. Тем не менее его толкования догматов в большинстве случаев были тщательно укоренены в Писании. В «Просветителе» также искусно использовались святоотеческие творения. Русским «Просветитель», должно быть, казался удивительно ученой и убедительной книгой.
Во-вторых, в «Просветителе» приводилась краткая история движения жидовствующих и пути его распространения в Новгороде: от приближенного киевского князя Михаила, еврея по имени Схария [Захария] и двух литовских евреев, Иосифа Шмойло-Скаравея и Моисея Хануша, до двух новгородских священников (попа Дениса и протопопа Алексея), а затем и до прочих, включая купцов, дьяков и московского придворного Федора Курицына. В «Просветителе» утверждалось, что ересь жидовствующих распространялась не только прямым прозелитизмом, но и обманом и тайной. Согласно Иосифу, еврейские изобретатели ереси говорили своим новгородским последователям: «…держитесь своего жидовства втайне, а внешне будьте христианами». В книге также утверждалось, что ересь перекинулась на Москву оттого, что митрополит Геронтий, «то ли из-за своего невежества, то ли не радея о них [о христианах], то ли опасаясь великого князя», не остановил жидовствующих. Позже, согласно «Просветителю», митрополит Зосима делал вид, что противостоит еретикам, а на самом деле предался их идеям: по выражению Иосифа, в 1490 году «злодейство нечистой души Зосимы не было еще открыто». Иосиф предположил, что именно под влиянием скрытности и клеветы великий князь Иван III «сослал невиновных в изгнание, и они претерпели многие преследования: оковы, тюрьмы, разграбление имущества» [Иосиф Волоцкий 2011: 34]. Иосиф подразумевает, что истинные христиане находятся в невыгодном положении по отношению к врагам религии, которые действуют тайно. Этот аспект его рассуждения очень важен, потому что этим он обосновывает необходимость сурового наказания еретиков, а также оправдывает хитрость и для самих христиан. В «слове» четвертом Иосиф пишет, что Сам Бог часто действует тайно, «мудростью и ухищрением», подразумевая, что битва между дьяволом и Богом за человеческие души – это всегда война между дьявольским обманом и «ухищрением Божественного коварства» [Иосиф Волоцкий 2011: 111]. Из этого он заключает, что и истинный христианин, подобный ему самому, вправе прибегать к уловкам для подавления ереси. В этом отношении Иосиф, как представляется, одобряет казуистику и религиозный макиавеллизм.
В-третьих, «Просветитель» проясняет воззрения Иосифа на государство. В «слове» седьмом он рассуждает об обязанности христиан поклоняться образу Христа и Божией Матери на иконах, почитать Крест, Евангелие, Божественные Таинства, освященные сосуды, почитать иконы пророков, святых и мучеников, мощи святых, церкви и проявлять уважение к другим христианам. Из этих обязанностей следовало, что христианин должен поклоняться и служить «царю, или князю, или начальствующему… потому, что это угодно Богу – оказывать властям покорность и послушание…» Иосиф определяет царя как «Божьего слугу», «для милости и наказания людям». Он напоминает читателям, что христиане обязаны «отдавать кесарю кесарево, а Божие Богу».
Иосиф, однако, ограничивает обязанность повиноваться светским властям, заявляя, что христиане не должны слушаться неправедного правителя.
Если же некий царь царствует над людьми, но над ним самим царствуют скверные страсти и грехи: сребролюбие и гнев, лукавство и неправда, гордость и ярость, злее же всего – неверие и хула, – такой царь не Божий слуга, но дьяволов, и не царь, но мучитель… И ты не слушай царя или князя, склоняющего тебя к нечестию или лукавству, даже если он будет мучить тебя или угрожать смертью. Этому учат нас пророки, апостолы и все мученики, убиенные нечестивыми царями, но не покорившиеся их повелению.
От еретика христианам не следует «принимать ни учения, ни причастия… но… осуждать его и всеми силами обличать, чтобы не оказаться причастными его гибели» [Иосиф Волоцкий 2011: 193].
В поучении о государстве в «слове» седьмом Иосиф разрабатывает доктрину пассивного сопротивления нечестивым правителям и священнослужителям. Он не требовал от христиан ни того, что мы бы назвали гражданским неповиновением, ни активных действий по свержению неправедной власти, но его ревность в решительном сопротивлении еретикам граничила с этим крайним средством. Как мы уже говорили ранее, он обличал двух московских митрополитов и называл Зосиму «скверным злобесным волком». Он намекал, что Иван III – «мучитель». И заблудшим митрополитам, и царю он вменял ответственность за то, что «такое возникло смятение среди христиан, какого не бывало с той поры, как воссияло в Русской земле солнце благочестия» [Иосиф Волоцкий 2011: 33].
В своей доктрине пассивного сопротивления Иосиф не доходил до пропаганды революции, потому что не хотел, чтобы христиане вовлекались в мирские дела. Иосиф считал мир местом искушения. «Закрой глаза свои на видимое и прозри внутренними очами будущее. Поработи тело, а душу освободи», – наставлял он читателя. И еще: «Ведь мир сей уничтожится и слава его погибнет» [Иосиф Волоцкий 2011: 236, 238].
В «слове» 16-м «Просветителя» Иосиф развивает учение о государстве в связи с обязанностью властей подавлять ересь. Он требует, чтобы «цари, князья и мирские судьи предавали еретиков, а тем более отступников, лютым казням и смерти, как убийц, разбойников и иных злодеев». Иосиф признает, что еретикам должна быть предоставлена возможность отречься от своих ложных верований, но он советовал властям, что такие отречения следует принимать во внимание лишь до вынесения приговора. Он утверждает, что православные цари прошлого «…еретиков после проклятия осуждали в заточение, их содержали в темницах до конца их жизни, опасаясь, чтобы они не прельстили православных», пока «они не испускали дух свой в страшных мучениях». Иосиф назвал жидовствующих отступниками, которые «хуже всех еретиков и отступников» прошлого, спрашивая, не достойны ли и они «такого же осуждения, как и вышеупомянутые еретики?» (то есть пожизненного заключения). Он считал, что их следует «усечь мечом», ибо «еретики совершенно погубили и привели к ереси и отступничеству не только села и города, но и великие и дивные царства, каких не бывало под небесами», так что «…если хула на человека не может быть безнаказанной, то тем более – хула на Бога» [Иосиф Волоцкий 2011: 398–402, 406, 409].
Наказание еретиков Иосиф считал отличительным признаком праведного царя и праведного пастыря. «Царь злочестивый, не заботящийся о своих подданных, – не царь, но мучитель; и злой епископ, не заботящийся о пастве, – не пастырь, но волк» [Иосиф Волоцкий 2011: 410]. Обязанность царя заботиться о подданных и о спасении их душ коренится в христианской ответственности за других. По мнению Иосифа Волоцкого, власти должны отвечать перед Богом не только за свои собственные грехи, но и за грехи других.
Считая праведного правителя ответственным не только за наказание еретиков, но и за души его подданных-христиан, не стирал ли Иосиф Волоцкий различие между религиозными и светскими законами, выступая тем самым за установление теократии в Московском государстве? Иосиф, похоже, осознавал, что именно в этом смысле его и поймут. В «слове» 13-м он открыто опровергает мнение о том, что мирские правители не обязаны обеспечивать соблюдение канонического права: «…божественные правила издревле были перемешаны с гражданскими законами и определениями» [Иосиф Волоцкий 2011: 361]. Он указал на то, что в греческом «Номоканоне», на котором было основано русское каноническое право, смешивались нравственные и гражданские законы. Рассуждая о стародавнем и, по его мнению, оправданном сочетании канонического и гражданского права, Иосиф цитирует изречение Иоанна Златоуста: «Слушайте, цари и князья, и разумейте, что держава дана вам от Бога, что вы – слуги Божии» [Иосиф Волоцкий 2011: 362].
Учение Иосифа о государстве в последних пяти «словах» «Просветителя» считается свидетельством в пользу того, что после 1507 года он пересмотрел свои прежние взгляды на правомерность пассивного сопротивления в пользу новой доктрины, которая была направлена на поддержание власти Московских князей. Однако, строго говоря, в его требовании к князю защищать государство от ереси не было ничего нового ни по отношению к его сочинениям, ни по отношению к русской мысли в целом. Новым не было и утверждение о том, что любая власть, мирская и церковная, установлена Богом, и поэтому добрые христиане должны проявлять почтение к этой власти. Более того, предостережение Иосифа Волоцкого в «слове» 16-м о том, что неправедный царь – «не царь, но мучитель», лишь повторяет его позицию в пользу пассивного сопротивления, выраженную в «слове» пятом. Таким образом, в последних пяти «словах» «Просветителя» мы имеем дело не с новой доктриной, а лишь со смещением акцента с обязанности подданного пассивно сопротивляться мучителю на долг князя править праведно.
Взгляды Иосифа Волоцкого на политическую власть в «Просветителе», вероятно, следует воспринимать в контексте письма, которое он адресовал Василию III в 1507 году. Письмо подытоживает идеи Иосифа о княжеском долге, которые у него были на момент его «перехода» к великому князю Московскому. Он писал Василию:
Занеже, государь, по подобию небесныа власти дал ти есть небесный царь скипетр земнаго царствиа силы да человекы научиши правду хранити, и еже на ны бесовское отженеши желание. Якоже кормьчий бдит всегда, тако и царьски многоочиты твой ум съдръжит твердо добраго закона правило, иссушаа крепко безакониа потокы, да корабль всемирныа жизни, сиречь всеблагаго царствиа твоего, не погрязнет волнами неправды. Отврьзи, государь, царьскиа своа уши, в нищете стражющему, да обрящеши Божий слух себе отверзень и Божиими присно просветившеся зарями богодарованнаа твоа слава царскаа и бесконечныа векы славится и забвение имущих выше устроает. Якоже страшное и всевидящее око Небеснаго Царя всех человек сердца зрит и помышление веси, такоже и царское твое остроумие болшу имат всех силу: изрядне управиши благое свое царствие, и страшен будеши сана ради и власти царскиа и запретиши не на злобу обращатися, но на благочестие. Солнцу свое дело светити лучами всю тварь, царя же добрыадетели еже миловати нищаа и обидныа. Светлийши же того благоверный царь: солнце заходит приатием нощи, сей же не попущает восхищен быти злым, но светом истинным обличает тайнаа неправды. Елико силою всех превышьше еси, толма и делы подобает ти светити. Того ради и от Бога похвален будеши и от добросмышлених прославен и с венцем непобедимаго твоего царствиа имеа венець, еже на нищих милость. Риза есть не обетщающиа милостыня одежда, нетленно одеание, якоже к нищим любы хотящему благоверно царствовати, таковыми одеании душу украсити и Небеснаго Царствиа сподобити, благочестивое ваше царство милостынями огражено…
Ты же убо, о дръжавны царю, и скыпетр царствиа приим от Бога, блюди, како угодиши давшему ти то, не токмо бо о себе ответ даси ко Господу, но еже и инии зло творят, ты слово отдаси Богу, волю дав им. Царь убо естеством подобен есть всем человеком, а властию же подобен есть вышняму Богу. Но якоже Бог хощет всех спасти, такоже и царь все подручное Ему да хранит…
Это письмо Иосифа Волоцкого Василию было составлено на основе «Поучения» Агапита, адресованного императору Юстиниану. На самом деле, как установил Лурье, письмо представляло собой не многим более, чем набор цитат из «Поучения» [Зимин, Лурье 1959: 183–185]. Из «Поучения» Иосиф отобрал те отрывки, в которых подчеркивалось божественное происхождение царской власти и религиозные обязанности правителя, состоящие в том, чтобы обеспечивать соблюдение законов, справедливый суд, помогать бедным и направлять подданных к доброделанию. Иосиф хотел подчеркнуть сходство между Божественной властью и царским правлением, в том числе проводя параллель между Божественным всеведением и чуткой проницательностью царя по отношению к мыслям подданных. В письме Иосифа 1507 года отсутствует совет Агапита о том, что хорошему правителю надлежит искать мудрого совета, избегать льстецов и сохранять ровный нрав. Иосиф также не приводит максиму Агапита о том, что император «со всеми раб он есть Божий». Письмо 1507 года, очевидно, предназначалось для того, чтобы возвысить великого князя над его соперниками и тем самым способствовать достижению цели Иосифа – созданию благочестивого царства.
Всепоглощающая ненависть к еретикам и впоследствии – поддержка царской власти помогли Иосифу Волоцкому стать влиятельной политической фигурой, но также породили возражения двух видов. Во-первых, требования Иосифа о физическом подавлении еретиков поразили некоторых людей Церкви своей жестокостью. В письме к Иосифу, написанном, вероятно, в 1504 году, старцы Кирилло-Белозерского монастыря обвинили его в том, что, призывая к казни еретиков, он отступил от христианской добродетели. Не поддерживая ересь, кирилло-белозерские старцы в то же время восхваляли щедрость Бога по отношению к грешникам: «Слава, Господи, бессчетной щедрости твоей, по истинному приговору назван ты милостивым и бесконечно терпеливым к человеческим порокам, ведь праведных ты любишь, а грешных прощаешь – ныне и навечно!» Старцы наставляли Иосифа, что «велика разница» между его собственным жестокосердием и милосердием, проявленным пророками и святыми [Казакова, Алексеев 2000]42.
Во-вторых, решение Иосифа в 1507 году обратиться за покровительством к Московскому великому князю выглядело для Серапиона, архиепископа Новгородского, который был начальником Иосифа в церковной иерархии, нарушением церковной дисциплины и канонического права. В знаменитом письме к митрополиту Симону, написанном в 1509 году, Серапион обвинил Иосифа в том, что тот «без благословения» отдал монастырь под власть великого князя и солгал об этом церковному начальству. Серапион также критиковал взгляды Иосифа на подавление еретиков. Серапион утверждал, что ложными обвинениями своих противников Иосиф готовил почву для церковного раскола: «…в тех его злых делах мнози от государя в темницах заключени, во мнозех муках продолжали, у многих имения восхищены и мнози и доселе от государя не в любви» [Костомаров 1862: 210–211]. Серапион отлучил Иосифа от Церкви, но отлучение было отменено церковным собором 1511 года. Чтобы предотвратить дальнейшие раздоры в Церкви, Василий III повелел Иосифу и Серапиону примириться – этот шаг Иосиф предпринял с большой неохотой [Зимин, Лурье 1959: 229].
В ретроспективе Иосиф выглядит трагическим персонажем. Он построил великолепный монастырь, стяжал славу за глубокие познания в вере и стал выдающейся политической фигурой. Однако ценой всему этому была кровь жидовствующих на его руках и отчуждение от собратьев по вере, включая и Серапиона, его непосредственного начальника по церковной иерархии. Если бы Иосиф либо сохранил христианское смирение, которого он искал в начале монашеской жизни, либо развил в себе чувство иронии, то увидел бы, что покинул мир лишь для того, чтобы снова в него вернуться, поддавшись искушению власти. Сетуя на самовольное решение Иосифа принять покровительство Василия III, Серапион писал Иосифу: «…что, де, еси отдал монастырь свой в великое государство, ино, де, еси отступил от небесного, а пришел к земному»43.
К этому упреку мы могли бы добавить еще один: к концу своей жизни Иосиф, похоже, забыл о сострадании Иисуса к грешникам и о Его повелении ученикам, пытавшимся сопротивляться иерусалимским религиозным властям: «…возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26:52). А ко второму упреку мы можем добавить и третий: христианская утопия Иосифа, основанная на устранении различий, не походила на открытую, ропотливую общину, собранную галилейским Учителем из «бедных земли».
Последствия политических идей Иосифа вызывают много споров среди историков. С одной стороны, такие ученые, как Марк Раев и Ричард Пайпс изображают его поборником московского абсолютизма, поскольку он настаивал на неограниченности княжеской власти и на повиновении подданных государю «в страхе и трепете» [Raeff 1949; Pipes 1975: 229–254]. Дэниел Роуленд, с другой стороны, утверждает, что в политических идеях мыслителей Московской Руси, в том числе Иосифа Волоцкого, «для царской власти устанавливались ограничения – плохо очерченные, но значимые, понятные большинству образованных людей и принятые ими» [Rowland 1990: 126]. Он также указал на то, насколько важно для государя прислушиваться к добрым советам бояр. Роуленд предположил, что как «абсолютизм» Иосифа, так и его оправдания сопротивления «абсолютизму» сочетались в едином политическом мировоззрении, которое «включало оба образа правителя» [Rowland 1990: 127]. Корнелия Солдат недавно писала, что, согласно «Просветителю» Иосифа, царская власть неограниченна в теории, но на практике ей полагали пределы обычай и настоятельные требования приближенных государя прислушиваться к их «доброму совету» [Soldat 2005: 265–276].
Почти все участники дискуссии признают, что Иосиф поддерживал законную княжескую власть, а также считал, что христиане не обязаны повиноваться неправедному правителю. Поэтому главным образом дискуссия касается следующих вопросов: каковы ключевые идеи Иосифа, которые он отстаивал наиболее упорно? Какое влияние его идеи оказали на строй Московского государства? Что касается первого вопроса, Иосиф решительно поддерживал княжескую власть как инструмент против ереси. Подавление религиозного инакомыслия было для него главным делом правительства, поэтому он выступал за неограниченную власть праведного государя. Что же касается второго вопроса, можно сказать, что он способствовал укреплению московского «абсолютизма» в той степени, в какой его идеи поощряли правительство усиливать давление. Однако в этих аспектах в идеях Иосифа Волоцкого не было ничего нового: желание иметь сильного князя для противостояния ереси можно проследить и в «Слове» Илариона, и в «Поучении» Владимира Мономаха. Действительно новым в идеях Иосифа была та сила, с которой он обосновывал пассивное сопротивление. Конечно, во время ранней Реформации в Западной Европе доктрина пассивного сопротивления, явно почерпнутая из Ветхого Завета и из Евангелия, сыграла решающую роль в развитии лютеранской и кальвинистской оппозиции государям-католикам. Идея пассивного сопротивления Иосифа не имела такого широкого резонанса, как аналогичная доктрина Реформации, но тем не менее ее разделяли многие представители образованного православного духовенства, включая Максима Грека, Сильвестра, советника Ивана IV и митрополита Филиппа (Колычева). Но даже с учетом того, что Иосиф недвусмысленно поддерживал право подданных на сопротивление злому государю, такое право еще не означало формального ограничения власти князя.
Место Московской Руси в мире
Во время правления великого князя Ивана III (1462–1505) Московское княжество стало доминирующей силой в русских землях, свергнув монгольское иго, взяв верх над своим главным соперником, Новгородом, и поглотив большинство других древних княжеств (Ростов, Ярославль, Тверь), которые до правления Ивана III сохраняли автономию. Внутренние успехи Ивана III и выдвижение Москвы как действующей силы на европейской дипломатической арене породили оживленную дискуссию о месте Московского государства в мире, которая длилась почти столетие, пока ее не разрешил Иван IV (1533–1584).
В дискуссии сложились две основные линии мысли. В первой утверждалось достоинство великого князя как богоизбранного наследственного государя русских земель и, следовательно, равного европейским князьям. Во второй линии суверенитет великого князя выводился из богоизбранничества Московской Руси как единственного «истинного» христианского государства в мире.
Согласно первой точке зрения великий князь обладал суверенным статусом как по божественному праву, так и по праву наследования. Об этом Иван III заявил в 1489 году в переписке с послом Священной Римской империи: «мы Божиею милостью государи на своей земле изначала, от первых своих прародителей, а поставление имеем от Бога, чтобы нам дал Бог и нашим детям и до века в том быти, как есмя ныне государи на своей земле, а поставления, как есмя наперед сего не хотели ни от кого, так и ныне не хотим» [Памятники 1851: 12]44. Иван III отверг представление о том, что его власть основывалась исключительно на «переносе имперской власти» (translatio imperii) из павшей Византии. Он отказался представить свой брак с Софьей Палеолог как доказательство этой предполагаемого переноса власти, несмотря на то, что к этому его призывали православные иерархи.
Родословная московских великих князей, призванная послужить обоснованием их суверенитета, была разработана в начале XVI века в «Сказании о князьях Владимирских» (написанном не позднее 1527 года). В «Сказании» прослеживалась генеалогия великого князя от библейского Ноя через античный мир до Пруса, родственника Цезаря Августа, которого Цезарь назначил правителем в городах бассейна реки Вислы. По «Сказанию», варяжский князь Рюрик был потомком Пруса, а значит, потомок Рюрика, князь Владимир Мономах, происходил из этого священного рода, восходящего к Ною. По мысли автора «Сказания», Владимир Мономах получил от византийского императора Константина IX Мономаха (годы правления: 1042–1055) символы религиозной и светской власти: фрагмент истинного креста, царский венец, а также «сердоликовую чашу, из которой Август, царь римский, пил вино, и ожерелье, которое он на плечах своих носил, и цепь, скованную из аравийского золота» [Дмитриева 2000: 278–289]. Личные отношения между Константином Мономахом и Владимиром Мономахом имели решающее значение с точки зрения Православия, поскольку Константин царствовал во время разрыва между православной церковью и Римом, произошедшего в 1054 году. Поэтому дары Мономаха Владимиру означали не только передачу царской власти, но и религиозную санкцию. Генеалогия, изложенная в «Сказании», основывалась на труде митрополита Спиридона, созданном между 1510 и 1523 годами. В официальный литературный оборот московского двора «Сказание» вошло очень быстро. Великий историк русской литературы Д. С. Лихачев предположил, что в 1547 году Иван III был венчан на княжение «шапкой Мономаха» потому, что «Сказание» было принято при дворе как обоснование права московских князей на престол [Лихачев 2004: 182]. В 1555 году элементы «Сказания», со многими доработками, были включены в «Степенную книгу царского родословия», официальную родословную царя и одну из первых систематических историй Древней Руси [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 221–222, 408–409].
В правление Ивана IV генеалогическая теория суверенитета московских князей стала основой дипломатических отношений с европейскими державами. В 1550 году Иван поручил своему послу Якову Остафьеву ответить на вопрос о его титуле следующим образом:
Наш государь учинился на царстве по прежнему обычаю, как прародитель его великий князь Владимер Манамах венчан на царство Русское, коли ходил ратью на царя греческого Костянтина Манамаха, и царь Костянтин Манамах тогды прародителю государя нашего, великому князю Володимеру, добил челом и прислал к нему дары, венец царьский и диядиму… и иные дары многие царьские прислал45.
Со второй точки зрения Московское государство представало как благословленное Богом христианское царство, а русские – как «избранные Божии» люди. Такое самовосприятие легло в основу знаменитого послания 1523 или 1524 года, написанного монахом Филофеем новгородскому дьяку М. Г. Мисюрю-Мунехину. В послании монах изложил свой взгляд на историю человечества, согласно которому жизнь человека управляется не звездами, планетами или астрологическими явлениями, а Божьей волей. По Филофею, человеческие сообщества разделены Богом на неравные социальные группы: «…от царя царевич родится, а от князя князь, и даже если не достигнет немного в чем-то отцовской славы и чести, но земледельцем не будет… и все это правится по неведомым предначертаниям всесозидающего Бога». И подобно тому, как Бог распоряжается жизнью людей, живущих в пределах той или иной страны, так же Он управляет и исторической судьбой государств: «Что касается разрушения царств и стран – не от звезд оно происходит, но от все дающего Бога».
По мнению Филофея, Бог наказал греческую церковь, «потому что они предали православную греческую веру в католичество», и римо-католиков Бог тоже в конце концов накажет за ересь. Филофей предостерегал от мысли, что Римской церкви благоволит Бог, поскольку она до сих пор устояла, «…ибо хотя великого Рима стены, и башни, и трехэтажные здания и не захвачены, однако души их [католиков] дьяволом захвачены были из-за опресноков». Филофей именовал царя Московского «пресветлейшим и высокопрестольнейшим государем», «который во всей поднебесной единый есть христианам царь и правитель святых Божиих престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей вместо римской и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде Москве», ибо «все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать» [Колесов 2000: 290–300].
Во втором письме, также написанном около 1523–1524 годов, но адресованном непосредственно великому князю Василию III (годы правления: 1505–1533), Филофей описывает Русскую церковь как источник света, который «в православной христианской вере по всей поднебесной больше солнца светится». Монах наставлял великого князя, которого он называл «благочестивым царем»: «так пусть знает твоя державность… что все православные царства христианской веры сошлись в едином твоем царстве: один ты во всей поднебесной христианам царь» [Колесов 2000: 300–305].
Идея Филофея о России как «Третьем Риме» осталась без внимания в придворных кругах, но нашла отклик у монашества и некоторых представителей высшего духовенства. До конца XVII века первое послание было переписано 69 раз [Гольдберг 1974: 68–97; Гольдберг 1975: 60–77; Poe 2001: 412–429]. Его теория царской власти вошла в «Казанскую историю» (написанную в 1564–1565 годах), «Повесть о новгородском белом клобуке» (1600 год) и другие памятники. В пятой главе «Казанской истории» Русская земля после освобождения татарского ига «обрела… снова прежнее свое величие и благочестие и богатство», а Москва описывается как «прославленный город… словно второй Киев… как третий новый великий Рим, воссиявший в последние годы, как великое солнце, в великой нашей Русской земле…» [Волкова 2000: 262–263]. В XVII веке, во время споров между никонианами, церковными реформаторами и старообрядцами, последние в своей полемике переняли риторику Филофея о Третьем Риме. Глава старообрядцев, протопоп Аввакум, в своем «Житии» писал: «Рим давно упал и лежит невсклонно, и ляхи с ним же погибли, до конца враги быша християном. А и у вас православие пестро стало от насилия турскаго Магмета… И впредь приезжайте к нам учитца: у нас, Божиею благодатию, самодержство» [Гудзий 1997: 129–130]. По мнению одного из ведущих исследователей Аввакума, в этом отрывке «…отразилось чувство национально-религиозного превосходства, свойственное деятелям русской церкви, которое с начала XVI века нашло свое выражение в представлении о Москве как о третьем Риме…» [Гудзий 1997: 415].
В ретроспективе эти две соперничающие теории о месте Москвы в мире примечательны как своим поразительным сходством, так и различиями. Обе теории пытались узаконить зарождающийся политический порядок, апеллируя к Божьей воле и к истории. Теория божественного права и наследования, жестко сфокусированная на царской родословной, была более узкопо-литической. Неудивительно, что она так хорошо подходила для целей Ивана IV. Теория «Третьего Рима», с ее окольными намеками на то, что социальный порядок имеет божественное происхождение, склонялась в сторону легитимизации социального неравенства, – поэтому она была более «широкой» из двух теорий. Однако из-за своего социального «консерватизма» она была неудобна для обоснования энергичных действий царя внутри страны – таких как, например, переделка общественного строя Руси, которую затеял Иван IV во время опричнины. Обе теории исходили из того, что царская власть имеет сакральную природу. Теория наследования находила обоснование сакральности царствования не только в непрерывности родословной, восходящей к Ною, но и в arcana imperii – венце Константина Мономаха, а также в чаше, ожерелье и цепи, принадлежавших Августу. Эта теория несла огромную символическую нагрузку, поскольку сосредоточивала санкционированную Богом власть в личности правителя, а также в атрибутах его царствования, которые в буквальном смысле содержали в себе властные полномочия. Теория Третьего Рима усматривала доказательства божественной санкции царской власти в самом городе Москве, в Церкви и православной вере, которые у Филофея «больше солнца светятся». Лишь во вторую очередь Филофей помещал божественную власть в личности великого князя, который представал не как наследственный «царь всея Руси», а как единственный «во всей поднебесной христианам царь». Но теория Третьего Рима как обоснование царской власти была не очень удобной именно потому, что она помещала власть в сияющий город Москву, который на исторической памяти был покорен нечестивыми татарами, и в личность «благочестивого царя», который не всегда вел себя праведно.
В качестве основания политического порядка обе теории были непрочными. В теории наследования содержалась фатальная ошибка, потому что она опиралась на непрерывную линию правления. Когда в конце XVI века род Рюрика прервался, русские почувствовали, что лишились небесного покровительства своему государству. Поэтому так называемое Смутное время было временем одновременно и политического и нравственного кризиса. Теория Третьего Рима была ошибочной, поскольку опиралась на тревожное апокалиптическое ви́дение истории. Тревога Филофея заключалась в том, что русские могут легко отпасть в неверность и нечестие: отсюда выраженное в первом письме беспокойство о чистоте богослужения (использование квасного и пресного хлеба для евхаристии) и об угрозе ереси; отсюда же высказанная во втором письме тревога о том, что царь может «не бояться Бога», не прислушиваться к советам своих святых епископов, и что русский двор могут заполонить «содомляне». Филофей предупреждал царя: «пророк [Исайя] не мертвым, уже погибшим содомлянам такое говорил, но живым, творящим злые дела… И мерзость такая преумножилась не только среди мирян, но и средь прочих…» [Колесов 2000: 300–305]. Тревога Филофея о чистоте православия на Руси свидетельствовала о более серьезных последствиях, которые наступят, если «благочестивый царь» не искоренит ересь и пороки: конец света. Другими словами, если монах окажется прав в своей сентенции о том, что Москва – «Третий Рим» и «четвертому не бывать», то крах Московского христианского государства будет означать конец времен, апокалипсис. Такое следствие из теории Филофея не располагало московских государей к тому, чтобы опереться на нее в полной мере, но именно из-за этого вывода теория становилась привлекательной для старообрядцев вроде Аввакума, который пришел к выводу, что обуреваемая пороками Москва породила антихриста.
Домострой
Иван IV, также известный как Грозный, был, безусловно, самой значимой политической фигурой Московской Руси до Петра Великого. Его правление, характеризующееся быстрым расширением Московского государства на юг и запад, радикальными изменениями в законах страны и государственными репрессиями против бояр, было также периодом страстных споров о политических целях и средствах.
Одним из ближайших доверенных советников Ивана в начале его царствования был протопоп Сильвестр, новгородский священник, который впервые приехал в Москву в 1540-х годах и вместе со своим политическим союзником А. Ф. Адашевым стал в 1549 году одной из ключевых фигур в неофициальном совете Ивана, так называемой Избранной раде. Сильвестр придерживался традиционной византийской точки зрения, что долг государя – править в духе истины, милосердия и справедливости. Он предупреждал, что если Иван не выполнит этого долга, то его, подобно, библейскому царю Навуходоносору, ждет плохая участь, а Русь постигнет Божий гнев. Сильвестр также утверждал, что для справедливого правления Иван должен искать мудрых советников и прислушиваться к ним. Сильвестр ожидал, что эти советники будут вести себя как верные слуги, подчиняясь царским приказам, но не изменяя при этом собственной совести. Вся политическая теория Сильвестра основывалась на доктрине «симфонии» или «мирного сотрудничества» между представителями православной церковной иерархии и государством. Он исходил из того, что Московская Русь была и останется православным христианским царством. Так, во время военной кампании против Казани он призывал Ивана обратить «неверных» мусульман, пусть даже против их воли.
Имя Сильвестра часто связывают с «Книгой, называемой Домострой», рукопись которой была составлена между началом 1550-х и началом 1570-х годов. Книга обещала дать читателю «устав о домовном строении», а также предлагала мирянам руководство в том, как «жить православным христианам в миру» [Колесов, Рождественская 2000: 137]46. Ученые не уверены в том, был ли Домострой отредактирован Сильвестром в Новгороде, до его приезда в Москву или составлен уже в Москве. Не существует также авторитетных доказательств авторства Сильвестра, хотя есть сведения, что Сильвестр написал для своего сына Анфима краткое изложение книги. Представляется вероятным, что Сильвестр играл ведущую роль в редактировании и составлении книги, но также возможно участие других авторов, особенно в составлении поздних редакций памятника.
«Длинная редакция» Домостроя (написанная в конце 1560-х – начале 1570-х годов) состояла из трех основных частей. В первой части (главы 1–15) содержались духовные наставления общего характера: православным подобает верить в Святую Троицу, посещать богослужения и причащаться, бояться Бога и помнить о смерти, посещать больных, почитать духовенство, «царя или князя чтить и во всем им повиноваться… и правдой служить» [Колесов, Рождественская 2000: 140]. Вторая часть (главы 16–29) была посвящена обязанностям хозяина дома: уважать жену, воспитывать детей «в страхе Божьем» [Колесов, Рождественская 2000: 158], снабдить дочерей достойным приданым и надзирать за слугами. Во второй части также перечисляются обязанности жены и детей в семье, подчеркивается их долг повиноваться главе семейства в нравственных вопросах. В наиболее интересных главах второй части (главы 28 и 29) обсуждается «неправедная» и «праведная» жизнь, в которой ведение домашнего хозяйство увязано с политикой [Колесов, Рождественская 2000: 166–168]. Третья часть (главы 30–63) посвящена бытовым аспектам ведения домашнего хозяйства. Несмотря на упоминание греха перед Богом в главе 31 и библейские аллюзии в главе 38, третья часть носит явно менее религиозный характер, чем первые две.
Иерархическое устройство общества принимается в Домострое как данность. Абсолютная власть в нравственных вопросах в семье принадлежит отцу, но эта власть должна осуществляться «с любовью и примерным наставлением». Муж мог ожидать от жены, что она будет советоваться с ним «о том, как душу спасти… а что муж накажет, тому с любовью и страхом внимать и исполнять по его наставлению» [Колесов, Рождественская 2000: 169170]. Муж, в свою очередь, должен ценить жену «дороже камня многоценного» [Колесов, Рождественская 2000: 161]. Отец семейства обязан наставлять своих детей, блюдя их чистоту «как зеницу ока и как свою душу» [Колесов, Рождественская 2000: 158]. Для этой цели следовало наказывать «…сына в юности его». Автор наставлял главу семьи: «И не жалей, младенца поря: если прутом посечешь его, не умрет, но здоровее будет, ибо ты, казня его тело, душу его избавляешь от смерти». Девочки не должны были подвергаться телесным наказаниям, но учиться «страху Божию… и рукоделию» [Колесов, Рождественская 2000: 29, 158]. Домохозяева должны были подыскивать трудолюбивых слуг и следить за соблюдением благоприличий в доме «и наказанием и страхом великим» [Колесов, Рождественская 2000: 163]. Хозяин и хозяйка, однако, должны были жалеть дворовых людей, кормить, одевать и согревать, обеспечивать их благополучие [Колесов, Рождественская 2000: 33–34].
Домохозяйство рассматривалось в Домострое как основа христианского социального порядка. Каждое домохозяйство было связано с другими кровными узами, дружбой и социальным согласием. Ключевым элементом социальных связей было обязательство проявлять гостеприимство к соседям. За трапезой хозяева должны были оказывать гостям почет, воздавая каждому из них уважение, «по достоинству, и по чину и по обычаю»; даже приезжим, «богатым или бедным», следовало «должную честь воздавать по чину и по достоинству каждого человека. Вежливо и благодарно, ласковым словом каждого из них почтить, со всяким поговорить и добрым словом приветить» [Колесов, Рождественская 2000: 153]. Всем христианам предписывалось с уважением относиться к монахам и священникам: «духовного отца» следовало «почитать и слушаться его во всем» и часто «к нему приходить на исповедь». Однако в духовники следовало избирать «не потаковщика пьяницу, не сребролюбца, не гневливого» [Колесов, Рождественская 2000: 141]. На пирах священники должны были возносить молитву и вести «духовную беседу». В обязанности хозяев и священников входило недопущение «непристойного срамословия» среди гостей, а также светских увеселений, особенно «песен бесовских» [Колесов, Рождественская 2000: 151].
Домострой наставлял добрых христиан: «бойся царя и служи ему верно, за него всегда Бога моли. И ложно никогда не говори перед ним». Государь был «земным царем» по образу Царя Небесного, и поэтому он должен был действовать как «нелицемерный судья», наказывающий злодеев. Домострой ссылается на Послание Павла к Римлянам: «…ибо говорит апостол Павел: “Вся власть от Бога”, – так что кто противится власти, тот Божью повелению противится» [Колесов, Рождественская 2000: 140]. Однако Домострой также предупреждал, что если правитель грешен и непостоянен, он может не следовать Божьим повелениям и тем самым заслужить божественное наказание. Более того – верные христиане могут терпеть страдания «жаждой и голодом, наготой в морозы или в солнечный жар, поруганием и оплеванием, всякими упреками, битьем и мучением от нечестивых царей»47. Такие мучения, а также изгнание в пустыню, заключение в темницы и пленение, следует переносить «ради Христа» [Колесов, Рождественская 2000: 145].
В главе 28 Домостроя указывается, как распознать неправедность частного лица или правителя.
А кто живет не по-Божьи, не по-христиански, страха Божия не имеет и отеческого предания не хранит, и о Церкви Божии не радеет… чинит неправды всякие и насилие, и чрезмерную наносит обиду… или… на людей в силу власти своей накладывает тяжкие дани и всякие незаконные поборы… угодья неправдами и насилием заберет или ограбит и выкрадет; …или кого оболжет в чем и что-то подкинет, оклевещет и с поличным придет, или насильно в рабство продаст… или… любое добро… силой отнимет… прямиком все вместе в ад попадут, да и здесь уже прокляты всеми [Колесов, Рождественская 2000: 167].
Согласно Домострою, все нечестивцы, в том числе безбожные князья, ставят себя вне христианской общины. Своими грехами они разрушают собственную жизнь, но также чинят насилие над обществом, – именно оно подвергается разрушению в случае неправедного поведения правителя.
С религиозной точки зрения Домострой опирался на два принципа: уважение к власть предержащим и деятельная любовь к ближним. Таким образом, в нем сопрягаются обязанность повиноваться начальству и обязанность любить его. Исследователи часто рассматривают эту книгу как апологию «жезла» или «плетки в руках отца» [Колесов, Рождественская 2000: 301–303]. Однако в Домострое был также призыв к милосердию внутри и вне дома, призыв к христианам преобразить общество в Царство Божье на земле – то есть противостать падшему миру и исправить его, чтобы он стал приятным в Божьих глазах. Для нас идеи Домостроя о повиновении и любви выглядят как бинарные оппозиции, но в контексте культуры Московской Руси они были взаимодополняющими элементами одной и той же веры: повиновением оказывалось уважение к мирскому достоинству другого, а милосердие было средством воздать честь, которая полагается любому чаду Божию.
Политику автор(ы) Домостроя рассматривал(и) как часть христианского общества, и поэтому в ней прослеживается та же динамика повиновения и любви. Домострой фактически исключает активное сопротивление неправедному государю, – так же, как противостояние произволу отца семейства. Тем не менее в книге приводится беспрецедентное описание признаков неправедного правления в надежде, что столь живописные подробности удержат правителей от разрушения самих себя и общества. Домострой можно читать как своего рода христианскую утопию, которая ограничивала подданство в земном царстве Бога «праведными» благочестивыми православными христианами. Нехристиане же (иудеи и язычники), неправославные христиане (римо-католики) и номинальные христиане, которые общались с волшебниками или колдунами, звездочетами, волхвами или знахарями – все они были врагами веры и подлежали исключению из царства. Если Домострой был утопией, то эта утопия была создана в ответ на экспансию Москвы на земли неправославных народов, на восток и юг от «сердцевины» страны.
Иван Пересветов
Возможно, самым замечательным русским политическим мыслителем XVI века был И. С. Пересветов (даты рождения и смерти неизвестны), русскоязычный дворянин из Великого княжества Литовского, который с 1529 года нес военную службу у короля Венгрии Яноша Запойяи, а затем у короля Богемии и Венгрии Фердинанда. Несмотря на опыт на полях сражений, военная карьера Пересветову не удалась, и он решил поискать счастья на Востоке. В Москву он прибыл около 1538 года.
Пересветов прилежно изучал военную тактику. Военная мощь Османской империи вызывала у него одновременно и восхищение, и страх. Похоже, он был одним из немногих западных знатоков военного дела, которые считали разумным для христианских правительств заимствовать принципы военной организации своих врагов-мусульман, чтобы одерживать над ними победы. Пересветов наиболее известен своими произведениями, написанными примерно в 1540-х годах: так называемые «Малая челобитная» и «Большая челобитная» Ивану IV, «Сказание о Магмет-султане», «Сказание о книгах», «Сказание о взятии Константинополя турками». Оригиналы рукописей утрачены, поэтому Пересветов нам известен лишь по компиляции XVII века, известной как «Полная редакция». Поскольку ранних копий произведений Пересветова очень немного, можно сделать вывод, что его труды не получили широкого распространения за пределами придворных московских кругов. Лишь в 1956 году А. А. Зимин опубликовал достойное научное издание корпуса сочинений Пересветова [Зимин, Лихачев 1956].
В «Сказании о Магмет-султане» и в «Сказании о книгах» Пересветов попытался объяснить успех турок-османов в захвате Константинополя. В этом объяснении Пересветов исходил из двух взаимосвязанных факторов – испорченность греков, о которой свидетельствовала их неспособность жить по православным заповедям, и нравственные и политические достоинства турок. По его мнению, нарушением заповедей греки вызвали гнев Божий. Знатные придворные, например, бессовестно льстили императору, тем самым притупляя его чувство добра и зла; более того, они сами брали взятки и тем самым препятствовали правосудию. Этих же вельмож Пересветов считает виновными в том, что они не оказали яростного сопротивления неверным туркам, подвергнув тем самым Византию смертельной опасности. В отличие от них, придворные султана Мехмета II были честны, отказывались от взяток и следовали законам своей страны. По мнению Пересветова, сам Мехмет, вопреки присущей ему жестокости, неукоснительно соблюдал закон и требовал того же от своих солдат. Захватив власть в Константинополе, Мехмет приказал перевести на турецкий язык основные христианские книги, – настолько велико было восхищение султана «греческой премудростью». По сути, считает Пересветов, «Магмет-салтан… снял образец жития света сего со християнских книг»48. В этом отношении, похоже, султан был более греком, чем сами греки.
В своем идеализированном изображении турок Пересветов испытал влияние ряда источников, – в частности, легенд, распространяемых итальянскими историками. Их, в свою очередь пересказывали южные славяне, с которыми Пересветов мог встречаться на военной службе. Его негативный взгляд на византийскую политику, возможно, был основан на трудах Максима Грека и его ученика Зиновия Отенского. Однако по-настоящему Пересветова заботило вовсе не выяснение истины о взятии Константинополя и не восхваление достоинств османского двора, – более того, в его изображении этих явлений и событий была большая доля фантазии. По-настоящему Пересветова беспокоила коррупция, которую он воочию наблюдал в Московском государстве. Обсуждая причины крушения Византии, он намеревался использовать историю как зеркало текущих событий и преподать наглядный урок своим современникам. Таким образом, косвенно Пересветов нападал на высшую придворную знать 1530-х годов за развращение молодого Ивана IV, взяточничество и неспособность защитить православие от неверных татар.
В «Малой челобитной» (1549) Пересветов излагал личные причины для своего недовольства двором. Он приехал в Москву с проектом гусарских щитов, но ему было отказано в доступе к царю, несмотря на 11 лет верной службы. Московская конница из-за этого осталась без щитов «для тех, кто горазд вести смертную игру с твоими неприятелями за веру христианскую и за тебя, государь великий царь» [Каган-Тарковская 2000: 428–451]49. В том, что его не допускают к царю, Пересветов винил не Ивана IV, а «притеснения» и «судебную волокиту», чинимые «сильными людьми», то есть придворными, защищающими свои корыстные интересы. Из-за действий таких врагов, сетовал Пересветов, он теперь «наг… бос и пеш» [Каган-Тарковская 2000: 428–451].
Наиболее полно политические взгляды Пересветова изложены в «Большой челобитной» (1549 год). В начале челобитной Пересветов указывает ее содержание, которое собирается донести до царя: «Премудрости греческих философов, латинских докторов и Петра, молдавского воеводы». Под «молдавским воеводой» подразумевается молдавский господарь Петр IV (правил в 1527–1538, 1541–1546 годах), у которого Пересветов ранее находился на службе. Но на самом деле в «Большой челобитной» ни греческие философы, ни латинские доктора практически не упоминаются, а «цитаты» из воеводы Петра настолько часты, что читатель быстро приходит к мысли, что Петр был лишь персонажем, выражающим мысли самого Пересветова. Действительно, в челобитной нет ни одного фрагмента, где Пересветов не соглашался бы со своим «молдавским» знакомцем.
Основная исходная мысль «Большой челобитной» состоит в следующем: когда правитель теряет военную доблесть и забывает об управлении царством и «…станет веселиться с теми, кто распаляет ему сердце гаданиями и путями различных соблазнов», тем самым он «напустит… великую печаль на своих воинов, на все свое царство великие неутолимые беды…». В качестве грозного и поучительного примера такого худого правления Пересветов приводил судьбу греков: «Поленились греки твердо стать против неверных за веру христианскую, а теперь вот они поневоле оберегают от нападений веру мусульманскую. Отнимает у греков и сербов турецкий царь семилетних детей для военной выучки и обращает их в свою веру…». Таким образом, за ослабление бдительности греки заплатили собственным порабощением. Пересветов искренне надеется, что Иван избежит подобной участи: «…приведешь к покаянию грешников, введешь в свое царство справедливость…». Повторив прошение из «Малой челобитной» о том, чтобы Иван оснастил конницу оборонительными доспехами, и выразив досаду тем, что царь этого не сделал50, Пересветов перешел к изложению более масштабных внутренних реформ, необходимых для защиты веры от казанских татар.
По мнению Пересветова, Иван должен начать преобразование Московского государства, прекратив «кормление» своих вельмож за счет городов и областей и путем «непомерных поборов». Обе эти практики, с его точки зрения, преступают правосудие и противоречат христианской вере, вплоть до ереси. Во-первых, вельможи присягали служить государю, но вместо этого набивают собственные кошельки. Во-вторых, споры о границах областей влекут за собой обоюдные ложные клятвы сторон. Пересветов замечает, что в Византийской империи сборщики налогов, помимо взимания установленного налога в казну, забирали в десять раз больше этой суммы в свою пользу. В итоге это вылилось в «разорение царства и царской казны» и междоусобицу вельмож, соперничавших за контроль над сбором налогов. Иван опасался, что та же участь ожидает Московское государство, если царь не пресечет произвол сборщиков податей. Таким образом, как напрямую, так и посредством исторической аналогии Пересветов выступает за строгий надзор за сборщиками налогов.
Пересветов полагал, что Иван должен последовать примеру мусульманского султана Мехмета, который создал в Османской империи судебную систему с судьями на жалованьи, «чтобы судьи не соблазнялись [брать взятки], не впадали в грех и Бога не гневили». Пересветов пишет, что если судьи Мехмета все же брали взятки или выносили произвольные решения, их приговаривали к смерти и публичному поношению с вердиктом: «Не сумел с доброй славой прожить и верно государю служить». По словам Пересветова, в Османской империи «…нынешние цари живут по закону Магометову с великой и грозной мудростью. А провинившемуся смерть предписана, а как найдут провинившегося, не помилуют и лучшего, но казнят по заслугам дел его». Восхваляя исламскую судебную практику, Пересветов приближается к мысли, что суд и правда Богу могут быть важнее, чем приверженность «истинным» религиозным догмам. В одном из пассажей «Большой челобитной» Пересветов описывает Московское царство как страну, где провозглашается истинная вера, но где «правды нет». И все же, по словам Пересветова, «…в каком царстве правда, там и Бог пребывает, и не поднимается Божий гнев на это царство. Ничего нет сильнее правды в божественном Писании. Богу правда – сердечная радость, а царю – великая мудрость и сила».
Пересветов сетовал на лень государственных служащих – ленивые вельможи, по его мнению, «царство… в скудость приводят» и не имеют мужества в военных делах. Иван предостерегал царя от чрезмерной роскоши у военачальников, ибо «…нет у них верного сердца, а смерти боятся и умирать не хотят. Богач никогда не мечтает о войне, а о покое мечтает. Пусть хоть богатырь разбогатеет, и тот обленится». «Над всем миром один Бог, – пишет Пересветов. – А есть такие, кто расписывается в рабстве навеки тем, что прельщают и дьяволу угождают, и такие, кто прельщается на блистательные одеяния и тоже расписывается в рабстве навеки, – и те и другие гибнут навеки».
Пересветов предлагал создать большую постоянную армию, чтобы воины получали жалованье от государства и выплаты за боевые заслуги. В составе войска он предлагал создать корпус воинов, владеющих огнестрельным оружием, в составе 20 тысяч человек, и разместить эти специальные подразделения в крепостях на степных границах для борьбы с крымским ханом. Идея Пересветова заключалась в том, что 20 тысяч хорошо подготовленных и вооруженных воинов «будут тогда для него [царя] лучше, чем 100 тысяч». Он писал, что благодаря такой защите южных границ «приграничные области все богаты будут и не в разоренье от врага». В целом, писал он, главным для выживания государства является поддержание «воинского духа». А истинный воинский дух, по утверждению Пересветова, можно взрастить, лишь отвращаясь от ворожбы и чародейства, учась божественной мудрости и мобилизуя царство на защиту христианской веры [Каган-Тарковская 2000].
Лишенная религиозных и риторических изысков, программа Пересветова состояла из трех основных пунктов: эффективная централизованная система сбора налогов, не обремененная взяточничеством; справедливая система царских судов с судьями на государственном жалованье; постоянная армия, укрепляемая мудростью и воинским духом, с хорошо вооруженными и опытными пограничными отрядами. Во многом эта система управления зависела от практического умения царя назначать чиновников исходя из их заслуг. Картина идеального государства у Пересветова предполагала значительную степень социального выравнивания: хотя он никогда прямо не призывал к устранению вельмож или к смещению существующего поколения служилых людей, он считал, что все они порочны и препятствуют справедливости. Пересветов считал, что процветание Московского государства возможно только при системе управления, основанной на заслугах. Если этого не будет, царство рухнет перед мусульманской угрозой, как рухнула Византийская империя под натиском турок.
Идеи Пересветова нелегко поддаются интерпретации. Зачинатель русского марксизма Г. В. Плеханов охарактеризовал идеал политической справедливости Пересветова как «турецкий деспотизм». По мнению Плеханова, Пересветов почерпнул свое видение царской власти не на европейском Западе, где власть короны сдерживалась «естественной свободой» дворян-собственников, а на Востоке, где монархи смотрели на подданных как на рабов. Идеи Пересветова Плеханов счел симптомом «восточной складки» московского общества: «По мере того, как историческое развитие раздвигало пределы власти московского государя до той широты, какая свойственна была соответствующей власти в восточных “вотчинных монархиях”, московская общественная мысль все более и более приобретала восточную складку» [Плеханов 1925: 152–153, 160, 164–169]. В суждении Плеханова, конечно, есть доля правды: как мы видели, Пересветов восхищался османскими институтами и политическими добродетелями, и в сравнении со своим представлением о них оценивал положение дел в Москве. Однако Пересветова не следует принимать за апологета Османской империи и тем более за проповедника деспотизма. Он был традиционным мыслителем во многих отношениях. Он восхищался Сильвестром и Адашевым, и многие из его предложений не выходили за рамки тех, которые обсуждались в Избранной раде. Конечно, он ненавидел порочных бояр и хотел, чтобы их влияние снизилось, но не выступал категорически против существования их как класса. Фактически, суть его неявного требования заключалась в том, чтобы московские вельможи жили добродетельно, как, по его мнению, жила османская знать. Добродетельным поведением бояре должны были продемонстрировать достоинства и заслуги, которыми следовало обладать представителям власти. Представление Пересветова о правосудии принципиально не отличалось от идеи справедливости, отстаиваемой иосифлянами. Даже его настойчивое требование, чтобы суды были инструментом достижения истинной справедливости, можно интерпретировать как традиционную византийскую позицию. Оригинальной идеей Пересветова можно счесть его мысль, которая, при условии широкого распространения, могла бы поразить многих русских, особенно священнослужителей, – убеждение, что вера менее важна, чем правда, а также пример Османской империи для иллюстрации его «истинности». Тем не менее даже при своей кажущейся еретичности мысль о том, что в глазах Бога правда выше веры, можно понять как переформулировку новозаветного утверждения о том, что любовь – бо́льшая из всех добродетелей, превосходящая даже веру и надежду (1Кор 13:13).
Согласно интерпретации Лихачева, Пересветов был сторонником «последовательной и постепенной секуляризации, обмирщения всей жизни», противником «церковного провиденциализма», рационалистом, который считал, что «сам человек творит свою судьбу, а Бог только «помогает» тем, кто стремится ввести в жизнь «правду» – справедливость и разумность. По мнению Лихачева, Пересветов был также бескомпромиссным сторонником централизации власти, яростным критиком боярства и «феодальной раздробленности» Московского государства, поборником интересов служилых дворян. Наконец, Лихачев рассматривает творения Пересветова как свидетельство «культа разума» и книголюбия, которые в Московском государстве XVI века выражали «общий подъем веры в разум», характерный для культуры Европы эпохи Возрождения [Лихачев 1945: 170, 173]51. Отчасти эта характеристика, безусловно, верна: несомненно, Пересветов выступал против церковного «провиденциализма» и ценил государственных деятелей, которые были поборниками справедливости и разума. Также он критиковал боярский эгоизм и был сторонником продвижения по службе на основе заслуг – эту позицию разделяли многие представители служилого дворянства. И, конечно же, Пересветов был самопровозглашенным поклонником латинской и греческой книжной мудрости. Однако в трактовке Пересветовым добродетели сильно сказывалось его христианское мировоззрение: он выступал против ереси, отвергал языческие практики (ворожбу, чародейство, гадания), радел за христианские книги и христианскую мудрость. Вряд ли его можно назвать «секуляристом» в современном понимании. Предполагаемую «бескомпромиссность» Пересветова и его тягу к политической централизации невозможно обоснованно отделить от византийской традиции, в которой подчеркивалась самодержавная власть императоров, – даже султана Мехмета он хвалил за то, что тот практиковал «греческую» мудрость. В том, что Пересветов выступает от имени служилого дворянства как класса, можно усомниться хотя бы потому, что и в «Малой», и в «Большой» челобитной он описывает себя социально изолированным. Наконец, связь между рационализмом Пересветова и культурой Возрождения была бы более убедительной, если бы можно было доказать, что он действительно был начитан в тех греческих книгах, которые рекомендовал.
Однако если принять во внимание интерес Пересветова к османской культуре, его одобрительные упоминания латинских и греческих мудрецов, его любовь к книгам и разуму, а главное, приоритет правды над верой в его убеждениях, то можно усмотреть в нем выразителя некоторой неоднородности московских политических элит – то есть их все более космополитический состав и восприимчивость к влияниям с Запада и Юга. И все же было бы ошибкой рассматривать двор Ивана IV как предвестие петровского государства, поскольку у Пересветова не было известных последователей.
Бог и политика в «Степенной книге»
«Степенная книга царского родословия» – одно из самых значительных религиозных и политических произведений Московского государства середины XVI века. Историки долго спорили о точном времени и обстоятельствах его составления, но в итоге большинство ученых согласились с тем, что состав книги сложился приблизительно между концом 1550-х и началом 1563 года, а окончательно она была отредактирована между мартом и декабрем 1563 года52. Выдающийся историк П. Г. Васенко утверждал, что заслуга создания книги принадлежит московскому митрополиту Макарию (годы жизни: 1482–1563, митрополит Московский в 1542–1563). Однако, по мнению Васенко, Макарий скорее был инициатором проекта, чем редактором и составителем. По замечанию Васенко, несмотря на хорошее знакомство митрополита с древнерусскими источниками, «собственно писательская деятельность Макария ни в количественном, ни в качественном отношении не представляется… особенно выдающеюся». Тем не менее тематическая связность книги, повторяющиеся упоминания определенных происшествий и исторических деятелей, а также единообразие ее стиля навели Васенко на мысль, что книга, скорее всего, создана одним автором. Исключив прочие кандидатуры, Васенко пришел к выводу, что наиболее вероятным автором был протопоп Андрей, впоследствии – преемник Макария на посту митрополита (с именем Афанасий) [Васенко 1904: 208–212].
Андрей начал священническое служение в Переяславле, своем родном городе, где его духовным наставником был великий святой, преподобный Даниил Переславский, покровитель странников, бездомных нищих и сирот. После кончины Даниила в 1540 году Андрей почтил его память, составив умилительное житие, текст которого позднее был включен в «Степенную книгу» [Васенко 1904: 207–210]53. В 1550 году Андрей был поставлен протопопом Благовещенского собора Московского Кремля, а также стал духовником Ивана IV. Он сопровождал царя в казанском походе 1552 года – этот эпизод блестяще изложен в конце «Степенной книги». Два года спустя он крестил царевича Ивана Ивановича. Будучи приближен ко двору, протопоп Андрей установил дружеские отношения с митрополитом Макарием. В 1556 году он помог Макарию поновить любимую им икону святителя Николая. В 1562 году, когда Макарий тяжело заболел, Андрей передал царю письмо митрополита с просьбой уйти на покой [Васенко 1904: 211–212]. Литературное мастерство Андрея, стилистические соответствия между составленным им житием Даниила и текстом «Степенной книги», его близость к царю и дружба с Макарием в значительной степени свидетельствуют в пользу создания Андреем «Степенной книги». Предположение Васенко об авторстве протопопа Андрея было принято русским редактором последнего издания книги Н. Н. Покровским, но с двумя оговорками: во-первых, нельзя с уверенностью исключить непосредственное участие Макария в составлении и редактировании книги; во-вторых, найдены списки книги с правками, которые производились «не только в одном месте, но и почти в одно и то же время» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 90]. Таким образом, вдохновителем и автором плана «Степенной книги», возможно, был Макарий, но составил и написал ее в основном его протеже Андрей при редакторской помощи нескольких монахов-книжников в монастырском скриптории.
«Степенная книга» представляла собой огромную рукопись. Томский и Чудовский списки состоят из более чем 750 листов каждый. Последнее научное издание текста насчитывает почти 850 печатных страниц, не считая комментариев [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 147–594; Покровский, Ленхофф 2007, 2: 5–404]. С точки зрения структуры книга содержит в себе родословную правителей Древней Руси и Московской Руси, разделенную на 17 поколений, или степеней, отсюда и название – «Степенная книга царского родословия». Однако в действительности книга представляет собой историю России от ее истоков до правления Ивана IV, в которой переплетается история и политика, с особым упором на деяния православных святых и митрополитов. В названии каждой степени фигурируют имена митрополитов, тогда как имена князей упоминаются не всегда54.
Первые три раздела «Книги Степенной» – «Сказание о святом благочестии», «Житие святой княгини Ольги» и степень первая – занимают 130 страниц, или примерно пятую часть всего текста. В этих трех разделах описывается основание российского царствующего дома. В «Сказании» царствующий дом уподобляется райскому древу:
…яко райская древеса насаждени при исходищихъ водъ и правовѣриемъ напаяеми, богоразумием же и благодатию възрастаеми, и божественою славою осияваемии и явишяся яко садъ доброрасленъ, и красенъ листвеемъ, и благоцвѣтущь, многоплоденя же и зрѣлъ и благоухания исполненъ [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 147].
По замечанию Гейла Ленхоффа, «Степенная книга» здесь ссылается на образ небесного древа из Книги псалмов, где праведник – «как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время своё» (Пс. 1:3), а также на метафору райского сада из Книги бытия (Быт. 2: 8–9) [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 133–134].
Этими сравнениями и царскому дому, и Руси придавался ореол святости. «Многообразные подвиги» представителей царского рода также сравнивались с золотыми «степенями» лестницы, поднимающейся на небо. Как отметил Ленхофф, этот фрагмент содержит двойную аллюзию: во-первых, на лестницу Иакова, описанную в Быт. 28:12, которая «стоит на земле, а верх ее касается неба»; и, во-вторых, на 30-ступенчатую «Лествицу» Иоанна Синайского, объект созерцания православного монашества, образ, значимый для Сергея Радонежского и Иосифа Волоцкого [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 135–136]. Аллюзия на лестницу Иакова связывала жителей Московской Руси с избранным народом Израиля и побуждала читателей «Степенной книги» думать о Москве как о Новом Иерусалиме. Упоминание о «Лествице» Иоанна поощряло вспомнить о союзе веры, надежды и любви в Царстве Божьем. Таким образом, автор «Степенной книги» видел Россию и святым местом, и поприщем духовной борьбы за спасение.
В «Житии святой блаженной Ольги» и текстах степени первой речь идет о первых христианских правителях Руси, Ольге и ее внуке Владимире. Автор называет Ольгу «святой, богомудрой и равноапостольной», «блаженной» и «благословенной в женах русских», «праведной», именует «богоизбранной рачительницей премудрости, предивной в женах». [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 150, 159, 161, 178, 185]. Еще до обращения в христианство Ольга «премудрость и чистоты хранение обрѣте отъ Бога», так что ее будущий жених, князь Игорь «удивитися… мужеумному смыслу ея и благоразумнымъ словесемъ» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 152]. Перед лицом убийц своего мужа Ольга «женьскую немощь забывши, и мужескимъ смысломъ обложися, и умышляше, како месть крови мужа своего сътворити» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 154]. Позднее она перехитрила не только византийского императора Иоанна Цимисхия, но и «лукаваго диявола, Еввина запинателя» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 160]. По мысли автора, Ольга после своего обращения стояла не в ряду женщин, происходящих от Евы, из-за которой «раискиа породы лишени быхомъ», а в ряду женщин, следующих за Матерью Иисуса Марией, «Ею же райская порода отверзеся». Ольга уподобилась святым женам-мироносицам, которые первыми приветствовали Воскресшего Христа, поскольку «…нынѣ в нашей Рустеи землиа женою первие обновихомся во благочестие» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 182–183].
Для автора «Степенной книги» Ольга была образцовой фигурой, по крайней мере, по трем причинам. Во-первых, ее жизнь была примером того, как в истории могут плодотворно сочетаться Божие избранничество и человеческий разум. По мысли автора, Бог послал святого Андрея в Херсон, а затем на горы близ Днепра, где впоследствии будет построен Киев, где он благословил славянские земли и произнес пророчество о крещении Руси [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 150–151]. Бог также избрал Ольгу, чтобы та стала первой христианской правительницей Руси. С другой стороны, Ольга проявила «мужеумный смысл» еще до своего обращения, а после обращения принимала политические решения исходя из интересов своего народа, которые не вытекали напрямую из религиозных соображений. Автор подчеркнул тот факт, что мужчины из семьи Ольги – муж Игорь и сын Святослав – предпочли не креститься. Святослав, услышав от нее рассказ об истинной вере, ответил ей: «Аще и хотѣлъ быхъ креститися, но никто же не послѣдуетъ ми… И аще единъ азъ законъ христианъскиая вѣры восприиму, и тогда вси боляре мои и прочии чиновники вмѣсто повиновениа иже ко мнѣ поругаютъ ми ся и поношение и смѣхъ составятъ о мнѣ». О поведении Святослава автор замечает: «Въ душу бо неразумнаго не внидетъ премудрость» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 170–171]. Автор хотел этим подчеркнуть, что божественное избранничество и человеческий разум должны действовать вместе, чтобы народ преуспевал в христианской вере и благоденствии.
Во-вторых, Ольга проявила главные добродетели правителя. Помимо личного целомудрия, разума и хитрого расчета в достижении политических целей, она творила милостыню, «нагиа одевая, алчныя напитая, жадныя напаяя и странныя упокоивая всякимъ потребьствомъ, и нищая, и вдовица, и сироты, и болящая по премногу милуя и сихъ довольствуя всякимъ требованиемъ, и ему же что удобно, сими учрежашеся тихостию и любовию отъ чиста сердца» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 173]. Автор «Степенной книги» использует святую жизнь Ольги как зерцало для будущих праведных правителей.
В-третьих, обращение Ольги стало свидетельством того, что «Христосъ Богъ нашъ не презрѣ дѣла рукъ своихъ и не забы заблуждьшихъ людии своихъ, но благоволи помиловати насъ и воздвиже намъ рогъ благочестиа и начало спасениа не отъ иныя страны, ни отъ чюжиа земли, но отъ дому и отечества рускаго изращениа» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 158]. Для автора книги было очень важно установить, что православие – не чуждая вера, привнесенная извне, но произрастает из родной почвы. Это утверждение позволило автору изобразить Ольгу предвозвещающей на Руси истинную веру: «аки звѣзда предъ солнцемъ и яко заря предъ свѣтомъ, яко луна в нощи сиаше, тако блаженая в невѣрныхъ человѣцѣхъ светяшеся» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 178].
В «Степенной книге» излагается происхождение Владимира от римского императорского дома (от родственника кесаря Августа Пруса), но также и от «въ премудрости блаженныя и великиа княгини Олги» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 221]. Владимир именуется «Божиим избранным сосудом», «блаженным… равноапостольным царем», «благочестия ветвью», «апостольским ревнителем», «церковным утверждением», «идольским разрушителем», «благоверия проповедником» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 218–220]. Автор предполагает, что Крещение Руси проистекало из многих чудес: крещения болгар [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 277], «чудесного» перевода Евангелий с греческого на старославянский язык [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 278], исцеления Владимира от болезни, которая могла оказаться смертельной [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 276–278]. В книге утверждалось, что крещение народа произошло по воле Божьей, предзнаменовано пророчеством святого Андрея в окрестностях будущего Киева и вымолено Ольгой: «…мощенъ есть Богъ помиловати и рода моего и вся люди сиа рускиа. И яко же хощеть благостию Своею, тако да обратитъ сердца ихъ к разумѣнию благочестиа и всѣхъ просвѣтитъ святымъ крещениемъ» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 240–244].
Однако, согласно «Степенной книге», Крещение Руси также стало результатом усилий Владимира постичь веру с помощью разума и проверить ее приемлемость с политической точки зрения. Великий князь отправил посольства во многие страны, чтобы «слышети словеса премудрости», ибо «не бяше тогда въ дръжавѣ его ни книгъ, ни благочестивыхъ учителей». Он выслушивал многих, «кто же хваля свою вѣру» – ислам, римское христианство, иудаизм, греческое христианство. Греческое христианство он выбрал только после того, как удовлетворил свое любопытство относительно его догматов [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 245266]. Он также позволил своим приближенным выслушать посланных, затем спросил их совета и, наконец, обязал простой народ принять Крещение [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 271–272]. Воспроизводя эти подробности обращения Руси, автор «Степенной книги» стремился не только проиллюстрировать соработничество божественной и земной мудрости, но и обосновать необходимость для будущих князей действовать с религиозным рвением и земным благоразумием. Автор также попытался увязать более раннюю историю об исконном происхождении христианства с тем «фактом», что Владимир принял крещение лишь после того, как познакомился мудростью многих земель.
Согласно «Степенной книге», Владимир, крестившись, «…греческий законъ приатъ и научение вѣре, и многа блага дѣла показа: правду, длъготрьпѣние, любовъ, смирение, человѣколюбие, милость» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 281–282]. Епископ наставлял его:
Очи же твои да не причастны будутъ выну всякаго лукаваго зрѣниа. Ушима же твоима не приимаи никогда словесъ праздныхъ… Рукы же твои простерты имѣи къ требующимъ, удръжаваи же ихъ отъ всякаго неправеднаго граблениа… Тако же и ногы твои укрѣпляй тещи неослабно по пути заповѣдей Христа Бога… Пребывай же всегда в тихости и кротости, и въ смиреномудрии и въ умилении [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 282–283].
В то же время Владимир должен был оберегаться «да не прельстятъ [его] нѣцыи отъ еретикъ» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 282]. Таким образом, ему предстояло не только нести истину неверующим, но и противостоять им. В Киеве он уничтожил идолы языческих богов, бросая их в воды Днепра или сжигая [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 291]. Он стремился просветить Крещением всю Русь, «яко да вси отвратятся отъ идольскиа льсти, и отъ грѣхъ очистятся», «и сихъ учителными словесы с любовию наказати, прочим же и страхомъ запрѣщати» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 292–293]. Таким образом, политическая программа Владимира основывалась на сочетании пассивных добродетелей и физического принуждения против врагов истинной веры.
Автор «Степенной книги» приложил много стараний, чтобы объяснить, как возможно примирить следование христианским добродетелям и применение силы. Это было совсем не сложно, когда православный Владимир воевал с безбожными печенегами: тогда он «всю надежю възложи на всесилнаго Бога» и «изыде противу имъ», а после победы построил на месте битвы церковь [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 309–311]. Проблема насилия, однако, стояла более остро, когда Владимир размышлял о том, должен ли он применять силу против разбойников в пределах своего княжества – то есть, вправе ли он наказывать нарушающих закон христиан. Когда церковные иерархи сообщили ему, что «разбоиници умножишяся в земли нашей, многы бѣды и убийство людемъ съдѣвающе», и спросили его, почему он не положит конец этой напасти, он ответил: «Сего ради не дръзаю истребляти сихъ, бою бо ся Бога, аще въ грѣхъ вмѣнит ми ся, я мню, яко Богъ тако попусти. Аз же кто есмь, яко осужати на смерть человѣки? Сам бо много съгрѣшихъ и беззаконновахъ паче всѣхъ человѣкъ на земли». Епископы в ответ укорили его, заметив:
Поручено ти есть отъ Господа Бога земное скипетродръжание на въспрѣщение и наа обуздание и на казнь злодѣйствующимъ, добродѣюшим же на милование и в похвалу. И подобает ти съ испытаниемъ и с разсмотрениемъ злыхъ судити и не щадити, яко же повелѣно есть вамъ въ божественыхъ правилѣхъ по градскому закону, а добрыхъ миловати, понеже власть въ обоихъ сихъ послушныхъ окръмляеши, еже есть страхомъ и милостию, безъ сихъ бо власть никако же пребываетъ [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 319–320].
Владимир обещал прислушаться к их совету, но тем не менее чувствовал себя неспокойно. Он попросил епископов: «Молите же ся о мнѣ, яко да милостивъ будетъ ми Богъ, и дабы разумъ даровалъ ми въ еже разсудити порученныя ми отъ Него люди в правду…». В главе 64-й степени первой текст повествует о милосердном обращении Владимира с раскаявшимся разбойником [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 320–322]. Ближе к концу первой степени автор «Степенной книги» в повествовании о Борисе и Глебе подчеркивает, насколько сложно бывает понять, когда нужно применять силу против других христиан. Зная об угрозе от «братоубийцы Святополка», братья решили не сопротивляться его приспешникам, ибо «боязни в любви [к брату] нѣсть, съвершеная любы вонъ измещетъ страхъ» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 340–356, 345]. В тексте предполагается, что Борис и Глеб вели себя достойно христианской веры своего отца. Таким образом, повествование о Борисе и Глебе подчеркивает обоснованность колебаний Владимира в применении насилия против других христиан. Очевидно, автор «Степенной книги» ставил добродетели любви и милосердия выше справедливости.
В ретроспективе три текста, открывающие «Степенную книгу», весьма замечательны. Они воплощают в себе миф основания правящего дома, в котором династия учреждается сочетанием божественного избранничества и практической мудрости. Политические начала Древней Руси увязываются в этих текстах с женской и мужской моделями правления, где Ольга воплощает мужской разум, а Владимир демонстрирует «пассивные» добродетели смирения и воздержания. Автор более или менее честно исследует дилемму христианского государя, который без применения силы не сможет выжить в порочном мире, но считает насилие отвратительным и духовно разрушающим. И конечно же, все три текста связывают распространение православия с просвещением. Владимир «всю Рускую землю просвѣти» Крещением [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 218], просветил «святымъ крещениемъ» своих подданных [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 220], да «…тако вси купнодушно просвѣтятся благочестиемъ» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 267]. Божественное просвещение в тексте противопоставляется жизни язычников, которые проводят ее «яко звѣри и идолослужебни, безумии и кровопролитливи» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 297].
Степени со второй по шестую охватывают период древнерусской истории от смерти Владимира в 1015 году до татарского нашествия в начале XIII века. В этом разделе книги основное внимание автора сосредоточено на распространении христианского «просвещения» различными путями. Автор упоминает пример праведных князей [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 379–380, 384–387, 391–392, 395–403, 429–433, 448–449]; розыск, переписывание и распространение священных книг, в которых, по выражению автора, содержится «неисчетная премудрости глубина» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 380–381]; учреждение в Новгороде школы для 300 детей священнослужителей [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 382–383]; внедрение византийского церковного пения, приносящего «церковное сладкодушное утѣшение и украшение на пльзу слышащимъ» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 383–384]; и, конечно, строительство новых церквей [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 415]. Повсюду автор упоминает чудеса как свидетельство того, что Бог трудится вместе с князьями над распространением христианства. Он пишет о митрополите Ефреме (вероятно, 1062–1068 годы), который при Всеволоде Ярославиче «многи святыя церкви… въздвиже… и врачеве и болници уготова… и… приатъ отъ Христа великиа благодати даръ, еже и чюдеса творити» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 389–390]. Автор подчеркивал силу икон, таких как, например, икона Федора Тирона, уцелевшая после пожара церкви в Ростове [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 460], и особенно Владимирская чудотворная икона Пречистой Богородицы. Во время пребывания ее в Вышеграде от Владимирской иконы совершились «многая и преславная чюдеса», – вероятно, большей частью исцеления. [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 416]. При князе Андрее Боголюбском (правившем во Владимире в 1157–1174) по молитве перед иконой Божией Матери человек спасся от утопления, женщина была воскрешена из мертвых, войска укрепились в бою [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 463–466].
Согласно «Степенной книге», распространение христианского просвещения на Руси сопровождалось знамениями с небес. Среди них были предупреждающие знамения, как, например, падение с неба «змию зѣло велику» под Вышеградом в правление князя Всеволода Ярославича [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 390], чудесное явление креста на небе для спасения ослепленного князя Василька [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 404–405], чудесное солнечное затмение, предзнаменовавшее победу князя Всеволода Юрьевича над половцами около 1186 года [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 454], кровавая луна, которая прошла через все небо, прообразуя смерть киевского князя Изяслава Давыдовича (годы жизни: 1115–1162) [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 476], и, что самое впечатляющее, гигантский крест, который пересекал солнечный круг и висел в небе три дня в княжение Владимира Мономаха (годы жизни: 1053–1125, княжение: 1113–1125) [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 405].
В степенях со второй по шестую автор «Степенной книги» вплотную подошел к тому, чтобы уравнять древнерусскую политику и христианское просвещение. Как святой Владимир «богоугодно житие съвръши», так и его внуки «многообразными подвиги благочестно житие съвершиша». Ссылаясь на образ священного древа, автор утверждает: «аще корень святъ, то и вѣтви» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 386].
Тесная связь между государством и православной церковью имела три последствия. Во-первых, любое ожесточенное соперничество между русскими князьями противоречило религиозному принципу братской любви. Когда Олег Святославич поднял войско против Всеволода Ярославича, в результате был убит Изяслав Ярославич, который, как утверждалось в книге, «не желая бльшиа власти, ни многаго имѣниа хотя, но за братню обиду кровь свою пролиа». По словам автора, «о таковыхъ бо рече Господь, яко «бльша сея любве нѣсть, иже кто положитъ душю свою за други своя» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 392]. Во-вторых, насилию между князьями противостояли церковные иерархи, которые, согласно «Степенной книге», увещевали князей от братоубийства и требовали от них прислушаться к предостережению. Так, около 1137 года киевский митрополит Михаил запретил новгородцам нападать на Суздаль и Ростов, «да не проливаютъ напрасно крови христианьскиа», что он считал греховным [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 420–421]. Много позже митрополит Климент предостерегал великого князя Изяслава Мстиславича и его киевских сторонников не убивать изгнанного князя Игоря Ольговича, «Аще ли не послушаете мене и дрьзнете сътворити господоубииство, то сами сугубо зло себѣ приобрящете, и гнѣвъ Божии на себе привлечете, и вражда съ братнею его и съ племенемъ его въ вѣки не утолиться» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 431]. Когда князья в обоих случаях отвергли слова митрополита, убийцы испытали на себе Божий гнев: новгородские злоумышленники были изгнаны из своего города за то, что «не устыдѣшяся Бога, дающаго свыше дръжавьствующимъ власть» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 421–422]; киевляне испытали «страхъ и трепетъ» от землетрясения [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 432].
В-третьих, злоумышленники и исполнители политического насилия, направленного на устранение неугодного князя, характеризуются как «злии съвѣтници диаволи», «безаконнии», «безумнии» подражатели Иуды Искариота, предавшего Христа [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 471–472]. В большом фрагменте степени шестой автор описывает убийство владимирского князя Андрея Боголюбского его приближенным Якимом Кучковитиным и его 19 сообщниками. Убийцы ворвались в опочивальню князя ночью 28 июня 1174 года и зарубили Андрея мечами до смерти. За злодеянием, которое было мотивировано страхом Кучковитина перед князем, последовала казнь убийц и истребление их семей. Автор «Степенной книги» утверждает, что окончательным возмездием за «безчеловѣчное… господоубииство» является «погибель… и непрестанная клятва» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 473].
Таким образом, тесная связь между государством и религией превращала политические преступления в религиозные, неявно ставила церковные власти выше светских и исключала активное сопротивление властям, даже если это сопротивление предпринималось ради самозащиты.
Степени с 7-й по 12-ю «Степенной книги» посвящены истории страны под татарским игом – от битвы на Калке в 1223 году до разгрома татар Дмитрием Донским на Куликовом поле в 1380 году. По выражению автора, русские князья на Калке «Божиимъ гнѣвомъ… побиени быша». Два князя, «Богомъ съблюдаемы», – великий князь Ярослав Всеволодович и его брат Георгий – не участвовали в сражении на Калке и избегли общей участи [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 484]. Согласно степени седьмой, гнев Божий возгорелся на Русь «за многая и великая наша съгрѣшениа, и разность, и несъгласие, и неисправление къ Богу» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 485]. Автор исходит из того, что русские князья оказались не в состоянии вести себя по-христиански и принимали политические решения не в интересах своих подданных-христиан. Позднее, повествуя об убиении рязанских князей, автор книги отмечает: «въ множайшихъ владомыхъ сугуба зависть и гръдость и неправда наипаче множашеся, и не токмо другъ друга ненавидяще, но кождо и самую братию смрьти предати не ужасашеся» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 491]. Русские князья оказались опутаны «трисплетенною вервию» – завистью, гордостью и неправдой, из которой не смогли высвободиться [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 493].
Последствия княжеского разложения Степенная книга описывает так: «…плѣнена бысть тогда Русьская земля… и насилие немало сътвориша христианомъ, многыя грады и мѣста разорени быша» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 485]. Пленение Русской земли было не только телесным, но и душевным [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 487]. Татары владычествовали на Руси «…яко же лютый нѣкии звѣрь вся поядая, останки же ноготми растерзав».
Матери обезчядствовашяся, и сосци ихъ млечнии источники уставишя, вмѣсто же техъ слезныя струя отъ очию низвожахуся, видящеа младенца своя на земли поврьжены и мягкая ихъ удеса коньскими ногами стираеми… Чрьтожница повлачимы и всюду обводимы, дѣвы растлѣваемы, синьклитьскиа жены, иже никогда же рукама своима работному дѣлу касахуся, но рабомъ своимъ повелѣваху преже, послѣди же сами повелѣваеми варварьскими женами, работну игу выю прекланяюще… [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 497].
Орудием Божьего гнева против русских был хан Батый, описанный как «злочестивый» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 485] «безбожный татарин» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 501], «лукавый» и «беззаконный» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 507]. Татары характеризовались автором как безбожные язычники, которые «злѣйшимъ коварствомъ тщахуся и вѣру христианьскую в Русьстѣи земли повредити, и святыя церкви разорити, и богомрьзекиа прелести персидскиа влъшебное идолослужение надѣяхуся безаконнии в Руси предложити» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 486]. Смертельная угроза Руси исходила от «иноплеменников», из «пагубной земли татарьстѣи» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 486–487]. Автор видит татар как «иноплеменные языки поганыхъ варваръ» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 496], о которых никому не известно, «что языкъ ихъ и вѣра» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 494]. Сами князья русской земли описываются как «род», а их земля называется «отечеством» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 492–493]. Таким образом, русские в «Степенной книге» рассматриваются как народ, объединенный религией, языком, территорией и князьями; «безбожные» враги русских говорят на никому не известных варварских языках, явились из забытой Богом земли и управляются злодеями. Такая концепция русской идентичности, в которой объединились религиозные, языковые, территориальные и политические критерии, представляла собой прообраз целостного видения нации.
Татарское нашествие с неизбежностью поставило перед русскими князьями вопросы, касающиеся политического поведения. В условиях того, что «Степенная книга» называет «жестокимъ плѣнениемъ» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 497], должны ли были русские князья подчиняться безбожным иноземным чиновникам? Существовали ли обстоятельства, при которых сотрудничество с ордынскими властями могло быть оправдано? Если нет, то обязаны ли были русские князья противостоять иноземным оккупантам силой оружия? Или же принятие мученической смерти было единственно возможным для них образом нравственного поведения?
Ответы на эти вопросы, которые подразумеваются в «Степенной книге», ясны для конкретных обстоятельств, но в целом не совсем последовательны. Во-первых, из текста следует, что переговоры с татарами с позиции относительной слабости оправданны. Князь Ярослав Всеволодович дважды ездил к Батыю, причем русский князь, «не устыдѣся царскиа его темныя власти, ни ужасеся безстудныя его ярости, добрѣ подвизался о истиннѣ глаголати за люди Божиа Русьскиа земли» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 487]. Позже великий князь Александр Ярославич, вспоминая подвиг своего отца, который «не ради о временнемъ царствии, но шедь въ Орду и тамо положи животъ свои… и тѣмъ измѣни себѣ Небесное Царствие», совершил путешествие к Батыю «избавы ради христианьскиа», но тем не менее Батый одарил его «многими даровании» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 525526]. Александр также посетил преемника хана, чтобы просить об облегчении тягот Русской земли [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 531–532]. Автор «Степенной книги» признает, что со временем русские князья стали ездить в Орду, «и отъ тамо царствующихъ комуждо ихъ приимати отеческиа хоругви же и дръжаву, княжениа же и господствиа и мѣстоначалиа» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 551]. Другими словами, поездки в Орду русских князей, оказавшихся в положении просителей по отношению к завоевателям, вначале были вынужденными, но постепенно превратились во вполне рутинное взаимодействие между ордынскими властями и хитрыми русскими данниками.
В тексте седьмой степени повествуется, что иногда русские князья вместо себя посылали в Орду церковных иерархов для ведения переговоров. Великие князья Иван Иванович и Дмитрий Иванович «всю надежю възложиша на Господа Бога и умолиша святѣйшаго митрополита Алексиа… да паки шествуетъ въ Орду къ злоименитому царю, яко да утолитъ гнѣв его» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 20]. Святитель Алексий справился с поручением настолько успешно, что, согласно тексту, он «не бѣжанием бо приходить… отъ безбожныхъ царей и отъ злокозненыхъ татаръ, но наипаче преславно отъ нихъ удивляемъ, и почитаемъ, и много дарьствуемъ, и честно провожаемъ» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 22].
Во-вторых, на основании текста можно предположить, что сопротивление татарам также было оправданно, особенно когда они требовали соблюдения своих религиозных ритуалов. Такое сопротивление часто принимало форму мученичества. Черниговский князь Михаил принял мученическую кончину за отказ отречься от своей веры. Та же участь постигла рязанского князя Романа Олеговича [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 508–509]. В 1318 году князь Михаил Ярославич стал жертвой сложной политической схемы. Он отправился в Орду вынужденно, под давлением своего политического соперника Юрия Даниловича и татарского союзника Юрия – Кавгадыя. Михаил понимал, что у него нет иного выхода, кроме как явиться: «Аще бо азъ нѣгдѣ уклонюся, то отечество мое плѣнено будетъ, и множество христианъ избиени будуть, и мнѣ послѣди того умрети же есть» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 586]. В Орде Михаил предстал перед судилищем, на котором председательствовал «нечестивый Кавгадый». Судей автор именует «беззаконными», которые «уши имутъ и не слышатъ правды. Уста имутъ и не глаголютъ истинны. Очи имутъ и не видятъ» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 586–587]. «Окаянный» Кавгадый и великий князь Юрий Данилович подослали к Михаилу убийц, которые «яко дивии звѣрие, немилостивии кровопиици», набросились на Михаила, принявшего мученичество подобно Борису и Глебу [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 590–591].
Конечно, русские князья вступали в вооруженную борьбу с ордынцами. В XIII веке в битве с татарами великого князя Георгия Всеволодовича «кровь многа яко вода пролиася», а сам Георгий «мученический вѣнець приатъ» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 500]. В конце XIV века московский князь Дмитрий Донской одолел татар в результате ряда сражений. В «Степенной книге» эти военные столкновения рассматриваются как эпизоды религиозной войны. Татарский вождь Мамай хвастается перед своими военачальниками: «Прииму землю Рускую, и разорю церкви христианскиа, и вѣру ихъ на свою преложу, и велю кланятися моему Махметю» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 51]. Сам Дмитрий в молитве просит возвеличить «имя христианское надъ погаными агаряны» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 52]. В предзнаменование подвигов Дмитрия Бог посылает небесные явления: «…яко же тогда и самое солнце знамениемъ страшнымъ проявляа на поганыхъ многую пагубу», «явися солнце, кровию покровено на чистѣ небеси» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 48–49]. Во время эпической битвы 1380 года войска Дмитрия «не пощадѣ живота своего избавлениа ради христианьскаго» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 53]. «Мнози же тогда, иже с нимъ подвизавшиися… до смерти, и таковою смертию бесмертный животъ получиша отъ Бога» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 54]. Когда отряды хана Тохматыша разорили Москву, Дмитрий и русские люди, «всю надежю на Бога возложиша», заново отстроили Москву и другие города [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 57]. Дмитрий описывается в тексте как добродетельный государь, который «чистъ душею и соверьшенъ разумомъ» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 63], к которому составитель «Степенной книги» обращается с просьбой о молитве к Богу «яко да во временной сеи жизни всѣхъ благихъ и богатныхъ даровании, беспакостно и богоугодно живуще, насладимся, в будущем же вѣце со всѣми святыми вѣчныхъ благъ наслѣдити да сподобимся» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 65]. Не менее значимой его заслугой был завет сыновьям облегчить «тяготу [Русской] земли» и «честь… достойную» воздавать советникам «противу служению ихъ, безъ совета ихъ ничтоже…» не творить [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 59–60].
Обобщая учение «Степенной Книги» о политическом поведении во время татарского ига, можно прийти к следующим выводам: татары были безбожными властителями; христиане имели право вести с ними переговоры, сопротивляться пассивно (принимая мученическую смерть) или активно (применяя силу). При этом выбор той или иной тактики определялся обстоятельствами, а эффективность такого выбора зависела не столько от воли действующих лиц, сколько от Божьего расположения к Русской земле. Нравственная ценность каждого из вариантов была примерно равновеликой, учитывая, что разные святые в зависимости от обстоятельств выбирали ту или иную тактику. Таким образом, с теоретической точки зрения автор «Степенной книги» предложил читателям набор тактик, которые возможно было применить против нечестивого правителя, но не провел тщательного анализа их применения. При этом переговоры с нечестивыми правителями были не новой идеей, но вот как христолюбивый князь мог оправдать получение от них «многих дарований», которые принял Александр Ярославич? И чем оправдано принятие из рук нечестивых правителей «княжениа же и господствиа и мѣстоначалиа», если православные искренне верят, что «нет власти не от Бога» (Рим. 13:1)? Доводы в пользу пассивного сопротивления – принятия мученической смерти – были самоочевидны, когда безбожная власть требовала от князя или епископа отречься от христианской веры, но почему у русских не было морального обязательства противостать «безбожному», «беззаконному» правлению чужих племен? Было ли мученичество выбором, доступным только для элиты, а не для всего русского народа? В тексте, казалось бы, одобряется применение силы против татар – как сразу после татарского нашествия, когда сила не принесла никакой пользы, кроме примера для будущего русского сопротивления, так и позже, когда татарская угроза была в итоге сопротивления сломлена. Но какой моральный смысл несло вооруженное сопротивление на ранних стадиях татарского ига, учитывая, что Батый действовал как орудие Божье для наказания русских за их грехи?
В «Степенной книге» также намеренно замалчиваются некоторые неудобные реалии, например, роль великого князя Ивана Калиты, «събрателя Рускои земли» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 47], в смерти князя-мученика Михаила. Даже если автор книги был прав, приписывая мученическую смерть Михаила исключительно князю Юрию Даниловичу, Узбек-хану и злому Кавгадыю, разве не факт, что смерть Михаила устранила препятствие на пути к русскому единству? Не были ли с этой точки зрения коварство Орды, ее «безбожная» жестокость еще одним элементом Божьего замысла о России? Возможно, как гласит португальская пословица, «Бог пишет прямо, но кривыми линиями», но «Степенная книга» иногда близка к тому, чтобы стереть грань между Божьим желанием добра и Его попущением зла.
Степени с 13-й по 17-ю охватывают период между царствованием Дмитрия Донского и примерно 1560 годом – который, как мы теперь знаем, пришелся примерно на середину царствования Ивана IV. Изложение близких к автору по времени исторических событий в книге занимает более 300 печатных страниц – почти 40 % всего текста. В этой части книги автор исследует четыре основных эпизода: усилия московских великих князей по преодолению внутренней оппозиции объединению русского государства; борьба церкви с ересью; продолжающееся противостояние русских татарам; рост международной известности Москвы. Проанализируем каждое из этих событий по очереди.
Как мы видели, политические конфликты между князьями происходили как во времена Киевской Руси, так и в период татарского ига. Представляя собой генеалогию правящего дома, «Степенная книга» начинается с рассказа о жизненном пути великих князей. Тем не менее по большей части при освещении древней истории автор затрагивает нравственные темы, такие как взаимодействие христианской добродетели и политики, Божья кара за испорченность князей и непостижимое милосердие Бога к Древней Руси. Из-за моралистической направленности книги непропорционально большое внимание в ней уделяется благочестивым князьям и отъявленным злодеям, в то время как структурные проблемы Киевской Руси и княжеств, на которые она впоследствии распалась, были обойдены вниманием. Однако в пяти заключительных частях повествование все больше сосредоточивается на великом князе Московском и его попытках преодолеть княжескую оппозицию объединению государства под властью Москвы.
При Василии II (годы княжения: 1425–1462) борьба за единство приняла династическую форму, когда против Василия начали войну князь Юрий Звенигородский и его сын Дмитрий Шемяка. Юрий, по выражению автора, «мир отверже», а «князю же Дмитрию Шемякѣ дьяволъ вложи в мысль хотѣние властоначальствиа» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 139]. Несмотря на то что Василий был ослеплен своими политическими противниками, он одержал над ними победу, – не в последнюю очередь потому, что пользовался поддержкой церкви. Епископ Иона прямо говорил Шемяке: «Неправду дѣеши» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 142].
На протяжении большей части периода после 1380 года основная оппозиция великим князьям исходила из Новгорода. При Василии Дмитриевиче (1371–1425), как утверждалось в тексте, новгородцы вели себя «яко пьяни шатающеся, не восхотѣша быти в покорении своему государю» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 76]. В правление Василия II новгородцы собрали пятитысячное войско для битвы с великим князем, но потерпели страшное поражение: «Прочие же побегошя, гоними гневом Божиимъ, и множество ихъ избиено бысть, а инии поиманы бышя» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 149]. Во время правления Ивана III (1462–1505) новгородцы снова, «научени диаволомъ», совершили, согласно изложению «Степенной книги», измену, отрекшись от великого князя в пользу короля Казимира Польского. Новгородцы также утверждали, что суверенитет их города прочно покоится на историческом наследии самого святого Владимира [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 221–222].
Московский князь отверг притязания новгородцев: «Отчизна моя есть изначала отъ… святого и великаго князя Владимира, крестившаго всю Руськую землю… Мы владѣемъ вами… И казнити васъ вольны… за презорьство ваше к намъ» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 222–223]. Новгородскую патриотку Марфу автор сравнивает с библейской Иезавелью, обвиняя ее в том, что она соблазняет граждан перспективой присоединения к латинской церкви [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 225]. Сами новгородцы в тексте именуются «окаянными изменниками» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 230] и «жестоковыйными отступниками» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 235]. Во многих сражениях войска московского князя истребляли новгородцев «безъ милости за ихъ неисправление» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 229]. В битве у Шелони в 1471 году было убито до 12 тысяч новгородских воинов [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 231].
Авторская интерпретационная стратегия заключалась изображении противников великого князя как неразумных, одержимых дьяволом, плененных иллюзией собственного могущества и закономерно поверженных благодаря союзу церковников и праведных московских князей. Новгородские аргументы в пользу суверенитета «Степенная книга» признает только для того, чтобы тут же отвергнуть, признав приоритет прав великого князя. Автор книги дискредитирует идею новгородской республики, ассоциируя Новгород с латинской Литвой (!) и язвительно изображая Марфу-посадницу новой Иезавелью.
В степени 17-й автор намекает, что новая опасность для Московского государства исходит уже не от княжеской междоусобицы и не от Новгорода, а от нечестивых бояр, в которых «нача быти самолюбие и неправда, и желание на въсхищение чюждаго имения» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 346–347, 351–352]. В тексте подразумевается, что в столкновении между Иваном IV и боярами церковь примет сторону царя.
В последних частях «Степенной книги» автор в нескольких местах упоминает о борьбе церкви с ересью. Двумя наиболее опасными еретическими угрозами он считает «латыньство» и движение иудействующих. Анализируя Ферраро-Флорентийский церковный собор XV века, автор «Степенной книги» изображает сторонника церковной унии митрополита Исидора человеком с «развращенным умом», «зломудреным», который добивается своего «богопротивным коварьством» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 192–193]. В книге Исидора обвиняют в том, что он «съединися с латынею, жестоко огорчися на православие, клятвы тяжкиа преступивъ». Западную церковь автор книги желчно именует «богомерзкой» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 193], а сам Флорентийский церковный собор – «проклятым» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 195]. Провал церковного собора в деле объединения Восточной и Западной церквей рассматривается в книге как свидетельство в пользу того, что «…человеколюбивый Господь Богъ не попусти сему единому волку погубите бесчисленое стадо Его Христовыхь словесныхъ овець истиннаго православиа и дарова слово разума и премудрости» великому князю Василию Васильевичу «еже обличити и посрамити Исидорово безумие» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 196].
Согласно «Степенной книге», опасность, грозившая Руси со стороны западного христианства, не миновала и после Флорентийского собора. В Новгороде прелат Григорий перенял пагубные идеи Исидора. Против этого нового всплеска «латыньства» решительно выступил митрополит Филипп I, назвав его отступничеством [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 223] Автор «Степенной книги» опасался, что религиозные ошибки латинской церкви укоренятся на русской почве, связывая таким образом внешнюю угрозу православию с внутренней российской политикой.
В степени 15-й автор повествует о движении жидовствующих. Он утверждает, что жидовствующие произвели «многое смущение» в Новгороде, где от некоего «жыдовина» (Захарии) и самого дьявола, «глаголющихъ на Бога неправду», произошло уклонение от истинной веры «в многых слабѣйшихъ человѣцѣхъ…», которые «вся июдейскиа законы и звездочетия и поганых язык волхвования навыкоша» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 266–267]. Автор отмечает, что благодаря вмешательству архиепископа Геннадия весть об этом «гнилом мудровании» дошла до царя Ивана III, который созвал в Москве церковный собор для осуждения лжеучения, – но жидовствующие к тому времени уже «многихъ простыхъ людей прельстиша своими скверными ересьми» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 267–268]. В «Степенной книге» восхваляется «особна книга» Иосифа Волоцкого «на утвержение правоверныхъ», которую Волоколамский игумен написал «на… богоборныя еретикы новъградскиа». Автор «Степенной книги» одобряет сожжение еретиков в Новгороде и Москве после 1504 года [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 268].
Несомненно, наиболее животрепещуще в «Степенной книге» звучит тема борьбы православной Руси с «безбожными» татарами. В степенях с 13-й по 17-ю автор в живописных деталях представил два эпизода этой борьбы: несостоявшееся нашествие Тимур-хана на Москву в царствование Василия Дмитриевича и завоевание Иваном IV Казани в 1552 году. Объясняя решение Тимура отступить, не нападая на Москву, автор рассказывает о «непрестанных молитвах» митрополита Киприана «за князя и за християньское воинство», который «заповеда всемъ постъ и молитву с милостынею, и други къ другу незлопамятие, и братолюбие нелицемѣрное, и всѣм единомыслено сокрушенымъ сердцемъ и смиреномудренымъ помыслом… отъ Бога избавлениа просити отъ предлежащихъ скорбеи…» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 98–99]. Упоминается также решение Киприана послать во Владимир за чудотворной иконой Божьей Матери, ее всеобщее почитание народом и помещение ее в Успенском соборе Кремля, то есть в сердце православной Москвы [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 99–103]. В тексте утверждается, что молитва Киприана и принесение иконы изменили военную ситуацию. Спящему Тимуру привиделся «сонъ страшенъ зело», в котором некая женщина, «славою неизреченною и благолѣпиемъ преукрашена и свѣтомъ сияющи паче солнечныхъ лучь», шла на него во главе могучего войска. Когда Тимур проснулся и спросил советников о значении сна, они сказали ему, что славная женщина – это мать Христа Мария. После этого Тимур отчаялся в победе над Москвой: «Аще христиане такову помощницу имѣютъ, – сказал он приближенным, – то всуе подвижемся и безо успѣха мятемся» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 103–104]. Под впечатлением сна Тимур увел войска: Москва была спасена без боя.
Спасшись от нападения Тимура, русские избежали надвигающейся катастрофы. Однако в начале правления Ивана IV русские сами перешли в наступление. Когда Иван был ребенком, его воеводы разгромили татарские войска без больших потерь, что было воспринято как одно из чудес от иконы Святой Варвары [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 347–348]. Позже московские войска отразили совместную атаку литовцев и татар под Коломной. «Степенная книга» объясняет эту победу над «окаянными варварами» «молитвами Пречистыя Богородицы» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 349]. Знаменитому походу 1552 года на Казань предшествовали послания татарам с призывами сдаться [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 359–360]; жуткие предзнаменования в Казани: рождение человека от коровы [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 360]; явления таинственных «черноризцев» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 361]; звон колоколов в городе, «яко же и у христианскихъ церквеи» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 363]. В ходе осады московским войском Казани сопротивляющиеся были разбиты, «многие казаньские люди побиени быша… заплененыхъ же христианъ… множество… восвояси отпущени бышя». Освобождение Иваном города сравнивается с победой Моисея над войском фараона [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 365–366]. Во время осады Казани знамения от Бога всё умножались: за явлением апостолов, святого Николая, преподобного Даниила опять последовал колокольный звон внутри городских стен [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 366–369]. Одновременно с прорывом городских стен в церкви совершалась литургия, на которой читалось Евангелие, оканчивающееся словами «И будетъ едино стадо и единъ пастырь» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 368].
После взятия стен московские войска наводнили город, «и яко львы рыкающе свирѣпо безбожныхъ татаръ убиваху, и живыхъ бесчислено пленяху». Триумф благочестивого царя Ивана в тексте сравнивается с победой Давида над амаликитянами [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 368–369]. После окончания военных действий Иван «в земли, мерзостию запустѣннои… благочестивыя вѣры сѣмена насѣваетъ». По тексту, жители города ликовали, «яко и самому воздуху срадоватися, иже прежде бысть дождевно, и мрачно, и уныло, тогда же ведряно, и свѣтло, и весело» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 370]. Многих «неверных» происходящее побудило принять крещение [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 371].
Взятие Иваном Казани, а затем Астрахани в тексте интерпретировалось как конец «христианского плена от поганых татар» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 371] и возвращение исконных русских земель их законным правителям. Дважды в тексте побежденные татарские ханы названы «нечестивыми царями» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 377].
Последующие сражения Ивана с крымскими татарами и черкесами изображались как продолжение побед над Казанью и Астраханью [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 389–391, 400–401]. Подразумевалось, что если русские останутся в милости у Бога, они смогут, наконец, победить неверных повсюду. В письме Иоакиму, патриарху Александрийскому, который просил царя о помощи в освобождении православной церкви от «насилия нечестивых (мусульман)», Иван обещал: «Христианьскии же родъ повсюду да избавленъ будетъ отъ томительства иноплеменныхъ агарянъ, и возвысится рогъ православныхъ, и на первобытное пространство и тишину да обратится» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 399]. Таким образом, в «Степенной книге» кампания против крымских татар и смягчение вражды османов к Ивану IV интерпретировались как начало мирового процесса, который должен закончиться торжеством православия над исламом.
После победы над татарами при Дмитрии Донском у русских великих князей появилось много причин постепенно расширять кругозор. В «Степенной книге» перечисляются некоторые основные черты нового политического видения. В правление Василия Дмитриевича великий князь отреагировал на политический вызов со стороны Литвы, договорившись о междинастическом браке с Софьей, дочерью князя Витовта Великого. При Василии Васильевиче, как мы видели выше, Русская православная церковь и Московское государство решали проблемы, возникшие в связи с Ферраро-Флорентийским собором (1431–1439). После 1453 года русские отреагировали на распад Византии и расцвет Османского государства – эти события вскоре вовлекли Московскую Русь в европейскую политику глубже, чем когда-либо прежде. В XV и XVI веках Москва начала соперничать за влияние и господство на Балтийском море, что привело Ивана IV к Ливонской войне. В середине XVI века перспективы торговли с Западной Европой способствовали росту коммерческих связей Руси с Англией и другими государствами. Между тем победы русских над татарами не только способствовали расколу политических образований на южной периферии государства, но и открыли Сибирь для русской экспансии. Эти дипломатические и военные процессы постепенно заставили русских по-иному увидеть мир за пределами России – в частности, территорию, которую сегодня называют «ближним зарубежьем», – и разработать дипломатическую стратегию продвижения интересов русского государства на этой территории.
Сама «Степенная книга» тоже представляла собой некий этап в этом процессе пересмотра мировоззрения. В ней перечислялись международные задачи, стоящие перед Церковью и государством, выявлялась связь международной напряженности с внутренними трудностями, подчеркивалась необходимость политического и религиозного единства внутри страны. Великой стратегии по овладению миром книга не предлагала, настаивая лишь на необходимости ревностной православной веры и верности царю. Тем не менее в книге принималась по умолчанию Божья поддержка русской экспансии России на юг и запад. «Древо государства» будет расти, христианский «сад» окажется привлекательным для соседних стран, русские будут восходить по «лестнице» святости к Царству Божьему.
Н. Н. Покровский высказал мнение, что завершающие страницы «Степенной книги» звучат далеко не так триумфально, как подобало бы по ее замыслу. «Это не похоже на заключительный аккорд огромного труда, посвященного историческому пути России, божественной миссии ее православных государей» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 93]55. У этой критики есть определенные основания как с точки зрения риторики, так и с точки зрения содержания. С точки зрения риторики, для завершения книги автор выбрал фактологический язык вместо языка религиозных гипербол. Он без комментариев упоминает о «великой разности» в татарских политических кругах и о «гладе великом» в Крыму» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 403–404]. По существу, автор предпочел рассматривать историю России не как «закрытый» процесс, близкий к завершению, а как «открытый», требующий от русских постоянной верности Богу и постоянной политической мобилизации. Вероятно, ровный тон заключительных пассажей книги объясняется авторским выбором риторических средств и содержания, и поэтому Покровский справедлив в своем критическом замечании о несоответствии между будничным тоном завершения книги и ее величественным началом.
Однако в своей критике Покровский упускает из виду основной замысел книги. Риторически автор уже подчеркнул религиозное значение завоевания Казани, упомянув в знак одобрения Богом русской экспансии чудеса и знамения, которые сопровождали взятие города. Автор также дважды упомянул виде́ние о завоевании Казани, связанное со святым Даниилом Переяславским, в котором небо над городом озаряется огненными столпами. Это видение, о котором автор повествует в конце степени 16-й [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 342] и вторично – в степени 17-й [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 367–368], – подтверждает пророческое измерение современной истории и напоминает, через упоминание огненных столпов, о завете Бога с избранным народом. Видение вновь связало библейский Израиль с Москвой, «новым» Израилем. В таком контексте заключительные замечания автора о «великой разности» среди татар и о «гладе великом» на исламской периферии Московской Руси дают понять читателю, что Бог поразил неверующих смятением и голодом. Сам Господь воинств возглавляет поход нового Израиля.
По сути, в степенях с 13-й по 17-ю последовательно противопоставляется падение Константинополя, захваченного османами (о чем повествуется в степени 14-й), и взятие Казани (о чем повествуется в степени 17-й). Константинополь пал в 1453 году, «понеже… въ царѣхъ же и князехъ и в болярехъ въздвизашеся велие нестроение и межюусобныя брани» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 177–178], а также из-за того, что греки «презирающе повелѣния [Бога]… отвернулись от Его милостеи и щедротъ» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 179]. В 1552 году православные русские, в свою очередь, разгромили деморализованных мусульман Казани. В «Степенной книге» нигде не утверждается, что падение Константинополя и завоевание Казани сопоставимы по всемирно-историческому значению или что Москву следует считать «третьим Римом», но книга все же вписывает русскую историю в провиденциальную схему. Для русской аудитории книги этот смелый вывод был достаточно головокружительным, и автору не было нужды прибегать к риторической позолоте.
На взгляд читателя XXI века, «Степенная книга» – странное, даже экзотическое произведение. Это история России, в основе которой лежит соработничество Бога и русских святых, история, пронизанная чудесами, знамениями и знаками, освященная добродетелями православных правителей и их духовных наставников. По мнению автора книги, история России – это диалог между Богом и верующими. Бог в этом диалоге говорит через чудеса (выделено 56 чудес, происшедших в столетия от Ольги до Ивана IV), через чудотворные иконы, святых чудотворцев и мощи (описано 31 явление, связанное с иконами, святыми и мощами), через небесные знамения (24 примера), виде́ния (явления, прозрения) (22 случая) и знамения страшные (предзнаменования) (28 случаев)56. На знаки от Бога люди отвечали молитвами (в тексте зафиксирована 31 молитва, обычно заступнического типа), храбростью в противостоянии врагам государства, принятием мученической смерти и добродетельной христианской жизнью. Иногда Бог и люди говорили вместе, через пророчества (десять случаев) или через ясновидение будущих событий (прозорливство). Диалогическая структура57 «Степенной книги» выстроена по образцу Священного Писания, – особенно Ветхого Завета, в котором об отношениях Бога и людей повествуется с полным эмоциональным накалом.
«Степенная книга» – это диалогический текст также и в другом отношении, а именно с точки зрения взаимодействия Церкви и государства. Это взаимодействие Покровский описал как «действие в добром согласии», на основании «общего интереса» в укреплении державы, ее защите от иноверцев и совместного обязательства правителей и подданных следовать нравственным законам Христа и советам церковных иерархов [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 95]. Этот анализ верен, но интерпретировать «симфонию» между Церковью и государством следует не столько в институциональных, сколько в личных терминах. В степени первой князь Владимир буквально ведет диалог с ученым греком о христианской вере [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 247–266]. На протяжении большей части книги автор ассоциирует правление конкретного князя с именем или именами митрополитов, служивших в период его правления, тем самым поощряя читателей вообразить, какими могли быть их личные связи. Как мы видели, такие митрополиты, как Михаил и Климент, давали князьям уместные советы, которыми те пренебрегали на свою погибель. Иногда князю помогали святые, не имевшие ранга митрополита, выступая его доверенными лицами или непосредственными сотрудниками. Например, Сергий Радонежский совещался с Дмитрием Донским о строительстве каменной церкви в Москве58 [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 35]. Накануне решающей битвы на Куликовом поле в 1380 году Сергий написал Дмитрию послание, «укрепляя его [Дмитрия] на подвигъ противу безбожныхъ татаръ» [Покровский, Ленхофф 2007, 2: 53]. Как отмечает историк Пьер Гонно, Сергий Радонежский сделал долгую посмертную карьеру как защитник Москвы и бич татар: Иван IV молился Сергию о заступничестве во время осады Казани [Gonneau 2011: 258–261]. Конечно, с точки зрения идеологического смысла всей «Степенной книги», она может быть прочитана как диалог между ее составителями, Макарием и Андреем, и ее предполагаемым читателем Иваном IV. По мнению Ленхоффа, книга преследовала «дидактические цели», а именно: внушить Ивану (и, возможно, его преемникам), что власть Москвы зиждется на моральных основаниях, на «нерушимости союза Церкви и московского престола» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 144]. Мы не можем быть уверены в том, читал ли Иван эту книгу (или ему читали), но вполне резонным будет предположить, что церковные иерархи ознакомили его с содержанием.
Ивану бы, несомненно, понравились некоторые из основных интерпретаций в книге. Самой значимой из них был настойчивый акцент на необходимости сильного государства, на царской бдительности по отношению к внешним и внутренним врагам, и особенно – на мобилизации страны перед угрозами латинского Запада и ислама. Как мы уже отмечали выше, упоминание в степени 17-й нечестивых бояр могло показаться Ивану вполне уместным, поскольку из него можно было понять, что Церковь поддержит политику, направленную против боярских амбиций и жадности. Кроме того, Ивану должен был показаться разумным акцент на необходимости гармонии между князем и церковными иерархами. И все же, даже если автор правильно выверил политический посыл книги, который должен был привлечь внимание Ивана после его великих побед под Казанью и Астраханью, он не мог предвидеть ужасной кровопролитной внутренней войны, развязанной Иваном и его опричниками в начале 1565 года. Покровский справедливо заметил, что события в книге, предположительно законченной в конце 1563 года, находятся
…на принципиальной хронологической грани, быть может, на самом важном водоразделе отечественной истории XVI века… Для авторов замысла [Степенной книги] период этот [после 1564 года] означал крушение в настоящем их основных историографических постулатов, как и попыток преподать царю последовательный ряд исторических уроков о должном поведении правителей, выстроив «лествицу» из соответствующим образом отредактированных рассказов о мудрых и добродетельных самодержцах прошлого [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 93].
Несмотря на неопределенную и, возможно, в какой-то степени даже враждебную первоначальную рецепцию, «Степенная книга» оставила длинный след в русской исторической литературе. Ленхофф назвал ее «новым видом истории» в России, «отходом от прежних форм исторического дискурса в средневековой Руси» [Lenhoff 2011: 157–158]. Более того, как отметил Ленхофф, более чем через столетие после своего создания книга нашла благодарную аудиторию среди политических деятелей и интеллектуалов. В начале XVIII века Петр приказал в рамках подготовки к церковной реформе написать синопсис книги. Она цитируется в его «Уставе о наследии престола» 1722 года. «Степенную книгу» читал в рукописи М. В. Ломоносов, когда писал свою «Древнюю российскую историю». Н. М. Карамзин заимствовал из «Степенной книги» сюжеты и детали для исторических повестей, в том числе для «Марфы-посадницы», а также пользовался ею как источником для «Истории государства Российского» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 120–121]. Действительно, параллели между доводами «Степенной книги» в пользу политического единства и аргументами Карамзина в пользу унитарного государства в его «Истории» поразительны, что заслуживает будущего исследования со стороны ученых, занимающихся Карамзиным и русским Просвещением.
Полемика о царской власти
Наиболее интересной полемикой в Москве XVI века был продолжительный спор о применении царской власти между Иваном IV и князем А. М. Курбским (1528–1583). Хотя полемика затрагивала практические вопросы, такие как обоснованность войны Ивана против Ливонии и его решение создать на Руси государство внутри государства, опричнину, также в ней поднимались теоретические проблемы о пределах царской власти и о праве высших чиновников противостоять государственной политике. Полемика началась весной 1564 года с короткого обвинительного письма Курбского, на которое Иван в июле ответил длинным посланием. Впоследствии Курбский адресовал царю еще несколько писем разной длины, а Иван написал еще один ответ. Полемика продолжалась до 1579 года, и к этому времени обе стороны высказали все, что имели сказать. К этому эпистолярному диалогу следует присовокупить «Историю о Великом князе московском» Курбского (1573), которая представляла собой повествование о предполагаемых преступлениях Ивана на престоле. Хотя послания и «История» носят признаки частной переписки, то есть формально адресованы одному собеседнику, они почти наверняка предназначались для чтения вслух. Письма Курбского были нацелены на то, чтобы лишить Ивана поддержки московской знати, тогда как царь своими письмами предостерегал придворных от того, чтобы соглашаться с доводами Курбского, а также пытался заставить инакомыслящего князя замолчать. Вполне вероятно, что «История» Курбского предназначалась не только для русской аристократии, но и для его польско-литовских союзников. Наконец, «История» служила мартирологом, в котором для потомков перечислялись имена многочисленных жертв Ивана59.
Курбский был потомком князя Владимира Мономаха по линии ярославских князей и состоял в дальнем родстве с первой женой Ивана Анастасией. В 1556 году Курбский был пожалован в бояре; также он занимал высокие военные посты во время татарских кампаний 1554 и 1558 годов и Ливонской войны, пока в 1563 году не потерял расположение Ивана. Курбский знал образ мыслей царя и был знаком с придворными нравами. Он восхищался Сильвестром и Адашевым, а в «Истории» представил себя как сторонника их политики. Большинство историков считают Курбского «консервативной» или даже «реакционной» фигурой, поскольку он выступал за традиционные политические порядки и осуждал попытки Ивана уничтожить боярскую знать, противостоявшую царской политике. Однако эта характеристика не совсем точна.
В первом письме Курбский обвиняет Ивана в злоупотреблении священным положением царя. Курбский полагал, что христианский государь должен уважать своих советников, награждать военачальников за службу и поддерживать православную веру. Вместо этого, утверждал он, царь послушал советника (вероятно, Федора Басманова), «от прелюбодеяния рожденного, который сегодня шепчет в уши царские ложь и проливает кровь христианскую, словно воду…». Иван отвернулся от своих победоносных воевод. Курбский горячо обвиняет царя: «…воздал ты мне злом за добро мое и за любовь мою непримиримой ненавистью». Но хуже всего то, что Иван отвернулся от православия. Имея «совесть… прокаженную», царь вообразил себя бессмертным и непогрешимым судьей, то есть возомнил себя равным Христу и поэтому был виновен в ереси [Лурье, Рыков 1979: 121, 120, 119]. В последующих посланиях Курбский обвиняет царя в том, что тот лжет «от неукротимого гнева с ядовитыми словами», мучит невинных людей, убивает князей из царской семьи и лишает их имущества [Лурье, Рыков 1979: 164]. Курбский утверждает, что Иван называет «правоверных и святых мужей дьяволами» и клевещет на царского духовника, «блаженного Сильвестра». Таким поведением царь оттолкнул от себя Христа и предался «непомерной похоти и ярости». Своей войной с Ливонией и политикой опричнины Иван «затворил… царство Русское, свободное естество человеческое, словно в адовой твердыне, крепости ада» [Лурье, Рыков 1979: 169, 172]. Иван предался «прескверному произволению в своей фараонской непокорности и в своем ожесточении против Бога и совести» [Лурье, Рыков 1979: 175]. Он заполонил Русь «кромешниками, или опричниками кровожадными, которые несравнимо отвратительней палачей». За эти преступления, предсказывал Курбский, Ивана постигнет участь нечестивых царей: «Не долго проживут перед Богом те, кто созидает престол беззакония» [Лурье, Рыков 1979: 117].
Комментария заслуживают четыре аспекта писем Курбского к Ивану. Во-первых, во многих отношениях Курбский, похоже, разделял традиционное византийское понимание царских обязанностей: поставленный Богом царь должен править мудро, по-христиански; если он неспособен на это, в царстве начинается беспорядок и насилие, и на него обрушивается Божий гнев; долг христиан-советников – увещевать заблудшего правителя, чтобы царство не было предано «кромешникам». Во-вторых, Курбский считал, что ошибки Ивана, граничащие с ересью, были причиной того, что царь лишился почтения своих подданных. Хотя обычно Курбский именовал Ивана «царем» или «великим князем», он намеренно в своих посланиях опускал «титул… великий и пространный» Ивана [Лурье, Рыков 1979: 168]. Кроме того, Курбский обращался к царю без церемоний, язвительно и гневно, как равный или даже высший. В этом отказе от почтительного обращения Курбский начал отходить от традиционного византийского понимания долга подданного перед царем. В-третьих, Курбский явно судил Ивана не только по христианским, но и по римским стандартам. Он цитировал «Парадоксы стоиков» Цицерона, – сочинение о добродетелях, подобающих правителям и чиновникам. Курбский отметил, что, по критериям Цицерона, он (Курбский) не изгой и не предатель, а добродетельный человек, тогда как Иван не заслуживает звания «гражданина», а Русь не заслуживает названия «государство». Намек Курбского сводился к тому, что когда государь ведет войну против своих подданных, он перестает быть государем; тогда исчезают само государство и политические обязанности граждан. Это было ничем иным как доктриной политической революции.
В-четвертых, Курбский оправдывал свое обращение за убежищем к врагу Москвы. Он утверждал, что подданный, которому угрожает безбожный правитель, имеет право бежать от преследований: «Если же кто не спасается от жестокого преследования, тот сам себе убийца, идущий против слова Господня» [Лурье, Рыков 1979: 170]. Из этого следовало, что присоединиться к иностранному правительству в попытке победить нечестивого государя – значит действовать во имя Христа. Короче говоря, в письмах Курбского к Ивану мы имеем дело если не с теоретическим, то с практическим обоснованием активного сопротивления нечестивому правителю. И обоснование это, опирающееся на классический республиканизм Цицерона, было изложено русским, который в изгнании стал князем польско-литовской «шляхетской республики». Письма Курбского показали, что, по крайней мере, в его сознании византийская и польско-литовская политическая модели не были полностью несовместимы.
Подобно Курбскому, Иван рассуждал о политике в религиозных терминах. Его ответ Курбскому начинался с упоминания Бога: «Бог наш Троица… именем которого цари прославляются и властители пишут правду» [Лурье, Рыков 1979: 122]. Царь отметил, что его собственное царствование основано на Божьем изволении: «ибо мы не возжелали ни у кого отнять царства, но по Божию изволению… как родились на царстве… и Божиим повелением воцарились». Будучи законным правителем, Иван чувствовал себя под защитой Божьего закона. Он цитирует Послание Павла к Римлянам 13:1–2: «Всякая душа да повинуется владыке, власть имеющему; нет власти кроме как от Бога: тот, кто противится власти, противится Божьему повелению» [Лурье, Рыков 1979: 122–124]. По мнению Ивана, эта заповедь не предполагала исключений; следовательно, христианин должен был повиноваться «не только добрым, но и злым» [Лурье, Рыков 1979: 124]. Уже в этом утверждении Иван вышел за пределы иосифлянства, которое освобождало христиан от повиновения «мучителю».
Курбский обвинил Ивана в том, что он не прислушался к «мудрым советникам» – протопопу Сильвестру и Алексею Адашеву. Царь опроверг это обвинение трояко. Во-первых, он утверждал, что было бы губительно для царства допустить, чтобы им управлял священник. Он пишет Курбскому: «Нигде ты не найдешь, чтобы не разорилось царство, руководимое попами». В распаде Византийской империи он винил именно склонность греков перекладывать принятие политических решений на «мудрость» епископов и патриархов [Лурье, Рыков 1979: 130]. Во-вторых, Иван проводил резкое различие между духовной властью священников и властью царей, которые должны «заботиться о телах и душах многих людей». По мнению Ивана, «…отшельничество подобно агнцу, никому не противящемуся», но в жизни общества, над которым властвует правитель, «царской… власти позволено действовать страхом, и запрещением, и обузданием и строжайше обуздать безумие злейших и коварных людей» [Лурье, Рыков 1979: 134]. Получив удар, царь не может позволить себе подставить другую щеку, поскольку это означает бесчестие для него. В-третьих, Иван утверждал, что для царя повиноваться любым советникам, будь то священник или светский человек, означало бы передать управление государством во многие руки и тем самым посеять раздор. «Пророк говорил об этом: “Горе мужу, которым управляет жена…”»! – восклицает он, и тут же добавляет: «Разве ты не видишь, что власть многих подобна женскому неразумию? Если не будет единовластия, то даже если и будут люди крепки, и храбры, и разумны, но все равно уподобятся неразумным женщинам, если не подчинятся единой власти» [Лурье, Рыков 1979: 134].
Ви́дение Иваном унитарного государства, в котором власть является личной, безраздельной и неограниченной, а правитель свободен от обязанности слушать советников, было апофеозом византийского принципа императорской власти, сформулированного Агапитом, но также и головокружительным уходом в сторону от него. В его понимании царской власти воля государя не должна была встречать никакого сопротивления, ни пассивного, ни активного. Дать нежелательный совет правителю означало встать на пути Божьего орудия. Упорствовать в своем совете означало сеять смуту и даже больше: это была ересь, ибо честолюбивый советник ставил свою волю выше Божьего повеления. Таким образом, по мнению Ивана, Курбский был нечестивцем, дьяволом, узурпатором Божьего суда, клятвопреступником, еретиком.
Иван обвинил Курбского в том, что он неправомерно присвоил себе право поучать государя. «Кто поставил тебя судьей или наставником?» При поверхностном прочтении это обвинение было не более чем упреком Курбскому в высокомерии. Однако на самом деле в нем раскрывалась основная предпосылка Ивана о природе общего блага. Он считал, что между правителем и подданным существует пропасть, которую ни один подданный переступать не должен. Иван не верил ни в политическое сообщество, в котором лидеры разного статуса и их подданные преследуют общую цель, ни в христианское сообщество, в котором, несмотря на различия в земном положении, все равны перед Богом. Конечно, даже такой могущественный правитель, как он, не рискнул отвергнуть общность всех христиан. Он признавался Курбскому:
Я же верю в Страшный суд Господень, когда будут приняты души человеческие с телами, с которыми совместно творили, и судимы будут за свои дела и все вместе и нераздельно – и цари, и последние из рабов, словно братья, будут спрошены, каждый за свои поступки [Лурье, Рыков 1979: 148].
Но даже в этот Судный день царь отличал себя от своих подданных. Он должен был отвечать не только за свои собственные грехи, но и «за грехи моих подданных, совершенные из-за моей неосмотрительности» [Лурье, Рыков 1979: 149]. В понимании Ивана положение царя предполагало ответственность за чужие грехи, и поэтому в земной жизни правитель должен прежде всего проявлять бдительность и строгость, то есть наказывать злоумышленников, особенно предателей. Страшное бремя земного суда ложилось на одинокие плечи правителя: Иван не мог следовать воле своих советников, поскольку его теория хорошего правления исключала какую-либо зависимость от других.
Самым тяжким обвинением Ивана в адрес Курбского было предательство или измена. Курбский якобы предал свою клятву верности царю, отказавшись повиноваться; он предал свою страну, оставив ее ради службы у иностранных государей; он предал Христа и Церковь, отвергнув божественное повеление повиноваться законной власти. «Об антихристе мы знаем, – писал царь, – это вы, замышляющие зло против Божьей церкви, поступаете подобно ему» [Лурье, Рыков 1979: 156]. Это обвинение в измене, в котором смешивались личное, национальное и религиозное предательство, логически вытекало из теории правления Ивана, согласно которой царь лично управлял московским царством, наказывая своих подданных во имя Божье. После Ивана слово «измена» приобрело в русском языке несокрушимую силу, намного превосходящую лингвистическую нагруженность слова «treason», скажем, в английском языке XVIII века. После Ивана в русской политической семиотике царское величие навсегда стало ассоциироваться с террором, а инакомыслие – с предательством веры.
Утопия Феодосия Косого
Мысль Феодосия Косого (даты рождения и смерти неизвестны) была совсем иного склада, чем идеи Курбского и Ивана. В молодости Феодосий, очевидно, был холопом одного из придворных Ивана IV. В конце 1540-х годов, возможно, после великого пожара 1547 года, он бежал от хозяина, нашел убежище в Белозерском монастыре и принял постриг. Там он познакомился со старцем Артемием, неоднозначной фигурой, радикальным эгалитаристом в духе Нила Сорского, оппонента Иосифа Волоцкого. Артемий, который решительно выступал против монастырского землевладения и земных богатств, учил, что любовь к богатству – корень всех зол и что, хотя все христиане должны подчиняться власть предержащим, ни один человек не должен быть рабом другого60. Феодосий быстро вышел за рамки христианского эгалитаризма Артемия и отверг основы христианской доктрины. Прочитав Новый Завет, Феодосий не нашел оснований считать Иисуса кем-то большим, чем пророк, и поэтому отверг учение о Троице. Многие христианские практики он считал идолопоклонством: почитание икон и креста, хранение святынь и даже совершение Божественной литургии. Свой символ веры он черпал не из Евангелий, а из Торы: из заповеди, запрещающей поклонение идолам и из Моисеева осуждения рабства. Поэтому Феодосий осуждал все формы социального подчинения как безбожные: в частности, он решил, что Писание не дает веских оснований для наделения властью священства. Он приравнивал Церковь к собранию верующих, наделяя сообщество верных церковной властью. Следуя Артемию, а также собственному прочтению Моисеева закона, Феодосий разоблачал монастырское владение землей как форму рабовладения. Кроме того, он резко критиковал насилие по отношению к еретикам, усматривая его истоки в необоснованном присвоении иерархами власти над Церковью, а также считая, что оно противоречит принципу милосердия к грешникам.
Политические взгляды Феодосия вытекали из его эгалитаристского религиозного мировоззрения. Он высмеивал христиан, добровольно подчинивших себя земным властям. Священники, сотрудничавшие с князьями, были, по его мнению, «фарисеями». Феодосий считал, что, поскольку ни один христианин не должен добровольно подчиняться священникам или князьям, то «ни один христианин не может стать правителем». Он не выступал за насилие над церковью и государством (хотя был к тому близок), но, очевидно, одобрял отказ от уплаты налогов правительству по религиозным соображениям. Вряд ли стоит удивляться тому, что вскоре после въезда в Москву в 1554 году Феодосий был арестован по обвинению в ереси или что власти преследовали его последователей в Беломорье. После заключения в тюрьму за ересь Феодосий бежал от тюремщиков и добрался до Литвы. Там он снял монашеские одежды, женился и продолжал проповедовать свое учение по меньшей мере еще два десятилетия.
Феодосий Косой не оставил письменного наследия. О его взглядах кое-что известно из доносов монаха Зиновия61 – этого достаточно, чтобы заключить, что в контексте Московского государства он был оригинальным мыслителем. Он был, вероятно, первым русским, который полностью отверг социальную иерархию любого рода, и, несомненно, первым, кто сказал христианам, что их религия запрещает им становиться правителями. Его радикальный эгалитаризм и анархизм на три века предвосхитили христианский анархизм Льва Толстого; его взгляд на Иисуса как на пророка и социального бунтаря опередил мнение Виссариона Белинского, высказанное им в «Письме к Гоголю» 1847 года. Был ли Косой первым русским «практическим утопистом», как иногда утверждают [Егоров 2007: 29]? Эту атрибуцию можно принять только с оговоркой: хотя радикальный эгалитаризм Феодосия, безусловно, предполагал полное преобразование существующего социального порядка, он не предлагал способа организации справедливого общества. Отсутствие у него систематического представления о политическом идеале не позволяет считать его утопистом в смысле Платона или Томаса Мора, – даже если его эгалитаризм был более основательным, чем у Мора.
В любом обзоре политических дискуссий в период царствования Ивана IV необходимо учитывать два факта: разброс мнений по проблемам религии и политики и малое действительное влияние этих мнений. Как мы видели, придворные царя, такие как Сильвестр, Пересветов и Курбский, настаивали на том, что религиозный долг правителя – просить наставления у «мудрых советников» и прислушиваться к ним. В то же время сам Иван отвергал идею о том, что правитель должен следовать советам священников или приближенных, поскольку считал, что такая практика повлечет раскол в государстве. Сильвестр и Пересветов считали, что неумение государя прислушаться к мудрому совету вызовет гнев Божий на царство, но ни один из них не ратовал за активное сопротивление царской власти. Курбский, в свою очередь, выступал за пассивное и активное сопротивление безбожному правителю – пассивное сопротивление в форме бегства из государства (ибо не бежать было равносильно самоубийству) и активное вооруженное сопротивление «мучителю» страны. Иван отказывал своим подданным в праве на сопротивление или даже на сомнение в приказах государя, поскольку инакомыслие, по его мнению, было равносильно ереси и измене. Феодосий Косой отверг традиционное христианство во имя христианского эгалитаризма, в котором отрицались не только догматы, такие как божественность Христа, но и собственность, социальное расслоение и само государство. Если бы весь спектр существующих мнений получил подтверждение в более или менее свободных общественных дискуссиях, то легко представить, насколько каждое из них могло быть систематизировано и доработано его автором, богословами и образованными мирянами. Тогда русские могли бы лучше понять византийскую теорию «симфонии» Церкви и государства, возможности различных путей сопротивления власти и последствия применения на Руси внешних политических моделей (польско-литовской и османской). Такое понимание, вероятно, усилило бы гибридность, уже проявившуюся в идеях Пересветова и Курбского. Однако отсутствие политических условий для безопасной свободной дискуссии влекло за собой торжество взглядов на политику, отрицающих право подданных на активное или пассивное сопротивление. А поскольку Иван IV придерживался абсолютистской концепции суверенной власти, доминирующей политической идеей в этих «дебатах» стало его своеобразное прочтение обоснования императорской власти у Агапита. Возникший в результате парадокс – официальная политическая культура страны оказалась гораздо более узкой и менее «демократичной», чем реальный спектр мнений в образованном обществе – стал одной из закономерностей будущего развития России.
Филипп (Колычев): святой и его мучитель
К числу излюбленных – и психологически сильных – русских литературных памятников принадлежат жития святого Филиппа (Колычева), священнослужителя, который, согласно этим стилизованным источникам, не побоялся выступить против политики государственного террора Ивана IV – опричнины. Мы располагаем шестью редакциями «Жития митрополита Филиппа», датируемыми с середины 1590-х до 1650-х годов62. Для самой ранней из известных редакций, краткой, сохранилось только три экземпляра, но именно она послужила основой для последующих редакций63. «Тулуповская» редакция, основанная на переработанной краткой редакции, была, вероятно, написана до 1607 года, во время Смутного времени. Она была очень распространена в Московской Руси – как в рукописи, так и в виде главы в «Житиях святых», завоевав «широкую читательскую аудиторию» [Лобакова 2006: 41–47, 72]. «Колычевская» редакция встречалась в двух списках: первый, возможно, появился в 1620-х годах, второй – между 1640 и 1650 годами [Лобакова 2006: 73–85]64. Эта редакция, повествующая о посмертных чудесах, приписываемых святому, нашла своего читателя в кругах, близких патриарху Никону, в русских монастырях и среди образованного духовенства. Во второй половине XVII века эта редакция во многом способствовала расцвету культа Филиппа, который охватил не только официальную церковь, но и старообрядцев. Глава старообрядцев, протопоп Аввакум, возможно, читал именно эту версию жития. Есть также свидетельства, что один из духовных наставников Аввакума, Стефан Вонифатьев, благословил его иконой Филиппа [Лобакова 2006: 21]. Четвертая, или Хронографическая редакция, составленная около 1652 года, опиралась в основном на краткую редакцию, а также на различные летописи. Житию Филиппа в ней придавался вид исторического повествования [Лобакова 2006: 99–100]. Между 1646 и 1654 годами священник Иоанн Милютин включил еще одну редакцию «Жития митрополита Филиппа» в составленные им «Минеи Четьи». Эта так называемая редакция Милютинской минеи опиралась на первые три редакции, а также на неизвестный до сих пор протограф, предшествовавший краткой редакции [Лобакова 2006: 121–131]. Появление в течение шести десятилетий различных редакций «Жития митрополита Филиппа» свидетельствует о глубоком почитании Филиппа как мученика, но также и о напряженном внимании к нему как к выразителю политического принципа – долга противостоять безбожному правителю.
Федор Степанович Колычев (мирское имя Филиппа) родился в 1507 году в знатной, благочестивой боярской семье. До тех пор пока его род в 1537 году не попал в опалу, он вел жизнь, подобающую своему социальному положению: в детстве научился читать, вероятно, по религиозным текстам65; в юности нес военную службу, проявив храбрость [Лобакова 2006: 167]; также служил при царском дворе во время малолетства Ивана IV. Согласно Тулуповской редакции, когда род Колычевых в 1537 году подвергся опале, Федор понял: «Не мощно убо человеку единем окомъ на землю зрѣти, а другимъ – на небо, ни двема господинома роботати: любо единаго возлюбить, а другаго возненавидитъ, или единаго держится, друзѣмъ же не радѣти начнетъ» [Лобакова 2006: 168].
Покинув Москву, Федор направился в Новгород, а оттуда – в Соловецкий монастырь. Там в 1538 году он принял постриг с именем Филипп. На Соловках, согласно краткой редакции, Филипп «бѣ же… тружаяся годищное время и пол: дрова секий, и землю копая, и камение нося, и всяку работу монастырскую работаше» [Лобакова 2006: 149]. Согласно «Тулуповской» редакции, Филипп работал «яко безискупъный рабъ». «Многащи же от неразумных человекъ уничижаемъ и биемъ, но и нравомъ всѣмъ подражая Владыки своего Христа, уничижаемъ – не гнѣвашеся, биемъ – радовашеся, со смиреномудриемъ вся терпяше». Своим трудолюбием, терпеливым нравом и молитвенностью Филипп вскоре стяжал репутацию благочестивого человека. «И до конца отсѣкаетъ мирская мудрования… и ревнуя поревнова… душю свою просвѣтити, и к сему разжегся несытно утѣшителевым божественымъ огнемъ» [Лобакова 2006: 170–171]. Согласно краткой редакции, на Соловках «…вси братия возлюбиша его» и в 1548 году он был избран игуменом [Лобакова 2006: 150].
Будучи игуменом, Филипп проявил удивительную энергию и административную хватку. Он нанял новгородских мастеров для строительства церквей в честь Иоанна Предтечи и Преображения Господня. Он также руководил прокладкой каналов и углублением озер, чтобы провести воду в монастырь и оросить почву за его пределами [Лобакова 2006: 176–177]. В 1566 году, когда Иван IV вызвал Филиппа в Москву, чтобы назначить его митрополитом, «…братия… о семь зѣло оскорбишася» [Лобакова 2006: 150–151].
Вряд ли можно представить себе более злополучную политическую обстановку, чем ту, в которой оказался Филипп, выехав из Соловецкого монастыря в многоглавую Москву. Царь разделил государство на две части: опричнину – небольшую область в центральной России, которой заведовал он сам и его опричники в черных одеждах, – и более обширную территорию, называемую земщиной, управляемую регулярной администрацией и боярами. По сути, с помощью своих приспешников, опричников, Иван подчинял себе такие конкурирующие образования, как Новгород, конфисковывал имущество знатных семей, заставлял их повиноваться, арестовывал или убивал. Поскольку эта дикая, ужасающая политика не имела прецедентов и явно противоречила истинным христианским ценностям, Иван всеми силами стремился сделать православную церковь соучастницей своих действий, добиваясь благословения от московского митрополита и епископов. Полагаясь на доброжелательность большинства священнослужителей по отношению к представителям власти, а также на традицию сотрудничества между князьями и митрополитами, изложенную в «Степенной книге», Иван в своей политике рассчитывал заручиться поддержкой церковной иерархии. Однако, чтобы добиться своего, он не гнушался и угрозами в адрес митрополита. Царь понимал, что благословение митрополита – не автоматический литургический жест, даруемый просто в ответ на просьбу, хотя, будучи царем, он мог бы претендовать на благословение в силу своего положения. Но в существующих обстоятельствах, как он понимал, благословение придавало бы легитимность беспрецедентным политическим мерам и поэтому не могло быть безусловным. Другими словами, благословение митрополита или отказ в таковом стали бы семиотическим актом, от которого, как считалось, зависел успех политики царя.
Обратимся теперь к краткой редакции жития Филиппа, чтобы увидеть, как агиограф представил драматическую встречу святого со своим мучителем.
Уже на пути в Москву Филиппа встретили просители, молившие о его заступничестве перед Иваном. «Людие же великаго Новаграда… стрѣтивше святаго с честию. И молящеся ему, яко да ихъ заступаетъ предъ царемъ и печалуется о них, убо же слуху належащу, яко царь гнѣвъ держитъ на град той» [Лобакова 2006: 151]. В Москве Иван с почестями принял Филиппа и просил его занять пустующий престол митрополита. Филипп, услышав просьбу, «…исполни очи свои слез, глаголя: “Дѣло паче моея силы! О благий царю, отпусти мя, Господа ради!”» [Лобакова 2006: 151]. В этой первой встрече царя и митрополита был немалый элемент театральности: царь использовал лесть и призыв к долгу, чтобы добиться сотрудничества Филиппа; Филипп же дал понять, что он не жаждет этого поста и поэтому не позволит легко превратить себя в орудие. Удаляясь в митрополичьи палаты, Филипп выразил беспокойство о здоровье царя. Это был обоюдоострый жест, выражающий одновременно заботу о физическом благополучии царя и беспокойство о его психологическом состоянии.
После предварительных действий противостояние между митрополитом и царем перешло в новую стадию. Царские советники разжигали гнев царя против Филиппа, и Иван, действуя на основании «техъ злыхъ советов», созвал собор церковных епископов, чтобы получить одобрение своей идеи «свое царство раздѣлити и свой царьской дворъ учинити». Филипп пытался убедить епископов «противъ таковаго начинания крѣпце стояти». Согласно житию, церковные иерархи разошлись во мнениях относительно того, какой образ действий избрать. Многие поддержали царя, другие молчали, «не смѣюще вопреки глаголати ко царю». Действуя в одиночку, Филипп «нача молити царя, еже престати от таковаго начинания». Обосновывая свою точку зрения, он ссылался на Священное Писание, а затем сказал: «Никакоже на таковое дѣло нѣсть и не будетъ нашего благословения!» Также Филипп начал упрекать собравшихся епископов: «На се ли совокупистеся, отцы и братия, еже молчати? Что устрашаетеся, еже вправду глаголати? Ваше убо молчание цареву душу в грѣхъ влагает!.. Никий же санъ избавит насъ муки вѣчныя!» [Лобакова 2006: 152]. Когда распространился слух о решении Филиппа, царские «угодники» начали ему угрожать: «Добрѣе бы было, еже во всемъ царя слушати и на всяко дѣло без рассуждения благословляти, и волю его творити, и не гнѣвати». Царь, как повествует житие, «видѣв, яко никтоже противъ его смѣя глаголати, но вси его воли повинуются и благословиша его, но токмо единъ блаженный Филиппъ сопротив глаголаше… и бысть гнѣвъ царевъ на святаго Филиппа-митрополита» [Лобакова 2006: 153]. На втором этапе противостояния Филипп продемонстрировал, что, отказав царю в благословении, он намерен таким образом оказывать пассивное сопротивление его неразумной, нечестивой политике. Также он обличал тех клириков, которые своим молчанием потакали греховным действиям царя. Из текста жития следует, что Филипп порицал как царскую политику, так и позицию церковной иерархии. Тем временем Иван продолжал проводить в жизнь политику разделения царства. От лести он перешел к туманным, но зловещим угрозам в адрес оставшегося в одиночестве митрополита.
Третьим эпизодом борьбы между святителем и царем стало их прямое личное столкновение в Успенском соборе Кремля. Царь со своими приближенными явился «вооруженъ весь, наго оружие нося». Филипп, однако, не дал себя запугать демонстрацией силы и, «…просвѣтися душею и укрѣпися сердцемъ, начатъ царю глаголати многая от божественнаго Писания». Царь в гневе ответил ему: «Что тебе, чернцу, дѣло до нашихь царскихъ совѣтовъ? Не вѣси ли того, что мои [враги] меня хотятъ поглотити?» Филипп напомнил Ивану, что его черное облачение – знак его пастырства в Церкви Христовой66. Услышав его слова, царь вскипел: «Молчи! А насъ на се благослови по нашему изволению». Филипп снова отказался благословить политику Ивана и предупредил царя: «Наше молчание грѣхъ души твоей налагаетъ и смерть наносить… егда кормчий соблазнится – всему кораблю творитъ погибель!» Царь ответил на это: «Филиппе, не прекослови нашей державѣ, да не постигънетъ гнѣвъ мой на тя, или санъ сей остави!» [Лобакова 2006: 153–154]. Получив прямое повеление, Филипп ответил царю, что не поддастся ни на его требования, ни на просьбы, ни на угрозы, поскольку твердо придерживается занятой им принципиальной позиции.
За этим противостоянием «чернеца» Филиппа и царя с его «прочими подобницы злу, одѣяние в таковы же черные ризы… имуще» последовало еще одно. Царские приближенные сказали Филиппу: «Царь Иванъ Васильевичь прииде к твоей святости, требуетъ благословен быти от тебе». В ответ митрополит упрекнул царя в насилии над христианами: «О царю! Мы убо приносимъ жертву Господеви, а за олтаремъ неповинно льется кровь християнская». Филипп снова сослался на Священное Писание, «простираше глаголы, яко стрѣлы». Иван вновь разъярился и осыпал Филиппа страшными угрозами, а затем вопросил: «О Филиппе! Нашей ли державѣ являешися противень быти?» Филипп отвечал: «Благий царю! Вашему повелѣнию не повинемся, и разуму, – егоже недобрѣ смышляеши не согласуемъ…» [Лобакова 2006: 154–155].
На этом этапе противостояния праведного митрополита и нечестивого царя агиограф подчеркивает положение Филиппа как христианского пастыря – положение, дарованное Богом, а не царской рукой. Для подкрепления своей позиции и взглядов Филипп цитирует Писание, но также, без указания авторства, приводит изречение Агапита о долге царя служить обществу как бдительный кормчий. Аллюзия на Агапита должна была напомнить читателям, что московский царь занимает место в ряду христианских монархов, простирающемся от Юстиниана, и, уклонившись от долга, Иван изменил своему религиозному и политическому призванию. Заставляя Ивана неоднократно упоминать «державу» и врагов, агиограф указывает на паранойю царя как на причину опричнины. Действительно, нельзя было более наглядно показать связь между внутренней неуверенностью и нечестивой, агрессивной политикой. Однако агиограф также указывал, что добрым христианам необходимо иметь навык отличения подлинной праведности от ее пародийного двойника. Одежды царских приближенных были того же черного цвета, что и монашеская ряса Филиппа, но символизировали они не святость, а великое зло.
Противостояние митрополита и царя вступило в завершающую стадию. Иван размышлял, как лишить Филиппа церковного сана: «Просто бо его изврещи не хотяше: да не возмятетъ народомъ» [Лобакова 2006: 157]. Поэтому царь послал в Соловецкий монастырь людей, чтобы от монастырской братии получить показания против Филиппа. «Лжесвидетели», в числе которых был новый соловецкий игумен Паисий, «вторый Июда-предатель» [Лобакова 2006: 159], предоставили царю законный предлог для ареста Филиппа и суда над ним. Царские приближенные схватили Филиппа, затем облачили низложенного митрополита в «одѣяние иноческое многошвейное и раздранное», что он перенес «с крѣпкимъ терпѣниемъ», вспоминая слова апостола Павла: «Ничтоже мя от любве Божия разлучить!» (Рим. 8:35) [Лобакова 2006: 160]. Печальная развязка этих событий произошла в Твери, в монастыре, где изгнанный Филипп томился в кандалах. Согласно житию, 23 декабря 1569 года в келью Филиппа без предупреждения ворвался «супостат» Малюта Скуратов, человек «каменосердечный» и «неблагодарный», «властолюбивый раб». Скуратов якобы хотел попросить у Филиппа благословения для Ивана, но узник разгадал обман и, не благословив злоумышленника, стал молиться Богу о том, чтобы Он принял его дух. Скуратов убил Филиппа, обвинив в его смерти монахов. Автор жития замечает, что монахи, «…страхомъ одержими, ничтоже отвещати могуще» [Лобакова 2006: 161]. Скуратов приказал похоронить Филиппа за алтарем Троицкой церкви.
Автор краткой редакции включает мученическую кончину Филиппа в контекст опричнины. Царь приказывает обезглавить брата Филиппа, Михаила; царские войска осаждают Новгород, чтобы уничтожить городскую знать; Малюта Скуратов даже делает вид, что царь просит благословения Филиппа на новгородский поход [Лобакова 2006: 160–161]. После убиения Филиппа царь лишил сана, заточил и сослал многих священнослужителей, участвовавших в суде над митрополитом. Так, обвинитель Филиппа игумен Паисий был заточен на острове Валаам [Лобакова 2006: 161–162]. Мероприятия по принуждению пособников царя к молчанию были лишь небольшим эпизодом шквала насилия, накрывшего Русь после 1565 года.
Житие сообщает читателям, что через семь лет после смерти царя новый игумен Соловецкого монастыря Иаков упросил царя Феодора Иоанновича вывезти мощи Филиппа из Твери и отправить на Соловки для перезахоронения. В Твери «народи же стекошася к мощемъ святаго, и яко звезду пресвѣтлу видѣти». Во время обряда перезахоронения «воня благоухания необычнаго… яко мира благовонна и многоцѣнна излияся от мощей святаго», что было знаком святости Филиппа. Непосредственно перед перезахоронением народ «целовавъ мѣсто святаго с подобною честию» [Лобакова 2006: 162–163]. По мысли агиографа, наказание царских пособников и посмертное почитание Филиппа Церковью и православным народом свидетельствовали в пользу того, что на земле, наконец, восторжествовала Божья справедливость.
Можно ли отнести краткую редакцию «Жития митрополита Филиппа» к историческим текстам, призванным рассказать «правду» о митрополите и царе? Ответить на этот вопрос непросто. С одной стороны, житие ссылается на хорошо известные биографические подробности: рождение Филиппа в знатной семье, его решение стать монахом, игуменство в Соловецком монастыре, назначение на пост митрополита, принципиальное противостояние политике Ивана, арест и убийство. Жизненный путь Филиппа вполне справедливо трактуется как часть исторической траектории развития Руси при Иване Грозном, а Филипп рассматривается как одна из жертв царя. Автор «Жития» Филиппа одобрительно подчеркивает его противостояние опричнине, вынося таким образом обоснованное, хоть и пристрастное историческое суждение об эпохе.
С другой стороны, жизнь Филиппа в краткой редакции излагается с продуманной неясностью в отношении времени событий. Описав прибытие Филиппа в Москву по вызову Ивана, автор далее избегает указывать точные временны́е маркеры развития событий. События происходят «по нѣколице же времяни», или «времяни же немалу минувшу», или «егда уже лѣто совершашеся». Лишь день кончины мученика и год его перезахоронения на Соловках обозначены с хронологической точностью. Возможно, агиограф посчитал излишним датировать всем известные события. Но более вероятно, что он подчинил изложение логике религиозно-политической драмы, которая в действительности разворачивалась медленно, но в риторических целях была заключена в несколько сцен. Автор жития хотел, чтобы Филипп выступал против опричнины с самого ее начала, а не через год после ее фактического учреждения; новгородский погром он хотел описать как деяние опричнины, а не как эпизод в длительном соперничестве между городом-государством и великим князем Московским. С помощью таких риторических приемов в историю вносились намеренные искажения с целью выявить в рисунке событий более глубокую «истину».
Насколько точно передал агиограф личные встречи между митрополитом и царем? Если предположить, что краткая редакция была составлена между 1592 и 1597 годами монахом, который 30 годами ранее лично знал Филиппа и слышал его устные рассказы о противостоянии с Иваном, то речи, вложенные в уста Филиппа и Ивана, приобретают определенное правдоподобие. Однако вряд ли можно представить, что два оппонента излагали свои мысли так же лаконично, как их передает агиограф, и уж тем более, что Филипп, будучи под давлением, решил вспомнить Агапита. Поэтому диалоги, описанные в тексте, следует воспринимать не как стенографические протоколы бесед, а, скорее, как драматическую инсценировку психологического, религиозного и политического поединка, несущего большие последствия для Московского государства. Общая картина, написанная агиографом, могла быть исторически «правдивой», даже если изложенные им подробности таковыми не были.
Краткую редакцию, возможно, лучше рассматривать как житие святого, соответствующее дидактическим правилам этого жанра, но с включением исторических деталей. Филипп в тексте предстает современным Даниилом, терпящим страдания от нечестивого царя, последователем апостола Павла, чьи сочинения святитель часто цитировал. Кроме того, Филипп в житии предстает добровольным подражателем Христа: его пребывание на престоле митрополита длилось три года, как и общественное служение Иисуса; его тоже преследовал упорствующий во зле царь с вооруженными приспешниками и нечестивые религиозные власти; как и Иисус, он с великим терпением переносил страдания, в том числе издевательства и физические пытки. В краткой редакции противостояние Филиппа и Ивана трактуется как борьба добра со злом. Филипп был трудолюбив, благочестив, благоразумен и храбр; Иван был «гневлив», «яростен», глух к Писанию, неосмотрителен, жесток. Русские священнослужители, за исключением Филиппа, трусливы, послушны опричникам, жадны и лживы. Царские приближенные – «каменосердечные», «неблагодарные», «властолюбивые рабы». Хотя нравственные позиции действующих лиц жития просты для понимания, их мотивы психологически сложны и жизненно достоверны. Вступление Филиппа в середине жизни на монашеский путь уже свидетельствовало о его недоверии к политическому руководству страны. Его благочестивый пыл проистекал из решения терпеливо переносить муки ради спасения, а стойкость в страданиях от рук царя основывалась на его глубокой преданности Христу. Плохая политика Ивана, по версии жития, была результатом «неправедного совета» «безумных навадников», но также была следствием неуверенности царя. В том, как он вел себя с Филиппом, проявились его обаяние, переменчивый темперамент, но также и хитрость. И Филипп, и Иван вели себя так, как и следовало ожидать в морализаторском жанре, но при этом в своих действиях проявляли свободу воли. Исследователь И. А. Лобакова отмечает, что «…святой в памятниках житийной литературы всегда оказывается выше обстоятельств. Но в краткой редакции митрополит Филипп, чрезвычайно тесно связанный с историческими обстоятельствами своего времени, не поднимается над ними, а противостоит им» [Лобакова 2006: 40]. В ценном замечании Лобаковой содержится предположение, что от большинства житий других святых «Житие митрополита Филиппа» отличается своей историчностью.
Стоит повторить, что противостояние Филиппа и Ивана агиограф инсценировал как драму, которая разыгралась на глазах русского народа. Иван не мог немедленно лишить Филиппа сана, «да не возмятетъ народомъ». Когда Филипп был арестован, «народи… провожаху его, плачющеся» [Лобакова 2006: 159–160]. При перезахоронении его мощей толпы людей «стекошася к мощемъ святаго» и «целовали» место его погребения. По изложению агиографа, простые люди, наблюдая за действиями властей, справедливо их оценивали; их нравственное чувство было истинно христианским, потому что ориентировалось на божественную мудрость, а не на земной успех. Филипп оставил мир, потому что не мог служить двум господам. Однако, служа Христу, он служил интересам народа и, в конце концов, завоевал народную любовь. Святое терпение Филиппа перед лицом зла находило у многострадального народа горячий отклик. Изображение народа в житии содержало суровое предупреждение московским правителям: если царь-«кормчий» будет поступать неправедно, он лишится народного расположения; если церковные власти будут пресмыкаться перед нечестивым царем, народ от них отвернется.
