Гроза на Шпрее бесплатное чтение
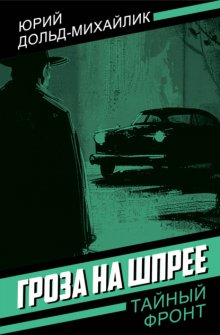
© Дольд-Михайлик Ю., 2024
© ООО «Издательство Родина», 2024
Юрий Дольд-Михайлик
Разгаданный кроссворд
В повседневные звуки туманного дня звонким эхом, так, словно где-то рвали на куски тугой коленкор, ворвалась быстрая дробь двух коротких автоматных очередей. Человек в сером пиджаке и полосатых брюках, зигзагами бежавший к лесу, взмахнул руками и упал, уткнувшись лицом в мокрый песок. К нему подбежал солдат – молоденький розовощекий парнишка. Война закончилась раньше, чем он стал солдатом. Он не успел познать ни стремительности атак, ни горечи отступлений, ни страшного напряжения боевых дней, ни смерти товарищей, ни гибели врагов. За свою короткую жизнь он не успел выстрелить ни в птицу, ни в зверя, ни тем более в человека, и теперь, вглядываясь в неподвижно распростертую фигуру незнакомца, чувствовал удивление и растерянность.
Под плечом раненого появилось розовое пятно. Оно медленно расплывалось, становилось все краснее, и молодому солдату казалось, будто сырой песок высасывает из человека остатки жизни. Когда пятно коснулось сапога солдата, он испуганно отпрянул, чуть не сбив с ног сержанта, который прибежал, услышав выстрел.
– Какого дьявола стрелял? Зачем стрелял? – кричал он, бешено жестикулируя. Пилотка с красной звездочкой сбилась набекрень, черные глаза гневно блестели.
– Так удирал же… я думал…
– Думал, думал… Инструкции не знаешь? Когда тебе стрелять положено, не знаешь? Теперь будешь отвечать!
Сержант перевернул незнакомца на спину. Тот тихонько застонал.
– Давай плащ-палатку!
Солдат сбросил плащ-палатку и расстелил ее на земле. Осторожно уложив раненого, солдат и сержант понесли его к небольшому домику, что стоял рядом с железнодорожной станцией; там размещался взвод охраны военных складов.
На крыльце домика стоял лейтенант и наблюдал за разгрузкой эшелона. Подъемный кран осторожно подхватывал большие, занимавшие всю длину платформ деревянные контейнеры и так же осторожно опускал их на землю. Потом трактор, сердито урча и отфыркиваясь фиолетовым дымом, оттаскивал их к железнодорожной колее, где люди в зеленых комбинезонах открывали контейнеры, обнажая серебристые фюзеляжи разобранных самолетов. Крылья, киль и стабилизатор грузили на тягачи, а фюзеляж ставили на колеса – «фальшивые шасси» – и длинным металлическим тросом прикрепляли к машинам, которые отбуксировывали их по шоссе к аэродрому.
Звуки выстрелов насторожили лейтенанта, и теперь, заметив приближавшуюся к нему группу, он сбежал с крыльца и бросился навстречу.
– Что случилось?
– Петров немца подстрелил, товарищ лейтенант!
– Я хотел только…
– Потом… потом… Несите в помещение и сделайте перевязку!
Раненого внесли в комнату и уложили на диван. Сержант вынул из аптечки медикаменты, снял с незнакомца окровавленный пиджак и сорочку, стал накладывать повязку.
– Ну, Петров, рассказывайте, что произошло!
Солдат вздрогнул, отвел взгляд от раненого и, переступая с ноги на ногу, запинаясь, стал объяснять:
– Я стоял на четвертом посту, товарищ лейтенант… Ну, и… охранял площадку с самолетами на северной стороне. А тут этот немец… Вышел из-за пакгауза, стоит и смотрит… Я хотел отогнать его, но мне вдруг показалось, что у него в руке белеет то ли блокнот, то ли тетрадь… И будто немец записывает что-то… Тогда я решил задержать его. Гляжу в сторону, а сам к нему иду… Когда между нами осталось метров двадцать, я наставил автомат и крикнул: «Ни с места!» А он шмыг за пакгауз… Я за ним… Выскочил из-за угла, гляжу, а он к лесу направляется. Тогда я выстрелил в воздух и крикнул: «Стой!» Немец побежал, я за ним… Вдруг я споткнулся и случайно нажал курок… Ну, и… он упал…
Лейтенант зло глядел на солдата. Совсем недавно он схлопотал выговор за этого парнишку, что стоит перед ним. У того заржавел автомат, а кому попало? Командиру взвода. Говорят, плохо воспитываете! А сейчас, он это чувствует, надвигается новая беда. ЧП – чрезвычайное происшествие. Немец, конечно, не шпион, а обыкновенный прохожий, из тех, кто любит поглазеть на все новое. Ведь за пакгаузом проходит дорога, и местные жители часто с удивлением поглядывают на странные самолеты, у которых вместо обычного винта – дырка. Часовым не раз и не два приходилось отваживать непрошеных зрителей, а этот, поглядите на него, – стрелять вздумал! Теперь начнется: многочисленные комиссии, расследования… И в конце концов придут к выводу, что виноват опять же он, командир взвода.
– Эх, Петров, Петров! Заварили вы кашу…
– Если он честный человек, зачем же удирал?
«А может, он и впрямь шпион? Ведь прибыла новая техника, и врагов она, безусловно, должна интересовать…»
– Говорите, он что-то записывал? Сержант, обыщите задержанного!
Сержант осторожно вытащил из карманов раненого все, что там было: свидетельство на имя Ганса Рихтера, выданное полицией города Эберсвальда, немного денег, дешевенький кожаный портсигар с двумя сигаретами и одним «бычком», газету и носовой платок. Ни блокнота, ни записной книжки, ни карандаша, ни ручки, которой он мог что-то записывать, не было. Лейтенант смотрел на это нехитрое имущество, и лицо его все больше хмурилось.
– Вот что, Петров… пойдите и внимательно обыщите всю дорогу от пакгауза до того места, где упал этот тип… Возможно, он бросил блокнот, когда убегал… Если, конечно, он был, этот блокнот.
– Слушаюсь, товарищ лейтенант! – Солдат быстро выскочил из комнаты.
– Кто сейчас на четвертом посту?
– Я пока поставил Чумаченко, товарищ лейтенант! А немец плох. Потерял много крови, доктор нужен, – сказал сержант.
С дивана донесся стон, раненый открыл глаза, попробовал приподняться, но от слабости снова упал на спину.
– Лежите! Лежите! – Лейтенант подошел к нему.
Выглядел раненый действительно плохо: повязка намокла от крови, на бледном лице испуганно бегали лихорадочно блестевшие глаза. Старательно подбирая немецкие слова, лейтенант спросил:
– Что вы делали возле пакгауза?
Раненый взглядом обвел комнату, глаза его на миг задержались на вынутых из кармана вещах, кучкой громоздившихся на столе, и он с усилием ответил:
– Смотрел… Я не знал, что нельзя… Интересные самолеты… Я таких раньше не видел.
– Почему вы побежали, когда вас окликнул часовой?
– Я думал, он приказал мне быстрее проходить… Вот я и поторопился… А когда над головой просвистели пули, просто испугался… Обидно умирать теперь, когда война кончилась…
– По документам вы из Эберсвальда. Что вы делали в этом городке?
– Разыскивал сестру… Мне сказали, что кто-то видел ее тут… Война разбросала множество семей, в том числе и мою… Сестру я не нашел. – Раненый говорил с трудом. Паузы между фразами все удлинялись. Дышал от трудно и часто. Устав от разговора, снова закрыл глаза.
– Его надо отправить в госпиталь, – шепнул сержант.
– Куда ему в госпиталь? – тоже шепотом ответил лейтенант. – Восемьдесят километров. Пока соберутся, пришлют машину, он уже окочурится.
– А если в санчасть к авиаторам?
– Тоже не близко. Видите, в каком он состоянии? – Лейтенант замолчал и вопросительно поглядел на Петрова, который в этот момент вошел в комнату. – Нашли что-нибудь? – спросил он нетерпеливо.
– Нет… ничего… – удрученно выдавил солдат, после неудачных поисков чувствуя себя еще более виноватым.
– Так я и знал! Эх, Петров, Петров, будет у нас теперь хлопот полон рот. Можете идти, сейчас не до вас… А вы, сержант, позвоните в местную больницу, вызовите «Скорую помощь». Скажете: несчастный случай.
Сержант пальцем поманил лейтенанта в дальний угол и тихо спросил:
– Охрана нужна, если повезут в больницу?
– Какого черта его охранять? – Лейтенант выругался сквозь зубы. – Самый что ни на есть обычнейший немец.
Он снова подошел к раненому и спросил:
– Когда вы стояли у пакгауза, у вас было что-то в руках?
Немец открыл глаза и явно с усилием проговорил:
– Нет… ничего… Хотя, может, носовой платок… У меня насморк…
Лейтенант подошел к окну. Теперь туман плотно обволакивал все вокруг, растворив в себе даже контуры близлежащих строений. И только оголенная мокрая ветка, дрожавшая у стекла, четко вырисовывалась на грязновато-белом фоне.
«Конечно, обычный носовой платок издали мог показаться тетрадью или блокнотом. В такую погоду различить трудно… Препротивная история!» – думал лейтенант, вглядываясь в туманную мглу.
Минут через десять приехала «Скорая помощь». Врач осмотрел раненого, сокрушенно покачал головой:
– Госпитализация! Немедленная госпитализация, – коротко, но очень решительно бросил он.
– А выдержит ли больной дальнюю дорогу до госпиталя?
– Это зависит от многих причин. Впрочем, лучше не рисковать. Если не возражаете, я могу положить его в нашу больницу. У нас, правда, все забито до отказа, но одно местечко выкроим.
– Тогда везите к себе. О состоянии здоровья позвоните мне вот по этому телефону. – Командир протянул врачу листок бумаги.
Раненого забрали. Теперь о происшествии можно было докладывать начальству. Лейтенант прошелся по комнате, исподлобья поглядывая на телефонный аппарат, поблескивавший черным эбонитом. Неохотно приблизился к нему, протянул было руку к трубке, но передумал: «Еще успею. Нахлобучка все равно от меня не уйдет». Потом присел к столу, недовольно покосился на вещи раненого – забыл передать санитару – и принялся писать рапорт. Время от времени его отвлекали текущие дела, и когда рапорт наконец был готов, день уже клонился к вечеру. Еще раз сердито глянул на телефон, словно тот был причиной беды, лейтенант тяжело вздохнул, снял трубку и попросил соединить его с соседним городом, где размещался штаб части. Городской телефон был занят. Через несколько минут лейтенант позвонил еще. Снова занято. Он развернул газету, взятую у немца, и, откинувшись на спинку стула, стал просматривать информацию. Немецкий язык он знал скверно; отдельные слова, а иногда и целые фразы были ему непонятны, но общий смысл он улавливал. Просмотрев несколько статей, он свернул газету и на последней странице заметил полурешенный кроссворд. «Любопытно, сумею ли я с моим знанием языка отгадать хоть несколько слов?» – подумал лейтенант, вынимая карандаш из кармана кителя. Но рука его так и замерла в воздухе.
То, что он увидел, вконец поразило его. Записи в клетках не имели ничего общего с нужными словами! С левой стороны кроссворда, конфигурацией напоминавшего прямоугольник, по горизонтали были вписаны цифры. Подобные же цифры были и в клеточках правой половины кроссворда, но только располагались они по вертикали.
«Что это… шифр? Пока ясно лишь одно: цифры вписаны в клеточки кроссворда затем, чтобы их труднее было заметить. Но что они означают? А если это…»
Лейтенант согнул листок бумаги пополам, с одной стороны в столбик выписал цифры, идущие по горизонтали, а с другой те, что по вертикали, так же точно одну под другой. С минуту он задумчиво глядел на них, потом поднялся и быстро вышел из комнаты.
На площадке он нашел инженера, который руководил разгрузкой, и протянул ему развернутый листок.
– Товарищ майор, эти цифры вам ничего не напоминают?
Майор невнимательно взглянул на запись: он спешил и не хотел, чтобы его отвлекали посторонними разговорами.
– Напоминают. У меня в записной книжке тоже записаны номера облигаций, только они подлиннее ваших. Может, и выигрыши будут покрупнее, – улыбнулся инженер, тут же отвернулся, отчаянно замахал руками и закричал кому-то: «Левее! Забирайте левее!»
– Простите, товарищ майор, но дело серьезное!
Инженер еще раз взглянул на цифры.
– Понятия не имею… Хотя… ага! Дайте-ка сюда. – Он взял листочек в руки. – Так и есть! В этом столбике номера самолетов. А это… номера тягачей и бензозаправщиков. Где вы их взяли?
– У задержанного. Одного не могу понять: зачем он торчал здесь, если запросто мог записать все это на шоссе во время транспортировки?
– По шоссе машины идут с зачехленными носами – номеров не видно.
– Все ясно. Спасибо!
Теперь лейтенант направился к пакгаузу, около которого был замечен немец. Вот тут он стоял. На сырой земле отчетливо видны отпечатки его ботинок. Потом след вел к дороге, оттуда к лесу. Лейтенант медленно двигался параллельно следам, иногда приседал на корточки, внимательно присматривался к каждому кустику увядшей травы. К каждой веточке. И недалеко от дороги, в маленьком неглубоком кювете нашел то, что искал, – светло-коричневый карандаш, который застрял между сухими, словно изъеденными ржавчиной, стебельками бурьяна.
Вернувшись в дом, лейтенант снова взял газету и провел на ее полях несколько линий, то легонько, то сильно нажимая на бумагу найденным карандашом. Затем сравнил цвет и оттенок каждой линии с записью в кроссворде. Сомнений не оставалось: цифры в клеточках были выведены тем же самым твердым светло-коричневым грифелем. Проверить себя еще раз, попробовать написать цифру? Лейтенант вывел двойку, потом тройку, потом стал выводить единицу, но телефонный звонок прервал эту графическую экспертизу. Пришлось отложить карандаш и снять трубку. Звонил доктор:
– Камрад лейтенант! Я звоню вам, чтобы сообщить о раненом.
– Очень кстати. Я слушаю вас. Как он там?
– Рана не так опасна, как я предполагал. Состояние удовлетворительное. Но я беспокою вас совсем по другому поводу. Видите ли, осматривая рану, я увидел у него под мышкой татуировку.
– Ну и что?
– Дело в том, что такие татуировки обозначают группу крови, и делали их только эсэсовцам, чтобы в случае необходимости можно было оказать немедленную медицинскую помощь… Поверьте мне, камрад, я ненавижу этих ублюдков, а раненый явно из них…
– Очень вам благодарен, товарищ! Сейчас приму меры. Пока к раненому никого не пускать. Еще раз спасибо!
Лейтенант повеселел. Его взвод задержал врага! Правда, сделано это неуклюже, но победителей не судят. Приятно, что позвонил доктор. И дело совсем не в том, что он заметил эсэсовскую татуировку, – теперь и так ясно, что задержан враг. Радовало то, что сами немцы начинают понимать, сколь пагубную роль в жизни их страны и всего мира сыграл фашизм. И та искренность, с какой они помогают выкорчевывать его остатки.
Приказав поставить в больнице охрану, он взял написанный ранее рапорт и с наслаждением разорвал его.
«Вот тебе и Петров! Хорошо, что я не поднял шум. Говорят же: не спеши, людей насмешишь…» – радовался лейтенант, снимая трубку.
На этот раз линия была свободна, и он доложил в штаб о происшедшем.
– Раненый под охраной? – спросил голос на другом конце провода.
– Так точно, товарищ майор!
– Хорошо, ждите. Сегодня же заберем его.
Хозяйка аптеки
Марии снова снился длинный сарай с выстроившимися в два ряда огромными чанами. Словно стоит она возле одного такого чана с кипящей темной жидкостью и двумя палками вытягивает из него бесконечную ленту черной тяжелой материи, которая громоздится вокруг нее на полу красильной. Дверцы печи под чаном раскалились, от материи идет пар, палки вот-вот выскользнут из усталых рук, но фрау Шольц неумолима: коротким возгласом – «шнель!», который свистит словно удар кнута, она подгоняет и подгоняет Марию, хотя черные рулоны громоздятся вокруг нее горой. И гора эта растет, увеличивается, поднимается чуть ли не к потолку, а вместе с нею вытягивается и фигура самой фрау. Как ни спешит Мария воздвигнуть между собой и фрау спасительную стену, змеиная головка хозяйки все отчетливее возвышается над черной грудой материи, гипнотизируя свою жертву злобным взглядом раскаленных, как угольки, глазок.
Обливаясь холодным потом, Мария проснулась и бессмысленным, затуманенным взглядом окинула комнату. Перед глазами все еще стояли покрытые испариной стены красильни и огромные чаны с кипящим раствором красок. Но постепенно контуры знакомых вещей, пробиваясь сквозь туман сновидений, стали вырисовываться все отчетливее, и вдруг все, что было в комнате, встало на свои места, окончательно прогнав видения.
«Это выжжено у меня в памяти, словно тавро, – подумала Мария. – Если бы вернуться домой, если бы не постоянное напряжение…»
Решительно отбросив одеяло, молодая женщина поднялась, В комнате было холодно, хотелось поскорее надеть теплый свитер. Но, упрямо тряхнув коротко остриженной головой, Мария выставила вперед ногу, развела руки, глубоко вдыхая воздух. Зарядка сразу согрела, вернула телу упругость, а душе – равновесие. Ночные кошмары исчезли окончательно. Мария была готова начать новый день.
Перед тем как выйти из дому, она еще раз подошла к туалетному столику и в последний раз критически оглядела себя. Из зеркала на нее смотрела чужая женщина, настолько чужая, что даже интересно было ее рассматривать… Элегантный силуэт. Черный свитер плотно облегает грудь и гибкую талию, юбка продолжает линию. На шее нитка мелкого, но настоящего жемчуга ненавязчиво намекает, что молодой вдове пора уже снять траур. Об этом же говорит чуть заметное прикосновение губной помады и два едва заметных штришка, идущие от уголков глаз. Светло-серые глаза кажутся огромными в обрамлении черных ресниц. Глаза напоминают лесные озерца, то поражающие своей прозрачностью, если в них отражается ясное небо, то непроницаемой загадочной темнотой, если набегают тучи. Над прической Мария долго думала и решила, что короткая стрижка, которая словно шлем облегает голову, больше всего соответствует выбранному ею стилю. Именно так должна выглядеть женщина, не лишенная женственности и одновременно деловая, способная самостоятельно проложить себе дорогу в жизни, взвесив современные требования и новую обстановку.
Когда возник вопрос об амплуа Марии, о том, как удобнее устроить явку, было выдвинуто много предложений, но руководитель группы, разрабатывающий это задание, полковник Горенко, недовольно морщился:
– Трафарет, трафарет, все эти табачные лавчонки, кафе, ателье и тому подобное. Мы должны одним выстрелом убить двух зайцев: обеспечить нашим людям надежную явку и дать возможность товарищу Стародуб завязать необходимые связи в кругу, пусть более узком, но наиболее интересном для нас. Итак, это должна быть… должна быть… – Нетерпеливо постукивая ребром ладони по столу, полковник прищурил глаза, и вдруг в них вспыхнули веселые огоньки. – Аптека! – воскликнул он.
– Аптека? – переспросил кто-то разочарованно.
– Да, аптека. Только не обычная, а по типу американской, где можно купить кое-какую галантерейную мелочь, письменные принадлежности, выпить бутылку кока-колы, даже заказать незатейливый завтрак. Вы же читали у Ильфа и Петрова! Соответственно ее обставить… Для немцев такое заведение будет интересной новинкой, их потянет туда из любопытства. Для оккупационных войск аптека станет уголком Америки. Учреждение это удобно и для Марии: она женщина с положением, за которой можно поухаживать, не позволяя себе ничего лишнего.
Так Мария Стародуб перевоплотилась в Марию Кёниг, владелицу аптеки, куда она и спешила сейчас в полной боевой готовности.
Как обычно, Мария черным ходом прошла в крохотный кабинетик, отгороженный от провизорской стенкой. Старый провизор Себастьян Ленау, который организовал аптеку и, конечно же, был ее душой, увидев Марию, отложил перо и снял очки.
– Опять приходил сержант Робертсон, предлагал кофе и жевательную резинку, – сказал он, доложив об утренней почте.
– Вы объяснили ему, что никаких дел с черным рынком мы вести не хотим?
– Конечно. Но мне не понравилось, как он отреагировал на это. Заявив: «Не манна же небесная падает на вас!»
– Документация у нас в порядке?
– С этой стороны нам ничего не угрожает.
– А с какой?
– Топливо. Без тепла не будет уюта, а без уюта исчезнут постоянные клиенты. Вы же знаете, как остро стоит вопрос с углем. Боюсь, нам придется нарушить свой принцип, касающийся черного рынка. С продуктами мы кое-как извернемся, хотя эти проклятые поставщики и дерут бешеные деньги, а вот дрова, брикеты… их на ферме не купишь.
– Может, попробовать через военную администрацию? Если попросить… – Мария задумалась, мысленно перебирая в памяти своих клиентов. – Может, полковник Ройс… или майор Валленберг…
– Да, в наше время дамам дарят не букеты, а брикеты, – вздохнул Себастьян Ленау, сокрушенно покачивая головой.
– Будем считать – алмазы. Ведь уголь родственник алмазов. Для женщины такое объяснение приятнее, – пошутила Мария, чтобы подбодрить старика. И пошла в зал.
Две ее помощницы, Рут и Клара, уже заканчивали утреннюю уборку и теперь прихорашивались, отпуская в адрес друг друга колкости. Соперничество между девушками уже давно беспокоило Марию. Заключая с ними трудовое соглашение, она не обусловила в точности обязанности каждой из них, поэтому более живая и энергичная Рут оттеснила Клару к электроплитке и кофеварке, взяв себе более приятную и выгодную работу по обслуживанию клиентов. Клара злилась, считала себя несправедливо обиженной и бросала на хозяйку аптеки недружелюбные взгляды.
– Клара, Рут! – позвала Мария, делая вид, что не прислушивается к словесной перепалке девушек. – Вчера мы с герром Себастьяном подвели баланс, и выяснилось, что аптека работает не так уж скверно. Конечно, это заслуга всего персонала, и поэтому… – Мария улыбнулась и подняла вверх два незаклеенных конверта. – Это ваши, как бы сказать, премиальные. Вы хорошие девушки, и я рада, что вы ладите между собой. Только знаете, о чем я подумала? Справедливо было бы распределить работу так, чтобы вы по очереди обслуживали зал. Это приносило бы каждой из вас постоянный приработок – ведь наши клиенты иногда бывают щедры, а дружба между вами еще больше окрепнет. – Мария положила конверты на стол. – Берите и покупайте себе, что нравится.
– О, фрау Кёниг, вы так внимательны к нам! – искренне вырвалось у Рут.
– Я… я тоже очень благодарна вам… вы даже не представляете, как я это ценю, – запинаясь, лепетала Клара, для которой сказанное хозяйкой означало значительно больше, чем премиальные.
Мария понимала – девушкам хочется скорее заглянуть в конверты, но сделать это при ней они стесняются. Приказав поднять жалюзи и открыть дверь, она вышла. А когда вернулась, сама поколдовав над кофе – сегодня он должен быть особо ароматен и крепок, в зале уже сидели обычные в этот ранний час посетители. Пожелав всем доброго утра, Мария стала наводить порядок в витрине с патентованными лекарствами. Она не присела ни к одному столику, как делала это каждый день. Автоматически раскладывая пакетики с таблетками, тюбики, расставляя баночки, молодая женщина думала о том, как постепенно менялся состав ее постоянных клиентов, как все, кто непосредственно участвовал в войне и старался честно придерживаться Потсдамского соглашения, незаметно исчезали, а на их место, словно саранча, слетались сомнительные дельцы в военной форме, каждый из которых делал свой бизнес, мечтая как можно скорее обогатиться. «Мани-мейкер» и «шибери» с утра до поздней ночи толклись на черном рынке, продавая и скупая, заключая сделки. Нет, к тем, кто сидит сейчас в зале, нет смысла обращаться со своей просьбой. Надо подождать полковника Ройса или майора Валленберга. Не может быть, чтобы офицеры в таких высоких чинах…
Открылась дверь, и вошел полковник Ройс, но не один, а пропустив вперед молодую женщину в сером пушистом пальто и черной бархатной шапочке, украшенной приподнятой вуалеткой. Полковник помог своей спутнице снять верхнюю одежду и повел ее к столику, возле которого хлопотала Мария.
– Поздравьте меня с гостьей, фрау Мария! И разрешите познакомить – моя жена.
– О, я тоже Мари… Мэри! – радостно закивала головой миссис Ройс и, ткнув себя пальцем в грудь, высоко вздернула тонкие бровки над смешливыми глазами. – Две Мэри, Робби! Стань посредине и загадай какое-нибудь желание. Оно непременно исполнится. Мы свято верили в это еще в колледже.
– Желаю, чтобы мигом появились две яичницы с беконом, джем, кофе, аромат которого уже щекочет мне ноздри, – подхватил шутку полковник. – Может, и вы позавтракаете с нами, фрау Мария?
– Я уже завтракала, но чашечку кофе выпью с удовольствием… Очень вам благодарна!
Отдав Рут необходимые распоряжения, Мария присела к столику, за которым расположились супруги Ройс. Разговор шел в том непринужденном тоне, который задала Мэри. Слишком молодая для отяжелевшего и лысеющего Ройса, она походила не на важную «миссис», а на выпускницу колледжа, о котором только что вспоминала, экспансивную, очаровательно-непосредственную в проявлении всех эмоций, капризно-упрямую в своих наивных суждениях, которые она высказывала в весьма категорической форме, если какая-либо мысль возникала в ее хорошенькой головке.
– У вас очень приятно, милая фрау! – похвалила Мэри, затягиваясь сигареткой и снисходительно оглядывая зал. – Впрочем, мне кажется, что наших бойз привлекает не столько уют, сколько очаровательная хозяйка, создавшая его. Берегись, Робби, теперь я знаю, какой магнит притягивает тебя сюда! – Смеясь, молодая женщина погрозила мужу пальцем, на котором сверкало кольцо с большим овальным сапфиром. Он блеснул, словно язычок синего пламени, и Мария невольно задержала на нем взгляд.
– У вас красивое кольцо, миссис Ройс!
– Это подарок Робби, в честь моего приезда. – Мэри вытянула руку, пошевелила ею, любуясь изменчивым блеском красивого камня. – И, представьте, ему очень повезло: он получил его почти даром на обменном пункте. Как они называются, Робби?
Полковник Ройс недовольно нахмурился.
– Не стоит об этом говорить, милая.
– Нет, стоит. Я обязательно туда пойду. Говорят, там можно приобрести восхитительные вещи. Фрау Мари, как называются эти пункты?
– Таушцентрали, – коротко ответила Мария. Перед глазами у нее возникла длинная очередь голодных берлинцев, которые в обмен на продукты отдавали самые ценные вещи, оставшиеся у них.
– Смешное название!
– Наш язык обогатился еще несколькими подобными. Например, «раухманы». Так называют тех, кто спекулирует сигаретами. В переводе это означает: торговцы дымом.
– Торговцы дымом? Очаровательно, очаровательно и остроумно! Робби, почему ты не предупредил меня? Я бы привезла гору сигарет и стала бы королевой дыма. – Мэри несколько раз глубоко затянулась и выпустила густой клуб дыма. Мечтательно наблюдая, как он прядями поднимается в воздух, она повторила: – Королева дыма! Ты только вслушайся, как это звучит! Робби, на сколько же марок я выкурила сигарет?
– Если учесть, что семицентовая пачка здесь стоит сто марок, а в ней двадцать сигарет, значит, ты сейчас вместе с дымом выпустила в воздух целых пять марок, – улыбнулся полковник Ройс.
– Безумие! Ты нарочно сказал мне это, чтобы я не курила! Фрау Мари, он обманывает меня, правда?
– К сожалению, нет… Сигареты стали у нас своеобразной разменной монетой, – холодно ответила Мария.
– Колоссально! Я напишу домой, чтобы мне выслали тюк сигарет. Завтра же напишу. И твоя жена, Робби, станет королевой дыма, а ты ее подданным! И попробуй мне возразить, я тогда…
– Мэри, твои шутки не очень тактичны, – сердито оборвал жену полковник. – Фрау Мари, надеюсь, вы понимаете…
– Я не лишена чувства юмора.
– Но сегодня вы грустны. Какие-нибудь неприятности?
– Перспектива закрыть аптеку не слишком радует меня.
– Закрыть? Почему?
– Вряд ли кого привлечет нетопленое помещение, а вы знаете, как трудно сейчас с углем.
– Чепуха! Это можно устроить. Вы создали для нас своеобразный маленький клуб, и если мы все обратимся к военной администрации… Гм… с кем бы поговорить об этом? Кажется, полковник Брукс… Да, непременно надо повидаться с Бруксом! Знаете что? Я приглашу его сегодня поужинать с нами в ресторане, познакомлю вас, и мы вместе обсудим, как помочь этой беде. Согласны?
– Не знаю, удобно ли, – заколебалась Мария.
– Решено! – захлопала в ладони Мэри. – Мы все идем в ресторан… О, я даже знаю в какой! «Цум Тойфель».
– Почему именно в «Цум Тойфель»?
– Потому что «Тойфель» по-немецки «черт», а мне очень хочется побывать у него в гостях.
– Если фрау Мария не возражает, встретимся в восемь.
– Очень тронута вашей заботой. Возможно, это впрямь кое-что даст…
– Ручаюсь, Брукс не устоит перед вами, фрау Мари. – Мэри была в восторге от новой идеи. – Он старый ловелас, любит красивых женщин.
Супруги скоро ушли, еще раз напомнив о встрече в ресторане.
«Брукс… кто такой Брукс? – старалась вспомнить Мария. – Эту фамилию я где-то слышала или встречала в прессе. Не в связи ли с деятельностью „Объединенного англо-американского экспортно-импортного агентства“?»
Неясное воспоминание – словно гвоздик, выскочивший из подошвы. Куда бы Мария ни ступала, она больно натыкалась на слово-колючку: «Брукс». Оно сопровождало ее как щелканье бича, как это бывало, когда ей снился сон с фрау Шольц, как раздражающий мотив, утративший первоначальный смысл и превратившийся в назойливое сочетание букв.
Дверь аптеки сегодня открывалась чаще, чем обычно. Истощенные голодом берлинцы страдали теперь еще и от холода. Количество катаров верхних дыхательных путей, бронхитов и различных других сезонных заболеваний увеличивалось с каждым днем. Колдуя над микстурами, составляя сложные порошки, герр Себастьян не сразу заметил, что Мария чувствует себя плохо.
– Что с вами, фрау Кёниг? – взволнованно спросил он, случайно коснувшись ее холодной руки, когда она передавала ему очередной рецепт. – Руки словно лед, глаза подозрительно блестят… – Ладонь старого провизора легла Марии на лоб. – О, у вас температура, – забеспокоился старик, сердито нахмурившись. – Я же говорил, для профилактики вы должны…
– Чепуха, просто я не выспалась из-за одной старой знакомой, с которой встретилась во сне, – попробовала отшутиться Мария и этим еще больше испугала своего помощника.
– Вот-вот, ночные кошмары! Ни с того ни с сего они не возникают, милая фрау! У нас говорят, что тон делает музыку. «Дер тон махт ди музик». Это касается и нашего тела. Когда нарушается гармония, появляется фальшивый тон, он-то и звучит в наших снах. Быстрее наверх и в кровать! Рут принесет вам стакан горячего грога, я сам приготовлю. И примите эти таблетки, ударную дозу – две. Сейчас мы измерим температуру, и если она часа через два не спадет, придется вызвать врача.
Мария знала: спорить с герром Себастьяном бесполезно. Пока лучше не говорить ему о сегодняшней встрече в ресторане, а усыпить его бдительность, немного слукавив. Небрежно сунув термометр под мышку, она отвлекла внимание старика на другое:
– Сегодня в разговоре Ройс упоминал какого-то Брукса. Мне не дает покоя эта фамилия. Вы не знаете, что это за персона?
Себастьян Ленау втайне гордился своей памятью и обрадовался случаю еще раз продемонстрировать ее.
– Еще бы! Один из разбойников банды Логана, которая так ловко и совершенно официально опустошает Германию, вывозит уголь и даже лес. Представьте себе, даже лес, который мы сами всегда импортировали. «Дойче Фольксцайтунг» не так давно выступила с разоблачительным материалом о деятельности этого агентства. За несколько месяцев эти благодетели немецкого народа на одном лишь русском угле, скупая его по десять долларов за тонну, а продавая по двадцать, заработали миллион. Это не считая тайных операций на черном рынке, которые буквально обогатили таких, как Брукс. Наш «Дер Шпигель» тоже пробовал подать голос по этому поводу, но редактора, как видно, хорошенько одернули, поэтому журнал больше не затрагивал вопроса о манипуляциях с топливом… Сколько там у вас?
Мария протянула термометр, отлично зная, что он не выдаст ее.
– Странно, 37.3… Мне казалось, значительно больше. Ну что ж, тем лучше. Будем надеяться, что температура скоро совсем упадет: главное – отлежаться…
Марию и саму непреодолимо тянуло прилечь. Поднявшись наверх, она завела будильник, поставила стрелку на цифру семь и с наслаждением вытянулась под теплым одеялом. Одеяло и грог, принесенный Рут, сразу согрели ее. Только слегка кружилась голова. Все время хотелось вспомнить что-то важное, но кровать качнулась и поплыла, тихо покачиваясь, словно люлька.
Мария проснулась за пять минут до того, как зазвонил будильник. Словно и в мозгу у нее была заведена пружинка, незримое колесико вертелось и вертелось, равномерно раскачивался маятник, отсчитывая секунды.
«Вот тебе „дер тон“, что „махт ди музик“», – улыбнулась своим мыслям Мария. Как выяснилось, все хорошо.
И, впрямь, голова была ясной, а слабость в ногах совсем исчезла, пока женщина одевалась.
Когда выбирали помещение для аптеки, позаботились, чтобы здесь было два выхода: на улицу и через кухню во двор. Проще всего было улизнуть черным ходом, незаметно, но старик провизор переполошится, да к тому же Марии нужно предупредить его, где ее можно найти, если возникнет срочное дело.
С независимым видом Мария спустилась по лестнице.
– Герр Себастьян, – она первой пошла в наступление, – признайтесь, вы приготовили не грог, а какой-то чудодейственный эликсир. Советую взять патент.
Старик снял очки и окинул женщину ледяным взглядом.
– Фрау Кёниг, – сказал он официально сухо, – пренебрегать своим здоровьем – преступление. Вы прекрасно знаете, что я один не справлюсь с работой, если вы надолго сляжете.
– Милый герр Себастьян, уверяю вас, что я совершенно здорова! А дело, ради которого я должна уйти, очень важное. Обещаю вам, что буду избегать сквозняков. Мои координаты – ресторан «Цум Тойфель». И, умоляю, не испепеляйте меня таким уничтожающим взглядом. Вы же знаете, как много для меня значит ваше доброе отношение!
– Ах, фрау Мария, – оттаял старик, – по крайней мере, хоть возвращайтесь побыстрей.
– Как можно быстрее.
Мария не предвидела, что не сможет выполнить свое обещание.
Эхо далекого выстрела
Машина остановилась возле двухэтажного коттеджа, увитого плющом и отделенного от шумной улицы чугунной, добротного литья, оградой. Пассажир, который вышел из нее, быстро пересек небольшой цветник и исчез за массивной дверью, даже не взглянув на четырехугольную мраморную доску, прикрепленную у входа. Она оповещала, что здесь находится «Частное агентство по розыску без вести пропавших». Сверху готическим, к тому же еще и стилизованным шрифтом было высечено название учреждения: «Семейный очаг». Но человек, скрывшийся за дверью коттеджа, вероятно, отлично знал и это название, и само помещение. Не останавливаясь, он прошел в конец коридора и, оказавшись в приемной главы агентства, протянул секретарю визитную карточку:
– Прошу передать господину директору!
Через минуту его пригласили в кабинет.
– Какой счастливый случай… – начал было Григорий, но Нунке остановил его.
– Не случай, Фред, и не счастливый, а печальная необходимость! Один из моих сотрудников Вернер Больман попал в беду: он лежит с простреленным плечом в Восточной зоне.
– Его схватили русские?
– Подстрелили, как куропатку, и положили в городскую немецкую больницу. Охраны, правда, нет. Очевидно, не докопались, кто он на самом деле.
– Кто же он, если не секрет?
– Ему было поручено инспектировать нашу подпольную сеть на определенном участке. Работа очень ответственная, и он должен был вести себя с максимальной осторожностью. Но Больман пренебрег инструкциями. Проявил инициативу, болван.
– Как же это произошло?
– Разнюхивал что-то о реактивных самолетах, которыми русские перевооружают свою авиацию… Был же у этого идиота четко ограниченный круг обязанностей! Инструктируешь, учишь, по сто раз вколачиваешь в голову: тебе поручено то и то, остальное сделают другие. Так нет, лезут, куда не просят! Лезут, не зная обстановки. Хорошо, что на станции есть наш человек, он и догадался позвонить… Мы бы и без Больмана все узнали. Вот что значит, не зная броду, лезть в воду. – Нунке был взбешен. – Недаром говорят, что осел всегда остается ослом, за что бы ни взялся!
– Это послужит ему хорошим уроком: у злых собак всегда рваные уши. То, что он ранен, конечно, неприятно. Но дело обстоит не так уж плохо, раз его не охраняют.
Нунке вскочил с места и заходил из угла в угол, потом, немного успокоившись, снова уселся в кресло напротив Григория.
– Послушайте, Фред, нужна ваша помощь! Я не могу оставить Больмана у русских. Если они опомнятся и всерьез возьмутся за него, то погибнет большая предварительная работа, а возможно, и преданные нам люди. Дело не в Больмане, мне, в конце концов, на него начхать. Но за ним может потянуться целая цепь провалов… Итак, надо спасать этого болвана. А у меня сейчас, как на грех, нет под рукой ни одного человека, который мог бы справиться, как бы возглавить… экспедицию.
– Вы хотите, чтобы я поехал в Восточную зону и выкрал этого… Больмана?
– Да! Будь у меня дня два, я бы подыскал нужных людей, но нельзя терять времени. Ехать надо немедленно. На первый взгляд это похоже на авантюру, но это не так. Вы, Фред, знаете методы моей работы, видели – я не люблю разбрасываться нужными людьми, подвергать их опасности. В данном случае риск минимальный. Поедете на санитарной машине в форме советского офицера. Документы получите идеальные. В помощь дам двух человек. Они с пистолетом на «ты», у них стальные мускулы, но, к сожалению, куриные мозги… Наверно, так уж устроена природа, что недостачу одного компенсирует другим…
Григорий слушал Нунке со смешанным чувством удовлетворения и беспокойства. Из соображений конспирации он ни разу не выезжал из западной зоны Берлина, хотя у него и была такая возможность. Сейчас Нунке сам посылает его в небольшой городок, расположенный в советской зоне. Как радостно будет услышать родную речь, хоть издали полюбоваться случайно встреченным бойцом в защитной форме, с красной звездочкой на пилотке. Как приятно сознавать, что в любую минуту можно остановить машину и ступить на землю, неподвластную всяким нунке и думбрайтам. Но чувства чувствами, а обязанность обязанностью – не действовать же против своих!.. «Как же быть? Отказаться? Под каким предлогом?.. Нет, это не выход! Так можно поколебать с таким трудом завоеванное доверие. Надо немедленно предупредить наших о предстоящей операции, чтобы к моему приезду Больмана в больнице не было! А для этого постараться оттянуть отъезд».
– Когда надо выезжать?
– Люди готовы. Документы будут часа через полтора. За их изготовление принялись немедленно, как только было принято решение об этой операции.
«Очень мало времени, – нервничал Григорий. – Мария не успеет добраться до наших и вернуться с их инструкциями. Что же придумать?»
Нунке снова вскочил и зашагал по комнате.
– Кстати, документы у него были на имя Ганса Рихтера… Нет, каков олух! Грюншнабель, да и только. Попасть в такую беду! Теперь…
– Не завидую ему по возвращении.
– И вы правы. – Нунке сердито погасил сигарету. – Человек, пренебрегающий дисциплиной, не может руководить. Придется кому-нибудь передать его полномочия… А сейчас давайте поглядим карту земли Бранденбургской и подумаем о маршруте.
Искоса поглядев на часы – время ведь уходит! – Григорий развернул на столе крупномасштабную карту. И пока желтый ноготь Нунке ползал по хитрому лабиринту дорог, у Григория зрело новое решение.
«Марии не надо делать два конца. Важно сообщить своим о подлинном лице задержанного и о моей миссии. А там пусть командование решает: спрятать его или дать позволить увезти мне. Допустим, его заберут наши. Это еще не значит, что он заговорит. А если и заговорит, то выдаст два-три маленьких изолированных звена, главное же скроет. Матерый ведь эсэсовец! Если Больмана заберу я, то каждый его шаг будет под неусыпным контролем, а куда игольное ушко, туда и ниточка. Значит, я смогу кое-что разузнать, ведь не станет же он таиться от меня, своего спасителя? Человека, который ради него чуть ли не в петлю сунул собственную голову. Риск заключается в том, что его могут загнать, куда Макар телят не гонял. Или, по их терминологии, устранить. Только вряд ли они станут так разбрасываться кадрами».
Тем временем Нунке вновь и вновь перебирал возможные варианты маршрута, с немецкой педантичностью взвешивал преимущества одного и недостатки другого. В уголке его резко очерченных губ торчала погасшая сигарета, которую он, не переставая, жевал. Григорий мрачно наблюдал, как под выхоленной кожей движутся тугие желваки, и ему казалось, что скулы эти размеренным движением поглощают время минуту за минутой. Как только Нунке сделал маленькую паузу, Григорий быстро вскочил.
– По-моему, последний вариант самый лучший.
Нунке с сомнением покачал головой:
– Не думаю… Слишком много займет времени.
– Зато самый безопасный, – настаивал на своем Григорий, – безопасность – это тоже выигрыш во времени.
Нунке с минуту размышлял.
– Ладно. Раз он вам больше нравится, двигайтесь этим маршрутом. Вам ехать, за вами и последнее слово. – Нунке поднялся. – Ну, Фред, как будто все. В вашем распоряжении немногим больше часа, но приезжайте пораньше – надо подогнать форму, взять документы.
Избавившись от своего шефа, Григорий тут же уехал. До аптеки было минут пятнадцать езды, но он решил позвонить Марии. Из агентства Григорий никогда не звонил в аптеку и теперь воспользовался первым попавшимся по дороге автоматом.
– Вас слушают, – послышался старческий голос управляющего аптекой.
– Позовите, пожалуйста, фрау Кёниг.
– Ее сейчас нет.
Холодные капельки пота выступили на лбу у Гончаренко. Стараясь скрыть волнение, он снова заговорил:
– Простите, пожалуйста, вы не скажете, где ее можно отыскать? Дело очень срочное… Речь идет о пенициллине.
– О, конечно, конечно! Фрау меня предупредила, что ее могут спрашивать. Она в ресторане «Цум Тойфель».
– Очень вам благодарен.
С чувством облегчения Григорий сел в машину. Подержанный «Опель» рванулся с места и, рассекая тьму желтыми фарами, помчался кратчайшей дорогой, минуя развалины.
Развалины… развалины… Два года как кончилась война, а многие улицы еще завалены кирпичом, бетонными глыбами, исковерканным железом. Такие улицы закрыты для проезда, и только множество дорожек, протоптанных среди обломков, указывает, что они не совсем забыты. Пришлось ехать в объезд. Но и там, где можно было проехать, город зачастую казался вымершим: мостовые были расчищены, но на тротуарах высились остовы сгоревших домов. Лишь в некоторых первые этажи были приспособлены для жилья. Окна таких этажей тускло светились – в Берлине не хватало электроэнергии, но и эти пятнышки света поглощала темнота, стоило только отойти на несколько метров.
Наконец машина въехала в совершенно восстановленный район. Многолюдный, хорошо освещенный, он резко контрастировал с тем, что только что видел Григорий. Ресторан «Цум Тойфель» легко было найти по вывеске, буквы на ней горели алым пламенем, что, как видно, должно было изображать адский огонь.
Большой зал был переполнен. Мария в компании еще одной женщины и двух американских офицеров сидела за столиком у стены. Усевшись так, чтобы она могла его увидеть, Григорий лихорадочно искал повод, чтобы поговорить с Марией с глазу на глаз. На его счастье, после небольшого перерыва, музыканты снова вернулись на эстраду, и быстрые такты «Розамунды» заглушили стук ножей и вилок, тот однотонный шум, похожий на жужжание, который всегда заполняет помещение, где собралось много людей. Григорий поднялся и подошел к столику Марии.
– Гутенабенд, господа! Разрешите пригласить вашу даму на танец?
Американцы мрачно уставились на Григория. Один из них – тот, что сидел рядом с Марией, – уже раскрыл было рот, чтобы ответить резким отказом, но молодая женщина опередила его:
– О, Фред Шульц? Каким ветром?
Не дожидаясь ответа, Мария поднялась и положила руку на плечо своего партнера.
– Что случилось? – спросила она, как только они оказались достаточно далеко от американцев.
– Случилось. Нунке посылает меня в нашу зону – задание совсем необычное. Отказаться я не могу… Пожалуйста, не гляди на меня так взволнованно… Улыбайся!.. Вот так. А теперь слушай внимательно: в городишке Грюнхауз наш часовой подстрелил некоего Ганса Рихтера, который слишком интересовался авиацией. Настоящая его фамилия Больман, запомнила? Вернер Больман. Это бывший эсэсовец, птица большого полета. Именно поэтому Нунке и посылает меня выкрасть Больмана из городской немецкой больницы, куда его положили, не зная, кто он. Передай Горенко: я выезжаю туда часа через полтора-два, еду самым дальним маршрутом. Вот он – я начертил его на клочке бумаги. Спрячь получше! Если нашим самим выгоднее перехватить Больмана – пусть сделают это до моего приезда. Если для дела выгоднее пока оставить его на свободе, я заберу его. Еду в форме советского офицера на санитарной машине. Документы на имя капитана Бориса Петровича Гонты. В случае каких-либо изменений Горенко может выслать своих ребят под видом патруля, и они перехватят машину… Это на всякий случай. Повторяю, если Больман будет на месте, я сочту это за приказ увезти его. Не спутаешь?
Мария укоризненно поглядела на Григория.
– Хорошего же ты обо мне мнения!
– Не обижайся, а лучше повтори фамилию.
– Ганс Рихтер. Настоящее имя Вернер Больман. Больница в Грюнхаузе. До твоего приезда его должны забрать. Если не заберут, значит, ты выкрадываешь его. В случае изменений выслать патруль. Вы довольны, товарищ Придира?
– Вполне. – Григорий на миг прижал Марию к себе. – Ну, счастливо тебе! Только торопись, времени в обрез. Быстрей избавляйся от своих кавалеров. Кстати, кто они?
– Один – мой постоянный клиент, что собой представляет, еще не разобралась. Надеюсь, его жена, вон та хорошенькая миссис, мне в этом поможет. Второй, с прической ежиком – король угольного рынка. Хочу воспользоваться этим, потому что мы с Себастьяном в нашей аптеке скоро превратимся в ледяные сосульки.
– Будь с ними осторожна!
– Конечно…
Оркестр сыграл заключительные такты и смолк. Григорий подвел Марию к столику и, отклонив приглашение вместе поужинать, ушел, сославшись на дела.
– Так не забудьте, герр Шульц! – крикнула Мария ему вдогонку и, когда тот оглянулся, приветливо помахала рукой. – Дела, дела, всюду нагоняют меня дела, – объяснила она присутствующим, явно кокетничая своим положением молодой независимой женщины. – Впрочем, я рада, что встретила этого Шульца именно тут, увидев меня в таком обществе, он стал уступчивее. Не знаю: чему обязана – погонам мужчин или очарованию миссис Мэри.
– Прежде всего вашему очарованию, фрау! – Брукс сжал пальцы Марии и, поднеся ее руку к губам, впился в нее долгим поцелуем.
– Это не очень помогало мне до сих пор! Этот тип… Впрочем, довольно о делах! Мистер Брукс, давайте выпьем просто за наше знакомство. Не очень приятно, что оно началось со столь прозаической просьбы, но я обещаю – это первый и последний раз! Мистер Ройс может засвидетельствовать, что я не такая уж настырная особа и до сих пор никого из тех, кого хотела считать своими друзьями, ничем не обременяла.
– И напрасно, – оттопырила губу Мэри. – Надо возродить порядки рыцарства! А каждый рыцарь сам обязан отгадывать желание своей дамы. Робби, угадай, чего я жду от тебя?
– Чтобы я пригласил тебя танцевать.
– Наконец-то сообразил! – Бросив на Брукса заговорщический взгляд, Мэри поднялась и положила руку на плечо мужа.
– Фрау Мария, вы намекнули, что хотели бы видеть меня в числе ваших друзей. Я правильно понял вас? – Брукс впился в глаза Марии тяжелым, твердым взглядом. – Или это был дипломатический ход, чтобы связать меня по рукам? – Теперь в этом взгляде зажглись дерзкие, вызывающие искорки.
– Будь я дипломатом, я бы не говорила об этом так откровенно. Даже в дружбе мужчины любят чувствовать себя завоевателями.
– А если я скажу, что не верю в дружбу между мужчиной и красивой женщиной?
– Это будет повторением трафаретного утверждения. А вы человек более оригинальный.
– Вы в этом уверены?
– Я бы хотела этого. Не обижайтесь, но все ваши «бойз» скроены по одному образцу. Это скучно.
– А не кажется ли вам, что оригинальность – это котурны, на которые человек опирается, чтобы увеличить свой естественный рост?
– Слишком уж в грязное болото превратили люди жизнь, чтобы шагать по ней уверенно, не боясь замарать ног. У каждого из нас свои котурны.
– Какие же у вас?
– Желание не замарать ног в поисках твердой почвы.
– Вы избегаете прямого ответа!
– Я сама еще его не знаю. И поэтому бреду ощупью. Слишком уж много горя обрушилось на мои плечи. Своеобразная контузия, ошеломление.
Поддерживая разговор с Бруксом, Мария думала только о том, как ей встать и уйти.
«Фред предупредил, что не сможет надолго задержать операцию. Чтобы наши его опередили, я должна уже минут через десять уйти отсюда… Но как избавиться от Брукса? На что бы я ни согласилась, он непременно навяжется в провожатые и предложит свою машину. Может, пойти в туалет и просто сбежать? Послать из вестибюля записку, написать, что плохо себя почувствовала, решила не портить всем настроение, взять такси и уехать домой?.. А если они свяжут это с появлением Шульца? Безусловно свяжут. Лучше уж просить Брукса довезти меня до аптеки… Противно, даст волю рукам, но иного выхода у меня нет…»
– Дайте стакан минеральной, побыстрее. – Мария схватилась за горло, прикусила губу. – Вдруг все закружилось перед глазами, – прошептала она. – Днем немного знобило, думала, что замерзла. Неужели приступ малярии? Боже, как неожиданно это на меня навалилось.
Зубы Марии так естественно стучали о край стакана, что полковник Брукс сочувственно спросил:
– Малярия? Надо немедленно принять большую дозу акрихина! Сейчас вернутся Ройсы, и я отвезу вас домой. А пока выпейте немного коньяку. Ну хоть несколько капель, он вас согреет. Я только тем и спасался, когда схватил в Бразилии тропическую лихорадку.
– Напишите Ройсам записку, и пойдем! Этот блюз никогда не кончится. Боже, такое чувство, будто весь оркестр засел у меня в голове и изнутри бьет по черепу!
Брукс выдернул из записной книжки листок, быстро набросал несколько слов и, обняв больную за плечи, помог ей подняться.
– Похищение прекрасной сабинянки, – прошептал он на ухо молодой женщине. – Признаться, я представлял его иначе… А впрочем… – Он не успел договорить, сильным, даже грубым, рывком толкнул Марию назад, загородив ее своим телом. Что случилось, Брукс и сам еще не понял.
Визг, а вслед за ним многоголосый рев ворвались в медленный ритм блюза, разорвали ткань мелодии, жадно поглощая россыпь звуков, которые катились теперь разрозненно, вразнобой, словно бусинки с разорвавшейся нити. И так же в разные стороны кинулись пары, которые только что, сплетя руки, медленно кружились на маленькой площадке возле оркестра и в широком проходе посреди зала.
– Мы должны проскочить, быстрее! – Мария рванулась вперед, но Брукс успел схватить ее за плечи.
– Через это стадо взбесившихся быков? Нас искалечат или просто затопчут ногами. Наше счастье, что столик у стены.
Рев и вопли нарастали с силой, равной штормовому прибою. И словно волны перекатывались клубки тел, сбивая на своем пути столики, стулья, людей, которые, опешив от страха, не успели прижаться к стене. Оркестр словно водой смыло с эстрады. Какой-то человек в штатском, очевидно директор ресторана, надсадно кричал в микрофон, умоляя публику успокоиться. Рядом с его головой пролетела бутылка, ударилась о прислоненный к стене барабан и беззвучно рассыпалась на тысячи осколков, обливая натянутую шкуру красным, как кровь, вином. Человек возле микрофона пригнулся и отскочил в сторону.
Первая брошенная на эстраду бутылка послужила сигналом к горячей баталии. Теперь бутылки летели со всех сторон и во всех направлениях. К реву прибавился звон разбитых стекол, зеркал, посуды. Какой-то военный с искаженным от бешенства лицом вконец пьяного человека навел пистолет на бутылки у стойки. Выстрелов не было слышно, звона – тоже. Просто бутылки на полках оседали одна за другой, будто их снимала чья-то невидимая рука.
Марию теперь трепала настоящая лихорадка. Она уже поняла – ей не проскочить. Нелепость происходящего в зале доводила ее до отчаяния.
– Сделайте что-нибудь! На вас же погоны полковника, – зло крикнула она Бруксу.
– Я не могу оставить вас одну, – бросил он, не оборачиваясь. Шагнув вперед, он схватил за руку какую-то женщину и толкнул ее к стене, около которой стояла Мария.
– Робби, Робби… Я потеряла Робби… они его, кажется, ранили, – всхлипнула женщина.
Только теперь Мария узнала жену полковника Ройса. Размазанная по щекам тушь и царапины сделали ее лицо неузнаваемым. Из глаз лились слезы. С плеча свисало разорванное вечернее платье, на молочно-белой коже отчетливо краснели отпечатки чьей-то грязной пятерни.
– О, фрау Мария, это было ужасно! Мы с Робби оказались в самом водовороте. Нам надо было убежать через служебный вход, через эстраду, а мы подались сюда и… и… – Мэри зашлась в плаче, захлебываясь все больше и больше, плач угрожал перейти в истерику.
– Замолчите, слышите! – Мария так сжала руку Мэри, что та вскрикнула от боли. – Не смейте плакать! Нам нужно отыскать вашего мужа и пробиться к выходу. Нас четверо, у мужчин пистолеты, если мы будем держаться вместе… Вы меня слышите?
– Робби… – Мэри приподнялась, попыталась встать на ноги и снова бессильно упала на стул, испуганными глазами глядя на Ройса. У полковника запух глаз, из носа сочилась кровь. Второй глаз сердито блестел.
– Всё твои фантазии! Ей, видите ли, захотелось к черту в гости. Вот и оказались в аду!
– Что, собственно говоря, случилось? – спросил Брукс.
– Поставили на расквартирование какой-то новый полк, вот танкисты и сцепились с пехотинцами. Унтер-офицеры полицейского батальона праздновали чей-то юбилей или именины, они попробовали вмешаться, тогда пехотинцы и танкисты вместе бросились бить полицаев. Ну, а дальше уже не разберешь, кто с кем сцепился. Сплошное сумасшествие, массовый психоз!
– Одному из нас надо пробиться к телефону, позвонить в гарнизон. Оставайтесь с дамами, я попробую.
– Я уже позвонил. К счастью, напал на Брауна, он обещал тотчас доложить генералу Клею… Кстати, у телефона и заработал вот это. – Ройс показал запухший глаз. – Какой-то мерзавец хотел перерезать телефонные провода. Не додумались бы отключить свет!
Но лампочки горели, освещая отвратительную картину побоища и разгрома. Ноги топтали черепки, скользили по залитому вином и забросанному объедками полу, руки размахивали в воздухе поднятыми стульями. Один здоровяк поднял стол и, прикрывшись им словно щитом, кружил на одном месте, глупо хохоча, когда ножки стола сбивали кого-нибудь с ног. Молодая девушка, почти подросток, с растрепанными черными волосами, в разорванном спереди платье, вскочила на стойку и отплясывала на ней, склоняясь всем туловищем вперед, восторженно пищала, подбадривая своего кавалера, который ребром тяжелой ладони избивал всех, кто приближался к стойке.
– Ни одного человека, ни одного человека, который отважился бы прекратить это! Неужели во всем зале не найдется ни одного настоящего мужчины? – Мария сама не замечала, что громко выкрикивает эти слова, доведенная до отчаяния мыслью о поручении Фреда, которое она во что бы то ни стало должна выполнить, и может, еще успеет выполнить, если сейчас сорвется с места и отчаянно кинется в озверевшую толпу. Мария глубоко вздохнула, выпрямилась, шагнула в сторону, потом осторожно двинулась вдоль стены так, чтобы ни Ройс, ни Брукс не заметили ее маневра. Небольшая фигурка за соседним столиком шевельнулась. Сухонький старичок со сморщенным лицом и высоким лбом, увенчанным гривой седых волос, печально-иронически улыбнулся и коснулся руки молодой женщины.
– Подождите, деточка! Кажется, я нашел способ…
Одна Мария заметила, как спокойно и уверенно маленькая фигурка шагнула к эстраде. На полпути человечек оглянулся, и только тогда Мария вспомнила, что где-то видела его, кажется, он дирижировал в каком-то концерте.
– Они убьют его! – в ужасе воскликнула она, окаменев у стены.
Но старик уже поднялся на эстраду. До смешного маленький и беззащитный, он не спеша направился к брошенным у пюпитров инструментам, взял в руки обычный горн и, чуть закинув голову назад, поднес его к губам. Звонкий, чистый и призывный звук прокатился, словно поток хрустальной воды. Он перекрывал шум, заглушал брань, тоскливо рвался на простор к ясному небу, укорял, требовал, звучал такой самозабвенной радостью, что люди вдруг опомнились. Ни у кого не поднялась рука, чтобы швырнуть в старика бутылку. И он уже не казался маленьким, его фигура уже не казалась смешной. Он как бы рос на глазах, плечи его ширились.
Воспользовавшись минутой всеобщего замешательства, Мария бросилась в вестибюль. Никто и пальцем не тронул ее, никто ее даже не заметил. Взгляды всех были обращены к эстраде.
Перепуганный гардеробщик подал Марии пальто. Руки его дрожали, одно веко подергивалось от нервного тика.
– Майн гот… майн гот… майн гот… – повторял он монотонно, скорее всего, не замечая, что произносит какие-то слова.
«Такси мигом домчит меня до Эразумлимерштрассе. Там граница между секторами такая извилистая, что в нескольких местах пересекает улицу. Конечно, я могу перейти ее совершенно свободно. Но чем меньше меня будут видеть в Восточном секторе, тем лучше. Который сейчас час? Мамочка милая, около десяти! Надежда только на то, что Фред постарается оттянуть отъезд… Такси… Только бы достать машину!»
Едва сдерживая себя, чтобы не побежать, Мария направилась к входной двери. И вдруг она широко распахнулась перед ней не для того, чтобы пропустить вперед, – в раскрытую дверь хлынули военные.
– Простите фрау, но у меня приказ никого не выпускать из ресторана. Прошу вернуться в зал! – Небрежно козырнув, офицер приказал солдатам перекрыть все выходы из ресторана.
– Герр офицер, неужели вы думаете, что я участвовала в драке? – как можно беззаботнее улыбнулась Мария и бросила на офицера кокетливый взгляд.
– Мне очень жаль, фрау, но мы должны опросить не только виновных, но и свидетелей. Приказ есть приказ, ничего не поделаешь.
– Умоляю вас, господин офицер, у меня больной ребенок…
– Надеюсь, не так уж болен, если его мать оказалась в ресторане.
– Я не застала нашего домашнего врача дома… Мне сказали, что он здесь… Вы видите, я в пальто… Я пришла только затем, чтобы упросить его еще раз посмотреть мальчика… Умоляю вас, герр офицер!..
– Фрау, не задерживайте меня! А в том числе и себя! Обещаю опросить вас в числе первых – это единственное, что я могу сделать. Прошу вас, фрау, пройдите, не заставляйте меня прибегать к силе!
Едва передвигая ноги, Мария вернулась в зал.
– Хотели тайком нас бросить? – в голосе Брукса звучали ревнивые, собственнические нотки.
– У меня лихорадка, я замерзла. Вы же не додумались принести мне пальто!.. Только подумать… Среди такого сборища молодых сильных мужчин нашелся один настоящий, и кто? Немощный старый музыкант! – Мария упала на стул и язвительно добавила: – Теперь, когда вам уже никто не угрожает, вы можете добиться того, чтобы нас побыстрее выпустили!
– Осторожнее, фрау, я не настолько джентльмен, чтобы прощать даже красивой женщине подобные упреки!
Мария сжала пальцами виски:
– Больной женщине, мистер Брукс!
– Простите! Но вы тоже несправедливы: я заботился лишь о вас, боялся оставить вас одну… Пойду попробую что-нибудь сделать…
Мэри уже успела привести себя в порядок и, поливая салфетку водой, прикладывала ее к глазу Ройса. Мария следила за ее движениями, только бы не глядеть в зал. Он жужжал, будто развороченный улей. До порядка было еще очень далеко, а до опроса свидетелей и подавно. Прибывшие солдаты напрасно старались очистить середину зала и выстроить военных вдоль одной стены, а всех немцев – у противоположной.
К соседнему столику подошел метрдотель, вежливо поклонился старому музыканту, тихо что-то сказал ему. Тот кивнул головой и поднялся.
– Ваш футляр, герр профессор, – напомнил метрдотель.
– Большое спасибо, Иоахим. Чуть не забыл. А в нем самое большое мое сокровище.
Мария рванулась с места:
– Герр профессор, разрешите, футляр с нотами понесу я! – Решение возникло мгновенно, Мария даже не успела отдать себе отчет, правильно ли она действует. Какой-то импульс толкнул ее вперед.
– Очень благодарен! – Без тени удивления старый музыкант передал ноты незнакомой женщине. Он давно наблюдал за ней, видел ее беспокойство, нетерпеливое желание вырваться из западни, в которую они все так неожиданно попали. Когда она вскочила и стала пробираться к двери, он испугался за нее – возможно, именно это и помогло ему преодолеть собственный страх, и он направился к эстраде.
– Если нас попробуют задержать, я скажу, что вы наш дирижер, а фрау… фрау ваша аккомпаниаторша, – предупредил метрдотель и пошел вперед, прокладывая дорогу двум своим спутникам.
В зале еще бурлила толпа, и к служебному входу можно было пройти незаметно. Но в коридоре за дверью стоял патруль.
– В зал, в зал! – крикнул солдат, преграждая дорогу.
– Вы на посту, а мы на службе. Работы из-за этой бессмысленной баталии у нас непочатый край. Разбиты даже музыкальные инструменты! Маэстро вместе со своей помощницей должен их осмотреть, – скороговоркой пояснил Иоахим и с озабоченным видом пошел дальше. Солдат пожал плечами, но с дороги отступил.
Метрдотель привел старика и молодую женщину в кабинет директора и попросил подождать, пока он разведает обстановку:
– Служебный выход, очевидно, перекрыт, но они вряд ли знают о существовании еще одного – из подвала, где мы храним продукты, есть выход во двор. Я не задержусь…
– Дорогой герр профессор, вы сегодня совершили чудо. Как сказочный флейтист, очаровавший своей игрой полчища крыс, которых он вывел из захваченного ими города. Умоляю вас, совершите новое чудо: пусть быстрее расступятся перед нами эти стены! – Мария старалась шуткой скрыть свое беспокойство и лихорадку, трепавшую ее, но голос женщины дрожал, на глаза набежали слезы. – Если бы вы знали, как это важно для меня!
Старый музыкант покачал головой.
– Наверно, к этому чуду больше причастны вы, фрау! Когда я увидел, с какой решимостью молодая женщина бросилась в обезумевшую толпу, мне стало стыдно за мужской пол… И я ухватился за единственное оружие, которым владею, – за музыку. Думаю, это был один из лучших моих экспромтов. Я не знаю… не помню, что именно играл. Если со временем мелодия всплывет в памяти, а такое у нас, музыкантов, бывает, я посвящу ее вам, фрау…?
– Мария… Мария Кёниг.
– Кёниг? Королевский титул вам к лицу, фрау! – церемонно, с вежливостью старосветского человека поклонился старик. – Конрад Фогель, – в свою очередь представился он. – Как видите, и моя фамилия в какой-то мере символична, ибо свидетельствует о моей принадлежности к огромному племени певчих птиц. Природа, правда, не наделила меня голосом, зато одарила тонким слухом. Именно он мне подсказывает, что через минуту мы увидим Иоахима. Ну, что я вам говорил?
Дверь действительно приоткрылась, метрдотель знаком показал: можно идти, все хорошо.
…Свое путешествие по ночному Берлину Мария запомнила надолго. Это были бессмысленные старания наверстать упущенное время. Выйдя из такси на Эразулимерштрассе, она, отвоевывая какие-то секунды у потерянных часов, чуть ли не бегом преодолевала кварталы, пересекала пустые дворы, в которых звучало эхо, поднималась по шатким ступенькам разрушенных домов, ныряла в темноту каких-то проемов, рассчитывала буквально каждый шаг, который мог помочь как можно быстрее достигнуть цели.
Когда Мария, наконец, постучала в заветную дверь, было около полуночи. Кондуктор городского трамвая Франц Хердер, увидев позднюю гостью, испуганно воскликнул:
– Что с тобой? Ты едва держишься на ногах!
– Потом, все потом… – Мария упала на диван, радостно ощущая за спиной твердую опору его спинки. – Немедленно позвони Горенко – очень важное дело. Разбуди Грету, она мне поможет.
– Неприятности? – побледнел Франц.
– Только то, что я, может быть, пришла слишком поздно. Поторопись же!
Франц ушел, ни о чем больше не спрашивая. Глаза его жены Греты испуганно округлились, как только она прикоснулась ко лбу Марии.
– Ты вся горишь!
– Кажется, подскочила температура. Но теперь это уже не страшно. Дай обыкновенного аспирина и чашку горячего чая или просто кипятку.
Когда приехал полковник Горенко, Мария пребывала где-то на грани между бредом и действительностью. Перед ней, словно разрозненные кадры из кинофильма, мелькали то сцены драки в ресторане, то длинный погреб, заваленный мешками, ящиками, консервными банками, сквозь который она пробиралась, а они всё надвигались и надвигались на нее… Мария, зажатая высокими стенами домов, в глубоких как колодцы дворах напрасно искала выход и вдруг с удивительной легкостью взмывала вверх, вслед за призывными звуками горна… Волнующий полет в вышине, и она падает, падает, того и гляди сейчас разобьется о мостовую… Надо за что-то ухватиться, сделать какое-то усилие, она даже знала какое, а теперь забыла… Лица Фогеля, Мэри, Ройса, Брукса перемещаются будто карты в перетасованной колоде, кто-то из них должен ответить ей на этот вопрос… но они молчат. Только что отчетливо увиденные образы меркнут, черты стираются, становятся стандартными… король, валет, дама… «Что же это со мной? Собери свои разбросанные мысли, сделай еще одно усилие. Ну… Ну же, вспомни, вспомни…» И вдруг, словно спрятанное в глубине ее существа, срабатывает реле: из тьмы выплывает лицо Фреда. Мария вскакивает, садится на диване. Черная волна, которая накатилась, туманя голову, схлынула.
Даже странно, что Мария только что бредила. Слово в слово, точно она передает сообщение Шульца, рассказывает о причине своей задержки. Лишь тут голос ее срывается. Она знает – бессмысленная непредвиденная преграда помешала ей прибыть вовремя, поэтому чувство вины гложет сердце.
– Может, я и виновата. Наверно, мне удалось бы пробиться к выходу, решись я на это сразу. Я не испугалась, поверьте мне, просто надеялась, что драка вот-вот кончится, и целая и невредимая быстрее доберусь сюда… Теперь я понимаю: надо было пробиваться, пробиваться любой ценой!
Полковник Горенко, казалось, не слушал ее оправданий.
– Так говорите, Вернер Больман? – переспросил он и записал фамилию в блокнот. – Хорошо, проверим, что это за птица… Даже если он упорхнул из наших рук… – Полковник неожиданно улыбнулся и рывком поднялся. – Сейчас пришлю врача, и немедленно спать. Инструкции получите завтра. Да не горюйте вы так! Пусть порхает на свободе. Может, для нас это к лучшему.
В санитарной машине
Сидя в санитарной машине, мчавшейся по автостраде, Григорий все время поглядывал на золотые погоны, поблескивавшие у него на плечах. Нунке советовал для большего престижа облачиться в форму майора, но Гончаренко специально выбрал погоны с одним просветом и четырьмя звездочками – погоны капитана: в этом звании он числился в списках офицеров Советской Армии. Ему вспомнилось замечание Нунке: «А вам к лицу эта форма!» Тогда он лишь мягко улыбнулся. А теперь, теперь…
«Да, герр Нунке, мне к лицу эта форма! Очень уж по мне эти бриджи, эти сапоги, фуражка с красной звездочкой и китель с погонами капитана, – думал Григорий, глядя, как ныряют под радиатор машины прямоугольные плиты автострады. – Много людей сейчас носят эту форму. Кое-кто нарядился в новую, как говорится, с иголочки. На некоторых она поношенная, уже утратившая свой первоначальный вид, на ней, словно на лице, появились морщинки, и она как бы стала частью человека, который ее носит. Еще на ком-то она обтрепалась, загрязнилась, и он надоедает интенданту, бегает за ним, ждет не дождется выдачи нового обмундирования. Но какая бы она ни была, новая или старая, люди с гордостью носят форму армии-победительницы. И хотя сейчас я облачился в нее по приказу Нунке, не его интересам она будет служить! Я с радостью надел эти зеленые доспехи, на которые с симпатией глядят друзья и перед которыми дрожат недруги. Потому что я, Григорий Гончаренко, имею на это право!»
Они ехали уже два часа. В санитарной машине, кроме Гончаренко, были еще двое. Один, мрачный верзила, склонился над рулем, сосредоточенно глядя вдаль и не проявляя никаких признаков беспокойства. Второй, рыжий, сухощавый и юркий, который сидел на боковом сиденье, явно нервничал. Особенно это бросилось в глаза, когда пересекали границу сектора: он то пересаживался с места на место, то начинал что-то насвистывать, каждую минуту выглядывая в окно. Водитель, которого раздражало это непрерывное движение, не выдержал и, чуть повернувшись в его сторону, сердито крикнул:
– Чего ты крутишься, словно вошь на гребешке!
Впрочем, границы как таковой не было. Маршрут пролегал в объезд контрольно-пропускных постов, и лишь названия населенных пунктов говорили о том, что они находятся уже не в Бизонии, а в Восточной зоне. На коленях Григория лежал планшет с картой. Зная пунктуальность Нунке, он ни на шаг не отклонился от избранного маршрута. Ведь по окончании операции каждому из них придется писать отчет, и поэтому малейшее нарушение плана в случае провала будет для Нунке удобной зацепкой, чтобы обрушить на Григория свое бешенство.
Сейчас они находились километрах в сорока от цели своей поездки.
– Скоро приедем, – предупредил Гончаренко своих спутников. – Предупреждаю еще раз: к оружию ни в коем случае не прибегать.
– Зачем же нам его выдали? – спросил юркий.
– Чтобы кое у кого не дрожали поджилки.
Сухощавый обиженно замолк, а верзила с издевкой улыбнулся. Было заметно, что они не очень-то любят друг друга.
За стеклом промелькнул черно-желтый указатель, сообщая путешественникам, что до Грюнхауза осталось пять километров. Эти километры проехали молча. Каждый думал о том, что их ждет. Григорий, хотя и понимал, как это опасно, но втайне все же надеялся тайком встретиться с кем-то из своих, поговорить, пожать руку или хотя бы поймать теплую улыбку, приветливый взгляд… Водитель стал еще мрачнее, его руки крепко вцепились в руль, выдавая скрытое напряжение. Вертлявый снова засуетился. Он то вынимал, то прятал грязный носовой платок, вытирая им шею и ладони.
– Подъезжаем! – сказал он хрипло только для того, чтобы нарушить гнетущее молчание.
Свернув с автострады, машина по отлогому склону выехала в Грюнхауз. Гончаренко развернул карту города.
– Поезжайте прямо к кирхе, потом сверните направо на Банхофштрассе, это где-то там.
Больница находилась в длинном, неказистом на вид помещении, сложенном из красного кирпича. Окна на обоих этажах были закрашены белым. У подъезда, освещая широкую дверь, горел яркий фонарь. В его свете на гребне крыши тускло поблескивала металлическая штанга с вырезанным из жести причудливым гербом города.
Машина остановилась в желтом круге света.
– Вот мы и приехали, – сказал Григорий. – Вы останетесь и приготовите носилки, а я пойду узнаю, что к чему. На всякий случай мотор не выключайте!
В помещении Григория сразу окутал специфический запах больницы: дезинфекции, йода, лекарств. В приемном покое, куда он попал, панели были покрашены в светло-голубой цвет, влажный линолеум на полу поблескивал чистотой, его, видно, недавно вымыли. В приоткрытую дверь Гончаренко увидел двух санитаров, которые несли бачок, из-под крышки свисал окровавленный бинт.
– Мне надо видеть дежурного врача, – обратился Григорий к молоденькой девушке, которая, сидя у маленького столика, что-то записывала в толстую с загнутыми уголочками тетрадь.
– Зачем вам дежурный врач? – спросила она, не поднимая головы и, только поставив точку, подняла глаза на Григория. Увидев перед собой человека в военной форме, девушка сразу оживилась и, взяв телефонную трубку, приветливо бросила: – О, конечно, конечно, одну минуточку!
Очень скоро в приемный покой вышел худощавый человек в белом халате.
– Добрый вечер, товарищ капитан! Простите, что заставили вас ждать, – последнее время много работы. Тяжелый грипп!
– Здравствуйте, – Григорий пожал врачу руку. – Я приехал по поводу раненого Ганса Рихтера.
– Да, да… пойдемте… пожалуйста, сюда, на второй этаж, – показал он в сторону лестницы. – Признаться, задал он нам хлопот, – пожаловался доктор. – Когда лейтенант поставил возле него охрану, пришлось освободить для задержанного подсобное помещение, где у нас хранится инвентарь, и все вещи сложить прямо в коридоре.
Действительно, в конце коридора, у окна, грудой было свалено медицинское оборудование. И тут же стоял часовой. Казалось, он охраняет именно эту груду вещей.
«Часовой? – заволновался Григорий. – Нунке говорил, что охраны нет! Странно… может, этим наши хотели сказать, что раненый не транспортабелен и везти его нельзя?»
– Как самочувствие раненого?
– Вполне приличное.
«Тогда совсем непонятно. За немцем не приехали, – это значит, что я должен забрать его. Зачем же тогда часовой?»
– Это тут.
Григорий хотел пройти вслед за доктором, но солдат преградил ему дорогу.
– Не могу пропустить, товарищ капитан. Только врача и дежурную сестру… Так приказано, – прибавил он, оправдываясь.
– Не бойся, не съем я твоего немца!
Врач вышел из импровизированной палаты.
– Спит… Я приказал дать снотворное… Сейчас его лучше не беспокоить.
Сквозь приоткрытую дверь видна кровать, на которой лежал раненый. Светлое одеяло, натянутое до подбородка, тихо покачивалось в такт тяжелому, хриплому дыханию. Бледное лицо с полуоткрытым ртом лоснилось от пота.
– Пусть поспит. Но побеспокоить его все равно придется. Я сейчас пойду на станцию за начальником караула или разводящим, а вы пока подготовьте раненого для транспортировки – мы заберем его.
Григорий вышел на улицу. Освещенную, отвоеванную у ночи ее часть наискосок пересекали дрожащие серебристые струйки – шел дождь. В лужах, вокруг камешков, в выбоинах асфальта, вода кружилась, как в водовороте, иногда выбрасывая вверх маленькие фонтанчики. Капельки поднимались и лопались, словно прозрачные пузырьки. Набегавшие порывы ветра связывали водяные струи в пучки, свертывали в тугие струи и хлестали ими пустынную улицу.
– На станцию! – приказал Григорий, подбегая к машине и стряхивая с себя дождевые капли.
– А где же тот? – спросил рыжий.
– Здесь. Но возле него поставили охрану… Придется заехать за разводящим.
В наступившей тишине было слышно лишь глухое урчание мотора, монотонный шорох «дворников», да шум дождя. Машина вдруг замедлила ход.
– Нам же сказали – охраны нет, дело, мол, верное, – сердито проговорил водитель. – А сейчас мы премся к черту в пасть… Послушайте, шеф, а не лучше ли нам, пока еще можно, убраться подобру-поздорову?
– Точно, точно… а то схватят и загонят в Сибирь. Очень благодарен! Что-то не по душе мне такая возможность – ознакомиться с отдаленнейшими уголками нашей планеты, – поддержал рыжий.
– У нас приказ! – сухо ответил Григорий.
– А, шеф, бросьте, приказ… приказ… Приказ, что телеграфный столб, перелезть нельзя, а обойти можно.
– Прекратить разговоры! Давай к тому домику, видишь, где солдат!
Водитель недовольно хмыкнул, но покорился.
Старшина, начальник караула, провел Григория к лейтенанту. Несмотря на позднее время, тот сидел у стола, заваленного брошюрами и исписанными листочками. На одной из брошюр Григорий прочитал: «Всесоюзные заочные курсы иностранных языков».
– Учимся? Как говорили наши родители: бог в помощь!.. Здравствуйте, лейтенант! Капитан Гонта из… да вот мои документы. Я приехал за Гансом Рихтером.
– Здравствуйте, лейтенант Кравцов. Что же вы так поздно? Я уже думал, сегодня совсем не приедете.
– Дела, брат, дела…
Лейтенант развернул протянутое удостоверение, внимательно прочитал и вернул Гончаренко.
– Больше у вас ничего нет?
– Думаю, этого достаточно.
– Обычно в таких случаях мы получаем письменное распоряжение… А чаще всего с вашим сотрудником приезжает кто-либо из моего начальства. Вы один?
– Со мною двое, для охраны.
– Я не о том… – Лейтенант задумался. – Поступим так: вы пока пишите расписку, а я соединюсь с нашим штабом. Для проформы… Чтобы не мылили потом голову. А то знаете, как бывает… припишут потом отсутствие бдительности, то да се…
Григорий взял протянутый листок бумаги.
«Судя по всему, его не предупредили о моем приезде. Почему? Не успели передать по инстанции? Или передумали? В таком случае тоже дали соответствующие указания. Может, сделают это сейчас? О-хо-хо, что-то не нравится мне это…»
Написав расписку, Гончаренко положил ее на стол поверх разбросанных бумаг. Лейтенант уже разговаривал со штабом, и Григорий, навострив уши, прислушивался.
– Да… Капитан Гонта из контрразведки… Что? – Лейтенант почти кричал в трубку и морщился, склонившись над аппаратом: очевидно, слышимость была плохая. – Хорошо… Будет сделано! Слушаю, товарищ майор!
Лейтенант положил трубку и как-то странно посмотрел на своего ночного посетителя.
– Вот что… Очевидно, произошло какое-то недоразумение. – Лейтенант Кравцов поднялся, прошелся по комнате и остановился рядом с Григорием. – Мне сказали, что за этим Рихтером выехал другой ваш сотрудник и наш начштаба. Вам придется подождать, пока они приедут, и мы выясним это недоразумение.
– Я получил приказ доставить его немедленно! Что-то напутали у вас в штабе.
– Ничем не могу помочь! – Суровые серые глаза лейтенанта смотрели решительно. – До их приезда вы останетесь здесь. Я не могу нарушить полученное распоряжение. – Лейтенант кивнул на телефон.
Григорий понял – возражать бесполезно.
«Что же произошло? Не сработала какая-то деталь в так четко налаженном механизме. Но какая? У Горенко? Нет, это исключается. Мария? Скорее, Мария… Задержалась и не успела вовремя предупредить. Что же делать? Уехать без Больмана? Но этот лейтенант меня не отпустит. А ждать приезда начальника штаба я не могу. Это вызовет подозрение у тех двоих, еще драпанут без меня. Попросить соединить меня с Горенко?»
– Что же они не едут?
Лейтенант Кравцов посмотрел на часы.
– Сейчас приедут.
В его поведении, во всем его облике Григорий ощущал враждебность. Этот молоденький офицер явно что-то заподозрил. Взгляд лейтенанта, вначале усталый, стал теперь колючим, настороженным.
«Милый, дорогой мой мальчик! Несмотря на то, что ты совсем еще юн, ты молодец! На твоем месте я поступил бы так же! Даже отобрал бы пистолет, а его владельца запер в какой-нибудь арестантской. Но если бы ты знал, что, проявляя обычную бдительность, ты можешь помешать нашему общему делу!.. И как удивишься, если я попрошу соединить меня с Горенко! Но сумеешь ли ты потом держать язык за зубами?»
– Послушайте, лейтенант, вы коммунист? – начал было Григорий, но в этот момент за окном вспыхнули мощные фары, тень оконной рамы побежала по комнате и раздалась команда часового:
– Начальник караула! На выход.
Через несколько минут дверь открылась, и на пороге появился невысокий коренастый майор. А из-за его плеча на Григория глядело знакомое, с кустистыми бровями, улыбающееся лицо Горенко. Он что-то шепнул майору, тот сделал знак лейтенанту, и они вышли, оставив Григория наедине с полковником.
– Здоров… как тебя, Гонта? Что же, ты казак хороший! – Горенко обнял Григория. – Ну и загонял же ты меня! Едва успел… Мария задержалась из-за драки в ресторане и только недавно добралась до нас. Хотел выслать к тебе более молодого, но самому захотелось повидать. Сколько прошло времени! Ну, как ты?
– Товарищ полковник, я должен немедленно ехать! Я тут уже минут пятнадцать. Боюсь, моим головорезам это покажется подозрительным. Мария вам рассказала все о задержанном?
Горенко сразу заторопился:
– Все. Тогда слушай: забирай своего Больмана. Так будет лучше. Разузнаем о его связях, – не напрасно же он шляется в нашу зону! Этот томик Гёте передашь Домантовичу. Найди способ. Дело в том, что Мария свалилась – наверно, грипп! – а шифр надо передать немедленно. Запомни: баллада «Коринфская невеста». Ключ в обложке. Себастьяну скажи, чтобы не волновался. Объясни, в чем дело, а то поднимет шум. Ну, кажется, все… Береги себя! Да, передай Домантовичу, что нашлась его сестра. Он ее разыскивал… А теперь будь счастлив! Бери разводящего, поезжай в больницу и забирай своего Больмана.
Пригашенные огни спящего города промелькнули в последний раз – их поглотила ночь. Снова бесконечная лента шоссе, выхваченные светом фар придорожные указатели. За спиной стоны Больмана и посвистывание рыжего. Теперь это уже бодрый свист.
– А неплохо мы их надули! – Свист оборвался. – Признаться, я препаршиво чувствовал себя там, особенно возле караулки. Ну, думаю, все… А тут еще вас долго нет. Сидел, как на иголках.
– Ждал разводящего, он проверял посты.
– А кто те двое, что приехали в машине?
– Этого я как раз не понял. Одного лейтенант почему-то отвел на склад, а второй копался в бумагах.
Мрачный водитель во время этого разговора дважды покосился на Григория.
«Что это он? – подумал Гончаренко. – Что-то заподозрил?»
Но, перебрав в памяти события ночи, отбросил этот вариант.
– Да… – тянул свое рыжий, – все вышло наилучшим образом. А то не миновать бы Сибири…
– Втемяшилась тебе эта Сибирь! Что ты, сморчок, о ней знаешь? Сибирь это… – Водитель замолчал.
– Что «это»? – не унимался рыжий.
– Да так… тайга, просторы, приволье для души…
– Бывали там? – спросил Григорий.
– Бывал, – вздохнул он и сильнее нажал на акселератор, давая понять, что разговор окончен.
Дальше ехали молча. Изредка попадались встречные машины, и тогда дождевые капли, дрожавшие на ветровом стекле, вспыхивали, словно маленькие искорки.
«Вот и кончилась моя командировка, – с грустью подумал Григорий, вглядываясь в набегавшие окраины Берлина. – Если бы не эта парочка, все было бы похоже на выходной день».
Свет фар упал на большой белый щит с черными буквами. На нем надпись на четырех языках: «Вы въезжаете в американский сектор. Носить оружие в нерабочее время запрещено. Подчиняйтесь правилам…» Дальше Григорий не читал.
Начинались будни.
Голос из небытия
Дверь захлопнулась, словно крышка гроба. Два человека, старый и молодой, в полной растерянности остановились посреди комнаты. Невероятно жутким казалось несоответствие между тем, что произошло, и нерушимым покоем обычных вещей, их не остывшим еще уютом. Как всегда, бросалась в глаза клетчатая скатерть на овальном столе, мягкими складками спускались почти до полу такие же клетчатые шторы, а на широкой тахте с удобными впадинами, рядом с диванной подушкой лежала раскрытая книга.
– Открой окно, – сказал старший и тяжело упал на придвинутое к столу кресло. Схватившись руками за подлокотники, он замер в неестественно напряженной позе вконец уставшего человека, не способного на малейшее усилие, даже на простое движение, чтобы сесть поудобнее.
– На дворе холодно, хватит одной форточки, – возразил молодой. – И тебе лучше лечь и выпить чего-нибудь горячего. Хочешь, сварю кофе?
Не ожидая ответа, молодой присел на корточки у буфета, открыл дверцы и стал шарить рукой по полкам. Его устремленный в одну точку взгляд не видел предметов, которых касались пальцы, и он вздрогнул словно от укуса, прикоснувшись к чему-то металлическому. Синий, с никелированной крышкой кофейник глядел на него глазенками белых незатейливых цветочков, настойчиво о чем-то напоминая.
Да, кофе… Им обоим надо согреться… А потом лечь, как можно скорее лечь…
Выпрямившись, он направился к двери. Из кухни донесся звон, потом журчание тугой струи воды. Теперь только этот единственный звук нарушал мертвую тишину дома, и седой человек в кресле еще крепче вцепился в его подлокотники. Ему показалось, что звук этот нарастает, словно шум большой реки, которая мчится вдоль берегов, в неудержимом и вечном движении.
– Тебе плохо? – спросил молодой, вернувшись в комнату. – Приляг хоть здесь, на тахту, укройся пледом. Сейчас я принесу кофе.
– Нет, нет, потом… Лучше дай покурить. У тебя что-нибудь осталось?
– Вот. – Из протянутой мятой пачки посыпались крошки табака, сломанные сигареты.
Оба с сожалением глядели на измятую пачку, будто нарочно цеплялись за нее взглядом, чтобы отогнать другое видение, от которого все время старались избавиться.
– Поищи в… спальне… в тумбочке… – наконец произнес старик, запинаясь после каждого слова.
Молодой прикусил губу, которая жалобно, по-детски задрожала, но послушно пошел в спальню.
На этот раз он долго не возвращался, казалось, совсем ушел из дому. Лицо седого болезненно исказилось, и он всем корпусом подался вперед.
Шаги, которые он услышал, не изменили его застывшей позы. Они были слишком быстрыми, чтобы сразу уложиться в сознании, опередить появление молодого на пороге.
Впрочем, не это внезапное появление, а выражение до мельчайших подробностей знакомого лица подействовало на старика, как электрический ток.
– Прости! Я не должен был посылать тебя туда, – сказал он быстро. – В конце концов можно было…
– Все равно придется через это пройти. Сегодня или завтра. Бери, закуривай!
Кончики двух сигарет одновременно покраснели, и по комнате поплыли две ниточки голубоватого дыма, пересекая одна другую, они сливались в длинную прядь и таяли возле раскрытой форточки. Старший глубоко затягивался, как человек, испытывающий жажду, припав к стакану воды, выпивает его, не отрывая губ, глоток за глотком. Молодой затянулся два-три раза и прикусил край сигареты. Она теперь тихонько тлела, обрастая на конце столбиком пепла. Заметив это, юноша бросил сигарету в пепельницу и быстро поднялся.
– Вот, – сказал он, вынимая из кармана какой-то пакет.
Большой конверт, выпуклый с обеих сторон, упал на стол заклеенной стороной кверху.
– Что это?
– Был в тумбочке на сигаретах.
Толстый конверт все еще лежал на столе. Две пары глаз устремились к нему, словно стараясь сквозь толщу бумаги прочесть то, что находилось в середине.
– Ну, что же, открывай, – хрипло произнес старший.
Осторожно, будто делая сложную операцию, молодой булавкой, вынутой из отворота пиджака, надорвал конверт.
– Тут только…
Оранжевый круг выскользнул на скатерть, кончик туго свернутой ленты отскочил в сторону и теперь пружинисто вздрагивал на краю стола.
– Не понимаю… Лента? Почему лента?
Воцарилось молчание.
– Может..?
– Да.
Побледнев, они поглядели друг другу в глаза, взглядом договариваясь не высказывать догадку вслух.
Бобины магнитофона плавно закружились, и между ними побежала узенькая оранжевая ленточка. Двое мужчин не отрывали от нее взгляда, словно надеясь на зримое появление кого-то третьего. Но ленточка бежала, равнодушно-безмолвная, похожая на вспышку пламени в своем непрерывном мерцании.
– Ты не ошибся? Звук включен?
И как бы в подтверждение этих слов неожиданно зазвучал еще один голос, четко и звонко, словно в разговор вмешался кто-то третий.
Они ждали этого с лихорадочным нетерпением, хотели как можно скорее узнать, о чем им расскажет запись. Они думали только о содержании записи, а не о той живой речи, в которую это содержание воплотится. Но теперь, когда прозвучали первые обращенные к ним слова, в сознание вошло лишь их звучание, не содержание, а лишь голос, со всеми внезапными изменениями приглушенного тембра, с легкими придыханиями в конце фраз, предшествующих паузам.
Он звучал в комнате, словно далекое эхо, словно отголосок прошлого, каким-то чудом прорвавшийся сквозь проложенный смертью черный кордон.
– Прости, но я… пусти сначала! – Седоголовый так сжал губы, что они совсем побелели.
Движение руки, и ленточка тихо шелестя, завертелась в обратном направлении.
Перед тем, как снова включить звук, рука молодого замерла в воздухе.
– Ну же, ну!
Пальцы вытянулись и легли на клавиатуру настройки, потом безымянный нажал на белую пластмассовую клавишу.
Диски снова плавно закружились. Теперь в немом шорохе ленточки, предшествовавшем рождению слов, обоим слышалось не молчание, а сдержанный вздох, который вот-вот прорвется пафосом каких-то особенно значимых слов. Но первая фраза прозвучала по-будничному просто, в ее интонации все было знакомо до мелочей.
«Я представляю, как вы вернетесь домой, мои родные, вконец измученные, ошеломленные тем, что случилось, и мне захотелось хотя бы таким способом побыть с вами рядом, договорить хоть несколько минут. Это тот разговор, который так и не состоялся между нами, потому что вы всегда избегали его, руководствуясь неписаными законами фальшивого гуманизма, по которым даже приговоренного к смерти человека надо до последней минуты уговаривать и утешать. Знали бы вы, насколько это в действительности не гуманно. Мне кажется, что стены нашей квартиры, словно эхо, повторяют все те слова, которые я громко говорила, когда оставалась дома одна. Но хватит об этом. Ленточка бежит безостановочно, а у меня такое впечатление, будто я вся должна уместиться в ее узком ложе, в тех нескольких десятках метрах, которые отсчитывают короткое время моей с вами беседы. Как я жалею теперь, что не писала вам раньше, когда моя правая рука еще так страшно не болела, и я могла держать карандаш! Бег ленточки парализует мой разум, все заранее приготовленные, налитые, словно отборное зерно, слова рассыпаются, смешиваются с половой. Сейчас я должна остановить магнитофон, немного полежать спокойно и еще раз взвесить то, что должна вам доверить, то, в чем хочу вас переубедить… Ну вот, я немного собралась с мыслями. Вас, наверно, удивило слово „доверить“? Ведь вам обоим, тебе, мой любимый Себастьян, и тебе, мой маленький Эрнст, – не обижайся на меня, для матери даже взрослые дети всегда остаются маленькими, – так вот вам обоим казалось, что вы знаете меня, как знает человек пять пальцев на собственной руке. До определенного времени так и было. Но внутренний мир человека, к счастью, подчинен тем же законам, что и все живое. Без непрерывного обмена веществ живой организм погибает. Каждый миг он должен что-то отдавать и что-то вбирать в себя. Для меня, Себастьян, запертой в рамках семьи, такой питательной средой была твоя подпольная деятельность. Я волновалась о тебе, о хрупком нашем счастье, которое могло рухнуть всякий раз, как ты выходил из дома, тревожилась о каждом порученном тебе деле, гордилась тобой, одновременно проклиная черты характера, толкнувшие тебя на этот опасный путь. И я стремилась, изо всех сил стремилась хотя бы дома обеспечить тебе минимальный покой, позаботиться о тех мелочах, которые помогли бы тебе отдохнуть. Я взяла на себя все будничные хлопоты, скрывала смятение, охватывающее меня, старалась сохранить здоровый юмор, так не совместимый со всем, что творилось вокруг. Нет, нет, не думай, что я хвастаюсь этим. Я давала значительно меньше, чем брала от тебя.
Когда после нескольких провалов товарищей, изверившись в эффективности того, что делал, ты отошел от подполья, я даже обрадовалась: наконец-то постоянный признак неуверенности и страха исчез из моей жизни! Ты помнишь эти дни? Они были наполнены не событиями, а пустотой, которая вдруг заполнила мою и твою души. Мы скрывали это друг от друга, но пустота зияла как вечно свободное место близкого человека, который навсегда ушел от нас. Нам представилась возможность переехать в эту квартиру, к моим, тогда еще живым, старикам. Мы ухватились за это, как за спасательный круг. Хлопоты, связанные с переездом, новая работа, которую ты нашел при небольшой больнице, – это были перемены, заполнившие наши дни новизной. Почему же снова в моей душе стал нарастать страх?
Теперь я обращаюсь к тебе, Эрнст! Помнишь, ты как-то прибежал из кино, куда вы ходили всем классом, и взволнованно стал рассказывать мне о кадрах из только что виденной кинохроники. Ты вытянулся по-военному, как те солдаты, что маршировали перед тобой на экране, и в глазах твоих светилось подлинное преклонение перед несгибаемой мощью солдатских колонн, которые шли под знаменами рейха. Я тогда чуть не ударила тебя по лицу – ты испуганно отшатнулся и, обиженный, отошел от меня. А я осталась стоять, не в силах шагнуть, и у ног моих разверзлась пропасть…
Не упрекай своих друзей, Себастьян, они не сразу приняли меня в свой круг и не сразу дали первое поручение. Вот то, что я скрывала от вас и что теперь доверяю вам. Да, четыре долгих года я жила двойной жизнью. Говорю „четыре“, потому что и два послевоенных, пока меня не свалила болезнь, я работала в рядах коммунистической партии.
Пряча в своей хозяйственной сумке листовки или шрифт, появляясь на явке, – а она всякий раз могла провалиться, – я знала, что подвергаю смертельной опасности и вас, мои самые дорогие и родные! Но, как ни парадоксально это звучит, я делала это ради вас. Для тебя, Себастьян, чтобы ты снова поверил в силу сопротивления, в неизбежность поражения такого чудовища, как фашизм, ибо человек по самой своей природе жаждет жить, а фашизм – это смерть всего живого, глумление над всем, чего достигли люди на протяжении долгих веков борьбы во имя утверждения разума и правды.
Я вступила на этот путь для тебя, Эрнст, прежде всего защищая тебя. И не только от физической смерти, как мать, стремящаяся сберечь тебе жизнь, а и от растления духовного, которое могло убить в тебе человека. Этого я боялась больше всего, ибо беззащитную детскую душу легко прельстить лицемерным блеском и пышными лживыми словами о величии и каком-то особом призвании немецкой нации.
А теперь я снова вынуждена остановить магнитофон. Нет, я не устала, я очень взволнована, так взволнована, что даже боль притаилась за порогом моего восприятия. Даже она не мешает мне думать. А мне хочется обдумать каждое слово, чтобы оно стало весомым, вместило в себя как можно больше, омылось живой кровью моего сердца.
…Вот и близится к концу мой разговор с вами. То, что я хочу сказать вам, для меня очень значительно, но я так и не нашла равнозначных слов. Они испепеляются, как только возникают у меня в мозгу, и лишь одно говорит, словно неопалимая купина: МАТЕРИНСТВО. Теперь я вижу – в него укладывается все.
Я вся перед вами, родные мои! Молоденькая девушка, мечтая о счастье, доверчиво вложила свою руку в твою, Себастьян. Молодая мать, ошеломленная чудом возникновения новой жизни, лелеять и беречь которую так безмерно сладко и так безмерно страшно. Пожилая женщина, для которой понятие материнства постепенно расширялось и наполнялось новым смыслом. Все ступеньки моей жизни были устремлены к этой вершине. Именно отсюда я увидела мир таким, каков он, есть, именно здесь я поняла, как много вбирает в себя слово „мать“, поняла, что, защищая добро от зла, мы, матери, тем самым утверждаем саму идею бытия. Встаньте на минутку рядом со мной, внимательно приглядитесь к тому, что делается вокруг нас. Ведь фашизм снова поднимает голову! А не кажется ли тебе, Себастьян, что в этом есть и частичка твоей личной вины? Ты же знаешь, что будет, если не преградить ему путь!
Мой маленький Эрнст, ты химик и любишь четкие формулы. Загляни же в ту реторту, где недобитые гитлеровцы вместе с генералами Клеями и ему подобными варят ядовитое зелье, каждый глоток которого может стать смертельным для нашего народа, для всех людей всего земного шара. Произведи анализ заложенных в эту реторту веществ, напиши формулу, и ты увидишь – это так!
Лишь задуматься над этим я прошу вас, ибо знаю, честности и смелости у вас достаточно.
Как странно, я собиралась сказать вам множество нежных слов, – они переполняют мое сердце! – а говорю я о вещах, на первый взгляд странных в минуту расставанья. И все-таки моими устами говорит сама любовь, сама нежность, само желание в последний раз по-матерински защитить вас.
Через полчаса придет медсестра и сделает мне очередной укол морфия. Боль совсем отступит. И на четверть часа придет блаженное полузабытье, где виденья станут перемежаться с явью. И мне будет казаться, что человек не может исчезнуть окончательно. Его дыхание, тепло его тела, биотоки мозга, электрические импульсы, рожденные в мышцах, попадая во внешний мир, включатся в общую мировую энергию. Может, и часть меня долетит до вас с ветром, с поцелуем луча, с запахом травы, которая вырастет на маленьком могильном холмике. А я буду думать и о том, что человек остается живым до тех пор, пока память о нем сохраняется хотя бы в одном сердце. А у меня будет два таких убежища.
Вот и все, мои любимые! Впрочем, нет, еще одно: сотрите с ленты все, сказанное мною. Сегодня вы еще оглушены горем, не свыклись с мыслью, что я ушла от вас, и потому можете меня слушать. Второй раз это причинит вам боль, а не радость. Сделай это сейчас же, Эрнст, мой мальчик!
Теперь уже окончательно все. Ленточка вот-вот кончится, а мне хочется еще раз сказать вам, как я люблю вас. Целую вас обоих всем своим сердцем. Ваша мама…»
Воцарилось молчание, хотя бобины еще вертелись. Сейчас на одной из них, той, где еще осталось несколько витков, лента оборвется. Обоим это почему-то показалось непоправимой катастрофой.
– Останови! – громко крикнул отец. В его глазах мелькнул вопрос, робкая просьба.
Сын, возражая, покачал головой.
– Она нас попросила… – Палец лег на одну клавишу и сразу же на другую.
Теперь лента перематывалась в обратном направлении, невидимая резинка стирала с ее поверхности фразу за фразой. Магнитофон казался живым существом, хищным зверем, жадно поглощающим слова.
Старик обмяк в своем кресле. Спина его сгорбилась, руки, соскользнув с подлокотников, бессильно упали на колени.
– Она делала это не ради нас, а за нас, – сказал он, нажимая на слова, – да, за нас…
Сын ничего не ответил. Он убрал магнитофон, оглянулся, словно хотел что-то найти, и быстро вышел в кухню.
Вода в кофейнике на три четверти выкипела. Эрнст влил в него еще кружку, опять поставил на огонь и бездумно наблюдал, как поднимается легкий пар, как он постепенно густеет, потом становится прозрачным, поднимается высоко вверх и тает. На поверхности воды появились пузырьки. Он видел только эту воду и только эти пузырьки. Потом, опомнившись, насыпал в электромельницу темно-коричневые блестящие зернышки. Мельница зажужжала.
Эрнст заварил кофе и дал ему вскипеть. Острый аромат ударил в ноздри, заполнил всю кухню. Это был запах, знакомый с детства. Домашний запах. Тугой клубок подкатился к горлу. Юноша прижался лбом к холодному стеклу, с усилием глотнул, рукой провел по горлу. Спазм не проходил. Этот запах, домашний запах…
Поздно ночью Эрнст проснулся, словно от толчка. Отец спал или притворялся, что спит. Эрнст на цыпочках подошел к двери соседней комнаты, прислушался. Затрудненное, нервное дыхание. Может, надо войти, присесть на край кровати, что-то сказать? Он чувствовал, что не сможет этого сделать, но все же долго стоял, колеблясь. Потом понял – его подняло с кровати другое. Тихонько прошел в столовую, не зажигая света, вынул из магнитофона бобину.
Она ничего уже не могла рассказать, эта оранжевая лента! Но он заботливо уложил ее в футляр, подошел к книжной полке. Пальцы быстро пробежали по знакомым корешкам. Каждая книжка откликнулась ему своим голосом: одна ироническим, вторая рассудительно-холодным, третья страстным, четвертая веселым, исполненным радости. Он раздвинул книги и поставил между ними футляр с бобиной. Тоненькое его ребрышко теперь тоже напоминало корешок книги. Молчаливой и речистой.
Встреча у почтамта
После смерти жены Себастьян Ленау допоздна засиживался в аптеке. Давно уже покоились в футляре крохотные весы и за дверцами шкафа тускло поблескивали фарфоровые ступки и пестики, стеклянные мензурки и пробирки, а Себастьян все еще что-то записывал, подсчитывал, иногда просто механически листал рецептные бланки, старые счета. Мария сочувствовала старику, понимала, как не хочется ему возвращаться в опустевшую квартиру, но присутствие кого-либо по вечерам в помещении аптеки ее не устраивало. Ведь ключ от верхней комнаты был не только у нее.
Правда, Фред чаще всего предупреждал о своем приходе по телефону, говорил, что достал билеты в кино на такой-то сеанс. Если речь шла о двух билетах, Мария знала – Фреду надо встретиться с ней, если звучала цифра «три» – она, не раздумывая над тем, с кем должен встретиться Шульц, задолго до назначенного времени покидала аптеку и ночевала у себя дома, в квартире, которая официально считалась ее жильем. Эту квартиру, так же как аптеку, устроил для нее Гельмут Зеллер, к которому ее направили немецкие товарищи, коротко объяснив: «На Гельмута можете положиться во всем».
Что это так, Мария поняла сразу, как только с ним познакомилась. За его спокойствием чувствовался темперамент привыкшего к самодисциплине борца, умеющего трезво оценить обстановку и идти к поставленной цели с непреклонной последовательностью человека, уверенного в своей правоте.
Зеллер удивительно быстро уладил все дела Марии, оставаясь при этом «за кулисами».
– Не надо, чтобы вас видели со мной, – объяснил он. – Мы, антифашисты, все меньше и меньше устраиваем тех, кто стоит у власти в западной зоне. Дело идет к тому, что нас вообще могут объявить вне закона. А вам надлежит всеми способами сохранять репутацию добропорядочной бюргерши.
Поэтому и в дальнейшем они встречались тайно и только в случаях крайней необходимости. Мария старалась как можно меньше беспокоить Зеллера или кого-либо из его друзей. Ей достаточно было знать, что она не одинока, что где-то рядом идет непрерывная борьба за мирную и подлинно демократическую Германию. Впрочем, искусственная изоляция от тех, кто вел эту борьбу, все больше угнетала молодую женщину. Просыпаясь по утрам, она с отвращением думала о начале нового дня, такого же, как и все предыдущие, в осточертевшем окружении постоянных клиентов, более или менее сдержанных, но всегда, однако, уверенных в своем исключительном праве управлять жизнью побежденных, извлекая из этого наибольшую выгоду.
Вчера вечером в аптеку вошла совсем старая женщина и, протягивая Марии рецепт, тихо сказала:
– Наш общий друг просит вас завтра в десять утра прийти в мастерскую, где вы виделись в последний раз.
Мария на миг опустила ресницы, словно ответила глазами «да», и громко заметила:
– Надеюсь, эти лекарства вам помогут. Но принимать их надо регулярно, а не тогда, когда вы чувствуете приближение приступа.
Женщина скорбно покачала головой:
– Мне тридцать пять, а вы сами видите… – не закончив фразы, она направилась к выходу, сгорбленная, неуверенно шагая тонкими, как две жердочки, ногами.
Марию потом долго преследовало видение – иссушенная болезнью фигура, вызывающая воспоминания о собственной жизни.
На следующее утро Мария поднялась раньше обычного и до девяти успела все так организовать, чтобы ее отсутствие не отразилось на работе.
– Герр Себастьян, я полагаюсь на вас, а также на тебя, Рут. Если мне будут звонить, скажите, что я вернусь через час-два. У Клары есть все необходимое, если чего-нибудь не хватит, ключи у герра Себастьяна.
– Наверно, не хватит кофе. Представляю, сколько его выдует мистер Брукс, ожидая вас, – блеснула зубами Рут.
– Вот ему можно сказать, что я уехала по делам на целый день.
Имя, упомянутое Рут, испортило настроение. Брукс преследовал Марию, был привычно внимателен, а ее молчаливый отпор принимал как трепыханье дикой птицы, которая рано или поздно попадет в умело и замаскированно расставленные сети. «Ты же знаешь, чем все это кончится!» – говорили его глаза, даже когда он обращался к преследуемой женщине с самыми вежливыми словами.
Мария поморщилась, будто и сейчас почувствовала этот взгляд, липкий, словно паутина, которая ранней осенью оседает на лице в лесной чаще.
Порыв ветра ударил в грудь, смыл и это воспоминание и саму мысль о Бруксе. Мария любила ходить, сопротивляясь пружинистым потокам ветра, как умелый пловец, преодолевая течение, рассекает волны сильными взмахами рук. До встречи с Зеллером оставался почти час, можно пойти кружным путем, чтобы не замедлять шаг, не сбиться с взятого ритма. После болезни Мария мало бывала на воздухе и теперь упивалась им, впитывая всеми порами тела, а ветер не только бил в лицо, путался в ногах, но и немилосердно рвал шарф, распахивал пальто, врывался в рукава, проникал за воротник, минуя все застежки. Впервые за много времени Мария ощущала просто радость бытия, не отягощенного воспоминаниями, непрочностью своего положения, ежедневными тревогами. «Словно бы приняла бодрящий душ Шарко», – улыбаясь, подумала она и сразу замедлила шаг. Мастерская была рядом. Теперь женщина шла медленно, незаметно оглядывая улицу впереди себя, потом повернулась спиной к ветру, делая вид, что плотнее повязывает шарф. Ничего подозрительного! Если кто-то следил за мастерской, это сразу бросилось бы в глаза. Собственно говоря, лично ей ничто не угрожает. Несколько дней назад она отдала в ремонт хозяйственную сумку, теперь идет забирать ее. Совершенно естественная вещь. И если бы не Зеллер… Она знала, конспиратор он более умелый, чем она, но тревога о нем никогда не покидала Марию: две пары глаз всегда лучше, чем одна.
Вывеска над дверью гласила: «Петер Мейер. Ремонт зонтов, сумок, дорожных вещей, кожаной галантереи». Сбоку у входа разместилась небольшая витрина с полураскрытым чемоданом, поясами, сумками различных фасонов и размеров, над которыми свешивались застежки-молнии. Одну сторону витрины почти целиком занимал большой кофр. Впрочем, сквозь просветы, среди этой массы вещей было видно, что Мейер в мастерской не один. Пожилая тучная женщина все время открывала и закрывала большой черный зонт, в чем-то убеждая мастера. Услышав звонок, прозвеневший над дверью, Мейер растерянно уставился на новую посетительницу. И вдруг лицо его просветлело. Поспешно согласившись со всеми требованиями придирчивой заказчицы, он быстро выпроводил ее.
Часы показывали без пяти десять, но Мейер не спешил провести Марию в комнату за мастерской.
– Гельмут просил прощенья. Он освободится только через час. Какие-то неотложные дела.
– Действительно неотложные, или?..
– Нет, нет, не волнуйтесь, ничего опасного. Будь так, он бы поостерегся и перенес встречу на какой-либо другой день.
– Конечно, – согласилась Мария, силясь скрыть свое беспокойство.
– Может, подождете там? – Мейер кивнул на прилавок, там за портьерой была дверь в его скромное жилище.
– Я лучше немного пройдусь.
Мария как бы ощупью бредет вдоль улицы, и ветер теперь не радует, а раздражает ее. Может, зайти на почтамт? Она абонирует там ящик, об этом просил Фред – он упорно ждет письма, кто-то должен написать ему на ее имя. Теперь, когда возникла цель, ожидание не казалось столь уж тягостным. Конечно, с Зеллером ничего не могло произойти…
На почтамте, как всегда, многолюдно. Мария покупает несколько конвертов и марок, незаметно оглядывается. Никто не обращает на нее внимания, те взгляды, которыми ее окидывают некоторые мужчины, можно не принимать во внимание, для молодой красивой женщины это обычная вещь.
Мария проходит в другой зал, где вдоль всех четырех стен развешены пронумерованные почтовые ящики. В этом помещении почти пусто, всего человек десять. Забрав свою корреспонденцию, они спешат уйти. В большинстве это дельцы, которые по роду своих занятий часто бывают в разъездах и желают, чтобы их служебные и интимные тайны не попадали в руки людей, которым эту переписку видеть не положено. Преодолевая смущение, Мария открывает свой ящик. В нем несколько рекламных проспектов разных фирм. Молодая женщина вытаскивает их все вместе, не рассматривая, кладет в свою сумочку и только теперь замечает – среди них лежит конверт. Горькое чувство сжимает ей сердце, она знает: ей лично некому писать. И все же Мария рада. За Фреда. Он каждый раз спрашивает, давно ли она была на почтамте. Наверно, весточка, которую он так нетерпеливо ждет, для него очень много значит.
Сейчас только половина одиннадцатого. В ее распоряжении еще тридцать минут, не надо торопиться. Тем более что Зеллер может опоздать. Час – не такой уж большой срок, чтобы успеть справиться со срочным делом. Она сама только и успела, что зайти на почту. Фреду сегодня явно посчастливилось, не видать бы ему письма, если бы… Мария вдруг останавливается, пораженная мыслью, что она не имеет права идти в мастерскую Мейера с письмом, содержание которого ей не известно. Кто знает, что в нем?
Бросить обратно в ящик? Позвонить Фреду, чтоб тот сразу же забрал его? Конечно, лучше всего положить письмо туда, откуда она его только что вынула. Мария возвращается обратно, но на душе у нее неспокойно. А что если кто-нибудь видел, как она копалась у ящичка? Медленно, очень медленно ноги пересекают зал, сердце в груди колотится все сильнее и сильнее. Что с ней происходит? Может, это интуиция подсказывает ей, что где-то притаилась опасность? Вон тот подозрительный господин, почему он так глядит на нее? Она, кажется, где-то видела его, не тогда ли, когда отпирала свой ящичек?
Какое унизительное чувство – страх, который вдруг неведомо почему обрушивается на нее…
Мария останавливается и решительно направляется к ближайшему свободному автомату, плотно прикрывает дверцу кабины. Миг колебания, и она набирает знакомый номер.
– Вы забыли у меня свое письмо, Фред, – говорит она первое, что приходит в голову. – Как это неосторожно! Вы знаете моего мужа и его привычку копаться в моей сумочке… Ах, не стану я все объяснять по телефону! Откуда звоню? С почтамта. Если вы немедленно сядете в машину, мы встретимся где-то на полдороге к моему дому. Только поторопитесь: ровно в одиннадцать я должна подать мужу завтрак… Хорошо, договорились, жду…
«Фу, кажется, он понял. По крайней мере то, что речь идет о письме к нему и о какой-то опасности для меня».
Теперь ветер бьет в спину, он словно подгоняет Марию, но она идет медленно, внимательно вглядываясь во все встречные машины. Вот одна свернула в переулок. Если это Фред, то он сейчас пересечет переход. Сбоку проплывают витрины большого универмага, здесь толчется много народу, в такой толкотне можно и разминуться. Мария ускоряет шаг, чтобы побыстрее вырваться из людского потока. Она шагает столь решительно, что ей невольно уступают дорогу. Вот позади уже остался универмаг со всеми его соблазнами. Впереди снова полупустой тротуар. Но знакомой фигуры не видно. Вообще она поступила опрометчиво, позвонив Фреду. Надо было побороть страх и бросить письмо в ящичек. Телефонные разговоры в бюро могут прослушиваться, где гарантия, что за Фредом теперь не следят? Бог знает что… Шульц более опытен, и если согласился встретиться с ней, то учел все. Одно он не принял во внимание, какая Мария паникерша, какая никчемная из нее помощница. «Чем умирать от страха, лучше подумай, как незаметно передать письмо Фреду».
Открыв сумочку, Мария ищет носовой платок, подтягивает повыше всю полученную корреспонденцию. Теперь неплотно закрыть замок, и если сумка, например, упадет… если сделать это естественно…
Навстречу идет Фред. Его взгляд равнодушно останавливается то на одном, то на другом прохожем. Вот он скользнул и по лицу Марии, но ничто в выражении глаз не изменилось, ничто не говорит о том, что он узнал ее. Шагов через десять они встретятся, и тогда… Молодая женщина делает вид, что в правый глаз ей попала пылинка, трет его платочком, хочет оттянуть нижнее веко и, чтобы удобнее было, зажимает сумку под мышкой. Мария стоит, Фред приближается. Шаг, еще один, сейчас он будет рядом. Мария немного отводит локоть, и сумочка выскальзывает, падает, застежка раскрывается, звенит, раскатываясь по тротуару, мелочь, об асфальт стукнулась пудреница, на нее падают рекламы и конверт.
– Боже, какая я неуклюжая! – вскрикнула Мария и наклонилась, чтобы подобрать вещи.
– Разрешите помочь вам, фрау! Вдвоем мы справимся быстрее.
Мягкие поля серой шляпы скрывают глаза Фреда, Мария видит только его губы.
– Что за паника? – тихо срывается с них.
– У меня встреча с Гельмутом, – так же тихо отвечает Мария, – я должна прийти абсолютно чистой, а это письмо…
– Понимаю…
Мужчина и молодая женщина поднимаются.
– Проверьте, фрау, все ли вы собрали.
Мария делает вид, что проверяет содержимое сумочки.
Похлопывая по ладони согнутым вдвое конвертом, мужчина в серой шляпе сочувственно следит за нею, потом небрежно кладет письмо себе в карман и пальцами освободившейся руки прикасается к шляпе.
– Я рад, что смог помочь вам, – говорит он, вежливо кланяясь.
– О, с вашей стороны это было очень любезно!
Обычная уличная сценка. Вряд ли она привлекла чье-нибудь внимание. Сейчас они разойдутся – эти двое незнакомых, случайно встретившиеся на тротуаре. Но молодая женщина ведет себя странно. Круто повернувшись, она плотно прижимается к плечу мужчины в серой шляпе, просовывает руку ему под локоть:
– Закрой меня! – бросает она быстро и тащит его к ближайшей витрине. Мария прижимается к ней вплотную, спиной к проезжей части улицы. – Стань так, чтобы меня не увидели из машины, которая приближается.
Григорий оглядывается. В глаза сразу бросается обычный армейский «виллис». Он не мчится, даже не едет, а едва движется. Его пассажиры, майор и два капитана, о чем-то спорят. Откуда они тут взялись? Члены комиссии по репатриации, представители советской военной администрации, просто офицеры, которые знакомятся с Берлином? Григорий кладет руку на плечо Марии, близко наклоняется к ней и спрашивает:
– «Виллис»?
– Да, – отвечает она почти неслышно.
На Григории широкое модное пальто с высокими накладными плечами. Из-за его спины женщину почти не видно. Что-то шепча на ухо своей спутнице, мужчина в серой шляпе смеется, потом громко восклицает:
– Ты слишком часто останавливаешься у витрин, моя милая! К великому сожалению, я забыл свой кошелек дома… – Он знает, его восклицание не долетит до «виллиса», просто слова, которые он произносит, помогают ему держаться естественно-свободно и отвлекают внимание Марии от того, что происходит у него за спиной. Григорий оглядывается. Краем глаза он видит, как машина все еще медленно проезжает мимо витрины, возле которой стоят они с Марией. Майор что-то приказывает капитану за рулем, и тот увеличивает скорость. Капитан на заднем сиденье всем туловищем поворачивается назад, в глазах его волнение и растерянность, он как бы хочет зацепиться взглядом за две неподвижные фигуры, которые стоят, плотно прильнув друг к другу.
– Машина проехала, – говорит Григорий, – может, ты объяснишь мне, что произошло?
Мария поворачивает к нему лицо. Оно очень побледнело, все черты на нем словно окаменели.
– Потом, – отвечает она устало. – Я и так опаздываю. Скоро одиннадцать. Прости!
– А все же…
– Я не хотела, чтобы меня узнал один человек. Только и всего, можешь не волноваться.
Мария уходит так быстро, что Григорий не успевает возразить. С минуту он стоит, глядя ей вслед. Непонятно, совсем непонятно… Почему она так испугалась именно советского офицера?
А Мария даже не думает о том, какое беспокойство заронила она в сердце Фреда. Она сейчас сидит напротив Зеллера, рассказывает ему о своих наблюдениях, иногда просто пересказывает обрывки непонятных ей разговоров своих постоянных клиентов, которые почему-либо кажутся ей подозрительными. Зеллер внимательно слушает, иногда переспрашивает, вновь и вновь что-то взвешивает и сопоставляет мысленно. На Марию его внимание к каждому произнесенному ею слову действует успокаивающе. А это вносит ясность и в ее собственные мысли: в памяти всплывает многое, что она могла бы и пропустить, но теперь отдельные факты сами систематизируются, небрежно брошенное кем-то слово становится ключом к услышанному еще вчера или позавчера, как это бывает с лакмусовой бумажкой, когда на нее попадает капелька реактива.
– Так, очень хорошо, – говорит Гельмут, – есть о чем подумать…
Зеллер и впрямь задумывается и лицо его мрачнеет. Две глубокие морщинки, пересекающие лоб, становятся глубже. Мария смущена, ей кажется, что она в чем-то провинилась, не оправдала возложенных на нее надежд.
– Я наговорила вам слишком много, – печально произносит она, – а пользы от этого, как видно, никакой.
– Что вы, милая фрау! – горячо возражает Зеллер. – Если бы вы не предупредили, эти мерзавцы сорвали бы съезд бывших узников концлагерей. Посмотрели бы вы, какую стаю дебоширов они на нас напустили! Но мы вовремя успели мобилизовать свою молодежь. Без драки, правда, не обошлось, но наши парни выдали им хорошенькую нахлобучку с авансом, как говорится, на будущее.
– Правда? – В глазах молодой женщины засветилась радость. Впервые она чувствует себя не отрезанным ломтем, а частью большого целого.
– Я понимаю вас… Человек должен знать об эффективности своих усилий, а мы встречаемся так редко и столько за это время набирается разного, что просто не хватает считанных минут для более обстоятельного разговора. Я виноват перед вами, да, виноват… А впрочем, и сегодня я должен спешить. Последнее время моя работа усложнилась. Не сердитесь, но…
– Мало вам хлопот без меня! Я немного перенервничала из-за неожиданной задержки, вот и все.
– Тогда вернемся к делам. Надеюсь скоро избавить вас от Брукса, но пока прошу чаще бывать в его обществе. Надо выяснить, с кем он поддерживает деловые связи. Независимо от того, кто это: его ли соотечественники или наши так называемые деляги. В свое время имя Брукса промелькнуло на газетных полосах среди тех, кого обвиняли в махинациях с углем. К тому же дело вообще замяли. А первую скрипку во всем играл именно он. У нас есть неопровержимые доказательства, надо лишь кое-что уточнить, чтобы не оставить ему ни единой лазейки. Тогда Бруксу не выйти сухим из воды. Да и обстановка сейчас этому способствует: спекуляции на черном рынке приобрели скандальные размеры, и губернатор зоны генерал Клей вынужден спасать престиж американской оккупационной армии, а также свой собственный. Прежде всего свой собственный, ведь и у него рыльце в пушку.
– Еще как! Запретив ввозить в зону сигареты, он вдруг почувствовал бурный прилив чувств к своему папочке, табачному магнату, и подозрительно часто стал посылать свой самолет за океан. Бедняжке Мэри Ройс так и не суждено было стать «королевой дыма», пришлось уступить это высокое звание и прибыли миссис Клей. Вы бы только послушали, сколько разговоров шло вокруг ловкой генеральши!
– Вот-вот, именно поэтому и придется привлечь внимание Клея к другому, к аферам Брукса и всей его стаи.
– Итак, Брукс… Что ж, постараюсь, – без энтузиазма согласилась Мария.
– Я знаю, просьба моя не из очень приятных, к тому же отнимет у вас много времени… Я давно думаю, что вам необходим надежный помощник. Что вы думаете о Себастьяне Ленау?
– Только хорошее. Но после смерти жены он очень изменился, даже иногда мешает мне, допоздна засиживается в аптеке. Просто не знаю, что с ним делать.
– Я попрошу Эрнста сегодня зайти за отцом, и вечером забегу к ним. Я знаю Себастьяна давно, он глубоко порядочный и честный человек, хотя на какое-то время и утратил веру в наше дело. Думаю, теперь это будет для него лучшим лекарством. Вы не возражаете против кандидатуры старика?
– Наоборот.
– А что вы думаете о девушке?
– Рут милая девушка, держится вежливо, больше о ней ничего не знаю. А вот Клара меня беспокоит. Связалась с одним очень неприятным типом, и с тех пор ее словно подменили.
– За Кларой проследят. Возможно, будет лучше от нее избавиться. Я подумаю, как это сделать поосторожнее. Что же касается Рут, может быть, она нам пригодится. Конечно, когда мы проверим, чем она дышит.
– Как я узнаю о результатах вашего разговора с Себастьяном?
– Он передаст вам синюю вязаную перчатку и спросит, не ваша ли, скажет, что нашел на полу. Ну, а теперь… – Зеллер поднялся, подошел к двери в мастерскую, прислушался. Мейер тихо насвистывал, значит, в помещении он один. Можно выходить.
Возвращаясь домой, Мария старалась думать лишь о своей беседе с Зеллером, о Себастьяне, Кларе и Рут, о необходимости поддерживать дружеские отношения с Бруксом, но все равно все это заслонял лишь один зримый образ: лицо капитана, сидевшего в «виллисе». Оно наплывало на нее со всех сторон, в различных ракурсах, всякий раз меняясь, словно то пробегала, то останавливалась перед ее глазами старая кинопленка, которая навечно зафиксировала знакомые черты в их живом, непрерывном движении.
Мария поднялась к себе черным ходом, швырнула на стул пальто и шарф, горячим лбом прижалась к стеклу. Прозрачная, холодная поверхность его сразу затуманилась, потом на ней возникли маленькие капельки, соединяясь, они скатывались вниз, оставляя после себя светлые дорожки. Казалось, стекло плакало. Молодая женщина отшатнулась и раздраженно провела ладонью по вспотевшему стеклу, словно это оно хотело спровоцировать ее на боль и слезы.
– Нет, этому надо положить конец! – подумала она вслух и с преувеличенным старанием стала водить щеткой по волосам.
Вниз Мария спустилась, как всегда, спокойная и приветливая.
– Вам кто-то звонил, фрау, и просил передать, есть два билета на восьмичасовой сеанс, – понизив голос, сказала Рут.
– Ах, да, действительно… Совсем забыла. С утра так закружилась. А что тут у вас? Все в порядке?
Рут поморщилась.
– Приплелся какой-то тип, канючил морфий. Если бы не Петерсон…
– Опять Петерсон?
– Ага.
– Если еще раз заметишь… О, полковник Ройс, а где же ваша очаровательная жена?
Ройс шутя развел руками, но вид у него был измученный. Заказав Рут стакан сока и омлет с беконом, он уселся на свое обычное место и, когда Мария опустилась на стул рядом с ним, печально добавил:
– Думаю просить, чтобы меня отозвали отсюда, милая фрау Кёниг! Только вряд ли это поможет. Мэри пригубила рюмку с отравленным напитком и теперь хочет допить ее до дна. Подумать только! Все началось с кольца, которое я получил почти даром… Да, почти даром, как ни стыдно мне в этом признаваться.
В одну реку нельзя войти дважды
Григорий снял перчатку, сунул руку в карман пальто. Пальцы коснулись конверта, скользнули ниже, машинально сжали ключи от машины и застыли на холодном металле. Перед глазами все еще стояла сцена, свидетелем которой он стал: съежившаяся фигурка Марии, «виллис», бледное лицо капитана… Мария явно испугалась этого человека. Почему? Что он, Гончаренко, вообще знает о ней? Конечно, те, кто подбирал ему помощницу, тщательно проверили все обстоятельства ее жизни, характер и способности. Безусловно. Иначе не может быть. И все-таки… Что если именно способность перевоплощения – а женщины владеют этим искусством лучше мужчин – и повлияла на неточную оценку не только ее преданности, силы и выдержки? И он подумал о том, что, может быть, у нее не хватило сил сопротивляться. Между «хочу» и «могу» не всегда стоит знак равенства. Добрыми намерениями, как говорится, вымощена дорога в ад.
К черту! Снова перед ним проблема доверия и недоверия! Сколько раз она возникала! Руководствуясь внутренним чутьем, он заносил ногу на лестницу, не зная, выдержит ли она его, или вместе с ее обломками он рухнет вниз. В ту пропасть, которую он постоянно ощущает, куда бы ни повернулся: сзади, спереди, сбоку.
Нервы, нервы, капитан, не горячись! Что-что, а в человеческой психологии ты разбираешься отлично. Если бы не это, не стоять бы тебе сейчас здесь в Берлине, давно бы ты сложил голову в одном из застенков гестапо на оккупированных просторах Белоруссии, Франции или Италии. Итак, можно считать, что барон фон Гольдриг действовал не вслепую, надеясь на счастливый случай, а научился находить в каждом из тех, с кем ему приходилось сталкиваться, самое затаенное, на чем можно было сыграть. Иногда он шел на страшный риск, как, например, с Лемке при первом их знакомстве. Но рисковал он тогда только собственной жизнью, вот в чем дело… Теперь же, когда он связан с Домантовичем, Зеллером…
Подъехав к ближайшему кинотеатру, Григорий взял два билета на восьмичасовой сеанс. На всякий случай. Это стало для него обычной предосторожностью перед свиданием в комнате над аптекой. Даже если кто-либо зайдет к Марии, билеты будут лежать на столе, как свидетельство его самых невинных намерений немного развлечь молодую одинокую женщину. Мария сегодня не подозревает о второй встрече с Фредом Шульцем. Итак, надо предупредить. Подождав, пока освободится автомат в вестибюле кинотеатра, Григорий набрал нужный номер и просил передать, что билеты для фрау Кёниг заказаны на восемь часов.
Как обычно в ветреную погоду, разболелась голова. Острая боль пронзила виски, пробежала над бровью до переносицы, потом по скулам, скользнула вниз, притаилась и снова ударила. Проклятый тройничный нерв! После контузии в Сен-Реми он непрерывно напоминает о себе, по временам доводя до исступления. Плотнее надвинув шляпу и подняв воротник, Григорий поспешил в переулок, где оставил машину. Домой, быстрее домой! Выпить спасительный порошок с понтапоном и, наконец, прочитать письмо. Может, все-таки откликнется Лютц…
Неофашисты в послевоенной Европе
Возле машины дрались два подростка. Собственно говоря, слово «драка» не совсем точно характеризовало происходящее: один, крупный и высокий, наседая, изо всех сил тузил другого кулаками; низенький и хрупкий неумело, но отчаянно защищался, то выбрасывая руку вперед, то стараясь закрыть лицо школьным портфелем. Из носа у младшего текла кровь, один глаз заплыл.
– А ну, ребята, сейчас же прекратите! – крикнул Григорий грозно.
Тот, что повыше, оглянулся, наверно, хотел огрызнуться, но, увидев важного господина, поспешно отступил, торопясь, постарался сложить губы в лицемерную улыбку хорошо воспитанного мальчика, который и сам не знает, как попал в такую историю. Но взгляд, еще не остывший от жестокого наслаждения при избиении более слабого, противоречил этой улыбке, глаза глядели, словно сквозь туман опьянения.
– Убирайся! – Виски задергало еще сильнее, боль уже схватывала нижнюю челюсть. Невольно лицо Григория перекосилось, и это подействовало сильнее всего: нападающего словно ветром сдуло. Лишь на миг из-за угла высунулась его голова, пухлые щеки раздвинулись, рот округлился в крике:
– Это лишь задаток, паршивая свинья! Погоди же!
Прижавшись лбом к стене, мальчик с разбитым носом, должно быть, не слышал этого восклицания: плечи его вздрагивали от плача, то стихавшего, то вырывавшегося с новой силой. Рукавом пальто он время от времени размазывал по лицу кровь и слезы.
– Хватит тебе! Садись в машину и вытрись. Вот чистый платок. В кармашке чехла найди бутылку минеральной. Приложи мокрый платок к носу и глазу.
Подталкиваемый незнакомцем, мальчик сделал несколько шагов к машине, потом, колеблясь, остановился.
– Не пойдешь же ты с такой рожей по улице! И кровь из носа надо остановить… Закинь голову на спинку сиденья.
Сквозь смотровое зеркальце Григорий видел, как его неожиданный пассажир, все еще всхлипывая, вытирает лицо, стараясь смыть мокрым платком кровь на отворотах пальто и на рукаве. Что и говорить, вид у парня жалкий. Глаз заплывал все больше, нос постепенно приобретал форму картофелины.
– Хорошо же он тебя разрисовал! Если уж ты желаешь вести дискуссию с помощью кулаков, то научись хотя бы простейшим приемам бокса!
– Кусок мяса, тварь он, вот что!
– Ну, знаешь, если всякая тварь будет бить тебя по морде, то вскоре и родная мать не узнает. Кстати, куда тебя отвезти? Давай помаленьку трогаться, а то кто-нибудь из прохожих подумает, что это я так тебя отделал.
Мальчик поспешно схватился за ручку дверцы:
– Нет, нет, я не могу домой! Они думают, что я в школе!
– Ходил в кино? Собирался там набраться мудрости?
– Некуда было деваться… В школу я тоже не могу.
– Почему же другие могут, а ты нет?
– Потому что они все, почти все считают меня не только чудаком, а и негодяем… хотя негодяи они сами, так как во всем ищут только мерзость… Им и в голову не приходит, что кто-то может думать иначе, что должна же быть где-то правда… Плевать им на это! Они все хвастаются всякой грязью, у них только и разговоров о разных таких штучках, и когда я сказал, когда я хотел возразить, они… – Новый взрыв слез прервал эту нескладную фразу, и, когда Григорий стал допытываться, мальчик снова схватился за ручку дверцы.
– Я пойду! Спасибо вам за все, но я пойду…
– Куда же ты собираешься идти?
– В Каров. У меня там есть…
– Тогда я подброшу тебя хоть до станции городской железной дороги.
Машина тронулась, маленькая фигурка съежилась в углу заднего сиденья, теперь оттуда не доносилось ни звука.
– Послушай, а может, все-таки лучше домой? Если ты откровенно расскажешь дома обо всех твоих неприятностях…
– Он ничего не понимает! Он никогда ничего не понимает!
– Кто это «он»?
– Отец.
– Напрасно ты так думаешь.
– Вы его не знаете. Он умеет только поучать, только требовать. Он… Очень прошу вас, остановите машину, я сам дойду!
– Не бойся, насилия я не применю. В Каров, так в Каров… А деньги на билет у тебя хоть есть?
Мальчик задвигался, зашарил по карманам.
– В один конец хватит, даже останется несколько пфеннигов.
«Ага, он знает стоимость билета, значит, бывал уже там. Кто же у него в Карове? Родные, друг? А если друг, то какой? Спросить? Все равно не ответит. Первый порыв болтливости прошел, он замкнулся и насторожился. Лучше всего было бы отвезти его к себе. Но это – табу. К нему в дом могут входить лишь люди определенной профессии, присланные Нунке. Да и голова болит нестерпимо. Надо поскорее выпить порошок, прочесть письмо, обдумать разговор с Марией… И напрасно тебя терзает жалость к этому малышу. С кем-то поссорился, с кем-то подрался… Вспомни-ка себя в эти годы и как часто из-за какой-то глупой ссоры тебе свет казался не мил…»
Приблизительно за полтора квартала до ближайшей станции городской железной дороги Григорий остановил машину.
– Здесь мы с тобой распрощаемся, дойдешь сам. Все-таки советую изучить приемы бокса. Так безопаснее для физиономии, а иногда и для убеждений. Как же тебя зовут, если не секрет?
Настороженный взгляд, краска невольно залила правую, не пострадавшую в драке щеку.
– Вилли Шуббе, – буркнул он мрачно и чересчур поспешно, чтобы это было правдой. – Очень благодарен вам, господин.
Не двигаясь с места, Григорий глядел вслед маленькой фигурке, которая все удалялась. Острые плечи, лопатки, выпирающие из-под пальто. Одна рука придерживает воротник с отворотом, наверно, чтобы прикрыть запухший глаз. Неожиданно для самого себя Григорий нажал на стартер.
– Вилли!
Пришлось окликнуть дважды, но только увидев машину, мальчик остановился.
– Вот тебе мой номер. В случае крайней необходимости обязательно позвони. И не придавай большого значения тому, что случилось. Все забудется, все будет хорошо. Держись как надлежит мужчине!
Чувство неудовлетворенности собой грызло всю дорогу до дома. Сегодня все складывалось не так, как хотелось. Даже этот мальчишка свалился как снег на голову. Конечно, он не позвонит, и все-таки… «Тебе долго везло, и ты теряешь чувство осторожности. А может, ты становишься паникером? Что, собственно, произойдет, если кто-то найдет написанный твоей рукой номер? Ничегошеньки. Просто начинаешь терять ощущение реальности, потому что тебе осточертела двойная жизнь, хочется быть среди своих, жить по обычным нормам…»
В комнате было холодно, но небольшая чудо-печка из белого кафеля не требовала много поживы: горсточка растопки, десяток чурбачков, несколько брикетов угля – и от глянцевито-белой поверхности потянуло теплом. После порошка боль уменьшилась, медленно стала уходить, хотя голова немного и отяжелела, как после легкого похмелья. Григорий знал, сейчас все пройдет, особенно если выпить горячего, крепкого и сладкого чая.
Но не хотелось вставать с кресла возле печки. Сквозь полуоткрытые дверцы видно было, как пылает огонь, как постепенно краснеют угли. Когда-то в детстве, во время отпуска отец взял его к своему брату на Херсонщину. Там топили огромными снопами камыша, а печки были узкие и длинные, разделяющие комнату пополам. Сноп надо было двигать медленно, пламя весело гудело и от красного жерла печки не было сил оторваться, потому что там происходили чудесные сказочные превращения… И еще пленила Гришу степь. Она напоминала море, но была еще красивее: не только от ветра двигались волны, но она вся еще была пропитана неповторимыми ароматами, а ночью серебрилась так, что казалось, это от нее, а не от месяца поднимается сияние к звездам, которые напоминают огромные спелые яблоки. Все уничтожила черная буря. Она налетела неожиданно, безжалостная, столь несовместимая с душистыми рассветами и звездными вечерами, что вызвала в душе даже не страх, а чувство нестерпимой обиды, протеста против того, что такое может произойти. Фашисты тоже налетели так же стремительно, как черная буря. Только ты стал взрослым и чувствовал грозные ее предвестники. Вот только не мог предвидеть, как далеко на передний край забросит тебя судьба… Странно. Советская военная комендатура почти рядом, именно поэтому ты еще острее ощущаешь свое одиночество. Такой психологический феномен: к месяцу не потянешься рукой, знаешь, что не достать, а вот когда до желаемого так близко…
Мышцы разомлели от тепла, голова еще немного кружилась. Надо бы позвонить в бюро, отдать несколько распоряжений. А, ну его все к черту! Машина налажена так, что вертится и без него. Причем в нужном направлении. Этот Краус, рекомендованный Зеллером, – человек умный и осторожный. Правда, не очень проницательный, не догадывается о подлинной роли своего патрона Фреда Шульца. Вспомнив старшего референта по юридическим вопросам, Григорий невольно улыбнулся. Отлично аргументированные выводы в четкой последовательности срываются с губ привыкшего к пунктуальности человека. Ни малейшего нажима на какую-либо деталь. Лицо почтительно сдержанное, юрист ни о чем не догадывается. Взгляд уважительно-сосредоточенный. Специалист, который знает себе цену и привык ценить свое время… Григорию иногда хочется пощупать эту внешнюю оболочку безукоризненного службиста хотя бы для того, чтобы Краус в своей работе был поосторожнее. Но до сих пор Фред на это не решился, то ли из уважения, то ли из чувства солидарности к единомышленнику, которому, наверно, тоже нелегко жить двойной жизнью. Надо будет поговорить о нем с Зеллером, а пока пусть считает Фреда Шульца дураком, которому легко морочить голову.
Мысли цепляются за что угодно, только не за тот разговор, который ему предстоит и к которому надо подготовиться. Мария, конечно, разволнуется, возможно, и обидится. Поэтому надо… нет, об этом потом, времени еще достаточно. Сейчас лучше прочесть письмо. В машине он только бегло взглянул на него и увидел – письмо из Италии. Итак, Карл Лютц опять не откликнулся! Не потому ли так испортилось настроение, так тоскливо стало на душе?
Из надорванного конверта выпал небольшой листочек. Почерк Курта. Избегая какого-либо обращения, верный его Санчо Панса коротко сообщал, что сразу же после Нового года они с Лидией уезжают в Финов по «известному вам адресу». Несколько добрых пожеланий, вымученных и неуклюжих не от недостатка чувств, а от скованности: бедняжка так и не знает, как ему обращаться к своему бывшему гауптману. За подписью «Ваши искренние друзья» шел постскриптум – приписка Лидии. Присоединяясь ко всем пожеланиям мужа, она сообщала: «Вам, наверно, интересно узнать, что Марианна и Джузеппе очень подружились, по всему видно, что дело идет к свадьбе. Но прежде, чем произойдет это событие, Джузеппе должен выехать в Германию как корреспондент своей газеты. Все мы надеемся вскоре встретиться с Вами и обстоятельно поговорить, потому что в письме всего не напишешь. Вот только еще одно: недавно я навестила Матини. Может, я ошибаюсь, только мне показалось, что у него не все ладно. Вы знаете, как добр синьор: бесплатных пациентов у него в клинике больше, чем платных. Да не только это. Обо всем я не сумею написать, лучше расскажу по приезде. Маленькая синьорина чувствует себя лучше, хотя до выздоровления еще далеко, так далеко, что я, простая женщина, даже не могу в него поверить. Должно быть, сомнения гложут и синьору, потому что она часто плачет тайком. Об этом рассказала мне Стефания, потому что сама я не видела».
Григорий второй раз, потом третий перечитывает приписку Лидии и бросает письмо в печку. Листочек и конверт мигом вспыхивают, какую-то долю секунды кажутся мятой бумагой, потом на уголь оседают лишь тонюсенькие слои пепла. На душе паршиво, так паршиво, словно по сердцу прошлись язычки пламени. Очень легко быть благодетелем, свалив свою ношу на плечи другого. Помоги-де, мол, друг, больше нет сил нести! А сам тем временем в кусты. Даже письма не написал Матини. Правда, не по лености или забывчивости, а из осторожности. Нунке, напуганный историей с Вайсом, кажется, был вполне удовлетворен объяснениями Григория и об Агнессе больше не вспоминал. А вот как отнесется к этому Думбрайт – еще неизвестно. Так же, как и то, какую роль в дальнейшем будет играть босс «черных рыцарей». Домантович твердит, что Думбрайт с группой курсантов из школы возле Фигераса выехал куда-то в Штаты, где они должны закалиться и приобщиться к подлинной науке. Нунке больше помалкивает. Лишь иногда обмолвится словечком о ненормальности положения, когда не понимаешь даже, кому подчинен: ведомству Гелена или зазнавшимся господам из ЦРУ.
Мысли, направленные в привычное русло, текут теперь не разбегаясь. Никакой ты не Григорий, не Гриша, а Фред Шульц. Вот и веди себя, как надлежит в твоем положении…
…Мария старается не думать о неизбежном разговоре с Фредом Шульцем. Ей нечего скрывать, но не хочется ворошить прошлое. Тем более что историю эту хорошо знает Горенко и все те, кто готовил ее на роль фрау Кёниг. Итак, можно ограничиться лишь перечислением фактов, не вдаваясь в подробности. С тем, что было, покончено раз и навсегда, отрезано, словно ножом хирурга. Возбужденный мозг отгоняет воспоминания, старается не оставить для них ни малейшей лазейки. Но они всплывают и всплывают, как бы выхваченные из темноты яркой вспышкой магния. Как после ампутации продолжает болеть вся рука или нога до самых кончиков несуществующих уже пальцев, так теперь болит в ней все пережитое, казалось, уже похороненное навеки.
…Мария узнала о своей беременности за три месяца до начала войны, в тот самый день, когда ей сказали диагноз маминой болезни.
Рак! Это коротенькое слово щелкнуло, словно клешни черного огромного чудовища. Сомкнувшись, они сжали Марию в крепких клещах, отгородив от всего, что до сих пор для нее было жизнью. Беготня в больницу, консилиумы, поиски новых лекарств… Она петляла в этом тесном кругу, бросалась из стороны в сторону, подгоняемая мыслью во что бы то ни стало отвратить неизбежное, во что бы то ни стало спасти, во что бы то ни стало защитить. Мысль о собственном ребенке отступила в самые отдаленные уголки сознания. Она пряталась там, словно непроросшее зернышко, – не было сил думать о новой жизни, когда рядом уходила другая.
Собирая Бориса на фронт, Мария вдруг впервые как бы остановилась посреди бешеной беготни. Еще ошеломленная пережитым, она не могла осознать новой страшной беды и покорно выслушивала наставления мужа, обещала беречь себя и как можно скорее уехать в безопасное место, ну, хоть к сестре Бориса в Полтаву. Как и сотням тысяч других киевлян, им даже в голову не приходило, какие испытания выпадут на их долю. Может, поэтому Мария не воспользовалась первой своевременной возможностью эвакуироваться, а когда опомнилась, было уже поздно: мать, которая силой огромного нервного напряжения тогда еще держалась на ногах, теперь окончательно слегла. А потом, после ожесточенных боев, в город вошли немцы.
…Это декабрьское утро началось для нее как обычно. Дрожащей рукой Мария ввела матери морфий, а потом, избегая ее вопросительного взгляда, стала укладывать в сумку вещи, с вечера приготовленные для продажи.
– Мое зимнее пальто… Оно не понадобится мне больше… Ты же знаешь сама…
Слова срываются с маминых губ одно за другим почти неслышно, как пожелтевшие листья, тихо падающие с усыхающего дерева.
Надо выпрямиться, подойти к кровати. Сказать что-то успокаивающее. Но Мария стоит, уставившись на сумку. И вдруг с неожиданной для себя злостью кричит:
– Молчи! Ты же знаешь, что сказал врач: обычное обострение язвы желудка. Вот, чуть не забыла из-за тебя бутылку для молока! Если б ты хоть немножечко думала обо мне, если бы ты жалела меня…
Ей хочется выплакаться, выкричаться, стукнуть этой злополучной бутылкой об пол. Но она знает, что не сделает этого – единственная бутылка для единственной еды, которую еще принимает желудок больной. Может быть, сегодня удастся что-нибудь продать и купить хотя бы пол-литра молока… Мария быстро одевается, повязывает платок.
– Я скоро вернусь, – говорит она уже обычным ласковым тоном. В ответ ни звука. На измученном мамином лице медленно распрямляются мышцы. Начинает действовать морфий. Теперь можно идти. Мать будет спать до ее прихода.
Да, день начался обычно, а кончился…
На рынке было очень много вещей и совсем мало продуктов. Все жаждали побыстрее продать, чтобы купить мерку мелкого картофеля, граненый стакан пшена, до половины наполненный крупой, смешанной с мышиным пометом, или сухой сморщенной фасолью, и что-нибудь, чтоб заправить неизменный суп, – аптекарский ли пузырек масла, или тонюсенький, просвечивающий на свет лепесток пожелтевшего по краям сала. По мере того как шло время, ажиотаж увеличивался. Продать, продать за любую цену. Пока не исчезли эти крохи съестного, пока есть покупатель, хоть и дает он за твою вещь совсем мизерную цену. По второму и третьему заходу он даст еще меньше, а тем временем не останется ничего съестного, и ты не сможешь сварить дома юшку, которой теперь измеряется твоя жизнь… Мария мечется среди людей, в отчаянии протягивает вещи, не зная, сколько за них просить, презирая себя за неумение присоединиться к неписаным законам купли-продажи, которые требуют и рекламы, и ловкости рук, чтобы показать свой товар с наилучшей стороны, и умения торговаться, инстинктивно почувствовать ту грань, на которой надо остановиться, чтобы сказать твердое «да» или категорическое «нет». Озабоченная этим, она не сразу поняла, почему люди, толпившиеся на небольшой площадочке у входа в рынок, вдруг отхлынули назад. Мария осталась совсем одна, с протянутыми вперед руками, на которых висела светло-розовая дамская комбинация с белопенными кружевами спереди. Не понимая, в чем дело, Мария обернулась: на некотором расстоянии от нее выстраивалась шеренга немецких автоматчиков. Облава?
Удивительное спокойствие, ей совсем не страшно. Она же не сделала ничего плохого. Не могут же они так, среди бела дня, ни с того ни с сего…
Онемевшие от холода пальцы плохо слушались. К тому же бретелька комбинации зацепилась за отворот пальто. Это сейчас больше всего волновало Марию. Казалось, она выставила на всеобщее обозрение нечто интимное.
– Фрау, эта милая рубашечка сошла с мерки, – сказал молоденький лейтенант с красным лицом, похожий на Зигфрида из «Нибелунгов» – фильм этот Мария видела еще в детстве. Лейтенант приветливо улыбался, не может такой красивый человек решиться на грязный поступок.
Скомкав комбинацию в одной руке, Мария обратилась к лейтенанту:
– Герр лейтенант, разрешите мне пройти. У меня дома осталась больная мать, – говорила она, мысленно подбирая немецкие слова.
– У фрау была неплохая фигурка, неосторожно было так портить ее… Вы об этом не жалеете?
Новое выражение появилось на улыбающемся лице офицера, но Мария старалась отогнать от себя страх, хотя по спине у нее уже бегали мурашки.
– Надеюсь, герр офицер учтет положение, в котором я нахожусь. Его ведь тоже родила женщина…
– Немецкая женщина, а не большевистская… – Он добавил нечто очень мерзкое и очень грязное. Мария не поняла слово, которое он употребил, но шеренга солдат разразилась громким хохотом.
– Прошу пропустить меня. – Мария сделала шаг вперед.
– А ну, назад, к остальному быдлу! – Страшные глаза, бешеный оскал рта, в уголках губ пузырится слюна. Рука поднимается, освобождает два пальца. Двое выскакивают из шеренги, направляют автоматы прямо в живот.
Уже не страх, а ужас пронзает все ее существо. Автоматы не стреляют, но приближаются все ближе и ближе, месят чашу ее лона. Она не в силах даже повернуться, чтобы подставить под железные кулаки спину… Она старается как можно скорее податься назад, но эти двое шагают по-военному широко, а неумолимые автоматы все глубже и глубже вгрызаются в тело до тех пор, пока не швыряют полумертвую жертву на чьи-то руки, робко протянутые из толпы.
Кто-то довел ее до дому. Мамины глаза расширены так, что видны только зрачки. Два быстрых шага до ее кровати. И вдруг собственный неудержимый вопль: начались преждевременные роды.
Мария пришла в сознание примерно через месяц. Мамы в комнате уже не было. И вообще не было ничего: ни боли, ни тоски, ни ощущения собственного тела. Словно ее всю высосали, оставив только скорлупку, но и она тает, как свечка с черным скрюченным фитильком, который чуть тлеет тусклым, красноватым огонечком.
…Что ты знала о жизни, что ты умеешь, на что способна? Покорно скулить, чтобы освобождать для дикарей живое пространство, твое горе, пережитые муки, – это капли в море общего горя и общих страданий. Но море – грозная стихия, если оно разбушуется. А слухи о партизанских отрядах в лесах все ширятся, в городе тоже действуют неуловимые подпольные группы. Гром от учиненных их руками взрывов долетел даже в эту комнату. Твой обессилевший народ не лег под сапог оккупантов. Как ей кого-нибудь найти? Где ей кого-нибудь найти?
…Пелагея Петровна, дворник их дома, скрестив руки на животе, стоит посреди комнаты. Монументальная фигура с застывшими чертами лица, тяжелый, суровый взгляд. Чем-то могуче-первозданным веет от всей ее фигуры, шутливо прозванной Борисом «каменной бабой». Но Марии хорошо известно, каким ласковым может быть прикосновение этих огрубевших от тяжелой работы рук, которые переворачивали ее, меняли компрессы, подносили к ее губам ложку с едой.
– Тетя Паша, я завтра уйду, – говорит Мария, кивая на узелок с приготовленной одеждой.
– Иди! Здесь тебе нечего оставаться. – Слова звучат равнодушно, словно Мария отправляется на обычную прогулку. Рука медленно опускается в огромный карман передника, что-то вынимает из него. Промасленный сверток, плитка шоколада. – Возьмешь. Заработала у шлюхи из четвертой…
– Вы опять отрываете от себя.
– Так бы я и пошла к ней, если бы не ты… В Погребах остановишься у моей невестки. Отдохнешь, оглядишься, расспросишь людей. Саня скажет, кому можно верить. Есть слух, что возле Староселья собираются наши. Запомнила, как найти невестку? Через нее передашь о себе весточку.
Ты не подала о себе весточки, потому что в Броварах тебя схватили. Райх требовал рабочую силу. Фрау Шольц, котлы с краской, едкие испарения, брюква и картофельные очистки. Тебя шатало от ветра, а ты вынуждена была с утра до вечера поддерживать огонь под котлами и помешивать, непрерывно помешивать этот булькающий раствор, где варится траур.
…Мария проснулась от тишины. Она наступила так внезапно, что казалась громче грохота боя на подступах к городку. Неужели советские войска откатились назад, неужели гитлеровцы начали новое наступление, как хвастались по радио и в газетах? Мысль об этом резанула, как ножом. Шатаясь, с трудом волоча обожженную ногу, Мария доплелась до двери. В предрассветном мареве знакомые дома казались призраками. Лишенные четких очертаний, они то расплывались, то снова застывали в хмурой настороженности. Все такое как всегда, и в то же время совсем иное. Это, наверно, потому, что не слышно привычных шагов патруля, стрекота мотоциклов, которые непрерывно носятся по ночам, вкрадчивого шороха одиноких машин, обрывистых команд.
Вернувшись в свою каморку, Мария села, завернулась в плохонькое одеяльце. Ложиться нельзя, скоро надо приниматься за топку, да и тревога все равно не даст уснуть. И все же она задремала, и проснулась, когда совсем рассвело. Но разбудил ее не первый луч света, а ощущение перемены, происшедшей в окружающей обстановке: сквозь тишину прорывалась неясная перекличка женских голосов, быстрое постукивание деревянных подошв. Девушки из прачечной? Может, их куда-то увозят? Может, собираются вывезти всех пленниц дальше, в самую глубь Германии?
Теперь хорошо была видна вся улица, и Мария вдруг заметила растрепанную женщину, которая стремглав бежала по мостовой. Хватаясь рукой за горло, она все время отдергивала от шеи сжатый кулак, словно старалась сорвать петлю, мешавшую ей крикнуть. И вдруг этот крик прорвался с неожиданной силой, как только она поравнялась с калиткой, возле которой стояла Мария:
– Наши! В город вступили наши! Беги скорей!
Они побежали к центру, пересекая улицы, странно пустые в это время. На лавочках спущенные жалюзи, шторы на окнах жилых домов, ни одного прохожего. Только из-за железных оград, к которым живой стеной прижимались декоративные кусты, доносились тихие шорохи, а иногда и приглушенные голоса.
Мария вскоре отстала. Нога, обернутая всяким тряпьем, волочилась за ней, словно тяжелый мешок, мешая бежать. Но остановились и те, кто вырвался вперед. Они толпились в переулке у ратуши, не зная куда податься. Радостное возбуждение сменилось замешательством. Одни советовали ждать тут, другие – бежать к восточным окраинам, откуда первым снялся гитлеровский гарнизон. И вдруг кто-то завопил, споры оборвались сами собой: на улице, идущей к площади, с противоположной от ратуши стороны появилась колонна военных.
Бойцы шли медленно, держа оружие наизготовку, бросая настороженные взгляды в сторону оград и молчаливых домов. Наверно, чересчур уж предательской казалась им тишина в городке после ожесточенных боев на подступах к нему.
Сбившись в плотную толпу, пленницы минуту стояли неподвижно и вдруг сорвались с места и побежали навстречу колонне, словно понес их с собою сильный ветер, продувавший улицу насквозь.
Очевидно, командир приказал бойцам остановиться. Теперь, когда затихли шаги солдат, громкий стук деревянных башмаков казался оглушительным, но и его перекрывал слившийся воедино крик многих голосов:
– Бра-а-атики!
Этот крик, прозвучав над площадью, прокатился по ней могучей волной и сорвал с места колонну солдат. Теперь и они бежали посреди мостовой такой же беспорядочной толпой, как и женщины, и так же захлебывались от крика, возбуждения, смеха, похожего на рыданья. Командир пытался остановить колонну, но его голоса никто не слышал, и он сам сорвался с места – его как бы пронесло над людским потоком и швырнуло навстречу этим, впервые увиденным на чужой земле, пленницам с родной земли.
Мария издали увидела командира. Но не обросшее, давно небритое лицо, а фигура показалась ей чем-то знакомой. В тот миг, как ноги ее оторвались от земли, она почувствовала могучий толчок в сердце, который придал ей сил. Склонившись всем корпусом вперед, припадая на одну ногу, она бежала почти наравне со всеми, лишь немного поотстав. И вдруг ноги ее словно сковало. Рвались вперед теперь только руки. И, тоже вытянув руки, навстречу ей стремглав бросился командир.
Все, что было вокруг, исчезло. Весь мир для Марии вдруг уместился на этом маленьком клочке земли, на котором она стояла, прижавшись к Борису, словно разбросанный свет, концентрируемый вогнутой линзой в одной точке. Кульминация всей ее жизни. Чудо воскрешения…
Гераклит сказал, что человек не может дважды войти в одну реку. В памяти воспоминания не текут, а остаются застывшими. Вот почему так опасно в них погружаться. Да и ты теперь не Мария Стародуб, а фрау Кёниг.
Таинственная посетительница
Клара отпросилась с работы пораньше, сославшись на семейные обстоятельства, а Марии и Рут пришлось побегать. Потом Себастьян попросил посмотреть кое-какие бумаги. Вечером за отцом зашел сын. Мария с удовольствием поболтала с ним. Хороший юноша! Так, вероятно, думала Рут. Быстрая, острая на язык, она сразу притихла, а когда Эрнст предложил помочь ей спустить жалюзи над витринами, так смутилась, словно он пообещал преподнести ей по меньшей мере небо со всеми звездами. При взгляде на молодого человека и девушку на душе становится теплее. Именно для таких, как они, работают здесь Мария, Фред, Зеллер и многие другие.
Мария поднимается к себе наверх, уже совсем успокоившись. Только все тело налито усталостью, словно она продиралась сквозь чащу. Если бы Фред пришел завтра…
Но он пунктуален и приходит ровно в восемь. Как обычно, кладет на стол билеты.
– Ты, наверно, не ждала меня сегодня?
– Наоборот. Как только мне сказали, что ты звонил, я сразу поняла, в чем дело: капитан, от которого я хотела спрятаться.
– Точно. Расскажи о ваших отношениях, что тебя с ним связывает? Надеюсь, ты понимаешь, я спрашиваю не из любопытства, а в интересах дела, порученного нам. Кто он?
– Мой бывший муж.
– Бывший… Почему вы разошлись?
– Если говорить об официальной стороне дела, то не знаю. Написала письмо, приложила к нему заявление с просьбой о разводе и… все.
– Выходит, он может тебя разыскивать?
– Сама не знаю… Мы прожили вместе очень недолго. Случайное знакомство, внезапная любовь, брак – все это обрушилось на нас обоих, словно шквал, подхватило, понесло, закружило. Наверно, мы видели друг в друге не конкретного человека, а тот идеал, о котором каждый из нас мечтал. Теперь я понимаю, как мало знала Бориса. Вероятно, так бывает у многих: думаешь, что держишь в руках настоящее золото, а выясняется, что обычные черепки… – Мария оборвала разговор, провела рукой по лбу, словно отгоняя ненужные теперь воспоминания, потом коротко рассказала, как попала к фрау Шольц, как случайно встретилась с мужем. Она старалась сухо излагать лишь факты, не комментируя их, не вдаваясь в подробности, и лишь паузы между отдельными фразами, когда она прикусывала губу, да побледневшее лицо говорили о том, как трудно ей уложить свое душевное смятение в сухие протокольные фразы.
«Она боится впустить в свой внутренний мир постороннего человека, и одновременно ей хочется выговориться, выговориться, выговориться… Чтобы вместе со словами выплеснуть из сердца все накипевшее, приглушенное, скрытое на самом дне… Такое желание иногда мучит и тебя. Но ни с одним человеком ты не можешь быть откровенен до конца, даже со своей помощницей. Ей не известно даже твое настоящее имя. Ты не можешь ответить ей откровенностью на откровенность. Ибо, как скупо и сдержанно она ни отвечает, в каждом ее слове чувствуется правда».
– Ты недавно говорила, что эта встреча была кульминацией всей твоей жизни. Почему же тогда…
– Погоди! Я целый день сегодня гнала от себя воспоминания обо всем, что произошло потом. Боялась снова пройти по дороге, на которой в кровь изранила ноги. И это стремление не думать, забыть вконец измучило меня.
– Может, отложим этот разговор?
– Упаси бог! Теперь мне легче рассказать, чем промолчать. И чем быстрее я это сделаю, тем лучше. Так вот, батальону, который первый вступил в город, дали день передышки. Мы с Борисом устроились в одной из комнат мэрии. То есть устроилась я, потому что Борису все время приходилось отлучаться. За весь день нам удалось побыть вдвоем час-полтора. Но я все равно чувствовала себя счастливой из счастливейших, хотя в голове был туман, а нога болела все больше. К вечеру пришлось звонить в медсанбат, самочувствие мое так ухудшилось, что я уже не могла ни помыться, ни надеть на себя новое белье, где-то раздобытое Борисом… Послушав пульс, доктор сердито отчитал Бориса за то, что тот не сразу вызвал его, и крикнул сестре, чтобы та как можно скорее сняла тряпки с моей ноги. Глазами я попросила Бориса выйти, но он то ли не понял меня, то ли не хотел понять. Я до сих пор помню чувство унижения, которое ощутила. Как он посмел остаться! Неужели не понял, что именно ему нельзя видеть интимнейшее убожество моего тела: отвратительные ожоги, лохмотья, которыми я их прикрывала, опухшие, почерневшие пальцы с давно не стриженными ногтями. Размотав тряпки на ноге, сестра охнула, и из глаз ее покатились обильные слезы. «Держите себя в руках, Нина. Вы у кровати больной!» – резко бросил Борис. Девушка подняла на него глаза, в них было удивление и отчаяние. Меня что-то поразило в этом взгляде, но что именно я не успела понять, потому что в эту минуту слышала слова врача: «Немедленно и категорически – в госпиталь! Чтобы избежать ампутации…» Так, найдя друг друга, мы разлучились в тот же вечер. Теперь навсегда.
– Ты в этом уверена?
– Абсолютно… Ногу, как видишь, мне спасли, но все же пришлось прибегнуть к ампутации. Другой. Когда мы с Борисом поженились, я оставила себе девичью фамилию, потому что гордилась древним родом Стародубов. И это обстоятельство сыграло немаловажную роль в моей семейной катастрофе.
В госпитале я подружилась со своей соседкой по палате. Даже после самых мучительных перевязок она возвращалась улыбаясь, и только орошенный потом лоб да побледневшее лицо были свидетелями того, как мучительны для нее эти неизбежные процедуры. Была в ней неисчерпаемая вера в силы и возможности человека, которые таятся в каждом, буквально в каждом, стоит только самому это осознать или попасть в какие-либо исключительные условия.
«Представь, – рассказывала мне Варя, – мать зимой пронесла меня трехлетнюю и годовалого братика десять километров до ближайшей больницы. Дошла, упала, а рук расцепить не может, так свело их судорогой. Потом, когда нам оказали первую помощь, врач все допытывался у мамы, неужели она действительно из Выселок и всю дорогу прошла одна. Все спрашивал, как она отважилась двинуться в такой дальний путь, да еще с такой тяжелой ношей на руках. „Надо было спасать детей“, – ответила мама. Понимаешь, откуда у нее, такой слабенькой, силы взялись? Или взять наших девочек из медсанбата. Придет какая-нибудь… место ей за школьной партой, в пионерском лагере, на танцплощадке, в туристском походе, а не в боевом, под огнем, среди стонов раненых… Думаешь, не выдержит, не одолеет, и не от неумения или лени, а просто не хватит физических сил. Для мужчин война – страшное испытание, а для девушек или женщин… сама понимаешь, как ей достается, особенно в определенные числа каждого месяца. Я, как видишь, в силе, и то иногда не верила, что смогу сделать еще хоть шаг. А такая девочка? Пришла к нам одна, Ниной звали. Тоненькая, словно стебелек, кажется, вот-вот от ветра свалится. Увидела первых раненых – в слезы, дрожит вся, вот-вот сознание потеряет. И что ты думаешь? Сколько потом бойцов вытащила на себе из-под шквального огня. Эх, Нинка, не было меня рядом с тобой в то время, не дала бы тебе ослабеть!» – сердито проговорив эти слова, моя собеседница замолчала.
Я не решалась расспрашивать о дальнейшей судьбе девушки. Острое чувство зависти к Варе и ко всем другим женщинам и девушкам, которые вместе с мужчинами боролись за победу, в который раз пронзила меня. «Ты почему загрустила? – тихо позвала меня Варя. – Опять по-глупому коришь себя? Мало натерпелась?» Был у нее какой-то особый талант чувствовать, что происходит с другими. Я резко ответила: «Ну, натерпелась, а что проку? Мои страдания были лишь моими страданиями. Я завидую всем: тебе, этой неизвестной Нине, какая бы судьба ее не ждала, потому что смерть может только возвеличить, а не отнять то, что человек сделал». Так наш разговор снова вернулся к Нине, так я узнала историю ее любви, безгранично преданную с ее стороны и мелко эгоистичную со стороны того, кого она ставила над всеми, боготворила, кто должен был стать отцом ее ребенка.
Варя не назвала ни имени, ни фамилии Нининого избранника, но тяжелое предчувствие сжало мне сердце. Почему-то вспомнилась комната в мэрии, сестричка, которая расплакалась, увидев мою ногу, раздраженный окрик Бориса, вскинутые глаза, во взгляде которых меня что-то поразило. Теперь я знала, эта была беззащитность обиженного ребенка перед непонятной грубостью близкого ей человека. «Чушь! – остановила я себя, – Опомнись! На свете тысячи Нин и тысячи капитанов…» Меня саму удивило, как естественно-спокойно сорвались с моих губ слова: «А тебе не кажется, что, огорчаясь за подругу, ты несправедливо могла отнестись к этому, как его?» Варя не ответила на вопрос, ее заинтересовала лишь суть сказанного мною. Неуклюжая попытка узнать имя капитана не удалась. Помолчав минуту, словно восстанавливая в памяти известные уже факты, она отрицательно покачала головой: «Нет, все равно он должен был вести себя иначе. Я допускаю, он искренне верил, что жена его погибла, и неожиданная встреча с ней внесла сумятицу в его душу, делаю скидку даже на нервное возбуждение, но то, что он во всем попытался обвинить Нину… «Я полагался на тебя. Ты – медичка и могла все предусмотреть. Почему ты до сих пор молчала, почему не приняла мер? Надеялась привязать меня к своей юбке? Не выйдет!» И ни единого слова утешения, даже в глаза не решился поглядеть. При этом учти – Нина ни о чем не просила, она понимала, что им надо расстаться».
Какая-то неведомая сила заставляла меня защищать капитана: «Ты ведь не присутствовала при их разговоре и не знаешь, как все было в действительности», – настаивала я. «Я знаю Нину и знаю капитана Корейшу, – отрубила Варя, – да и то, как повела себя Нина, говорит в ее пользу, а не в его. Она ничего не ответила на это обвинение, просто повернулась и ушла. А вскоре добилась, чтобы ее отчислили из части, и куда-то уехала. „В никуда“, – как писала она мне с дороги».
Варя что-то еще рассказывала о единственном полученном ею письме, но до моего слуха долетали лишь отдельные разрозненные слова, не связанные в фразы и поэтому лишенные смысла. «Капитан Корейша, мой муж! Комбат Корейша, Борис Гордеевич!» – стонало все во мне, как стонет ветер в трубках огромного органа, прорываясь сквозь скрытые в середине отверстия и клапаны. Только звуки эти не вырывались наружу, а гасли во мне, оставляя по себе лишь тину и обломки моего разбитого дома. Да еще тупую боль, ни на минуту не стихавшую. Не думай, что меня мучила ревность. Я бы простила ему случайную измену, от всего сердца поблагодарила бы женщину, принесшую ему кратковременное забвенье, согревшую своим теплом. Но здесь речь шла не об измене, а о черном предательстве, и предал он не меня, а своего боевого друга, бросил его на произвол судьбы, когда тот попал в беду…
