Высокая кровь бесплатное чтение
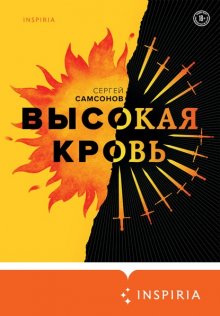
Сергей Самсонов
Высокая кровь
I
Январь 1920-го, Северо-Кавказская железная дорога, Миллерово — Лихая
Вот они, мертвые, — меж серыми скирдами, на ископыченном снегу, в лужах мерзлой пупырчатой крови. Один ничком, с упрятанным лицом, как будто греб по снегу, отмахивая мощные саженки, да так и застыл в отчаянном усилии уплыть от смерти, со скрюченными пальцами, вкогтившимися в наст. Второй, наоборот, как спит, умаянный работой, или пьяный, с беспечно раскинутыми ногами в обмотках и чуть не заведенными под голову руками, глядит полубеневшими глазами в железное бессолнечное небо. У третьего, тоже упавшего навзничь, с подогнутыми, завалившимися вбок ногами, багряно стесано лицо и видно лишь оскаленные стиснутые зубы.
Живые стоят над ними не долее, чем травоядные над падалью, и снова трогают запаренных и покрывающихся инеем упряжных лошадей.
Возница, старик в дубленом полушубке и лисьем малахае, с похожим на географическую карту, перепаханным морщинами лицом, глядит на убитых, как дерево сквозь трещины коры.
Второй, пассажир, в инженерской шинели и путейской фуражке, лет тридцати, худой, но сильный, равнодушно-спокоен, и позы в этом совершенно нет или не чувствуется. Изнуренно-худое лицо его красиво красотой породы и будто уже вырождения, а кажущиеся непомерно большими глаза словно углем подведены — не то как у святого на иконе, не то, наоборот, как у богемы, из тех, грассировавших в поэтических кафе, изображая печального Пьеро.
Третий, грузный, дородный, в замечательной черной бекеше и бурках, улыбается дико-счастливой, полоумной улыбкой, не в силах скрыть: «Жив! Уцелел!» — и кровь самоуправно возвращается в его мясистое, одутловатое лицо.
Четвертый, боец, в заржавелой шинели и траченой мерлушковой папахе, непроницаемо-угрюмый, молчаливый, даже будто бы глухонемой, на все глядит с покорностью привычки.
И только пятый, самый молодой из всех и в новеньком кавалерийском обмундировании с тройными «разговорами», не может скрыть жадности. Хорошее, бесхитростно-упрямое лицо, не то гладко выбритое, не то еще не знающее бритвы. Чистый выпуклый лоб, прямой, широконоздрый, чуть курносый нос, твердо сомкнутый рот и крутой подбородок с сильно вдавленной ямочкой посередине. Голубые глаза в снежном пухе ресниц измучены ветрами и бессонницей, но светятся неистощимой жаждой жить, месить сырье творения, той жаждой, что свойственна всем пылким мальчикам, до срока свято убежденным, что сколько бы ни обращался мир в своей закоченелой неизменности, лишь им-то и дано пересоздать его по собственным понятиям о справедливости. Лицо его — сама история начавшегося века, прекрасных столетий, отсчитываемых от края тьмы, он — прародитель будущего человечества.
Ему не страшно, он уже довольно видел мертвых. Держал на руках Алешку Котельникова, у которого горлом шла кровь, выплевываясь толчками, словно он давился и отблевывался, а глаза расширялись, как будто вопрошая, что же это и как такое может быть, и вот уж заходили к небу, окостеневая, и Северин не мог понять: «Только что был живой — и уже ничего?»
Когда умирали свои, все казалось ему небывальщиной, именно сном: какое-то спасительное слабоумие, почти уже нечувствие мгновенно находило на него, и он, продолжая все видеть и даже осязать, уже не участвовал в происходящем — сознанием, сердцем.
Случайно попадавшиеся мертвецы внушали ему отвращение, не подавимое и в отношении своих, красноармейцев, которые как будто делались неизмеримо ближе к мертвым же врагам, чем к нему, их товарищу, пока еще живому. Как были непохожи эти трупы на строгих, благочинных, воистину покойников его, северинского, детства и мирного времени — обмытых, принаряженных в последнюю дорогу, в обитых бархатом и креповыми лентами гробах, с пустыми лицами, похожими на восковые или гипсовые слепки с них, живых… Но странное дело, и эти, и те внушали ему одинаковое, ничем не заглушаемое любопытство — одно и то же чувство неприступности чужой, непостижимой тайны.
Что самого его хоть нынче тоже могут убить, он и теперь не верил совершенно. То есть понимал, что — могут, что когда-нибудь ему придется прекратить существование, и даже чувствовал физический страх смерти, когда над головой рвалась шрапнель, но между ним и этой истиной всегда была какая-то незыблемая и беспроломная стена, вернее радостное чувство своей сбывающейся жизни.
Сам он не то чтоб никого еще не убил, но огонь по далеким фигуркам — всегда на грани видимого, всегда как будто полустертым в беге, в мельтешении — во-первых, доводил его до верхнего предела сосредоточения на своей винтовке и на цели (совмещение мушки и целика, выставленье прицела на рамке, как на шкале аптекарских весов), а во-вторых, рождал в нем то же чувство хищного азарта, что и на самых первых стрельбах по мишеням. Он не видел лица и даже человеческого образа, да и не мог понять, наверное, убил ли или только ранил; когда же весь курсантский взвод садил сколоченными залпами, то и вовсе не мог угадать, он ли это попал или рядом лежащий товарищ.
Войне вообще обескураживающе недоставало красоты. Пойдя добровольцем, Сергей был в Красной армии с начала девятнадцатого года. Охрана железных дорог. Командные курсы. Он ждал орудийных раскатов, кавалерийских шквалов, штыковых атак — сгореть, испепелиться в огненно-кипящем пекле и тотчас возродиться к новой жизни не ведающим боли, устали и страха. Но оказалось, что до смерти еще надо дошагать. Уныло глюкающая под ногами грязь, пронизывающий ветер, рыхлый снег, караулы, секреты, таскание сена коням, проклятия, стоны и нескончаемая ругань в бога. Неистребимая потребность сна, недоед и тифозные вши.
Он и сейчас испытывал голодное, обиженное разочарование. Всего минут десять назад, слетев с линейки и упав ничком на снег, он со сжимавшимся от возбужденья сердцем стискивал нахолодевший револьвер, а от этой околицы, поднимая клубы снежной пыли, уносились линейки и брички, а за ними живым черно-белым бураном накатывались на обоз казаки.
Налетели на дружный винтовочный залп и потоком пошли в разворот, ощетинившись бешеным крошевом взрытого снега. Полоска первозданно чистой степи, растущая меж казаками и обозом, осталась будто бы такой же девственной: никакой черной сыпи порезанных пулеметно-ружейным огнем лошадей и людей, ни единого темного пятнышка — как ни вглядывался Северин.
Всего минут десять назад эти пятеро не знали друг друга, разве только возница-старик, Чумаков, служил дородному каптеру, а вернее начснабу знаменитого конного корпуса. «Путеец», Аболин, вскочил к ним в тачанку, единственную, что ушла из хутора от казаков, взрывая снеговую целину, словно осумасшедшевший плуг, запряженный гнедыми. Возница повалился с козел в снег, начснабкор, куль муки, рухнул следом, подвластный лишь земному тяготению, а этот, Аболин, немало удивил Сергея своим нетеряющимся хладнокровием — скакнул с тачанки на обозную подводу и, оттолкнув красноармейца от «максима», вклещился в рукоятки, с оскалом резанул, рассыпая над степью железную дробь, только вот с превышением взял…
— Прицельную камеру видишь, в закон твою мать?! — вскочив, накинулся Сергей, испытывая острую досаду и вместе с тем как будто бы любуясь своей боевою бывалостью.
Но эти изнуренно-жесткие глаза и будто бы усмешка снисхождения заставили его почуять стыд… Ростовский подпольщик, работал на Лихой — «в надежде пустить под откос бронепоезд “Ермак”».
— Мне бы с вами, товарищи, — сказал, попеременно взглядывая на Сергея и начснабкора Болдырева. — Имею сведения касательно укрепрайона белых на Персияновских высотах…
Теперь все пятеро держали путь в полештаб Леденева. Северин был назначен к тому корпусным комиссаром — и Болдырев, узнав об этом, посмотрел на нового товарища с каким-то жалостным почтением, неверяще и будто уж совсем обезнадеженно: неужель поматерее никого не нашлось? Где искать (а вернее, где можно настичь) своего командира, он имел только самое приблизительное представление. Собрав по хутору все семь своих подвод и схоронившихся по-за плетнями возчиков, он начал жаловаться, будто и со злобой:
— Сами видите — не угонюсь. По стратегии-то хорошо — что ни день по сто верст отрывать, ну а мне как с обозом? Он ведь, понимаете ли, маневрирует. Опять же, дело ясное, военное искусство, за что в газете Ленин пишет: молодцы, побольше таких Леденевых. Да только мне-то как работу дать, какую с меня революция требует? Железная дорога — дело дохлое: беляки все пути повзрывали и в узел завязали. А на своих колесах разве же подтащишь к сроку все? Вот и мечусь, как заяц на угонках.
— Выходит, что ж, чем лучше он воюет, тем вам хуже? — оборвал Северин его исповедь, с усмешкой взглянув на Аболина, и тот усмехнулся в ответ.
— Такой парадокс моего положения! И ведь сам с меня требует: «где?» Боепитание одно… Табака, мыла, сахара — вынь да положь. И ведь так поглядит, что аж где-то в самой главной кишке холодеет и лучше бы к белым, ей-богу, попасть…
Сергей ощущал в себе упрямую точность трепещущей компасной стрелки — комкор Леденев, имя ветра, был для него магнитным полюсом Земли, все силовые линии вели к прославленному корпусу, и даже обмерзлые колеса подвод, с алмазным скрипом резавшие снег, казались ему эдакими древними меридианными кругами, топорно сработанными астролябиями железного века, и упряжные лошади как будто бы имели нюх собак, идущих по следу хозяина.
Таким же магнитом был Леденев и вот для этого Монахова, молчащего, как с вырезанным языком, и для еще полудесятка приблудившихся к ним безначальных бойцов. К Леденеву бежали из госпиталей, полевых лазаретов, из резервных полков, из пехоты, по пути добывая коней, седла, шашки… Эскадроны, полки, кавбригады подавали прошения в штармы: передайте нас всех Леденеву, с ним быстрее дойдем до соленой воды и победы мировой революции… От белых десятками, сотнями, враздробь и взводными колоннами перебегали казаки — в трудовую рабоче-крестьянскую веру и именно что к Леденеву.
Фронт еще не улегся, его еще в сущности не было — Леденев в одиночку прорвал оборонительную линию двух белых корпусов и колдовским броском на сорок верст забрал Лихую, о чем телеграфировал в штаб армии с белогвардейского же аппарата. Пехота ползла, отставая едва не на сутки; вокруг, пробиваясь на Дон, шарахались и каруселили сорные, сбродные, недобитые белые части. Сергей со спутниками двигался с унылым обозом стрелковой бригады Фабрициуса. Клубящийся пар от дыхания упряжных лошадей ложился на гривы, на лица, папахи и намерзал, обсахаривал инеем — и люди с серебряными бородами, усами, чубами, ресницами казались глубокими старцами, которым уж и волосок на голове нести тяжело. Ни близость железной дороги, ни россыпь всех попутных хуторов, ни седые распятия телеграфных столбов с обрубленными проводами, вмерзшимися в сугробы, ничего не меняли в пустынности, в подавляющем однообразии мертвой заснеженной степи; сжигающий, господствующий белый был будто уж цветом самой пустоты, полярного небытия; в бескрайности этих предвечных просторов неумолимо растворялись и серые хатенки с соломенными крышами, и телеграфные столбы, и сам обоз. И мертвая зыбь пахоты, недвижными волнами уходящей к горизонту, являлась взгляду будто бы закоченевшим древним морем, и цепи старинных курганов тянулись навстречу обозу немыми предвестниками тех незапамятных времен, когда земля еще не знала человека и ничего живого на ней не было.
Сергея занимал нечаянный попутчик Аболин: его холодное, насмешливое самообладание внушало доверие и даже будто бы ту тягу, какую испытывал к старшим, сильнейшим товарищам, но вместе с тем что-то невытравимо чужеродное мерещилось в этом лице.
Один из приставших бойцов, молодой, бахвалился своими подвигами, лихостью.
— Ох, и горазд ты, парень, погляжу, брехать, — пробурчал коренастый старик Чумаков. — Кого крошил-то? Петуха на плахе?
— А вот таких, как ты, бородачей, дурней старых!
— А коли так, вояка, то скажи: чего же ты видел, когда человека рубил?
— А то и видел. Полковничка белого, как зараз тебя. Как шашка от солнца горит, ажник полымем бьет.
— Да нет, брат, — сказал Аболин. — Когда рубишь, ничего уже не видишь, а только две кисточки.
— Какие две кисточки? — не понял Сергей.
— А как из тела шашку-то тягнешь, кровь по стокам бежит, — пояснил Чумаков, посмотрев на него разжижёнными временем прозрачно-светлыми глазами, и от этого будто бы детского, безмятежно-невинного взгляда Сергею сделалось не по себе. — Вот это самое две кисточки и есть.
— Вы что ж, военный человек? — спросил Сергей Аболина.
— И да, и нет, — потянулся к нему Аболин самокруткой, прикрывая зажженную спичку отворотом путейской шинели. — В пятнадцатом году пошел добровольцем на фронт. Даже прапорщика выслужил и по ранению Георгиевский крест.
«Начну выспрашивать — поймет, что я его… подозреваю, — замялся Сергей. — А за что? За лицо? За грамотную речь, манеры, выправку? Мало, что ли, у нас офицеров? Вы ведь и сам, товарищ Северин, не пролетарского происхождения. Или после Агорского вам в каждом бывшем офицере будет видеться предатель и шпион?»
— Вы спрашивайте, — разрешил Аболин, словно услышав его мысли. — Война эта давно уже ведется со всеми ухищрениями. Хватает и фальшивых комиссаров, и беременных женщин с подушкой под платьем.
— Спрашиваю, — рассмеялся Сергей облегченно. — С Леденевым, выходит, знакомы?
— Зимою восемнадцатого года познакомились, на Маныче. Я агитировал казачью бедноту, а он строил свой партизанский отряд. Это сильный человек. Есть в нем что-то такое, что заставляет всех вокруг с готовностью и даже с радостью ему повиноваться, — говорил Аболин, глядя своими странными глазами словно сквозь Сергея и улыбаясь так, как улыбаются чему-то незабвенному. — Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет, и копыта коней его подобны кремню, и колеса его как вихрь.
— Вы, Сергей Серафимович, вон Чумакова поспрашивайте, — втесался Болдырев в их разговор, кивая на обтянутую желтым полушубком спину старика. — Он Романа Семеныча смаличку знает. Тот, было время, у него и вовсе в подчиненных ходил. Слышь, Чумаков? Поведай-ка нам, брат, как ты товарища комкора притеснял при старом режиме.
— Ага, как же — зараз, — сипато отвечал старик, не оборачиваясь. — Ить вон и буран собирается. Где уж тут погутарить — за шапки держись.
А небо уж и вправду трупно потемнело, и горизонт на юго-западе, лишь миг назад четкий, как бритвенное лезвие, подернулся тучами белого кипева, и вот уже все небо слилось со снежным морем в иссиза-белесую непроницаемую муть. Взрывая, сверля бесконечные волны сугробов, громадной гуттаперчевой стеной ударил ветер и забил рот и горло леденистым песком, в самом деле лишая возможности хрипнуть хоть слово, резал бритвой глаза, наждаком шкурил скулы, и пришлось втянуть голову в плечи и упрятать лицо в воротник. Сквозь режущий свист, волчий вой и детскую жалобу вьюги хрипато прорывались безобразные ругательства обозников, костеривших своих изнуренных коней и друг друга. Визжали уносные и коренники, ломались с треском дышла и оглобли. Нет мира, нет земли, нет даже света, отделенного от тьмы, — в пронизанную воем, изначальную, не осиянную творящим духом пустоту оборвался накатанный шлях, а вместе с ним вся красная Россия.
II
Июль 1919-го, Госпитальная клиника Саратовского университета
Из вагона его вынесли на простынях, как гроб на полотенцах. У всех была почти уверенность, что для него это последняя дорога.
Бесстрашный от отчаяния, по-собачьи влюбленный в него ординарец искал его на ископыченном, испятнанном трупами поле, переползал под приникающим к земле пулеметным огнем, саламандрой, змеей извивался между гнедыми валунами конских крупов, спин, боков и новопреставленными мертвецами, чьи разрубленные и простроченные пулеметом тела от легшей всюду жаркой пыли перестали кровоточить, елозил в этом черно-буром студне, кусал траву и землю, пропитанную кровью и мочою издыхающих животных, и плакал как ребенок от неспособности признать, что командир его и вправду оказался смертным. Он нашел его в крутобережной теклине, ниспадающей в балку, — на губах пузырилась кровавая пена, а только ворохнул, как изо рта толчками начала выплевываться кровь. Не чуя трясущихся рук, повернул его на бок, нашел ощупкой рану на промокшей, как от ливня, гимнастерке, порвал исподнюю рубашку на себе, перевязал как мог и поволок. Последней жильной мочью, обваливаясь на спину и ноя сквозь стиснутые зубы от тоски бессилия, тянул его по этой расширявшейся теклине, словно огромного ребенка из утробы самой праматери-войны.
Ординарца звали Мишка Жегаленок — рожак с Гремучего, комкоров хуторной, уцелевший из горстки тех первых, что пошли за Романом Семенычем воевать за мужицкую землю и волю.
Тараня тендером разбитые вагоны, зверино-воющими, гневными гудками загоняя в тупики даже самые срочные грузовые составы и людские теплушечные эшелоны, за полсуток покрыл перегон до Саратова экстренный поезд. Весь путь ординарцы, сменяя затекшие руки, держали раненого на весу, чтобы не вытрясти из тела клокочущие в нем, как в казане, последние, наружу рвущиеся силы.
Знаменитому Спасокукоцкому и всему персоналу было разъяснено, что это тот самый комкор Леденев — любимый герой и вождь красной конницы, — и надобно вложиться всем своим искусственным дыханием и физиологическим раствором, чтоб сохранить вот эту жизнь для революции.
Профессор, наломавший руку еще на раненых в Германскую, делал все, что умел как никто, — не из страха и благоговения, а из соображений своего ремесла, для которого был предназначен, как легавый кобель для охоты, а его пациент для войны. Он видел под собой не историческую личность, даже не человека, а только поле операции, протертое спиртом, бензином и йодом, — разрезанные кожу, мышцы, фасции, обнаженные желтые ребра с глубокими трещинами и дымчатое легкое с тяжелым сгустком крови в плевре, уродливо запавшее, придавленное легкое здорового и сильного тридцатилетнего мужчины, которому еще бы четверть века ничто не угрожало из «естественных причин», и велика была возможность умереть глубоким стариком, когда б не свинцовая пуля, вошедшая под правую лопатку.
Да и сам для себя этот вот человек был никаким не Леденевым, командующим 1-м Железным конным корпусом, обороняющим от Врангеля Царицын, а сплошным чувством боли и глухонемого удушья. Он еще чувствовал и даже будто слышал происходящее вокруг, но был на той последней грани, когда уже не помнишь своего предназначения и даже имени, когда человек опускается почти до самоощущения животного, которое не хочет умирать.
Оперировали его многажды. Удалили свинцовый комочек, засевший под правым соском. Блестящими спицами, напоминавшими вязальные, выкачивали из груди дурную, сгустелую черную кровь. Он приходил в себя и снова слышал вяжущий противно-сладкий запах хлороформа, под действием которого безобразно ругался, звал то Дарью, то Асю и пел: «Мы по горочкам летали наподобье саранчи. Из берданочек стреляли все донские казачки…», а может быть, это звучало лишь в его голове, в то время как не мог произнести ни слова, и врачи, что склонились над ним, различали лишь клекот нагорной воды, полный силы и лишенный значения.
То он видел сморчковую песью мордочку нетопыря, его ощеренные реденькие зубы и коричневые пузыри его зенок, ощущал на себе его мелкие когти и раскрытые веером кожистые глянцевитые крылья и чувствовал, как тот присасывается к дыркам у него в груди. То он видел стеклянно-рубиновых шестилапых рогатых чудовищ, совершенно прозрачных и наполненных кровью, которую пьют. То казалось, что полчища вшей возит он в переметных сумах, кормит ими коня, поедает их сам, сеет их по родимой степи. Всюду, где проезжает, буревыми валами проходит за ним всесжигающий пал, пожирает ковыль и заливы некошеных спелых хлебов, и под хлопьями сизой золы, запорхавшими по небу, в пыльной мгле суховея чернеет обугленная, трещиноватая, как плаха, горькая земля.
Когда он наконец возвратился из странствий по фантастическому миру, увидел над собой лобастое тяжелое лицо с безулыбчиво сомкнутым ртом, широконоздрым крупным носом и глазами, глядящими куда-то в самую твою середку, но не в душу, а в животное нутро — безжалостно, но признавая твое право на боль и зная о своей над нею, болью, власти, но зная и предел, где эта власть кончается.
— Вы слышите меня, Леденев?.. Вы ведь Леденев? — спросил врач уже подозрительно, поскольку лицо пациента, вернее глаза его выразили одно только недоумение и даже будто бы непризнавание себя Леденевым.
— Прикажете — так буду Леденев, — улыбнулся пациент смиренно и в то же время будто жалобно-просительно: а нет ли для него другого имени, другого дела, славы, участи — как будто собственные неотрывные представились ему не то давяще-непосильными, не то совершенно никчемными в сравнении с тем, что открылось ему там, где он побывал.
«Быть может, это-то Толстой и называл пробужденьем от жизни? — подумал профессор. — Но ведь он будет жить. Теперь уж и не хочешь, а придется… Так что ж это — Аустерлиц, все пустое, обман? Такое, вероятно, и барин, и мужик понимают уже одинаково… А впрочем, плевать, чего там над ним распахнулось. Гной, гной в плевральной полости — пожалуйте пунктировать, а с ретроградной амнезией не ко мне… Какой, однако, экземпляр. — Он, как хорошего коня или собаку, жалеюще окинул это тело, имевшее цвет томленого дуба, подчеркнутый свежей белизною бинтов, с глубокой грудной клеткой и волосатыми ногами, сильными, как кузнечные клещи. — А может быть, он просто чувствует, что ему больше не воевать? И легкое спалось, и правая рука, скорей всего, сухая будет. Какой, в самом деле, теперь из него теперь Леденев? Жить есть чем, но как… Они же ведь хотят пылать, сгореть и осветить полмира, как этот у Горького, вырвавший сердце. Сметем до основанья — на меньшее, чем быть самой природой, не согласны. Ну сокрушите, ну сметете, а жить из чего, господа? На то, чтобы строить, силенки останутся? А то ведь вон, легкое выблевано, хребет переломан, мошонка оторвана. Творца подправляли — себя искалечили. Наш брат-то, ученый, сперва лягушечек кромсает, а эти сразу на себе жестокие опыты ставят да на великом миллионе человеков, которых не спрашивали. Быть может, хоть этот наконец что-то понял? А был-то страшный, говорят. Ух и крошил же, верно, русских мужичков. Вон теперь какой смирный — что живой схимонах во гробу. Да верно, тоже до поры, а то не видели таких — в чем только дух, а всё изнеможе бежай от течения своего, аки конь, стремящийся на брань. Подымем на ноги — тогда уж берегись. Как скажешь такому: вам нечем дышать?»
Он перевидел тысячи больных и раненых: интеллигентов, мужиков, полковников Генштаба, комиссаров, людей неукротимой воли и стоического мужества, покорного согласия с судьбой и христианского долготерпения. Он видел чудеса восстания из мертвых и смерти от одной тоски, когда человек по ранению или болезни уже не может жить как прежде и не хочет — никак.
Он знал диковинную стойкость, порой необъяснимую живучесть человеческого существа, его способность к возрождению и вместе с тем его ломкость: обрушится дом, полсотни осколков вопьются во внутренности — и все нипочем, а умирает, переев соленых огурцов, от стакана холодной воды, застудившись в ночевке.
Он редко удивлялся происходящему с больными, да и некогда было дивиться. Уж слишком он был занят легкими прославленного пациента, чтоб придавать значение некоторым странностям в его поведении. Тот никого к себе не звал и ни о ком не спрашивал. К больному порывались его преторианцы и высокие чины из красного командования, и спустя две недели профессор разрешил посещения.
Первым влез ординарец, тот самый, спаситель, Жегаленок, земляк. Его хозяин, божество, оплывший липким потом и грязно-восковой, как мятая в руках свеча, смотрел все теми же неузнающими глазами, страдальчески-злобно и будто бы подстерегающе.
— Роман Семеныч! Любушка! Живой! А мы уж думали — беда, отходил по земле. Как же мы без тебя, кто нас в трату не даст?.. Не-э-эт! Не возьмешь Леденева!.. Вот гляди — допустили к тебе доктора́. Стал быть, все, и отставить!.. Ну как ты?
— А будто землей меня казаки наделили по самые вязы — ни ворохнуться, ни дыхнуть. — Леденев дышал с присвистом, мучительно затягивая сквозь оскаленные зубы струю густого камфарного воздуха.
— Царицын оставили, знаешь? Как поранило тебя, так и рухнулся фронт, колесом покатился с горы… Вдарил вот! Могет быть, и не надо было говорить — для пользы твоего здоровья. Да только все равно ить довели бы до тебя.
— Корпус где?
— Кубыть, на Медведице зараз. Буденный повел. Отходить на Камышин получили приказ.
— Из наших тут кто?
— Да я вот, Степка Постышев да Фрол Разуваев. Всю дорогу тебя на руках как дитятю держали… А она не поехала. Да ты не сомневайся — как увидала, мы тебя несем, так ажник вся и напружинилась, как, скажи, собака на цепи. И поехала бы, дорвалась, да по должности ей не положено, такой на ней то есть комиссарский долг, что ежли революция прикажет, надо делать. Тут она уж не женщина, а самый, значится, что ни на есть сознательный боец… Да я чего — молчок, — испугался Жегаленок леденевского взгляда, не то чтоб угрожающего, а как бы отстраняющего от себя рассказ о женщине. — Коли брехнев наслухался, так извиняйте. Да только у меня у самого кубыть глаза есть, — блудливо прижмурился, не удержавшись. — Это дело такое, что всякая тварь на земле хучь ты как ее перетряхни, а паруется. Сколько нам еще жить припадет по военному счастью, ить не знает никто. Любить-то когда? Мы долг свой блюдем, сами знаете, да только я вам так скажу: ежели мне прикажут вовсе никогда до баб не докасаться и жить для революции, навроде как чернец для Бога, так я на том из Красной армии и выйду, ей-бо не брешу.
— К белым, что ли, пристанешь?
— Ну, к белым не к белым, а все ж непонятно: правов-то нам вон сколько разных дает революция, а энто, чего ж, отымает — баб и девок любить? Ажник прямо смешно.
— Со мною был у балки, как поранило?
— Так ты ж меня к Дундичу, к Дундичу… А как правым плечом завернули на них, тут Архипка мне встречь — с седла тебя сняли, кричит. Своими глазами видал!
— А кто снял, не видел Архипка?
— Да как кто?! — И радостно, и жутко стало Мишке, когда из синюшных провалов орбит взглянул на него настоящий, живой Леденев и в то же время будто бы гонимый и подраненный зверь. — Из пулеметов встречь полосканули гады.
— А дырку во мне сзади — это как?
— И думать не моги, Роман Семеныч! — расширились глаза у Мишки в каком-то суеверном отвращении. — Кто ж это такое?.. Да мы за тобой до могилы! Да там и впоперек фланкирующим шпарили — мудрено было спину подставить?.. Али сам чего видел? Так ты скажи — мы эту… где хочешь сыщем!
— Да что теперь об том гутарить…
— Так встанешь ить, Роман Семеныч, возвернешься! И Аномалию твою словили мы! Сама до нас из балки дорвалась, целехонькая! Глядим, из ноздрей ажник полымем бьет — тебя потеряла. И раньше-то к себе не подпущала никого, а теперь и подавно. Твоя была — твоей и будет! И корпус — то же самое, уж ты не сомневайся!
— А про Халзанова чего слыхать, Мирона? — как будто отдирая закоченевший бинт от раны, ощерился больной и зашелся в хрипатом, выворачивающем кашле, не в силах продохнуть, освободиться, пока не выхаркал на подбородок сгусток крови.
— Да как с корпуса сняли, так ничего об нем и не слыхали. Чего там с ним в тылу — откуда же нам знать. Я думал, вам известно…
Жегаленка прогнала хожалка. Наутро явился другой посетитель — и Леденев опять недоуменно, недоверчиво-строго оглядывал немолодого человека, по виду кадрового офицера, с английскими усами и твердо загнутыми челюстями, с зачесанными надо лбом полуседыми волосами и умными собачьими глазами в золоченом пенсне. И так же недоверчиво и горестно, словно отыскивал на пепелище что-то дорогое, смотрел на него и вошедший, подсевший к койке человек.
— Ну здравствуй, Роман Семеныч. Веришь — не узнаю. Смотрю — вроде ты, а будто и не ты.
— Краше в гроб кладут? — виновато улыбнулся Леденев, и страшной показалась Клюеву вот эта жалко-виноватая, просительная в безнадежности улыбка — так она не пристала тому Леденеву, которого он знал.
— Э, нет, брат, погоди, — заспешил он. — Это белые тебя похоронили. То-то будет им радости, как восстанешь из пепла.
— А может, все, отвоевался? Отпустите меня? — не то поиздевался над собой, не то всерьез взмолился Леденев.
— А сам-то ты себя отпустишь?
— И корпус вернете?
— Ты, брат, поправляйся пока. А голове твоей мы применение найдем. Дела у нас нынче, как сам понимаешь, худые. Развернулся Деникин — прямой ему путь на Москву. И Врангель жмет на нас. Одной только конницы… да танки английские с аэропланами. И у Сидорина монгольская орда — от Хопра напирает. А корпус Буденного… твой, — поправился Клюев, — прорывы затыкает. Созна́юсь тебе: возможно и такое, что заберут его у нас. Зарубин отозван в Москву. Ну что ж, если так, то будем скрести по стрелковым дивизиям и войсковую конницу сводить. Так что нужен ты нам, пока жив, так-то, брат…
И это-то «нужен», произнесенное над человеком, который не мог затянуть в свои легкие достаточно воздуха и был бессилен, как спеленатый младенец, подействовало, ровно Иисусово «Встань и иди» на расслабленного, вернее как заклятие новейшего шамана, у которого вместо лосиных рогов, колотушки и бубна — полковая труба и кровавое знамя… По крайней мере, только этим мог объяснить себе Спасокукоцкий то, что видел, да и то лишь отчасти.
Разрезывая на груди пациента бинты, которыми тот был обкручен, как египетская мумия, прислушиваясь к хрипам за выпуклым заслоном мускулов и ребер, он обнаруживал, что легкое расправилось уже наполовину и запавшая правая часть грудной клетки начала раздаваться. То был естественный процесс, не раз им наблюдавшийся, но скорость его опрокидывала профессорское заключение: «Для расправления легкого потребуется полгода. Для полной трудоспособности — не менее двух лет».
«Что ж, может, в самом деле новый человек, — посмеивался внутренне профессор. — Сам себя воспитавший, словно йог на гвоздях, да так, что и все внутренние органы переродились. Питекантропы, неандертальцы, человеки разумные, а теперь вот, пожалуйста, сотворенная большевиками порода — железный Адам. Такой страстью к действию они одержимы, что кажется, и впрямь преследуют своим движением и смертью какую-то нечеловеческую цель. Будто Господь не испросил у них совета при создании мира, и надобно переменить строение вселенной, которое их не устраивает… А может, все же единичный случай? Природа создала такого для неведомого нам предназначения, а может, и вовсе без цели, одарив произвольно, случайно, как есть дар живучести у железного дерева или чертополоха. Какая-то, право, уродливая, едва ли не рептильная регенерация…»
— Вы до этого ранены были?
— Бывал, до трех раз.
— А контужены сколько раз были?
— А это что такое? — улыбнулся Леденев.
— С лошади сколько раз падали? — раздражился профессор. — Ну, так, чтоб свет в глазах померк и в голове потом с неделю бы мутилось?
— Ну тоже, кубыть, до трех раз. Вы, доктор, мне прямо скажите: гожусь я такой для ратного дела?
— Такой, как сейчас, вы годитесь только для полного покоя. Хотите прямо — вот вам, получайте: в ближайшие полгода придется думать, чем дышать. Сосновый бор и чистый воздух. В противном случае повалитесь с коня. Кашель повалит.
— Полгода, доктор, мне нельзя. На Дон, домой мне надо.
— Что значит «домой»? Очистить Дон от белых банд? Или, может, семья у вас там? Семья у вас есть? Дети, может?
— Отец, брат, сестра, — как будто и впрямь вспоминал Леденев. — Отстали они от меня, потерялись.
— А женщина ваша? Должна же быть у вас какая-то женщина.
— Какая-то должна.
«Нет, все-таки страшный, — подумал профессор. — “Отец, брат, сестра” — ни эмоции, ни полутона. Как будто и нет никого. Жена — война, мать — революция, а отец — верно, Ленин».
Спустя еще неделю Леденев был выписан из госпиталя. Голова его, бритая до синевы, с остро обтянутыми кожей скулами и челюстями, казалась голым, выбеленным черепом, в орбитах жили выпуклые, преувеличенные худобой глаза, и оттого было еще страшнее.
Ему отвели богатую дачу на Волге — господский деревянный дом со всеми службами и мрачно-величавой аллеей древних елей, с качелями и каруселью на лужайке. Живой, кровно-трепетной музыкой, под которую рос наравне с материнскими песнями, взвилось над усадьбой тревожное, гневное ржание, и перед ним, высокими ногами врывшись в землю, на двух натянутых струной волосяных чембурах застыла огненная кобылица, а вернее, прекрасный и чудовищный зверь с сухой, точеной головой, как будто освежеванной до кости, живой и мертвой в одно время. Такая у нее была, посмертной маской во всю морду, кипенная лысина при рыжей, почти красной масти. Дрожал просвечивающий храп, и уши ее были заломлены назад, прижатые так плотно, что, кажется, рукой не оторвать, глаз цвета черной крови, выворачиваясь, косил на Леденева презрительно и зло, будто уже не признавая в нем хозяина. Да, Аномалия. «Твоя была — твоей и будет», — вспомнил он и, как будто чего-то стыдясь, воровато, но уже наливаясь владетельной силой, протянул к ней здоровую левую руку.
Она не ударила и не отпрянула, и мелкие уши ее поднялись и вместе со всей головой потянулись навстречу, глаза стали девичьими, и вся она, уже приятно возбужденная, приобрела вот именно что женственное, нежное, влюбляющееся-отдатливое выражение.
В просторной гостиной с натертыми мастикой паркетными полами разглядывал повешенный на спинку черный френч, привинченный к карману круглый орден — под красным знаменем и перевернутой звездой скрестились молот, плуг и штык. Обтерханный буржуйский кофр-фор коричневой кожи. Исподнее, ремни, расстегнутая кобура, разобранный и вычищенный Мишкой вороненый кольт с коробчатым затвором-кожухом. Гроздь жилетных часов. Потянул золотые, открыл — фирмы Мозера, на крышке гравировка: «Герою революции тов. Леденеву в память славных побед…» А эти — призовые, еще царские, за скачки на смотру. Распухшая от записей тетрадь, промасленные, рыжие от старости брошюры графа Келлера — его, Леденева, евангелие, «Кавалерийские вопросы» вместо заповедей. И схемы, схемы, схемы в замусленных тетрадях: уступы, эшелоны, ударные группы, упрятанные маяки, маневры прорыва, охвата, клещей, завлечений, отточенные стрелы, пущенные в цель по беззаконным, непредсказуемым кривым, — вся сочиненная им музыка, всегда рождающая где-то в самой сердцевине существа собачье содрогание от заячьего следа, чистейшую детскую радость от овладения единственной на свете новой вещью.
Перебрал взглядом шашки, расставленные Мишкой вдоль стены: кавказские, драгунские, казачьи, с простыми медными головками, в черненом серебре, с убитых офицеров, с пленных генералов. Потянулся отсушенной правой рукой, не в силах совладать с ребяческим влечением, которое открылось в нем едва ли не в ту пору, когда научился ходить. По-детски неуклюже взял одну, неподъемно тяжелую, мертвую, и не то ее ножны потекли сквозь сведенные пальцы, не то пальцы — сквозь ножны. Едва не уронив, перехватил здоровой левой. Выпячивая губы, потянул клинок из ножен, погляделся, как в зеркало, в смутную, равнодушно-холодную гладь, рассеченную стоком, и взвешивающе качнул, как будто размышляя в раздвоении: оживить или злобно швырнуть ее в угол.
Так началось его «курортное» житье. Жили с ним Жегаленок, двое старых его вестовых, Разуваев и Постышев, и диковинно нежная, верно из гимназисток, молоденькая госпитальная хожалка Зоя, дававшая профессорские порошки и все безнадежней ругавшая его за курение. Вставал он до света, сосредоточенно, неспешно правил бритву на ремне, скоблил до кости похудевшее, золисто-серое лицо, спускался с крыльца, прохаживался по двору, ворочая в плечах руками, давая работу всем мышцам, костям, а главное, легким, вбирал живительный, настоянный на хвое воздух, дышал речной прохладой, бражным запахом легшей повсюду росы.
Шел к лесу, Жегаленок — следом, неся клубок ремней с наганами и шашкой. Вставал перед натыканными в землю хворостинами. Тянул клинок левой здоровой рукой и делал первое, неуловимое, начавшееся будто бы не здесь и не сейчас круговое движение кистью. Клинок запевал, рыскал ласточкой в воздухе, опрозрачневал в нем на секущем лету — косо срезанная хворостина вертикально втыкалась в песок заостренным концом. А вот с правой беда — и глуха, и слаба, как у малого. Не сбривал, а мочалил лозу — заваливаясь набок, повисала на лоскутьях… Ощериваясь, омываясь потом, кидал косые взмахи, все глубже прорубаясь в лес — до выворачивающего кашля, до кровавой пены на губах.
Дрожливо-непослушной правой подымал револьвер — кидая отдачей, лущило в плече, надолго отнимало руку и сбивало дыхание. Пули сеялись вроссыпь, в пустоту меж ветвями. Но вот уже пошли кучнее, и вот уже Мишка ножом выковыривал из тоненькой березки сплющенный свинцовый слиток посаженных одна в другую пуль.
Так продолжалось до обеда. Потом либо из города на дачу приезжали гости, либо сам он садился в тачанку и ехал в штаб армии. Наступление Шорина на Царицын захлебнулось. А десятого августа вновь сформированный корпус Мамантова прорвался у Новохоперска на стыке 8-й и 9-й и устремился на Тамбов. Все ждали и уже не ждали Леденева — смотрели на него с сомнением, даже будто бы с плохо скрываемой жалостью, с какою смотрят на больного, подозревая и боясь, что тот уже не станет прежним: жить будет, а действовать — нет.
Всех в штабе удивляла его необъяснимая покладистость: почему он не требует прежний свой корпус — шесть тысяч обожающих его бойцов? И не только не требует, но и вперед глядит с усталой болью старика, несчастного тем, что зажился на свете…
В один из дней, еще не доезжая до пышного особняка, увидел бешеную сутолочь: наводнением, взрывами распахивались двери, изрыгая на улицу заполошных штабных; писаря, вестовые, бойцы комендантской охраны волочили какие-то ящики, выносили знамена в чехлах.
— Троцкий, Троцкий приехал!.. — прокричал вестовой с граммофонным раструбом.
Леденев протолкался сквозь давку в кабинет командарма. Член Реввоенсовета Знаменский вручил отпечатанный на «ремингтоне» приказ:
«… Поэтому для дальнейшего наступления и разгрома противника приказываю, временно сведя для этого кавбригаду Гамзы (2 полка) и кавбригады 37-й и 38-й дивизий (по 2 полка в каждой), спешно сформировать конный корпус. Командующим корпусом назначаю т. Леденева, лихого бойца и любимого вождя Красной Армии…»
Грохнула дверь, и прямо к обернувшемуся Леденеву стремительно пошел знакомый человек, и схожий, и несхожий с сотнями своих фотографических изображений. Темный нимб шевелюры, ледышки пенсне, клювастый нос, остроконечная бородка и женски чувственные губы.
— Ну здравствуй, Леденев, — взгляд выпуклых глаз уперся в него, с такой вершины власти, что ничего уж человеческого выразить не мог, но вдруг глаза эти сощурились, как будто все-таки храня живое к Леденеву отношение — недобрую усмешку и даже застарелую обиду, смешную ему самому, но все равно незабываемую, потому что ничто так не может обидеть человека всевластного, как чье-то упорное непризнавание его над собой. — Покаюсь, вычеркнул тебя из списка живых. Заставили поверить, что не встанешь. — Заложив руки за спину, заходил взад-вперед, как будто разгоняя приводом невидимое колесо, нагнетая давление в паровозном котле. — Нет Бога милосердного, но тут История сама, ее беспощадная логика сохранили тебя, Леденев. Война есть божество, и война тебя любит. В игре, где на кону уничтожение проигравшего, само твое существование уже есть оправдание. Жив — значит, нужен революции. Для республики пробил решающий час. Ты и Буденный были правы. Нужны не просто кавдивизии, а массы, сравнимые по численности с полчищами гуннов. Я бросил лозунг: «Пролетарий, на коня!» К зиме сто тысяч человек подымутся в седло. Веди их, Леденев. Я дам тебе их. Немедля десять тысяч латышей.
— От свиньи не родятся орленки, а все поросенки, — ответил Леденев. — Казаки мне нужны. На коне родиться надо, а на сознательность ему накласть из-под хвоста.
— Та-ак… Продолжаем старый спор? Что, своего Халзанова не можешь нам простить? Но тебе ведь известно: помилован он. Да, отлучили от армии, загнали твоего Халзанова в Донисполком — заведовать противочумным кабинетом. А могли уничтожить, и тогда б ты не так обижался сейчас. И давай-ка откажемся от дальнейшего спора на этот предмет. Что такое один человек для революции? И что такое в свете исторического абсолюта целый сорт людей — любезных тебе донских казаков? У каждого, Леденев, своя воля, у каждого класса свои представления о том, что ему хорошо, и через них он либо забирает власть, либо, напротив, перестает существовать. Война устанавливает справедливость. Тебе ли не знать? Когда речь идет о жизни и смерти трудящихся классов, уже не до морали и привязанностей. Не до голоса крови. Казак, идущий с нами, перестает быть казаком, а всякий, кто держится за собственный кусок земли и древнюю икону, сочащуюся страхом, исчезнет с земли, как трава. Его сметет ветер Истории и прах его развеет. Не ты ли расстрелял двадцатерых своих красноармейцев, когда твоя бригада показала спины? И ты взял эту Гнилоаксайскую, взял. Ты знал, что если не убьешь, то рухнет фронт. Вот и мы, Леденев, так же знаем, что если не убить враждебную нам общность, то рухнет вся Советская Россия. Ну и при чем тут милость к павшим? Может, дело тут вовсе не в милости, а в том, что караешь и милуешь — ты? Свою власть любишь, а мою не признаешь? Ты, может, и меня хотел бы казнить или помиловать? А это болезнь, Леденев, опасная болезнь. И закончим на этом. Скажи мне прямо: ты со мной? Ты мой человек? И если да, получишь все. Я дам тебе конную армию, способную покрыть просторы, сравнимые с великой Чингисханией, я сделаю тебя вершителем Истории. Твори ее вместе со мной. Ты даровитый человек. Но политик из тебя равен нулю, да ты и сам, я полагаю, это понимаешь.
— Уж чего-чего, а это понимаю.
— Ну вот видишь. Ты меч. А я рука, которая заносит этот меч.
— Хозяин, стал быть, а я пес?
— Солдат, Леденев, слуга революции. Солдаты тоже служат, и ничего в том унизительного нет. У тебя, Леденев, сильная воля, но эта твоя воля может быть только в рамках иной, всеобъемлющей воли — тогда ты оставишь свой след на земле. Чего ты хочешь, объясни. Что, быть ничьим? Гулять, как Стенька? Закончить, как фигляр Григорьев? Как изменник Сорокин?
— А нельзя и меня, — спросил Леденев с не то издевательской, не то и впрямь просительной улыбкой, — в противочумный кабинет?
— Ну, значит, не со мной, — остановился Троцкий, глазами говоря, что может убрать его из революции хоть нынче же, проехать колесом и кости сломать, но в то же время злясь — не понимая этой непреклонной, самоубийственно упершейся породы, преследующей свою цель, как тот чертополох под колесом, как дерево, растущее в безвыборном давлении на чугунные копья решетки, все глубже впуская их жала в себя, но и способное согнуть их и раздвинуть, если его до срока не спилить.
III
Январь 1920-го, Северо-Кавказская железная дорога, хутор Привольный
Никуда не девалась пронизанная похоронным воем вьюги всемировая пустота и тьма, по которой неслись мириады секущих крупиц. Но вот из этой черной пустоты, как будто соткавшись из вихрей, косматые, белые хлынули всадники — живой, беспощадный буран. И свет отделился от тьмы. Ледяной чистый ветер засвистал в тонких ребрах: так вот какая это сила — революция! Все стало алым, заревым от одного лишь буревого лёта этих всадников, как будто вызволенных кем-то из вселенской тверди и раскаляющихся вместе со своими лошадями на лету, ибо небесные тела по преимуществу состоят из железа, — развеялся, исчез кипящий снежный прах, и места не осталось черноте на небосводе, засеянном сияющими Марсовыми звездами. Они уж не вихрились — размеренно текли перед глазами, эти всадники, и вот из их слитного алого тока неведомый выплыл один, приблизился к Сергею, склонился с седла и протянул ему товарищески руку.
Но вот перед глазами его встало сухое, желтоватое лицо товарища Студзинского, освещенное светом негаснущей лампы в ночи. Глаза сквозь пенсне смотрели печально и одновременно безжалостно.
— Я не хочу работать словом, когда можно агитировать руками, — упрямо повторил Сергей.
— А участие головою вы не предусматриваете? — усмехнулся Студзинский, и глаза его не засмеялись, глядя на Сергея, как на бесхвостого щенка: если выплывет, будет собакой.
— Я закончил командные курсы и дрался с Петлюрой… — ответил Северин, злясь от того, что голос без предупреждения срывается на мальчишеский писк.
— Да-да, триста верст прошли. А еще были секретарем курсантской комячейки в эскадроне, и это не мешало вам идти с товарищами в бой. Так почему же вы считаете, что должность комиссара — это мертвая работа? Если мы вас отправим на фронт. И не куда-нибудь, а к Леденеву.
Сергей онемел. Тот самый. Единственный, первый.
— Ну вот и хорошо. А теперь послушайте меня и не перебивайте. Я не имею непосредственного отношения к политуправлению армии. Я сотрудник ВЧК. Теперь нам понадобился такой человек — молодой, никому не известный, зато с задатками и некоторым опытом… ну, скажем так, разведчика. Не зная и азов, благодаря природной наблюдательности и именно что голове вы помогли нам выявить предателя Агорского. С двумя товарищами и одной девчонкой проделали работу всей Укрчека.
— Какую там работу? Совпадение, случай.
— Я просил вас не перебивать. А впрочем, да, отчасти повезло. А почему? Вы Агорского подозревали, а он вас — нет, не видел в вас противника. Вы были для него еще одним курсантиком, восторженным мальчишкой, и это дало вам преимущество — ну что-то вроде шапки-невидимки. Получилось, уж простите, как с ребенком, при котором обсуждают взрослые дела, полагая, что тот ничего не поймет. Но вы не мальчик, воевали. И должны понимать: если вызвали вас, значит, дело серьезное. Ответьте на такой вопрос: если б вам в первый день сказали, что Агорский враг, поверили бы вы? Начальник курсов, ваш наставник?
— А я не понимаю, что такое верить. Глазам своим верю, ушам. Касаемо Агорского — не верил, пока не убедился.
— А если я сейчас скажу, что комкор Леденев — скрытый враг?
Сергей не отвечал — весь воздух, сколько было в легких, скипелся и оледенел в его груди.
— Молчите — хорошо. Я не говорю, что он без сомнения враг. Глазам своим верю, делам, как и вы. Дела Леденева за него говорят. Но наша работа, товарищ Северин, — не только выявлять врагов в своих рядах, но и беречь для революции всех честных ее тружеников, отстаивать их ото всех несправедливых обвинений, которые, быть может, враги и выдвигают. Так вот, о Леденеве мы имеем множество самых разных суждений. Одни им восхищаются, другие обвиняют… в диктаторских замашках. Есть мнения таких наших товарищей, к которым мы не можем не прислушаться. И вот что вижу лично я: присматриваясь к Леденеву, и в самом деле начинаешь сомневаться. В нем будто бы два человека. Есть один Леденев — тот самый, всем известный, и военных заслуг его перед республикой никто не отрицает. Но есть и другой Леденев, как persona individuala, болезненно, до крайности себялюбивый. Донской иногородний, воспитанный в среде служилых казаков — особого сословия, военщины. Солдат, который с бешеным упорством пробивался в офицеры, любя чины, награды, власть. И он получил эту власть. Огромную славу, огромное влияние на массы. И вот уже не видит себе равных. Не признает партийного начала над собой. Никого из истории вам эта личность не напоминает? Да, да, Бонапарта. У нас ведь их хватает — смешных, карикатурных, но и вреда от каждого такого… Страшный сон для чекиста. Вы знаете, к примеру, под каким он знаменем воюет? Под красным, под красным, но тоже будто под своим. Буддийский бог войны на нем изображен. У калмыков забрал и сделал своим личным бунчуком. Не революцию несет — себя. Себя как революцию. По крайней мере, любит производимый им эффект.
— Ну и что из того? Я вот видел у наших медведя. Символизирует освобожденный пролетариат — будто Троцкий придумал. Если белые, бога того или зверя завидев, напускают в штаны, так и польза.
— Двоится Леденев, — повторил Студзинский непреклонно. — С умом-то его все понятно, но это ум военный — хирургический скальпель, а в каких он руках, что за умысел: исцелить революцию или зарезать? Ведь он, повторюсь, из крестьян. Быть может, ни одной хорошей книжки за всю жизнь не прочел — когда ему было читать? Шесть лет на войне, а до этого в лямке да в поле. Ну вот и понял революцию как дикую, ничем не ограниченную волю: «я силен, а значит, мне все можно». Несет бакунинскую ересь: раздайте, мол, крестьянам землю, и они на ней сами как-нибудь все устроят, без большевистской диктатуры, без ревкомов. С одной стороны, у него железный диктат, жестокость ко всем непослушным, то есть непокорным ему лично, а с другой стороны — христианская, а вернее, поповская благостность, которой его напичкали в детстве. Ну жалко ему донских кулаков — у них ведь тоже жены, тоже детки. Слюнтяйство, выдаваемое перед самим собой за милосердие. И это в лучшем случае. А в худшем — нелюбовь к Советской власти, которая в его глазах всем крестьянам чужая… — Студзинский закашлялся и замолчал, вставляя в черепаховый мундштук очередную папиросу.
— А Ленин говорит на этот счет, — сказал Сергей, — «думай как хочешь и о чем хочешь, и только если выступишь с оружием, тогда тебе не поздоровится».
— Так вы нам, выходит, подождать предлагаете, пока он проявит себя? Спасибо, годили уже. С Сорокиным, с Григорьевым. Нам нужно понять его — кто он. Наш верный боец или военный честолюбец, а может, анархист махновского толка. Нам надо его не разоблачить — возможно, и разоблачать-то нечего, — а именно понять. Возможно, он и сам себя пока не понимает. Вот и надо залезть к нему в душу.
— И что же я могу? — не вытерпел Сергей.
— То же самое, что и с Агорским. Не вызывая подозрений, слушать, наблюдать. Пошлем вас к Леденеву военным комиссаром корпуса.
— Да какой из меня комиссар? — рассмеялся Сергей, ощущая, как его подняла и уже понесла на невиданный Дон абсолютная сила. — Ну эскадронным, полковым — еще куда ни шло.
— А может, нам и надо, чтоб вас подняли на смех — сосунка, молоко на губах… Вы поймите одно: он комиссаров вообще не признает. Не видит. Ему совершенно без разницы, кого к нему пришлют. Кого ни посылали — всякого уничтожал. Морально, но есть подозрения, что кое-кого и физически.
Сергей совсем похолодел.
— Мы бы послали человека опытного, испытанного, старого большевика, хитреца, дипломата, но, знаете ли, трудно совместить в одном человеке все требования. Чтоб не имел такого вида, что приехал ломать об колено, чтобы сам не ломался и чтоб при этом обладал… ну, дедуктивными способностями, что ли. Еще одно необходимое условие — чтоб он был Леденеву под стать. Ну как боец, как конный воин. А вы как раз кавалерист, по крайней мере обучались…
Сергей почувствовал тот страх, какой испытал на врачебной комиссии курсов, взмолившись бог знает к кому, чтобы его признали годным.
— На первое время, я думаю, этого будет достаточно, — усмехнулся Студзинский. — Есть у нас один ротмистр, горец. Так сказать, чемпион царской армии по фехтованию. Поднатаскает вас немного. Вы, Северин, коль согласитесь, поедете не просто в боевую часть, а как Марко Поло к монголам в орду. В своеобычную и, прямо скажем, полузвериную среду, где сильный уважает только сильного. Покажете себя — и Леденев признает вас за человека. Вот, скажем, прежний комиссар — надежный большевик, но вот интеллигент, и все тут. Буквально кожей ощущал свою ущербность рядом с этими центаврами. А тут болезнь еще, чахотка… Ну, что скажете?
— Не понимаю. Подозрений ваших. Ведь сами сказали, что он-то и есть сама наша Красная армия. Историю ее писал с самой первой страницы.
— Так ведь история-то наша еще пишется. И сразу набело, с помарками да кровью человеческой. Не надо бы печальных глав. Согласитесь помочь — получите все нужные материалы. Еще раз повторяю: никто не ставит целью уничтожить его. Это было бы глупостью и прямым преступлением. У нас сложилось мнение, что он обижен. Вы, наверное, знаете, что полгода назад он был ранен, и корпус его отдали Буденному. И вот у Буденного целая армия, а Леденев отстал, застрял в комкорах — это он-то, который был первым всегда и во всем. Вы что же, не верите в такое мелочное себялюбие? Но знаете, я не советую вам навязывать чужой душе свои представленья о ней. Может плохо закончиться — разобьете свои идеалы. Вы этого человека ни разу не видели. Он может оказаться много лучше, а может — много хуже, страшнее, чем вы о нем думаете… Ну так что, вы согласны?
— Согласен, — ответил кто-то изнутри Сергея, но в то же время находящийся как будто вне его и выше…
Он задремал под полстью на подводе средь завывающего мрака и неистового крутева метели — и вот пробудился: вокруг по-прежнему была слепая мгла, но ему объявили: приехали, и он различил в этой мгле притрушенные снегом соломенные крыши куреней. «Привольный, тарщкомиссар». Название хутора показалось издевкой — он был придавлен темным небом, полонен, запружен колготящимся скопищем лошадей и подвод, верховых, пеших красноармейцев, едва ли не дерущихся за хаты и сараи. Раскрытые хаты, когда-то, должно быть, нарядно беленные, угрюмо темнели нагими, сырыми стенами, плетни были повалены, воротца полусорваны с петель. Красноармейцы обдирали соломенные крыши, несли коням охапки этой жалкой, отсырелой соломы, волочили чувалы, корыта с овсом, какие-то бочки, тулупы…
«Ведь грабят», — как-то вяло, обреченно возмутился Сергей…
В глаза ему кинулось множество верховых лошадей — неужели настигли? неужели вот эти и есть леденевцы?.. Он будто бы и вправду ждал увидеть каких-то иных, небывалых бойцов — не то чтоб исполинов, но все-таки особенных людей, но на каждом дворе пресмыкались такие же, согбенные под ветром, обмороженные, серебряно-седые с ног до головы скитальцы; запорошенные, как будто полустертые пургой, безликие и безымянные, они казались призраками; казалось, чуть сильней порыв — и их сотрет вовсе, оторвет от плетней, от коней, от хлопающих на ветру брезентов и полстей, подымет, унесет, затянет в завывающую пустоту, против которой человек, и жизнь его, и вера не могут и не значат ничего.
— Вот и наши, Сергей Серафимыч, — подтвердил оживившийся Болдырев. — Вторая Горская бригада. Должно быть, и штаб тоже тут — тыловой. Эй ты! Подь сюды!..
Сергею уж и самому хотелось только одного — уйти с озверевшей земли, забиться в людское тепло, приникнуть к натопленной печке, согреть задубевшие руки на кружке с кипятком.
Сквозь гущину обындевелых яблонь засерел серый дом с мезонином, и вдруг откуда ни возьмись, как будто из-под снега, возникли на дороге целых пятеро безликих, в косматых папахах, с винтовками наперевес.
— А ну стой! — поймали под уздцы всхрапнувших, заволновавшихся гнедых. — Руки! Руки из карманов! Сдавайте оружию!
— Глаза разуй! Не видишь, кто?! — прирявкнул Болдырев. — Военком новый прибыл!..
— А по мне хучь всей армии, потому как при наряде мы! Вытряхай кобуры!
Сергей задергал заколодевшую крышку. Аболин достал вычищенный вороненый наган, протянул караульным не глядя.
Начальник караула по фамилии Неймак, черноусый, подбористый кавалерист в защитном полушубке и красных галифе, изучил документы Сергея и вопрошающе взглянул на неподвижного Аболина.
— Мне, товарищ, сапог надо снять, — ответил тот, подняв свои большие непроницаемо-тоскливые глаза.
— Да проведите нас хоть в сени, — потребовал Сергей. — Замерзли, как цуцики. Куда ему деваться? А убежит — пускай околевает.
Вошли в натопленную комнату. Писаря, вестовые, штабисты. В углу у окна неумолчно стучал аппарат, второй телеграфист снимал с крутящегося колеса ползучую ленту.
Присев на сундук, Аболин с усилием стянул сапог и начал ковыряться в голенище, пытаясь отпороть подкладку, — замерзшие руки с худыми и длинными пальцами слушались плохо. Наконец уцепился и вытянул смятый, прогнувшийся по икре документ, протянул Неймаку.
«Документики такие к любому человеку можно прилепить, — припомнились Сергею слова особиста на станции Миллерово, где его самого заподозрили черт знает в чем, и только шифрограмма штаба армии подтвердила саму его личность. — И правильно — чего ты в них надеешься прочесть? На просвет их разглядывать будешь, как бумажные деньги, которые давно не стоят ничего? Смотри на человека, слушай, примечай… Забыл, дурак? Знаком он с Леденевым, и в этом сомнения нет. А почему же нет? Со слов его? По тону, по улыбке? Нет, брат, чепуха это, кажимость. Признает его Леденев — вот тогда…»
Пристроившись у печки, сняв скоробленную, гремевшую, как жестяная, шинель, которая намокла и замерзла от метели, он обратился мыслью к Леденеву. Раскрыл перед мысленным взором ту тяжелую, пухлую папку, которую ему дозволил просмотреть Студзинский, и вновь испытал то же чувство снедающего любопытства и стыда, как будто «дело» Леденева собрали не чекисты, а ищейки из царской охранки.
Поверх лежали две парадные фотографии — одна в защитном, а другая в черном френче и с орденом Красного Знамени на левой стороне груди. Обычно фотографии в газетах почему-то как будто роняли, даже и разрушали тот образ героя, который сложился в представлении Северина. Казалось, что в лице «такого человека» не должно быть обыденного, ни единого признака слабости, а уж тем более чего-то несуразного — и вот вместо лика с пронзительным взглядом являлась заурядная физиономия, которую не вырубили из гранита, а слепили из кислого теста, бессмысленный или испуганный взгляд, разлатая сопатка вместо носа, курячье гузно вместо твердого, повелевающего рта. И даже если человек на фотографии — и вживе — оказывался видным, существовавший в представлении Сергея образ все равно размывался, уходил, вытесняемый настоящим лицом человека из кожи, с морщинками, оспинками. А уж когда увидишь вживе…
Лицо всегда лжет, решил он для себя, — то есть не имеет отношения к тому, что внутри человека. Лицо героя может быть любым, а чеканный красавец, на котором так ловко сидит гимнастерка с ремнями, — оказаться мерзавцем и трусом. Но почему же мы с такою жадностью впиваемся в лицо любого незнакомца, гадаем по глазам, надеясь увидеть в них душу, и сколько описаний лиц находим у Толстого, Лермонтова и Тургенева, как будто непонятно, что истинная сущность проявляется только в делах? И не только гадаем, но и с первого взгляда проникаемся чувством симпатии, даже сродства или, наоборот, неприязни, а потом уже редко когда изменяем тому изначальному чувству, которое продиктовали нам одни наши глаза?
Да и влюбляемся в лицо ведь. Не обязательно в красавицу, но именно в лицо — все остальное у нас, в общем, одинаковое, а вот лицо у каждого свое, какое есть, его не переменишь. Невозможно сказать ни о чьем: «лучше всех», так как не с чем сравнить.
Унюхать врага, как звери охотника, люди не могут — с того и тянутся к единственному, что у каждого из нас неповторимо: а по чему еще судить, хотя бы и гадая и обманываясь? Другого и нет ничего. Пока там до дела дойдет.
Бритоголовый, гололицый человек надолго примагнитил северинский взгляд. В лице и вправду было что-то от перемалывающей силы жернового камня. Высокий еще и в счет бритости лоб не то чтобы надломлен усилием какой-то трудной мысли, но как бы выдает искание какого-то единственного звука, какого-то неведомого равновесия (тут он, должно быть, все же навязал вот этой голове свое представленье о ней как о таинственном и драгоценном аппарате). Крутые, выпуклые скулы, не то прямой, не то горбатый (в три четверти не видно) хрящеватый нос, широкий, тонкогубый рот, казалось неспособный улыбнуться, только двинуться в речи — смолоть. И именно такому взгляду присущи были эти лоб, и рот, и скулы: глаза большие, светлые, прорезанные в форме просяного зерна и никакие не пронизывающие — скорее отрешенные, обращенные внутрь, смотрящие куда-то мимо объектива, сквозь тебя, а если и ломающие встречный взгляд, то будто и сами того не желая и умея смотреть на людей только так.
А ведь и вправду будто бы двоится — при всей законченности, цельности, неизменимости вот этого лица. Спустя полминуты поочередного разглядывания Сергею помстилось, что с двух фотографий глядят два разных человека.
Один, при первом ордене республики, был пойман в минуту какого-то освободительного равновесия, согласия с собой самим — и выражение лица имел такое, словно весь этот переразгромленный мир его совершенно устраивал, словно его-то, Леденева, и предназначили, призвали перетворить все мироздание, и он-то и знает, как надо.
Другой же, без ордена, был словно придавлен какой-то невидимой тяжестью, смотрел, как из земли, которой его завалили по шею, из себя самого, как из плена, широкоплечей и широкогрудой молодой тюрьмы — не то чтобы затравленно, но с какой-то неясной тоской, не то приготовляясь, не то уже оставив все попытки подняться из кресла, пересилиться, вырваться вот из этого френча и этого предназначения, из судьбы, из того Леденева, каким его знает весь Дон, вся разделенная войной Россия и которым он сам себя сделал.
«Да ведь тут он в победе, а тут в поражении, — поспешил объяснить себе это двоенье Сергей. — Верно, после ранения. Смотри, как держит руку, — чужая, что протез. И обмяк, будто в теле ни одной целой кости. Но уже пересилился, встал и опять за собой тащит фронт… А почему на этой фотографии, позднейшей, нету ордена Красного Знамени?..»
Встряхнулся оттого, что в горницу вошел сутуловатый, долговязый человек, почти такой же молодой, как Северин, и удивительно белявый, чуть не альбинос, с длинным, голым, лобастым лицом, в котором было что-то фанатически упорствующее, староверчески строгое, обшарил их с Аболиным голубоватыми, как будто травленными чем-то до бесцветности глазами, остановился на Сергее с мрачным оживлением, с каким провинциальный начинающий поэт глядит на столь же юного собрата, сидящего в очереди к знаменитому, принеся на оценку стихи.
— Шигонин, начпокор, — протянул ему руку. — Прошу вас заглянуть ко мне.
— Да-да, — сказал Сергей, одергивая гимнастерку. — А это вот, знакомьтесь, Аболин, ростовский подпольщик. Как у вас в политотделе — хватает людей?
— Людей не хватает катастрофически. Так что каждому твердому большевику будем рады.
— Предпочел бы увидеть начштаба, — отчеканил Аболин, — или начальника оперотдела. Необходимо срочно сообщить командованию корпуса: в укрепрайон под Персияновкой переброшены танки.
Штаб загудел.
— Слыхали такую брехню, — сказал широкоплечий рыжеусый штабист. — Нагнал уже Колычев страху.
— Слыхали, а я подтверждаю, — пожал плечами Аболин. — Не такая уж это фатальная сила, но все-таки людей необходимо морально подготовить. Второе: на высотах сосредоточены не меньше десяти тяжелых батарей — по большей части гаубиц шестидюймового калибра. По миллеровской ветке действуют три белых бронепоезда: «Ермак», «Илья Муромец» и «Атаман Каледин». На каждом до десятка корабельных орудий предположительно двенадцатидюймового калибра. Возможно, вам уже известно все это, но если нет, пошлите в части вестовых.
— Да-да, товарищи, немедленно, — усилился сделать свой голос железным Сергей, почувствовав, как щеки у него калятся от стыда: мальчишка! кочетком заливается!.. и еще больше покраснел от осознания, что неуклюже подражает метрономной четкости Аболина.
И тут же почудилось, что все вокруг прячут улыбки или косятся друг на друга с брезгливо-жалостным недоумением, поняв, что он фук и комиссаром корпуса, громады быть не может… А следом вовсе уж безумное явилось представление: что — силами ЧК и Реввоенсовета! — поставлен идиотски-издевательский, бессмысленный в своей огромности спектакль: назначить его, сопляка, военкомом, как прежде венчали на царство юнцов, слабоумных, всучали им державу и скипетр вместо игрушек, а сами плели сети заговоров, душили дремучий народ царским именем.
Шигонин ввел Сергея и Аболина в соседнюю натопленную комнату, где стоял тот всесильный, неистребимый дух бумаги, газетных завалов и тлена, какой присущ редакциям и канцеляриям и от которого Сергею хотелось убежать.
— Присаживайтесь к самовару. Вот, пожалуйста, хлеб, сахар, сало… А вообще у нас снабжение в печальном состоянии. Обозы отстают на много суток, бригады себя сами обеспечивают, то есть по сути живут грабежом. Гнусно, стыдно, позорно. Идем по Дону, как монгольская орда.
— И что же думает комкор? — спросил Сергей, беря дымящуюся кружку.
— Так у него на все один ответ: без сена лошадь не идет, без грабежа весь корпус встанет.
— А разве не так? — сказал Северин. — С голодными конями как же наступать?
— Так что же, и грабить? — взглянул Шигонин с мукой. — Порочить Советскую власть?
— Тут надо как-то разъяснить, что сейчас революция требует, чтобы каждый пожертвовал чем-то — личным благом, куском, сеном, хлебом.
— Речь не только о хлебе и сене, — усильно выжал из себя Шигонин. — Отбирают имущество, драгоценности, золото. А это, знаете ли, вовсе… никакая не Красная армия, а разбойная вольница. Говоря откровенно, пример подает сам комкор.
— Тащит золото?
— Он прямо объявил бойцам: что добудете — ваше. Возьмете город — ваш на двое суток. Да и сам образ его жизни. Свой личный табун — до дюжины отборных скакунов, не говоря уже о том, что всем конезапасом корпуса распоряжается как хочет, и вкус к одежде соответственный, к богатому оружию. А бойцы подражают: если их командиру все можно, то и им, надо думать, пограбить не грех.
— А вы какой хлеб едите? — осведомился Аболин.
Онемевший Шигонин посмотрел на него, как соляная кислота:
— Всякий ем. А иногда и никакого, знаете ли. Да, есть у человека первичные потребности, животные. Приходится питаться в долг у населения, но если уж на то пошло, из имущества у меня — этот чайник и бритва. А во-вторых, ответственности я с себя за наше мародерство не снимаю.
— Ответственность? — хмыкнул Сергей. — А делаете-то вы что?
— А я подавал свои мнения товарищам Колобородову, Анисимову, Шорину, и вам, полагаю, об этом известно, — поджал Шигонин губы.
— Ну а с бойцами-то, с бойцами говорили?
— Давайте уж начистоту и по порядку. Корпус наш существует всего четыре месяца. Да, грозная сила, из бывалых бойцов. Но что такое корпус в политическом, в моральном, в большевистском отношении? Одно слово — сброд. По настоянию Леденева все бригады пополнены не кем-нибудь, а пленными белоказаками, и это, между, прочим, до трети личного состава. А нам до сих пор не хватает воспитанных, твердых товарищей. Людей в политкомы берем из собственных же полковых ячеек — все больше крестьян, казаков, вчера только принятых в партию, а лучше бы, как сами понимаете, рабочих. Отношение массы бойцов к коммунистам, скажем так, не всегда уважительное. Представления о социализме полудетские-полудикарские, сказочные. «Чего раньше нельзя было, все теперь стало можно», «наше время — гуляй». Это не революция — это бунт дикой вольницы, крестьянский бунт, казачий, именно казачий, который хочет лично выиграть от революции и ничего не потерять. Земля и воля — вот их лозунг. Земля, что была у них при царе, и воля награбить чужого добра. Кого ни возьми, везут в переметных сумах барахло, перстни, кольца, монеты. У одного только бойца карманных часов четырнадцать штук…
Аболин издал какой-то всхлипывающий, хрюкающий звук. Сергей покосился — сидит с непроницаемым лицом.
— И идет это не от кого-нибудь, а от комкора, — продолжал, распаляясь, Шигонин. — Это он планомерно внушает несознательной массе, что политкомы в Красной армии — не то что люди лишние и бесполезные, но и прям-таки вредные. Он нас не замечает, при каждом случае высмеивает — причем в выражениях самых грубых и хамских, которые понятны этим людям.
«Ишь ты, какой аристократ», — подумал Сергей неприязненно, разглядывая постное лицо Шигонина.
— Для них мы как бы низший сорт людей. Болтуны, щелкоперы, обуза, не умеем скакать на конях…
— А вы умеете? — не вытерпел Сергей.
— Ну, знаете ли. Я же не спрашиваю Леденева, сколько книг он прочитал, знаком ли он с трудами Маркса, Либкнехта, Лассаля, поскольку я-то понимаю, что читать ему было и негде, и некогда. Пусть каждый приносит ту пользу, какую он способен принести. В конце концов, мы что же, прячемся в тылу? Бережем свои шкуры? А он от воспитания отказывается. Воспитывает корпус в духе идолопоклонства, и идол-то этот — он сам.
— Факты, — попросил Сергей. Перед глазами его снова стали перелистываться подшитые, проштемпелеванные, в порядке важности уложенные рапорты, докладные записки, протоколы допросов, машинописные и от руки, все больше летящим, поставленным почерком.
«Перед нами не вождь Красной Армии, а развращенный мелкобуржуазный выродок с большим самолюбием и мелким тщеславием, военный честолюбец, увлекающий за собой подчиненных ему людей, не отдавая себе отчета, куда и на что их ведет».
«Взгляды этого “диктатора” поражают своей сумбурностью и демагогичностью. Он хочет немедленно полной свободы для всех без исключения граждан, не то делая вид, не то и впрямь не понимая разницы между белым террором и нашим, направленным на классовых врагов трудового народа… Не то это осел между двумя стогами сена, не то опасный демагог и провокатор, который сознательно настраивает вверенную ему массу против партии большевиков».
«Не сегодня, так завтра он постарается повернуть штыки. Если этого не делается сейчас, то только потому, что он не чувствует твердую почву под ногами…»
«На вопрос, почему он не носит орден Красного Знамени, Леденев в моем присутствии ответил, что не хочет носить награду за убийство казаков — своих кровных братьев».
Многие докладные были за подписями виднейших большевиков, фамилии которых не сходили со страниц «Известий» и «Правды»… «Да если все так, как написано, почему же не трогают и дают воевать? Когда же он намерен повернуть штыки? Сметем Деникина — тогда?.. И почему же нет записок от краскомов, от сугубо военных людей? От одного только Гамзы, комбрига, челобитная: Леденев виноват, потому что меня невзлюбил, воевать не умею, потому что он сволочь… А ведь этот Шигонин больше всех и старается, пишет…» — вспомнил он и опять неприязненно начал слушать того:
— Открытое пренебрежение к нам, комиссарам, налицо. Леденев не на нас опирается, а исключительно на собственную славу и авторитет. Окружил себя бывшими белоказаками, превратил их в каких-то своих янычар. А те-то, конечно, — одно лишь его мановение — сделают все. Не дрогнув, не задумавшись. А как же — ведь спас от суда, а многих, надо думать, и от верной смерти. И в штаб набрал людей по собственному произволу. Неугодных изгнал, уничтожил морально. Об начальника штаба Качалова буквально ноги вытирал. А новый, Челищев, — из бывших офицеров, невероятно скрытный тип, что называется умеренность и аккуратность. Пишется из крестьян, а по виду и не скажешь.
— По виду судить — у нас половина штабов опустеет, — сказал Северин, намеренно открыто посмотрев в глаза Аболина.
Аболин улыбнулся ему, как учитель смышленому ученику.
— Начоперод же Мерфельд — вовсе дворянин и того не скрывает. Стоит за европейский парламентаризм и против пролетарской диктатуры, особенно когда напьется. Он, знаете ли, склонен — пьянка, женщины, устроил из штаба офицерский бардак. А комкор их обоих приблизил.
— А с комбригами как? — перебил Северин. — С комполками?
— Комбриг Трехсвояков — по сути своей партизан, атаман, хотя никаких разговоров против Советской власти не ведет. Комбриг-три Лысенко настроен к нам открыто, недавно принят в партию, но и для него Леденев идеал. А вот Гамза, комбриг-один, отваживается спорить, за что Леденев его невзлюбил, называет бездарным, третирует. А Гамза, между прочим, в Красной армии с первых же дней. И, так сказать, обижен не меньше Леденева, даже больше: с дивизии был снят, понижен до комбрига, но при этом не ропщет, а делает дело.
— А Леденев чего же, проклинает?
— Я изложил вам факты, а выводы делайте сами. — Глаза Шигонина пригасли, словно он обманулся в Сергее и уже ни на что не надеялся.
— А как вы объясните, что комкор до сей поры не коммунист?
— А так и объясню, — проныл Шигонин, — что коммунистом он себя не видит. — Помялся и вытолкнул: — Вообще-то в прошлом месяце он подал заявление, но сделал это как-то… в общем, принужденно.
— Как нераскаявшийся грешник в церковь ходит, — подсказал Аболин.
— Да, ну и что? — разозлился Сергей. — Герой Красной армии стучится к нам в дверь, а мы ему не открываем? Быть может, для начала впустим, а там и он нам исповедуется?
«Черт знает что такое. Студзинский всем этим наветам не верит, но разве же могут товарищи Смилга, Брацлавский обвинять голословно?..» — Он вдруг и вправду ощутил себя ребенком, зачем-то принимающим участие в непонятном ему взрослом деле. Такая смутная, давящая тоска вдруг находила на него в далеком детстве и мечтательном отрочестве, когда в предчувствии неотвратимого взросления осознавал, что вот закончит он гимназию, поступит в университет, по примеру отца станет доктором, ординатором в земской больнице и будет вынужден заняться тысячью скучнейших, неотменимых мелких дел, в которых ничего не понимает и не желает понимать: взаимными кредитами, счетами, копеечными радостями выгодных покупок, хождением по разным канцеляриям — мушиной возней, мельтешней, заслоняющей что-то единственно главное, ради чего и посылается на землю человек.
А тут была не просто скукота — в свинцовые ряды и писарские кружева была, как в клетку, забрана судьба живого человека, да еще и того, кого он, Северин, почитал за героя, воплощение красного ветра.
«Война — занятие не для детей», — припомнились ему слова отца, пытавшегося удержать его от ухода на фронт, и он снисходительно им усмехнулся, жалея об утраченной прозрачности и детской цельности сознания. Как раз в бою и ясно все настолько, что можно ни о чем уже не думать, кроме боя самого…
В дверь кто-то резко постучал — Шигонин вскочил и выбежал в сени, вернулся с распечатанным пакетом:
— Вот, от Челищева. Немедля отбываем в Александро-Грушевскую.
Они поднялись одеваться…
— Ну и что вы обо всем этом думаете? — вперился Сергей в отрешенные глаза Аболина, когда они сели в тачанку.
— Я думаю то, что, не зная его, вы почему-то сразу встали на его защиту.
— Но вы-то его будто знаете — вот и скажите мне, что он за человек. Разделяет он наши идеи?
— А что такое наша идея? Учение Маркса — материализм, он говорит нам не о Боге и спасении души, а о свободе трудового человека и о средствах производства. Ну вот мужик и понимает социализм материально, то есть приземленно. Он не спрашивает вас о мировой гармонии и будущем всечеловеческом счастье, он спрашивает: что вы мне дадите? И мы, большевики, пообещали ему землю, машины, отобранные у богатых. Вот за это-то он и воюет. Земля и есть его свобода и единственное чаемое счастье, причем своя земля, своя, заметьте, которой у него никто не отберет.
— И Леденев — за землю?
— По сути, да, за ту же землю, за себя самого. Разве что он не пахарь и ему не земля нужна — армия. Как землю мужику, большевики пообещали ему армию, и он поверил в революцию — не отвлеченно, не умом, а именно инстинктом своего самоосуществления. Всей своей требухой — это не сомневайтесь. Но если вы вдруг отберете у него его силу и власть, то никакой уж веры в коммунизм не ждите — все его естество будет против.
— Так и не надо отбирать — зачем? — засмеялся Сергей. — Для того и революция, чтоб каждая личность предельно развила свои способности.
— Ну, вам осталось только объяснить эту простую истину всем тем товарищам, кто хочет удалить его от армии, боясь получить мужицкого Наполеона.
— А сами-то вы, сами, как к нему?..
— Одно могу сказать точно, — понизил голос Аболин, подаваясь к Сергею, чтобы возница не услышал его речь, — к белым он не перейдет ни при каких условиях.
— Почему же вы так уверены?
— Он ненавидит аристократию, смертельно, как волки ненавидят собак. И вас, кстати, тоже.
— Кого это «нас»? — не понял и дрогнул Сергей.
— Таких, как вы, как я, как Шигонин, — словом, интеллигенцию, не важно, по какую сторону окопов. Вы из какой семьи, простите? По крайней мере, точно не мужик и не черный рабочий, ведь так?
— И за это ненавидеть?
— А за что же еще? Ведь это-то и есть неравенство, причем куда более мучительное, чем между богатством и бедностью. Бедность что — любое материальное имущество можно обобществить, а чтобы научиться понимать стихи, возможно, и жизни не хватит. Для этого нужны среда, преемственность. Да и богатство-то, верней определенный уровень достатка — это и есть необходимое условие культуры. Ну представьте себе: вы у книжного шкафа росли, какой-нибудь барчук и вовсе воспитывался гувернером и на трех языках лепетал с колыбели, а Леденев до производства в унтеры ни разу досыта не ел. Так как же ему нас не ненавидеть? За нашу музыку, стихи — господские, по сути, то есть недоступные ему. Он хочет аристократического по-своему государства, мужицкого, да, а верней, для себя — мужика. За то и воюет с вчерашним хозяином русской земли, военного искусства, книг, дворцов. И в Красной армии себя аристократом держит, то есть требует самого лучшего, но не по праву происхождения, а именно по праву личной силы.
— Так это же для всех, — сказал Сергей.
— Что для всех? — Аболин посмотрел на него с гадливо-жалостной улыбкой.
— Науки, книги, музыка — для всех! — воскликнул он с глухой, ожесточенной убежденностью. — За это и воюем.
— За это вы воюете, — не дрогнул ни единой жилкой Аболин. — А Леденев вас спросит: ежели для всех, какой же я тогда аристократ?
Сергей онемел. Никогда он не слышал такого от большевика. Ему показалось, что этот человек не то чтоб издевается над ним и надо всем, во что они оба обязаны верить, но убежден, что вековое, всемирное неравенство людей победить невозможно.
Лицо и твердые, непроницаемо-печальные глаза Аболина совместились с другим, ненавистным лицом: на Сергея бесстрашным, презирающим взглядом поглядел вдруг начальник их курсов, заговорщик Агорский, стоящий у облупленной стены перед расстрельной их шеренгой, и Сергей, вырастая, огромнея, выкрикнул: «товсь!» Глаза Агорского — Аболина вдруг мигом расширились, как будто изготовясь взглянуть во все себя на что-то ослепительное, голова инстинктивно втянулась в поджатые плечи, и весь он подался вперед. «Ага, боишься, сволочь!» — Сергей, ощущая прозрачную твердость кристалла, скомандовал: «Пли!» Словно в самой его голове, в клетке ребер раздавшийся залп швырнул его в неизмеримую, сияющую высоту. А где-то внизу, на далекой земле, Агорского толкнуло к стенке, и, весь как-то разом осев, он упал на лицо. И было небывалое преображающее чувство — своей алмазно твердой, цельной правоты, добела накаленной, беспримесной ненависти к ядовитому гаду в человечьем обличье, давить которого необходимо и естественно, такое чувство, будто кто-то смотрит на Сергея свыше — одушевленная, по высшей мере строгости взыскующая сила. Но вместе с этой правотой, а может и под нею, под бронею долга, он почуял ничем не объяснимое и не оправдываемое возбуждение, отчасти и пугающую радость своей звериной мощи. Откуда же эта животная радость?
«А вот откуда! — поспешил объяснить он себе, с нескрываемой злобою вглядываясь в Аболина. — Ну что ж ты замолчал? Поговори еще, поговори! Покажи, кто ты есть… Не выйдет, значит, да? Не будет книг и музыки для каждого? И Леденев-то в революцию пошел, ровно зверь за поживой, из одной только злобы на свою нищету, за одной только силой и властью для себя самого? Подлец человек, и как делились люди на хозяев и рабов, так и будут делиться? Ну, так?..»
— Мы с ним не виделись почти два года, — сказал Аболин, ничем не выражая ни смятения, ни спешки оправдаться. — Мировоззрение его могло за это время измениться. Да, он самолюбив, он хочет славы… А разве вы, простите, не хотите — стать еще одним именем доблести? Чего ж в том постыдного, если слава заслуженна? Да, он не признает оглобли, да, требует определенной автономии. Да, беспощаден к своим людям, но согласитесь, армия — по сути своей среда антидемократическая. И для того, чтобы вести людей на смерть, нужны особенного склада люди, такие, как он, Леденев. Война — его предназначение. И в этом смысле он аристократ. Причем аристократ по праву — ведь он и себя не жалеет, и ничего не требует от собственных людей, чего бы не делал он сам. В конце концов, спросите их самих, — кивнул на шинельные спины плывущих по четверо в ряд леденевцев, — кого они в нем видят.
С Сергея как будто бы морок сошел: да какой же он враг? С каких это пор трезвомыслие стало крамолой?
— А что касается науки, грамоты для всех трудящихся, — усмехнулся Аболин, — то, думаю, он против этого не возражает. А тех, кто не давал народу пробиться к разумному, доброму, вечному, как я уже сказал, смертельно ненавидит.
— А интеллигентов? — напомнил Сергей: вот это-то его в словах Аболина и укололо.
— Да, не любит, — невозмутимо подтвердил тот. — А вы еще не поняли? А у кого ж вы были комиссаром, извините? В рабочем полку, полагаю, — там ребята сознательные, да и то… Вы поймите, крестьянская масса и люди образованные говорят на разных языках. Всего четверть века назад — да где там, вчера — крестьяне побивали докторов, приехавших лечить их от холеры: немчура, отравитель, ату его. Столетиями господа показывали мужику свое превосходство над ним: пороли и тыкали в нос своей образованностью. Отсюда и естественное недоверие, завистливая ненависть к любому, кто, как говорится по-ихнему, дюже складно гутарит и умственность разводит. Отчего же, вы думаете, так страдает товарищ Шигонин? Отчего в героическом корпусе так презирают комиссаров, и заметьте, не всех, а вчерашних газетчиков, учителей? Чужие они мужику. Вояки никудышные — очки на носу, ручки тоненькие, — а всей его, мужицкой, жизнью пытаются руководить. А чем же они лучше прежних-то господ — таких же белоручек и бесплодных болтунов? Ведь это доказывать надо. Что казак, что мужик одинаково не доверяют и его благородию, и комиссару. Вы ему, мужику, про коммуну, а он понимает, что вы у него корову хотите отнять, мудреными словами прикрываясь. Опять холерный бунт, но уже против власти Советов. И Леденев не исключение — он ведь в корне такой же мужик. Словом, я вам не завидую. Вам, человеку молодому и в житейском отношении, простите, все-таки неопытному, поручено воспитывать его, который знает о войне и смерти неизмеримо больше вас.
IV
Август 1914-го, Восточная Галиция, Бялогловы — Ярославицы
Нескончаемый цокот копыт. Чуть слышно звякали уздечки и оружие, и так же беззвучно палили зарницы в ночи, на миг выхватывая из кромешной темноты как будто самый край земли, где живут уже не люди, а какие-то призрачные великаны.
Последние звездные россыпи гасли, светлела дымчатая голубень в зените, и в густеющем тумане из мест невиданных в места незнаемые плыли взводными колоннами кавалерийские полки, и все казалось невсамделишным, не только лишившимся естественных, привычных очертаний, но даже будто бы расторгшим пожизненный завет с самой своей вещественной природой: и редкие деревья, стоящие по грудь в туманной дымке, и бледные поля чужой земли, затопленные тихо зыблемым, причудливо курящимся голубоватым молоком, и серые спины передних гусар, и крупы коней, и даже ты сам — как собственная тень, сбежавшая от самого тебя и действующая мимо твоей воли.
Далеко позади остался пограничный столб, где на каменной грани, обращенной к востоку, на чугунной пластине оттиснуто было: «Россия», а на обратной стороне отшиблена плита с австрийским императорским орлом и чьей-то рукою написано: «Тоже Россия».
От покрытых росой лошадей, от земли, от травы, от всего идет пар. Будоражаще пахнет пресным запахом влаги, овсами, бражным запахом хмеля с золотисто-зеленых плантаций, розовеют в потоках восходящего солнца наливные, духмяные травы, нарядные, приманчивые в предосеннем, возвещающем о скорой смерти цвету. Как белый кружевной прибой, встают на горизонте девственные гречишные поля. Мерный ропот копыт убаюкивает…
Вдруг густой перекатистый гул — как будто лошадь протащила по гумённому посаду молотильный каток. Леденев встрепенулся. Рядом с ним ворохнулся Блинков:
— Это что же? Стреляют никак?
Низкий гул наплывал из-за белого поля гречихи, с заката, но земля под копытами оставалась бездрожной.
— Ты как, Леденев, не робеешь? — всмотрелся в Романа Блинков. — А у меня чегой-то дрожь в печенках.
— Надрожишься еще, — огрызнулся Роман.
— Эскадро-о-он! Рысью! Марш! — пропел татарковатый ротмистр Барбович, давая шпоры кровному английскому коню, и Роман, подражая его насталенному голосу, повторил прозвеневшую над головами команду.
Впереди был еще эскадрон, машистой рысью утекающий в туманную лощину, и Роман видел только лоснистые серые крупы и гусарские спины да колыхавшиеся в такт им пики с четырехгранными стальными остриями и не знал, ни куда, ни зачем продолжает катиться весь полк.
Кто он в этом потоке? Кто ведет неохватную взглядом, текучую массу людей и коней, разгоняет ее, поворачивает, разбивает на части и сливает опять воедино? Леденев попытался представить громадность ума одного человека, чьей волей движутся все эти тысячи, и голова его поникла, раздавленная тяжестью такой мыслительной задачи… А орудийные раскаты загромыхали уж не впереди, а по правую руку. Земля загудела, и лошади заволновались.
Нырнули в ложбину, зачавкали в бурой грязи, и стало слышно близкий резучий визг шрапнели — и Леденев почуял каждый палец на ноге и каждый волосок на голове. «Что же это со мной? Неужели и вправду боюсь?»
Открывшись всеми порами, как губка, вбирал он томительно долгий, буравящий свист: «вьюу-па…», «вьюу-па…» — и чувствовал в себе такой же трепет, что и в длинно-нескладном Блинкове.
Посмотрел на Барбовича. Тот как врытый сидел на своем англичанине, скуластое лицо с закрученными черными усами и широко поставленными песьими глазами совершенно не двигалось. «Не боится, привык на японской. Для него этот визг вроде жаворонка. Значит, можно привыкнуть? Или отроду это дается одним, а другим — никогда?»
Гусары, не вертясь, косились друг на друга, с любопытством ловя все движения на чужом построжевшем или жалко-растерянном, туповатом лице, как будто сверяя свои чувства с чужими и радуясь тому, что и полчане испытывают тот же безотчетный страх.
Сухое цоканье и визг шрапнели наконец оборвались, и Леденев вдруг догадался, что слышались они не более минуты и только чувство ожидания и страха («сейчас в меня, сейчас в меня!») растянуло вот эту минуту в длиннейший промежуток времени.
В лучах восходящего солнца простерлась равнина. Отточенное жало проселочной дороги уперлось в зубчатую прошву соснового леса, и из этой туманно синевшей чащобы, в сером мареве поднятой пыли, нескончаемым серым червем выползали чужие колонны.
— Вон они! Вон они! — прокричали сразу несколько голосов.
Откуда-то справа и сзади неистово садила наша батарея — снаряды, клекоча и скрежеща, перелетали через головы гусар. Воздух там, над дорогой, над лесом, клокотал от шрапнельных разрывов, словно лопались на сковородке поджаренные кукурузные зерна, превращаясь в курчавые белые хлопья, и река вытекавшей из леса австрийской пехоты волновалась, вскипала, растекалась по полю ручьями и каплями и бежала обратно в сосняк.
Полковая труба заиграла «поход». Барбович, выскакав пред строй, вырвал шашку из ножен. На левом фланге мягко, все быстрее загрохотало множество копыт — соседний первый эскадрон, развернувшись во фронт, покатил на равнину.
В груди Романа все залубенело. Он был в первом ряду, правофланговым унтером.
— Шашки вон! Пики к бою!..
Земля утробно охнула и загудела, как железная крыша под проливнем, и Леденев почувствовал себя не всадником, а исполинским валуном, захваченным такими же камнями, катящимся по нескончаемому склону, сминая, расшибая все, что на пути, и торя путь всему камнепаду.
Натянутая на разрыв, летела навстречу каштаново-желтая пахота — уже не борозды, а бешеная смазь. Оскаленные лошади, сжимая ноги в ком, стлались в броском намете, раздутыми ноздрями хватали с храпом воздух.
«Вот оно! Вот оно!» — исходил Леденев кровным криком, воздев над головой клинок, со свистом рассекавший встречную воздушную струю.
«Тьють-тьють-тьють! Тиу! Тиу!..» — услышал он сквозь ветер соловьиное, сверлящее цвиканье пуль. Хрипатыми цепными кобелями вгрызлись в мягкий гул копыт невидимые пулеметы, без передышки рассевая тошный визг, но ему почему-то уж не было страшно. Опустив шашку долу, весь клонясь к мокрой шее коня и ноздрями вбирая горячую, острую смоль его пота, Леденев не выдерживал и распрямлялся, пытаясь разглядеть сквозь пыль голубовато-серые мундиры австрияков, но видел только темный лес и множество летучих силуэтов ушедшего вперед оленичевского эскадрона, на уступе которого шел их второй.
«Тьють-тьють-тьють! Тиу! Тиу!..» — чевыкали пули, выбивая по пахоте пыльные хлопья. На всем скаку у лошадей подламывались ноги, гусары обрывались до земли, летели через конские, упрятанные в землю головы, толчками выбитые из седла… Не в силах задержаться, на них летели задние, перепрыгивая, спотыкаясь, не успев дать лансаду, ураганным катком проходясь по затору лихорадочно бьющихся ног, животов, с неотвратимостью втолакивая в землю распятых под копытами людей.
«Сейчас, сейчас дорвемся…» — из ладони, сдавившей эфес, выжимался такой липкий пот, что им, казалось, можно было склеить битую посуду. Он все острее чуял близость той невидимой черты, что отделяла всех их от австрийцев, — но незримая эта черта как будто бы неумолимо отдалялась от него с такой же быстротой, с какой он рвался к ней, вытягиваясь в стрелку.
Слитным гулом копыт задавило стрельбу австрияков. Летевший стройным фронтом первый эскадрон изломался, рассыпался, докатился до леса враздробь и, казалось, бесцельно сверлил теперь землю гривастыми смерчами. Доскакивая, Леденев уже не понимал, кого рубить, и чуял себя борзым кобелем, последним дорвавшимся к волку, которого уж облепила и грызла вся стая. Он видел вздыбленных коней и между ними серых австрияков; один, сидевший на заду, пытался зарядить винтовку с усердием и неуклюжестью ребенка, и из ушей его ручьилась кровь, другой царапал древко пронизавшей его пики, в то время как третий валился ничком, как будто пытаясь поймать разбегавшихся невидимых кур… Живые поднимали к небу руки, стоя на коленях, или брели неведомо куда, словно опоенные чем-то…
Визгливо ржали раненые лошади, невыносимо было видеть их последние усилия подняться — показать, что они еще живы, что убивать их нет необходимости. Что-то невыразимо тоскливое было в их неотступно-упорных глазах — они, как люди, чувствовали то неотвратимое, торопливо-озлобленное, виноватое, что выражали позы и движения хозяев.
Рубить было некого… Вот взмыленная лошадь протащила мимо Леденева мертвого гусара. Белесая от пыли гимнастерка сбилась комом, занавесив лицо, и Леденев увидел только оголившееся тело — решетку ребер и податливый живот. Безвольно волокущиеся по земле корявые коричневые руки.
На опушке соснового леса — веерами, цепочками трупы. Голубоватые австрийские мундиры. Большинство были срублены сзади. Казалось, что их рвали звери: наосклизь стесанная кожа свисала с защищающихся рук и черепов кровавыми лоскутьями, ошметья этой кожи с клочьями волос висели на траве, как выдранные перья сражавшихся за самку стрепетов.
Рубили неумело — должно быть, обезумев от небывалости происходящего, как будто и не шашками, а розгами секли, подвергнув австрияков страшной экзекуции. И тем страннее были попадавшиеся среди страдальческих оскалов безмятежные, разглаженные лица — с замерзшей на губах признательной и успокоенной улыбкой, словно убитым еще только предстояло увидеть что-то необычайное, словно в смерти одной и нашли долгожданное освобождение ото всей своей трудной, безрадостной жизни и теперь-то и стало возможно улыбаться чиликанью птиц и высокому синему небу.
С полсотни пленных австрияков сбились в кучу: в чудных своих кепи, в окованных желтых ботинках и гетрах, они не сводили с гусар обожающих глаз, не опускали грязных рук, упорных в своем устремлении к солнцу, как ветви деревьев, и заискивающе улыбались, словно уже благодаря за то, что их умыли кровью и лишили оружия, которое им и таскать не хотелось, не то что стрелять. Одни онемели, другие же без перебоя лопотали на своем гортанном языке и с бешеным, мучительным усердием глухонемых жестикулировали, как будто говоря: «смотрите — и мы тоже люди, и у нас по пять пальцев на каждой руке и такие же уши».
Несли на попонах убитых и раненых.
— Ротмистра наповал, — услышал Леденев восторженно-срывающийся голос и, обернувшись, увидал корнета Селезнева, едва пробившиеся бархатные усики которого подергивала дурковатая, счастливая улыбка.
Убило Оленича, командира соседнего, первого, отличившегося эскадрона, потерявшего под пулеметами одиннадцать гусар убитыми и восемь ранеными. Леденев вспомнил дюжего ротмистра с простоватым мужицким лицом — как Оленич плескался с гусарами в речке, гоготал, исчезал и выныривал среди мокрых голов и кирпично-коричневых шей, как будто приклеенных к белым телам, как на мокро-блестящей спине его перекатывались и бугрились чугунные мускулы, — и не смог вообразить того мертвым.
Эскадрон их немедля был выслан в дозор — за лесом показалась деревенька и ослепительно сверкающее зеркало реки в извилистых пологих берегах. К полудню деревня была занята. Всех жителей как веником повымело. По улице снежными хлопьями стлался подушечный пух. Тянуло гарью близкого пожара. Почти все стекла были выбиты сотрясением воздуха.
От реки наносило живительной свежестью. И припотевшим лошадям, и людям хотелось по шею забраться в прохладную воду, но вместо этого пришлось рыть общую могилу для погибших и окопы.
Завистливо поглядывая на коноводов, погнавших лошадей к реке, гусары врубались лопатами в заклекшую на солнце супесную землю.
Окопы были вырыты глубиной по колено, когда на околицу выскакали полдюжины нарядных всадников на кровных английских конях, с конвоем оренбуржских казаков в мохнатых волчьих шапках.
— Взвод, становись! — волнуясь, крикнул Леденев. — Равнение на-право! Кэ-эк стоишь?!
Глядя на обвалившихся свыше штабных офицеров в их красиво подогнанных, чистых мундирах, он опять ощутил, что отделен от них невидимой стеной, — и даже если б все они сейчас, раздевшись до порток, полезли в речку наравне с гусарами, то все равно б не смыли холод отчуждения, так и оставшись для него «высокоблагородиями».
Офицеры подъехали к строю застывших, сверх всякой меры пучивших глаза гусар. Перед глазами Леденева остался лишь высокий, стройный, сидевший в седле как влитой генерал. Высокий купол лба, холодная зоркость в глазах с опущенными книзу, как у породистой собаки, уголками, твердо сомкнутый рот с энергически выпяченной крупной нижней губой.
— Устали, братцы?
— Никак нет, ваше пре-вос-хо-ди-тель-ство! — закричал Леденев, стараясь, чтобы в каждом слове у него зазвенел каждый звук.
— Врете, унтер, устали, — сказал генерал, смотря на него цепенящим, вбирающим взглядом. — Но надо терпеть. Оставьте работу, ребята. Помолимся за упокой наших павших товарищей.
Тела всех убитых у леса гусар снесли и уложили в ряд у вырытой могилы. Граф Келлер со штабными спешились и молча обнажили головы.
Полковой поп Василий, надевший золотую ризу, взял пахнущее раскаленными углями и горьковатым ладаном кадило и густо затянул: «Помяни во Царствии Твоем православных воинов, на брани убиенных, и приими их в небесный чертог Твой, яко мучеников изъязвленных, обагренных своею кровию…»
Лучи полуденного солнца, зиявшего белой дырою в зените, отвесно били в обнаженные, потеющие головы, блистали на зеркальной поверхности реки, на желтой латуни кадила, которое, качаясь на цепочке, бросало солнечные зайчики, заставляя живых, подражавших в недвижности мертвым, прижмуриваться.
Воздух был напоен одуряюще-пряными ароматами трав, неумолчно звенели под каждой травинкой кузнечики, брунжали изумрудно-радужные мухи, от реки несло сладостной, притягательной свежестью — и только мертвые с их благодарными, лукавыми улыбками, с уже подернутыми восковою желтизною и как бы попрозрачневшими лицами были бесповоротно чужими вечно юной земле, непричастными к пению, блеску и теплу всего этого светоносного мира.
«Вот так и я бы мог лежать, и Барбович, и даже граф Келлер, и никакой бы разницы меж нами уже не было», — подумал Леденев. Ему вдруг стало ясно, что перед этой самой ямой он никакой уж не мужик и уж тем более не унтер-офицер 10-го Ингерманландского гусарского полка, равно как и Барбович никакой не дворянин, а Келлер не громадный ум военного начальника. Но вместе с тем сильней всего хотелось переступить затекшими ногами и отмахнуться от настырной мухи, лезущей в глаза, и, казалось, ничто не мешало тем же жадным, тоскующим взглядом смотреть на господ офицеров и помышлять о том, как проломить невидимую стену между ними и собой…
Деревню затопили конные полки: текли по улочкам драгуны-новгородцы, одесские уланы, казаки с голубыми лампасами Оренбуржского войска, разбитые на сотни по мастям своих коней: вороные, буланые, огненно-рыжие… Тянулись батареи, патронные двуколки, обозные телеги, лазареты…
На рассвете полк выступил из Бялоглов. Окопы, вырытые ими накануне, остались памятником бесполезной земляной работы, разверстыми могилами, назначенными неведомо кому.
Все доступное слуху пространство покрыл слитный гул — казалось, ворчит растревоженная утроба земли. На юг повернули сперва казаки-оренбуржцы, а затем и драгуны с гусарами-ингерманландцами. Прошли версты три, и по взводным колоннам полка прокатилась команда «направо». Клубилась белесая пыль, оседала на лицах, фуражках, усах, и вот уж все гусары были белы, как мельники в завозный день. Бескрайне лоснились заливы нескошенной зрелой пшеницы.
— Эй, Леденев! — позвал Барбович, вглядываясь в карту, разложенную на колене. — Видишь ту высоту? Возьми шестерых, огляди и назад.
Роман повел разъезд к высокому и длинному увалу — напрямки и по пузо в пшенице. Что было по ту сторону, можно было понять, лишь поднявшись на гребень. Речушку с обвалившимся под телегами беженцев деревянным мостком переехали вброд. Припотевшие лошади радостно бросились в воду, привставали и пили, понукаемые поспешавшими всадниками.
Буян легко взял длинный склон, и первое, что Леденев увидел с гребня, — заполонившую весь окоем громаду пыли, даже будто бы изжелта-серую суховейную мглу, которая неотвратимо наползала на разъезд, просто слишком ленивая в своей мощи и плотности, чтобы сразу прихлынуть к увалу. И вот сквозь это медленно растущее и наплывающее кипево, туманно-голубые, красноцветные, проступили бруски бесконечных походных колонн. Перед Романом ожила батальная картина, где все боевые порядки походят на подстриженные по линейке шпалеры дворцовых садов, столь безупречно ровные и стройные, что кажется, весь смысл их — красота незыблемого строя, и даже жалко их прореживать картечью и разламывать снарядами.
Это был горделивый парад: небесно-голубые колонны кавалерии текли из-за видневшейся южнее высоты и разворачивались фронтом, блистая на солнце латунными касками. Торчком, как хохолки и гребни пернатых самцов в брачный месяц, стояли красные и черные султаны из конского волоса, червонели нарядные штаны, синели васильковые мундиры с галунами и куртки внапашку.
— Ох, мать честная! — выдохнул Блинков. — Да сколько ж их, братцы?!
— Ходу! — хрипнул Роман, поворотив Буяна шенкелями.
Слетели с увала наметом, пустили коней во весь мах, суховейной струей прорезая пылящую стежку в золотистых заливах высокой пшеницы. «Вот возьмут высоту — и сомнут, не успеем во фронт развернуться. Обогнут и ударят во фланг», — трепетала тревожная мысль… И, будто падая назад, почти ложась на круп Буяна, еще доскакивая, выпалил Барбовичу в глаза:
— Там, там они, вашбродь! За высотой! До трех полков, а то и больше!
— Охлопков, ко мне! В штаб наметом!
Не успел поскакавший Охлопков уменьшиться до размеров букашки, как полковые трубы кинули «поход» и «все». И с завораживающей быстротой и слитностью, как будто ринулась по прорезям нагорная вода, переливаясь из одних незримых русл в другие, колонны начали развертываться в линию. И Леденев, равняя взвод, с недоумением увидел, что за спиною у него во всю ширь поля не осталось никого и что левее от гусар пустынно желтеют заливы пшеницы — и нет там никакого висячего крыла на случай фланговой атаки австрияков.
И снова тысячи копыт послали глухой, ровный гул во всю ширь и даль пшеничного поля, и снова показалось, что гул этот рождается где-то в самой утробе земли, заражая людей и коней исступлением скачки.
«Да как же мы без фланга? — успел подумать Леденев, захваченный потоком лошадей. — Ведь и не знаем толком, сколько же их там, — зачем полезли в гору, как свиньи бесноватые?..»
Высокий лысый холм заставил слитную волну полков растечься на два рукава, уланов — огибая справа, а гусаров — слева, и в тот же миг, как будто настигая тревожную мысль Леденева, расплавленной червонной медью хлынула команда прямо в череп: «Держаться на уступе!»
«Вот тебе и мужик — не глупей генерала!» — ощерился в намете Леденев. Впоследствии все офицеры полка говорили, что никакой команды не было, и значит, этот трубный глас ему лишь причудился, должно быть, выданный рассудком за действительность, и все четыре эскадрона приотстали не по воле человека, а по велению самой земли, как вода повинуясь ее переклонам, изгибам и трещинам. Перед полком и впрямь блеснула все та же узкая и мелкая речушка, и все они, гусары, задержались, перебивая ее вброд, в то время как уланы, оторвавшись на версту, ушли вперед и захлестнули весь восточный склон еще безлюдной высоты.
Высокая, в пояс, по конское пузо, пшеница, обвитая цапучей повителью, до крайности стесняла пластавшихся в намете лошадей — живым многоногим катком сминали ее эскадроны, и в золотистых тучах пыли Роман уже не видел ничего. Молочно-сладкий дух налившихся колосьев душил сильнее паровозной сажи…
Когда же наконец взмахнули на гору и схлынули с нее, то впереди простерлось только голое, дымящееся поле. Все так изныли в бесконечной скачке-ожидании, что ничего уже не понимали, остервенело продолжая свой слепой и, казалось, бессмысленный бег.
Леденев, правофланговый в первом ряду, завертел головой и увидел правее, с собой наравне заволокшее землю на тысячи три десятин безобразное облако — то, чего в первый миг он не смог осознать как действительность, поскольку никакого подобия не знал. Схлестнулись два течения — красно-синие волны австрийцев ломили, запускали свои языки в желто-серую киповень новгородских драгун и одесских улан… и, казалось, уж неотвратимо хлестали в охват сокрушенного нашего левого фланга, на котором был должен рубиться 10-й гусарский.
— Направо! Направо, вашбродь! — сипато крича, на всем скаку вклещился взглядом Леденев в глаза Барбовича, не то умоляя, не то выдергивая из него команду, как по шляпку вколоченный гвоздь из дубовой пластины.
Барбович кинул взгляд на желто-черное, с трепещущим распятьем полковое знамя и начал что есть силы отмахивать шашкой направо, сигналя командиру о заезде. Сполохом завихрилось летящее полотнище штандарта, и за ним, как секундная стрелка на огромном земном циферблате, повернулась вся линия четырех эскадронов.
«Вот так! Вот так!» — кидал сажени Леденев, летя наперерез блистающей железом красно-синей реке, и уже, как биноклем притянутые, различал сквозь белесое курево конские крупы, бока, оскаленные морды с плитами зубов, гривастые каски, усатые лица и даже номерные нашивки на мундирах… а краем глаза — острия гусарских пик, в которые уже перелилась все поступательная сила лошадей: что ни встретит, подымет и насквозь пробежит.
«Вот этого зараз!» — наметил рыжеусого драгуна с безумными белесыми глазами, зашел к нему с подручной стороны на всем скаку, привстал на стременах, забрав поводья, и с закипевшим кровью сердцем обрушил на темя косой, с потягом удар. Всею вложенной силой — ровно палкой по дереву! Прямо перед глазами обжигающе вспыхнула кровь — шашка косо упала на латунную каску, соскользнула, стесала с лица австрияка лоскут, — и от этого всполоха где-то в самом нутре Леденева, будто бы и не в нем, сквозь него, из далекой утробы земли, нечеловечьим кличем прародителей, завидевших враждебного им зверя, неподавимое плеснулось возбуждение, направляя всю силу Романа — прорубиться в чужую животную глубь, где все мягко и жидко, и весь мир себе застить этой алой прорехой, как солнцем.
Драгун всплеснул руками, обнимая близь и даль, — в его синюю спину вбежала и вырвалась из живота окровавленным жалом тяжелая, длинная пика. Во весь скок налетевший Блинков просадил — и с вылезающими из орбит глазами, силясь выдернуть, ронял ее под тяжестью валящегося тела.
Вибрирующий конский визг и человеческие вопли выхлестнулись к небу. Накат гусар был так внезапен, слитен и тяжел, что не только весь фланг красно-синих драгун смяло, как наливную пшеницу суховейным порывом, но волна разрушения, ужаса и животного непонимания прокатилась от края до края всего их протяжного фронта. Пики, взятые наперевес, как соломенных чучел, вырывали из седел, подымали на воздух австрийцев, с ровным остервенением лёта входили в бока лошадей, застревали меж ребер, увязали в кишках, продолжая давить, корчевать, опрокидывать.
В один неуловимый миг по фронту эскадрона вырос судорожно бьющийся, в белесых тучах пыли, многоногий синий вал, и через этот бурелом живых и мертвых безудержно хлестали, перемахивали хрипящие от возбуждения гусары. Но тут уже сломались все строи, не стало ни полков, ни эскадронов. Вломившись валунами в глубину австрийского порядка, гусары притерлись к врагам стремя в стремя, и с длинными пиками стало не развернуться, как с веслами среди саженных волн. Клинки соскальзывали с гребней и пластин австрийских касок, не просекали и добротные суконные мундиры, верней бараньи куртки за спиной.
— Бей в рожу! Бей по шее! — с клокочущим хрипом закричал Леденев.
Он ни о чем уже не думал — и все понимал. Неведомо где зарождаясь, по телу его от плеча до сабельного острия, до струнного гула поводьев в руке, до кончиков конских копыт проскакивал вещий озноб, сжимая его в ком и распрямляя, кидая вперевес на нужный бок, выгибая дугой, отпуская, посылая в крутой поворот, сообщая, какой нужен крен у клинка, чтоб не вырвало шашку и не выбило кисть. Будто кто-то другой, находящийся сверху или, может, внутри него, в ребрах, в смышленой крови, начал им управлять точно так же, как сам он — Буяном, поворачивая шенкелями и давя мундштуком на язык. Чужие лошади, гнедые, выворачивая кровяные белки, тянулись к нему и Буяну ощеренными мордами и ляскали зубами, как цепные кобели, норовя укусить за колено, за конскую шею.
Отбив левый бок, змеиным выбросом руки кольнул в усатое лицо, заставив отпрянуть, забрать в поворот, и тотчас, скрутив себя в жгут, вполоборота полоснул по шее и второго, проскочившего мимо австрийца. Шея лопнула алым разрубом, драгун повалился ничком, и рыжая лошадь под ним шарахнулась в сторону, как будто испугавшись своей тени, воротя ошалелую морду от струи незнакомой ей крови, понесла по дуге с исступлением обезглавленного петуха, налетая, сшибаясь с другими…
В тот же миг он увидел, как падает навзничь Самылин с изумленно-ослепшим лицом, как еще одна пуля ударила в лоб Коломийцу, тряханув и как будто опростав тому голову, — обоих с десяти шагов свалил австрийский офицер с диковинным каким-то пистолетом на шнуре.
Леденев поскакал на него, заходя круто слева, под терзавшую повод, безоружную руку. Офицер вмиг заметил заезд и едва уловимым движением выстрелил из-под руки. По щеке жигануло — Леденев что есть силы швырнул себя вправо.
Офицер дострелял по нему всю обойму и вырвал палаш, подзывая к себе Леденева глумливо-одобрительным криком. Палаш его, описывая в воздухе певучие круги, с осиным упорством искал леденевскую голову, выматывал, вылущивал из кожи, выкручивал Роману руку с шашкой, бледно взблескивал перед глазами своим острием, словно впрямь норовя впиться в мозг.
«Ну, сейчас он мне уши отрежет», — подумал Роман, набрякая свинцовой усталостью мысли, продолжая вертеться в седле, точно вьюн, и сверлить землю штопором. Взбросил руку в замах, кинул страшный по виду удар и, до болятки выворачивая кисть, порхнул клинком в огиб — уклюнул прямо в рот, раздвигая улыбку австрийца до уха.
Ощерив залитые кровью зубы, офицер инстинктивно закрылся, и Роман изворотом, снизу вверх резанул по воздетой руке — плетью пала, роняя палаш. Леденев в тот же миг развалил офицеру лицо. Тот, роняя поводья, поймал закипевшую рану ладонью, изогнулся от боли дугою и слег на луку. Безумея от силы своей власти, Леденев рубанул его по голове, что лежала на шее коня, как на плахе.
Австрияки отхлынули, обнажив полосу с две версты в поперечнике, всю, как огромными сурчинами, усеянную трупами людей и лошадей. Поворачивали на закат, забирали на север… Из туч оседающей пыли выскакивали бесноватые от ужаса и боли опростанные лошади, исхлестанные кровью и утыканные обломками пик, ходили кругами, сшибались, роняя с губ шмотья кровавого мыла и, как слепцы, закатывая к небу рубиново-зеркальные глаза.
Дымящейся зыбью поземки текли убегающие, гусары настигали их, секли… Барбович, затиснув поводья в зубах, держал шашку в правой, а с левой стрелял из нагана. Алешка Игнатов с распоротой наискось грудью валился с коня — его ловил и взбагривал Блинков.
Надсаженные скачкой кони сбивались с намета на рысь, покрытые потом и мылом, как жеребята первородной слизью. Эскадроны шли вроссыпь, и гусары поврозь останавливались… И вдруг надо всей этой бешеной сутолочью фонтанными толчками взвился голос полковой трубы, созывая живых под штандарт. «Соберитесь, сомкнитесь, други, всадники ратные…»
Полковник Богородский, кривясь от омерзения, показывал шашкой на северо-запад и озирался так, словно вокруг него никого уже быть не могло. Сквозь изжелта-серое марево на горизонте все резче проступали красно-синие ряды второго эшелона австрияков. Удар прибереженного в резерве свежего полка мог все перевернуть, но тут — вдобавок ко всему невиданному — произошло совсем невероятное: идущие навстречу гусарам австрияки вдруг стали разливаться рукавами и поворачивать назад. То ли это табунное чувство смертельного страха захлестнуло резервы, перекинувшись от отступающих, то ли впрямь что-то грянуло свыше.
Только тут Леденев осознал, что все живое на равнине разливается, дробится и собирается во взводные порядки под каким-то невиданно низким покровом округло вспыхивающих белых облачков и облачка все гуще громоздятся там, вдали, над красно-синими волнами австрияков. Не то из-за увала, не то уже с самого гребня садили трехдюймовки наших конных батарей, хлеща шрапнельным севом и по чужим, и по своим.
Полковник Богородский накренил шашку влево и вправо, разворачивая эскадроны в разомкнутый строй, и, вытянув клинок вперед, пустил коня машистой метью. Кидая сажени назад, вбирая воспаленными глазами желто-серую, курящуюся даль, Роман различил впереди копошение как будто бы огромных сцепившихся жуков. До них оставалось с версту. И вдруг там вдали громыхнуло… «Клы-клы-клы-взи-и-и!..» — услышал он шелест, и клекот, и вот уже змеиный шип перекаленных на лету картечин. Едва не разом обломились на колени с полдюжины гусарских лошадей, кидая всадников через себя и кувырком раздавливая их. Серебряный красавец Богородского сломался в передних ногах, осадив командира полка до земли.
Начавшая палить картечью батарея австрияков покосила бы многих, но гусарские кони отрывали последнюю полуверсту, и ошалевшая от страха орудийная прислуга уже угоняла с позиций запряжки, рвала под уздцы взноровившихся, встающих на дыбы лошадей, надрывно толкала увязшие в болотистой пойме орудия, наваливаясь на колеса и щитки…
Хватив на себя последний десяток саженей, гусары рубили постромки, вальки, ездовых, располовинивая головы, упряжки — освобожденные коренники и уносные сатанели, рвались куда глаза глядят, волоча за собой номеров и подпрыгивающие передки. Роман в три броска настиг убегающего австрияка в коричневом мундире и бездумным движением развалил его наискось — от плеча до середки груди.
Сам не зная зачем, повернул и подъехал к упавшему. Тяжел и плотен — куль муки. В середке заплавленной кровью груди были видны удары сердца. Буян захрипел, избочился, пугаясь убитого. И вместе с этим инстинктивным отпрядываньем лошади Роману тоже захотелось отвернуться и отъехать. Упорные толчки ни в чем не повинного сердца, гонящего кровь уже не по жилам, а в убыль, наружу, сознание того, что австрияк не только еще жив, но может чувствовать и видеть, понимать, оттолкнули его. То был не страх — скорее отвращение и стыд. Он понимал, что это сотворено его рукой, и не понимал, откуда в нем это смятение и перед кем вот этот стыд.
Обращенное кверху лицо австрияка казалось стариковским и детским одновременно. Рот под густыми вислыми усами был плаксиво оскален, глаза хотя уже и потускнели, но все же как будто продолжали гадать: есть там, в небе, хоть что-нибудь? Романа изумило выражение невытравимой, непроживаемой обиды: не только чего-нибудь лучшего, чем вся прежняя жизнь австрияка, но вовсе ничего не оказалось. Обида эта относилась и к нему, Леденеву, а к кому же еще?
Что-то в этом лице, а может, просто плотная, тяжелая фигура, разбитые работой широкие ладони напомнили ему отца. Брезгливое недоумение перед собой сгустилось в голове до боли, чугуном потянуло к земле.
Вокруг него крутились и обессиленно сползали с лошадей гусары с замасленно-черными лицами и кипенно белевшими зубами и белками глаз. Стесненные конями, табунились безликие пленные. Острый, сладко-смолистый запах конского пота разливался по полю, мешаясь с душной горечью висящей всюду пыли, забивая тягучий дурманящий дух раздавленной копытами и вянущей травы.
Как-то разом стемнело. Скоротечная рубка разрослась для Романа в неизмеримо длинный промежуток времени, и он почти не усомнился, что в самом деле наступили сумерки. А может, это в голове мутится? Но все вокруг него вдруг как-то попримолкли и подобрались.
Высокое солнце палило безжалостно, и никакие тучи пыли не могли закрыть его, как накрываешь голову тулупом, но подвижная грань, отделяющая на земле свет от тени, с неуловимостью сместилась — непонятно чем брошенная, неестественно плотная тень-темнота затянула все поле, покрывая живых, умирающих, мертвых людей и коней. Запаленные лошади опустили свои горделивые головы — как будто поклонились неведомой стихии. Леденев поднял голову к черному небу и увидел на нем ослепительно-черное солнце. Расплавленной рудой сиял закраек солнечного зрака: так смотрят слепцы, для которых свет небесный погас еще до их рождения, но все равно как будто проникают своим взглядом всего оторопелого тебя. Дыра эта вбирала, вмещала в себя все, что на земле и что над твердью.
— Батюшки святы! Гляди, гляди, ребята! — перехваченным голосом крикнул Блинков, с открытым ртом придерживая на затылке смятый блин фуражки и так откинувшись в седле, как будто небо опускалось на него. — Солнце тьмою закрылось! Да что ж это, братцы? Куда мы пришли? Что за война такая будет, а?!
Гусары глухо зароптали.
— Нешто впрямь конец мира?! — ликующе тявкнул Блинков, обшаривая всех блаженными глазами уже не земного жильца.
— За грехи и убийства, — послышался чей-то хрипатый, придавленный голос, как будто не собственной волей повторявший за кем-то слова.
— Врага в бою убить — святое дело, — проскрипел Хитогуров, молодцеватый старший унтер с лысым черепом и седоватыми усами, презрительно-свирепо обмеривая всех бесстрашными глазами и косясь на Барбовича спрашивающе: «верно я говорю?» — Что война? Сколько их уже было? Попускает Господь. Как в японскую народ переводили, так и нынче придется.
— Дурак ты, Хитогуров, — отрезал говоривший о грехах Иван Трегубов. — Вокруг погляди. Другая война. Небо падает.
Остальные молчали, и первое слово какого-то неведомого языка, казалось, еще только должно было родиться в мире. Иные не таясь крестились, как, впрочем, и при виде всякого подорожного мертвого. Молитву и крестное знамение вбили в них много раньше, чем уменье рубить и стрелять, и солдаты творили и то и другое уже инстинктивно.
Каждый был уже сам по себе, и все были слиты в единую душу, и пустота в единой их душе не поддавалась разумению в такой же мере, как и вот эта черная дыра, где нет ничего из ведомого человеку мира, кроме, может быть, мертвого пекла.
— Тогда Игорь воззре на светлое солнце… — сказал, подъезжая к Барбовичу, подполковник фон Кюгельген. — Гусары-молодцы, благодарю! Отменно мы их трепанули, ребята!..
— А ить и правда, Леденев: убийцы как есть, — шептал взбудораженный Мишка Блинков, выпытывающе заглядывая сбоку в неподвижное лицо Романа. — Видал, как я того драгуна навернул? Уж так мне желательно было кольнуть его — ну хоть ты што тут: я уже не я! Ишо как будто не намерился, а пика уже по середку вбежала… А он-то весь как напружинится, ажник вырос на целую голову — так ему неохота в себя мою пику пускать. Тут-то уж и меня дрожь взяла от него — ить живой человек. Никому умирать, брат, не хочется. А как зараз-то глянул вокруг — так и вовсе мне жутко. Куда ни кинь, везде убитый стынет, навроде как ободранный бычок. От такого и солнце зажмурится. Бог не хочет смотреть… А ты как, Леденев?
V
Январь 1920-го, Северо-Кавказская железная дорога, Александро-Грушевская
«Родной мой, дорогой Женечка! Не смею верить счастью своему, что ты жив, здоров и благоденствуешь! На Николая Чудотворца мне по телеграфу сообщила Лидуся об этом со слов Романовского, которому написал о тебе Св. Варламович, спасибо тысячу раз ему за добрую весть. Ведь ты, сынок, и представить себе не можешь, как мы страдали с папусей от неведения все это время. Последнее, что мы знали о тебе, то, что вы отступали от Новохоперска, и все. Как страшно, что мы растеряли семью. После всего пережитого, после Алеши я не могу прийти в себя. Да хранит тебя Бог, мой дорогой, светлый, любимый и теперь уже единственный. И еще одно, Женечка. Я знаю, что душа твоя безмерно ожесточена, но помни об Алеше не одним этим ожесточением, помни, что ты — брат мученика, который и нас призывал прощать. Враги наши злы и дики, мы это испытали на себе, но ты не поддавайся слепой мести, не подымай руку на лежачего и будь милостив к тем, кого судьба отдаст в твои руки. Вспомни Алешу. Вспомни наше Рождество…»
Укрывшись полстью на тачанке, Аболин задремывал под завывание метели, и тотчас же вставала перед ним рождественская ночь — не нынешняя, а другая, единственная и невозвратимая. Мерцающая снеговая целина полей, двускатных крыш, обыневших деревьев, голубая, сиреневая, золотая под черно-синим ясным небом, в неизмеримой высоте которого, как в алтаре свечные огоньки, загорались, лучились, слезились, соединялись в дивные порядки неисчислимые таинственные звезды и завораживающая ткалась тишина. Ищешь, ищешь на Млечном Пути хоть один мертвый черный лоскут, хоть какой-то колодец, проталинку в Торричеллиеву пустоту — и нигде не находишь безжизненности, всюду звезды текут негасимым мерцающим светом, неисчислимые, соединенные друг с другом, как снежные кристаллы на земле, и черноте не остается места, воистину незыблемая твердь, и весь мир осиян.
Мороз такой, что воздух стынет, прозрачен и тверд, как алмаз, и белые дымы из труб недвижны под-над крышами, как каменные глыбы, и невесомы, как мира́жи. На стеклах ледяные пальмовые листья, игольчато-граненые леса доисторических хвощей. Отец везет его на ярмарку в санях, укрытого медвежьей полстью, выглядывающего в мир, как из берлоги, а впереди в овчинном полушубке крутая, мощная спина немого кучера Филиппа и вороные крупы пышущих огнем и паром рысаков. Весь мир как будто только сотворен, отлит, спаян, вырезан, соткан из инея, кристального льда и девственно-чистого снега. Даже морды коней и собак в ледяной бахроме. По непрозрачно-меловым поверхностям замороженных окон потусторонне проплывают отсветы зажженных елок и туманные тени водящих хороводы людей — неведомая жизнь, в которой никогда не примешь никакого участия, картины на развешенных перед волшебным фонарем крахмальных простынях.
А вот уже и площадь — в бесконечных рядах расписных, смугло-желтых саней. К Рождеству прибывают, нескончаемо тянутся в город обозы — из неведомых мест, со всех концов дремотной, заваленной снегами, незнаемой России. Вот на версту поленницами — замороженные туши, свиные, говяжьи, бараньи, похожие на глыбы драгоценных минералов, подернутые кровно-розовым ледком; мужики-мясники, краснолицые, дюжие, привлекательно-страшные, рубят их топорами, и брызжет из-под лезвий розовая стружка — побирушкам на счастье: пускай разговеются. А дальше слитки золотые, медные, серебряные, зубчатые по гребню, остромордые — осетры, судаки, сазаны, белорыбица, стерлядь, лещи, сомовина, селедка. Богаты гирла Дона рыбой, недаром говорят: казан с ухой — где ни черпнешь, везде трепещет, косяками идет в вентеря. В ряду калашном пышет сдобой, печным теплом от пирогов, пахнет сахарным пряником, мятным, имбирным, калачами и сайками, маком, анисом…
А вот и срубленные елки — великаны в кочевничьих шапках, тьма тем, орда, завоевавшая великие пространства где-то там, за Волгой, за Уралом, стоят неприступной чащобой и поят воздух терпко-горьким будоражащим запахом хвои, а из-под нижних их ветвей глядят приблудные собаки — будто волки. И бродишь в этом елочном лесу, полном сказочной жути, — пылают высоко смолистые, из ельника костры, и сбитенщики ходят, навьюченные запеленатыми в рогожу самоварами: «Эй, сбитень сладкий! Калачи горячи!..»
И вот уж выбрана дороднейшая елка, и путь домой по тем же улицам, и звезд все больше в небе — глядишь на них сквозь стылый воздух, как сквозь увеличительное, одними лишь слезами замутненное стекло, и фонари плывут сквозь слезы, оставляя на глазах молочно-голубые раны. И вот уж дом, поистине божественное после стужи, неистребимое его утробное тепло, и голландская печь истекает живительным жаром, и пахнет пшеничной кутьей на меду, и подоконники, столы все в голубых атласных бонбоньерках и раскрашенных жестянках — с шоколадом от Эйнема и пастилой от Абрикосова, с парижским пирогом и ромовыми кексами… И вот уже звонят ко всенощной, и все они опять выходят на мороз: отец в стальной шинели с погонами лейб-атаманского полка и мать в павлиньи-радужном платке и речной донской шубе, крытой синим узорчатым шелком, старший брат Алексей и он сам в башлыке и тулупчике. И плывет надо всем снежным миром вселенски весомый, повелительный звон, бесконечный и слитный, как все столетия от Рождества Христова, как благодарственная немота всего крещеного народа на богоспасаемой русской земле. А выше трепещет другой, серебряно-чистый, ручьистый, дробящийся на тысячи тончайших подголосков. Играют тысячи церквей. Все небо поет. И в горле, в груди, в самом сердце ликующе дрожат затронутые струны, и во всем снежном мире — тепло. И двухсаженный исполин Ермак протягивает Грозному царю сибирскую корону, ничтожно маленький пред белой, златоверхою громадой Вознесенского собора, в который воплотилось усилие людей вознестись вслед за Ним от земли хоть на самую малую долю и возжечь в вышине Его крест. Все святое. Все вечное. Рождество Твое, Христе Боже наш, Возсия мирови Свет Разума…
А вот уж Пасха. Восемнадцатого года. Ледяного похода с Корниловым. Вошли в станицу Незамаевскую. Алешу ищет: здесь тот, здесь — и все молчат как с вырезанными языками, понурые овцы без пастыря, старики, казаки, бабы, дети… Бежит к Ильинскому собору — на каменной паперти кровь, похожая на студень в холоде, на пудинг, затоптанная, разнесенная по плитам рдяно-бурыми отпечатками красноармейских сапог, с объедьями соломы и яблоками конского помета… Под куполом в пыльных столбах лучащегося свыше солнечного света — щепа и обломки расколотых, поверженных киотов, аналоев и голгоф, раздавленные свечи, раскиданные, как обглодки, святые мощи из разграбленных ковчегов. В иконостасе — чернота: содрали все оклады с образов… Кидается назад, под небо — на площади сгуртили стадо пленных… бараньи их, без ужаса, без мужества, глаза… хватает одного, трясет другого… молчат как дикари… но как-то разом понимает, куда ему надо идти… и на выгоне видит что-то длинное, серое, окоченевшие босые ноги, по лодыжку торчащие из-под ветхой рогожи. Узнал Алешу по рукам, которые бессчетно жал и целовал. По лицу уже было нельзя — его обезобразили битьем, и глаза были выколоты. Он видел много страшных ран, но подобные были от слепого железа, осколков и ударов наосклизь, когда целью рубившего было сразу убить, а не мучить и не исполнить дикий ритуал, и безобразие и продолжительная пытка были только случайностью, следствием промаха, а не целью, не смыслом, не сознательным делом человеческих рук. А «они», как индейцы у живого врага, сняли скальп, и Евгений уже деревянными пальцами прикоснулся к запекшейся ране последнего пострига, к кроваво-земляному гуменцу до кости, в обрамлении склеенных и засохших волос. Кисти были пробиты штыками, будто Алешу распинали на земле. Пахло, как из отхожего места, скисшей кровью, мочой — надругались, опомоили тело…
Евгений покосился на молчащего с ним рядом комиссарика, бессонного, упрятавшего нос в шинельный воротник: «А ведь и этот мальчик должен помнить свою рождественскую елку, и чудо-звон, и ряженых волхвов с фольговой звездою на палке… Хорошее лицо, на молодого государя императора несчастного похож, а вот, гляди ж ты, большевик и к Леденеву едет. Ну, он тебя выучит — людей рубить, как мясники свиные туши на морозе. А может, уже и не надо учить? По виду щенок, а уже корпусной комиссар. Уж не в чрезвычайке ли выслужился? Там быстрей и вернее всего — изуверством-то. Там же ведь, в губчека, не пещерные каты а-ля Гришка Распутин, не одни лишь жиды да китайцы, а такие вот русские мальчики. Творцы небывалого мира, жрецы революции. Импонирует жест вседержителя, юноша? А может, ты болен? Отведал человечьей кровушки разок — и приохотился?.. Хор-рошее лицо. Потомственный интеллигент, обожествивший русскую литературу. Ненавижу. Папаша — гимназический учитель, земский врач, может и дворянин, как ульяновский-ленинский, напевал над кроваткой: «Белинского и Гоголя с базара понесет…» И невдомек, что Ваньке темному другие стишки по нутру и симфонии. Он из курной избы, из полпивной, в вонючем полушубке, пьяненький, на брюхе — под золотую шапку, в Вознесенский, вестимо, по столетнему инстинкту послушания, из страха всех тварных существ, а там ему как грянут «разумейте, языцы…», что обомрет и вознесется, угнетенный, под самые звезды Господни. Плохо Микитке? По-вашему — да. Не видали такого угла, где бы русский мужик не стонал. Крест на шее и кровь на ногах, в самодельные лапти обутых. Просветить его надо. Он вам говорит: «Выше Бога не будешь, и не счесть, а не то что не постичь всех Господних чудес», а вы ему: «Дурак, смотри в микроскоп: доподлинно ученые установили, что человек произошел от обезьяны… А теперь в телескоп — где же Бог в небесах? Не видно — так и нет Его». Посеяли разумное — взошло. А прежде своих сыновей воспитали — плеяду борцов за народное счастье, о котором народ не просил. И не Пушкина с Гоголем, а Иоганна Моста русским мальчикам подсовывали да катехизис новый, от Нечаева: время действовать, милые, хватит жалеть. И таскал русский мальчик Сережа под гимназической тужуркой прокламации, и сердце от восторга трепетало — бросил вызов громаде, Зверю, Левиафану. А нынче, вишь, вождь краснокожих. Со священников скальпы снимает, о чем в детстве читал у Майн Рида и Купера… Впрочем, он совсем юн и так жадно тянется к рассказам о крови, что будто и не видел, не привык. Но не так-то и прост — не слишком откровенный тон вы взяли с ним, товарищ Аболин? Так и с Ромкой не свидишься…»
В обозе оживление: завидели жилье. Полуослепшие в метели, запруживали лавы леденевцев саманную, соломенную слободу, спирались в проулках и на перекрестках, бодали и сворачивали огородные плетни, ломились на базы, в сараи, в хаты, норовя поскорее забиться в тепло и едва не дерясь взвод со взводом за место под крышей.
Евгений с комиссаром стыли на ветру — глухая масса эскадрона, спершись стенкой, не пускала их бричку ни во двор, ни вперед, а кричать о своем комиссарстве мальчонке, видно, не хотелось. В толчее и подслепье отбились от штаба и теперь уж хотели того же, что и все рядовые, — тепла… Наконец и они протащились на двор.
— А ну-ка, братцы, потеснись! Прояви, босота, солидарность! Одной семьей живем, в одну и хату селимся — даешь интернационал! — прикрикнул Евгений, заработав локтями и пробивая путь сквозь давку.
— Куды прешь, фронтовик?! — отвечали ему, упираясь и пихаясь в ответную. — Ты кто таков будешь?
— Из тех же ворот, что и весь народ.
— А по виду, кажись, офицерик. Не видали мы раньше тебя, а, босяк?
— Да кто бы ни был — обогреться дайте, а потом хоть зубами грызите. — Евгений пробился в самый угол хатенки и сел на полу, расчистив комиссару место рядом.
Набились рог к рогу, до смрада: удушливо взвоняло скученными здоровыми телами, сырыми шинелями, сукнами, блевотным душком промокших сапог, обмерзлым железом винтовок — всем-всем настырно-ядовитым и даже выгребным, чем пахнут бездомовные, прошедшие уж сотни верст солдаты.
Вокруг Евгения с мальчишкой ерзали босые ноги с ногтистыми черными пальцами и жесткими, как лошадиные копыта, пятками; бойцы, сдирая, сматывали с них портянки, какие-то тряпки и пестрые бабьи шалевки, снимали шинели, гимнастерки, венгерки, выпаривали на огне и били вшей, вытаскивали из мешков и переметных сум исподние рубашки, завернутые в чистые тряпицы житные краюхи, сухари, шматки заржавевшего от старости сала — и все живее, громче гомонили.
— Налетай, ребята! Чем бог послал… разговеемся.
— Бурсаков напекем. Мучицу-то выдали… А то где еще печь припадет?..
— Иде ж каптер-то наш заночевал?
— Сиротская его доля — щи из бычачьих почек лопает!..
— Ничего, браточки, — вон он, Новый Черкасск. Заберем — ох уж и погуляем. За весь срок отъедимся.
— И отлюбим, ага…
— Уж там-то есть кого пощупать. Со всей России набегли. Все, какие при старом режиме богатства имели, увезли ишо загодя и туды сволокли. Буржуйского имения на весь бедняцкий класс с краями хватит.
— Да брали мы энтот Черкасск ишо в восемнадцатом годе — уже тогда-то все и вымели.
— Они, буржуи, тоже, кубыть, не пальцем деланные. На кой ляд им тебя дожидаться?..
— В подвалах каменных кубышки золота зарытые! Купецство проживало — надо понимать. Спытать только надо, где спрятано. Бери его за бороду и тряси. Сгрузимся добром!..
Сергей с острейшим любопытством вслушивался в речи этих полуголых, едящих и гогочущих людей. Неужели вот эти — те самые, о человечески необъяснимой храбрости которых писали «Правда» и «Известия»? О походах сквозь ветры, о победах над холодом, голодом? И они-то, железные, — о жратве, о поживе, о возможности вдоволь пограбить? Это красная конница? Или дикие орды, идущие за золотом и мясом? А может, так и надо и только так и можно — разрушить мир неправды и начать другую, прекрасную Историю, а сперва погулять, воздать себе за все века нужды, приниженности, безъязычия? Да, с жадностью к тому материальному, чего так долго были лишены, да, с ненавистью к тем изысканным вещам, которых касались пресыщенные, изнеженно-слабые руки господ, а ты и назначенья их не знаешь — и потому расколотить, изгадить, подтереться… Но все-таки не утерпел:
— И часто вы так, дорогие бойцы, грабежом промышляете?
— А это кто там? — изгально-ласково осведомился дюжий конник с голым торсом и заросшим щетиной энергичным лицом, остановив на нем беззлобно-любопытствующий взгляд. — Откель, куга зеленая, ты взялся?
— Комиссар я ваш новый, — ответил Сергей по возможности просто. — Вот, зашел познакомиться.
— А-а, политком, — протянул боец устало-равнодушно.
— Не политком, а корпусной военный комиссар, — нажал Сергей. — Так что давай, боец, поговорим о вашей жизни — поскольку это, брат, огромное значение имеет: доклад мне о вас посылать товарищу Ленину — рассчитывать ему на вас как на верных бойцов революции или считать за ненадежный элемент.
Бойцы не то чтоб потрясенно онемели, но все же разом подались, потянулись к Сергею, примолкнув. Он знал, как имя Ленина воздействует на массу: люди самые разные, тем более простые, темные, не то чтоб обмирали от трепетного страха и благоговения, но именно что ощущали свое высокое значение, словно над каждым кто-то говорил: ты нужен нам; нам нужно знать, как ты живешь и какой жизни хочешь.
— А нешто он не знает, какие мы бойцы? — взгомонили все разом. — Ить сам об нас в газете прописал: привет герою Леденеву и его кавалерии.
— Покрытые славой геройских делов — вот какие мы, товарищ, элементы! Весь фронт вытягаем в боях с белой гидрой.
— Ну вот и спрашиваю, — сказал Сергей окрепшим голосом. — Известно — бьете контру, а за что? Новочеркасск штурмуете — зачем? Чтоб буржуев пограбить? — И покосился на бесстрастного, непроницаемо молчащего Аболина, словно надеясь доказать тому, что дух, устремления этих людей высоки, что не умом, а сердцем они видят идеал…
— Да как же за что? За нужду, за всю жизнь нашу горькую. За то, чтобы всем, какие ни есть на земле, беднякам жилось хорошо.
«Ага!» — возликовал Сергей.
— А что касаемо грабиловки, товарищ, — продолжил дюжий, с волчьими глазами взводный, — то какой же тут грех? Нешто мы у своего брата-бедняка последнее отымаем? У буржуев берем, от чужого труда нажитое. Имеем мы такое право — забрать себе чего из ихнего имущества?
— А Леденев — он как считает? — подцепил Северин.
— Так сам нам, любушка, сказал: «Возьмете город — ваш на двое суток». Да рази мы могем чего-нибудь поперек ему сделать?
«Ну вот и собрал показания», — подумал Сергей почему-то с обидой: да, прав был Студзинский — еще в глаза не видел Леденева, а образ, который себе сотворил по телеграммам и газетам, уже распадается.
— Вот вы, товарищ комиссар, видать, ученый человек — скажите: что же, мы неверно понимаем? Буржуя увидел — и трогать его не моги? А за что ж мы кровя проливаем?
— Ну, послушать тебя — так за то, чтоб карманы набить, — зло ответил Сергей. — Кубышку с золотом найти и хату новую построить, коней купить, быков. Добудешь — и сам богачом заживешь, своих же братьев-бедняков начнешь нанимать за гроши, чтоб на тебя горбатились, как ты на кулака.
— Да нешто я так рассуждаю?
— А как? По всей России города стоят без хлеба, жрать нечего, дети от голода мрут, а ты — «себе», «имею право» да еще именем народа прикрываешься.
— А иде же он, хлеб? — угрюмо, даже будто с затаенной злобой спросил из угла рыжеватый, немолодой уже боец, не подымая на Сергея воспаленных глаз. — Какой ревкомы загребли по нашим хуторам, а то будто наши детишки облопались — пихают в себя, и все-то им мало? Куды его дели? Кто съел? Да ишо подавай? Никак там у вас, в городах, такие товарищи думают, что хлебушек сам себя ростит, как сорная трава, — при земле человека и вовсе не надо, али мы, хлеборобы, без едового можем прожить. Да ишо вон какой порядок завели: коли хлеб не желаешь сдавать али вякнешь чего, так зараз к стенке прислонят, как контру революции.
— Да, хлеб сам не растет. — Сергей почувствовал, что должен возразить, что тут нужны какие-то особенные и, главное, внятные этим людям слова, и тотчас понял, что не может их найти. — Ну некому землю пахать… Вы все, хлеборобы, на фронт ушли… сами… с белой сволочью биться. Вот и надо сперва сбросить в море Деникина, а потом уж вернуться к труду, сеять хлеб. А пока… Хлеб у ваших семей забирают? Значит, где-то есть труженики, семьи их, дети малые, которым еще голоднее, чем вам. Им и надо помочь. Борьба идет такая, что никому из нас жалеть себя нельзя…
В сенях зашумели, затопали, и в переполненную горницу ввалился молодцеватый вестовой в обындевелом полушубке и папахе набекрень.
— Комиссар новый тута? Северин, Северин?.. Приказано препроводить вас в штаб, товарищ комиссар, — сказал он Сергею, держась с той горделивой холодностью и даже надменностью, какая свойственна штабным и ординарцам при высшем командовании.
— Кто приказал?
— Челищев, начштакор.
— А сам товарищ Леденев где? В штабе?
— Да кто ж его знает? Летает, — ответил вестовой обыденно-значительно, как будто речь и вправду шла о некоем колдуне, носящемся над беспредельными пространствами и заклинающем стихию. — А энтот с вами кто? — кивнул на бесстрастного Аболина.
— Товарищ с Лихой, большевик. От белых бежал. — Сергей вдруг изумился, с какой привычностью, отсутствием сомнений повторяет вот эти слова.
И тотчас вспомнился их разговор с Аболиным — о «хамской» ненависти мужиков к интеллигентам и Леденева к господам — и как в этих больших изнуренных глазах вдруг будто бы и вправду показалась истинная суть.
— Насчет товарища распоряжений не было.
— Ну так я вам приказываю, — нажал Северин.
Сырой, студеный воздух неприятно ссудорожил потное, в духоте разомлевшее тело, наструнил, протрезвил. Метель уж почти улеглась под свинцово темнеющим небом, далеко было видно заметенные снегом дома, огни костров, подсвеченную ими улицу, копошение серых фигур во дворах, и дальше он пошел, весь подобравшись, стараясь ничем не выдать своей — такой смешной — настороженности и внутренне прислушиваясь к идущему с ним наравне Аболину.
Когда сказал Володьке с Петькой про Агорского, те тоже смеялись. А через месяц целились, казнили… Знаком с Леденевым? О танках поведал? Ничего ж не добавил к тому, что штабу корпуса и так уже известно. Ловко! Там, впереди, мол, силища несметная, стена. Да об этой стене все донские газеты кричат… Не скрыл, что бывший офицер, хоть, по его словам, не кадровый, — признался Сергею в том, чего утаить невозможно, в происхождении, в лице, в манерах, и даже с вызовом, со снисходительной усмешкой: подозревайте, разрешаю, вот я весь, какой есть. И документы в голенище — вот только чьи? с кого на нем сапожки?.. Ну а за что его цеплять и на каких противоречиях ловить, когда в нем ровно то же подозрительное, что, предположим, и в тебе самом, и даже легче допустить, что он подпольщик, чем что ты корпусной комиссар?.. Ни в штабе корпуса, ни в штарме о нем не знают ничего… или, может, лишь имя — Антон Аболин, с Ростовом же связаться невозможно. Очной ставки ни с кем не устроишь. Разве что с Леденевым самим.
А может, бредите, товарищ Северин? Простудились в дороге? Цель у него какая может быть? Прознать расположение, маршруты, передвижения колонн, их связи по фронту? Да если бы он пробирался в Калач, в тылы наши, в штарм, но ведь, напротив, лезет в пекло, к Леденеву. «Убить», — скользнула ящерицей мысль и не оставила холодного следа — потому что он сам не поверил себе. Полу-не-допустил.
— Тулупчик бы вам, — сказал Сергей Аболину как мог участливо.
— В Новочеркасске все оденемся. Если, конечно, вы не будете карать за всякий случай мародерства.
— Вам ужасно пойдет офицерская шинель, — сказал Северин и тотчас остро пожалел о грубости своей провокации. — За офицера станут принимать.
— Меня и без шинели, знаете… Зато там, средь ростовской изысканной публики, мог запросто сойти за своего.
Нет, этот человек не дрогнет. А если криком, револьвером, «руки, гад!» — неужель не проявит себя? А если он и вправду Аболин, подпольщик, большевик? Посмотрит на тебя своим усталым взглядом — и тебе станет стыдно.
Идти пришлось долго — похоже, к железной дороге. Полештаб расположился в доме начальника станции. У крыльца встали двое бойцов — потребовали сдать оружие. Аболин развел руки, позволяя прохлопать себя по бокам. Покорен, как утопленник.
Сергей сторожил каждый взгляд, движение Аболина и в то же время озирался среди новых лиц, оглядывал штабную обстановку с волнением прикосновения к легенде.
Бывал он во многих штабах — дивизионных и армейских, даже фронтовых. Там, наверху, хотя порой и под землей, в подвалах, владели, ведали, повелевали тысячами жизней командармы и комкоры — мучительно ссутуленные, как бы замерзающие необъяснимо-исключительные люди. Там, в белом калении электрических светов, в полуночном горении керосиновых ламп, десятки аппаратов и людей работали, как бешено неутомимая машина, как пароходный двигатель, как исполинские часы, в которых одна только стрелка — секундная. Республика, Центральный Комитет кричали в полевые телефоны, и отвечали им, вытягиваясь в струнку или горбясь, сгибаясь под тяжестью смертной ответственности, бессонные угрюмые штабисты с сухими лицами, отточенными, как карандаши, кричали убивающе в войска, в ночное беспроглядье, в снежные бураны.
На хирургических столах пестрели карты, похожие на красно-голубые цветники, на распятые кожи животных с узловатыми венами рек и морщинами прихотливых ландшафтов — как шмели над цветами, как врачи над больными, копошились над ними начштабы и начопероды; держа карандаши, как скальпели, бездрожно препарировали, прихватывали скобками порезы, вычерчивали стрелы рассекающих и дуги концентрических ударов, внедряясь в мысли, прямо в мозг потустороннего врага.
А тут машины не было: ни стука телеграфных аппаратов, ни копошения бессонных, ни огромных карт — Сергей как будто снова угодил в ту же самую хату, разве что не забитую красноармейским народом, не такую угарную.
Штабные — праздновали. Рождество. Не пьянствовали, нет, а будто благочинное семейство. Средь комнаты стояла елка, обряженная в телеграфные ленты, как в некий диковинный кружевной серпантин, обсаженная звездами, нарезанными из фольги и консервных жестянок. Под ней возились двое ребятишек лет пяти-шести — насупленный мальчонка в розовой сатиновой рубашке и девочка в синенькой ситцевой кофте и юбке до пят, с пытливыми, лукавыми глазами, блестящими, как мокрый черный виноград.
Пять человек штабных сидели за столом у самовара, в котором отражалась керосиновая лампа; бесстыдно высилась на самом видном месте четверть дымчатого самогона, румянели куски зажаренной курятины, лоснились блины, блестели моченые яблоки — не хамская роскошь за спинами изголодавшихся бойцов, но если бы Сергей увидел пьяных, разгулявшихся, то удивился бы, пожалуй, меньше, чем этой праздничной, домашней безмятежности, в которой было что-то безумно неуместное. Всего в двадцати верстах к югу лежал Персияновский вал, в молчании настуженных степей, во вьюжном мраке ночи, как орды снежных призраков, могли идти казачьи конные полки, сливаться, разливаться, течь в обход, а в эту комнату сейчас, казалось, и волхвы войдут, колядники ворвутся, ряженые, в остроконечных колпаках и с птичьими носами.
— Значит, празднуете, — сказал он, поздоровавшись, и голос его прозвучал неприязненно и даже будто обвинительно.
— Без праздников, товарищ Северин, и одичать недолго, — поднялся навстречу ему высокий худощавый офицер — иначе и нельзя было назвать вот этого затянутого в китель довольно молодого человека с удлиненным и тонким лицом. Нерушимый пробор, нос с горбинкой, в близко посаженных глазах — сухая птичья зоркость. — Начальник штаба корпуса, Андрей Максимович Челищев. Садитесь, товарищи. Милости просим. В германскую войну на Рождество мы договаривались с немцами о перемирии.
— И подарки друг другу дарили, — сказал Аболин с неприязненной, будто даже гадливой усмешкой, непонятно к чему относящейся — то ли к былым рождественским братаниям меж русскими и немцами, то ли к тому, что красный командир сегодня допускает возможность перемирий, «как тогда».
— Вы, может, и с белыми договорились? — добавил Сергей и тотчас пожалел о собственной мальчишеской запальчивости, об учительском и распекающем тоне, который он взял.
— В последнюю неделю, Сергей Серафимович, — отчеканил Челищев, — и мы, и наш противник, по крайней мере конница его, настолько истощились, что перейти к активным действиям физически не можем. До утра — так уж точно. Несмотря на смертельную между нами вражду. К тому же в нынешний момент мы в сильной степени зависим от погоды. Как видите, буран, и снег лег глубокий, по балкам и вовсе по пояс, то есть по конскую грудь.
«Я что, ему курсант? — подумал с раздражением Сергей, но тотчас признал: — Ну а кто же?»
— Так что ж, пока не кончатся бураны, так и будем стоять? Чтоб белые еще лучше на валу укрепились?
— Отчего же? Они-то — да, а мы — наоборот.
— В метель наступать? — спросил Сергей, догадываясь о логике ответа, но все же с любопытством человека, ни разу не видавшего, как войска наступают в метель.
— Метель — завеса обоюдная. При хорошем знании местности вы получаете определенное преимущество маневра.
— Но белые ведь тоже местность знают, и даже, может, лучше…
И тут в сенях затопали, и в комнату с грохотом, уханьем, сорочьим чечеканьем, визгучим верещанием рожков и вправду ввалились безумные ряженые, шаманы, скоморохи в размалеванных личинах, в мохнатых шапках с вербовыми ветками, цветными лентами, козлиными рогами, в овчинах и вывернутых наизнанку тулупах, изображавшие медведей, Иродовых слуг, и закружился вокруг елки дикий хоровод…
— Коляда, коляда, подавай пирога…
— Мы ходили по всем по дворам, по всем дворам да проулочкам…
— Не служи королю, служи белому царю…
— Торжествуйте, веселитесь, люди добрые… облекуйтесь в ризы радости святой… — перекрыл верещание делано зычный, густой чей-то голос, и Северин увидел вожака всей этой безумной оравы — рождественского деда с мешком и длинным посохом, увенчанным латунной Вифлеемской звездой. Почти до пят спадала крытая голубоватым шелком шуба, по брови был надвинут лисий малахай… — Он родился в тесных яслях, как бедняк. Для чего же он родился, отчего же бедно так? Для того, чтоб мир избавить от диавольских сетей, возвеличить и прославить вас любовию своей… Здорово вечеряли, дорогие хозяева. Тута, что ли, живут Ванятка Пантелеев и сестра его Полюшка?.. А иде ж они?.. А ну-ка, подите ко мне, орехи лесные. Да не робейте, милые мои…
Штабные стали вперебой подсказывать обоим ребятишкам подойти, и лица их, глаза преобразились, выражая едва ли не больший восторг и ребячьи-наивную веру в волшебную природу этого вот ряженого, чем глазенки обоих детей, несмело, бочком, кусая кулачонки, подступавших к «деду».
«И вправду осумасшедшели», — подумал Сергей.
Лицо Аболина и то переменилось — отчего? — большие, отрешенные глаза гадательно впились в полоску между ватной бородой и малахаем, и весь он стал похож на цепную собаку, готовую не то рвануться к своему хозяину, не то кинуться на чужака.
— А ты не колдун, — ответил мальчонка, смотря на ряженого исподлобья.
— Вот так голос! А кто же я? — с дурным упорством пробасил «старик».
— Ты Леденев, — ответил сумрачный Ванятка снисходительно: нашел, мол, дурака, — и Сергей дрогнул сердцем.
— Это как же ты меня угадал?
— А то поутру тебя не видал. Глаза у тебя не смеются, когда ты смеешься. И сапоги под шубой, как у казака.
— Ух и глазастый же ты, брат! А энто вот кто? — ткнул старик-Леденев набалдашником в Аболина, как будто вставляя в него туго сжатую, дрожащую в предельном напряжении пружину.
— Не нашенский, и с вами его не было.
— Ага! Мимо тебя, брат, не проскочишь, — сказал старик с каким-то уж чрезмерным торжеством, смотря на одного Аболина и, кажется, глазами говоря тому известную лишь им двоим всю правду.
Пружина вылетела вон — рука всполохом захватила вилку со стола! — и, будто повинуясь ребячьему соблазну, Сергей успел воткнуть взлетевшему подножку… Аболин всею силой рывка обломился, разбивая запястья, колени, и немедля толкнулся, завыв, — на него навалились, надавили коленом на выгнутый что есть мочи хребет, рванули за волосы кверху, показывая колдуну-шуту-комкору аболинское лицо, по-собачьи влюбленно, вопросительно взглядывая: отвернуть?
— Беги, Ванятка, в сени и солдат позови. И ты, Полюшка, к мамке ступай, — велел Леденев, скинув шапку и стягивая бороду, и Сергей наконец-то увидел лицо, то самое, которое разглядывал на фотографиях, — и вместе с тем, казалось, совершенно незнакомого, не того человека, живого, осязаемого, потому и другого.
— Взять, — сказал Леденев. — Не бить, не разговаривать, никого не пускать, — и слова его будто бы перетекли, воплотились в движения двух часовых, тотчас поднявших Аболина.
Лицо того с расширенными, побелевшими глазами, вбирающими Леденева, сломалось в каком-то неверящем недоумении и даже будто бы раскаянии — на миг показалось, что он вот-вот стечет перед комкором на колени, словно только теперь осознав, на кого покушался.
— Ты!.. ты!.. — хрипнул он, и к горлу подтекли какие-то слова, но один из бойцов завернул ему руку до хруста, заставив охнуть, онеметь от боли, и вот уж вытолкали, выволокли в сени.
Комкор, бритоголовый, в бабьей шубе, напоминающей боярскую с картин Васнецова, прошел к столу и сел напротив онемевшего Северина, и все вокруг них перестали быть — в глаза Сергею, любопытствующий, не потерявший, что ли, той лукавинки, с какой глядел на ребятишек, но все равно ударил леденевский взгляд.
Глаза эти, казалось, увеличивали все, на что смотрели, будто сильные линзы, собирали в фокальную точку весь свет, в самом деле все зная, все видя. Не в одном только этом пространстве, но еще и во времени — все, во что он, Сергей, заключен и к чему прикреплен, где родился, как рос, кем воспитан, почему стал таким, каков есть, и каким еще станет, к нему, Леденеву, попав.
— А ловко вы его, — сказал Леденев, смотря уже как будто сквозь Сергея, и подавился застарелым кашлем. — Выручили положение, а то и до горла дорвался бы.
— Роман Семеныч, любушка! Прости ты меня! — убито-покаянно начал Носов, штабной комендант. — Да я из него, гада, все кишки повымотаю, — когтями вцепился Сергею в плечо. — Живьем буду грызть!
— Помолчи, — попросил Леденев, прокашлявшись.
— Вы, что ж, его правда узнали? — набросился Сергей.
— Узнал. Товарищ мой старый. Еще по германской.
— А я чувствовал! Знал! Офицер!.. От белых отбился и к нам — подпольщик, большевик!.. С кем очную ставку?! Вот — с вами, выходит! Не раньше! Кретин! Наган ему в бок надо было — и до выяснения!
— Звать-то вас как? — Подчеркнутое обращение на «вы» в соединении с забывчивым, не застревающим в Сергее взглядом не то чтобы обидело Северина, а именно внушило стыд и отвращение к себе.
Никогда еще он не чувствовал себя таким никчемным, лишенным веса, плоти даже, а не то что голоса, — под давлением этого леденевского непризнавания его, Сергея, значащим и стоящим хоть что-нибудь.
— Откуда ж вы прибыли? — спросил однако Леденев.
— Из Калача через Саратов.
— Каких мест рожак?
— Тамбовский. Учился в Москве.
— Бывал я в Москве, давно, при царе. Как зазвонят все сорок сороков — так и мороз по коже, душа из тела просится, как стрепет из силков, будто и вправду сам Господь к себе ее покликал. Иль будто ангелы на землю снизошли. А нынче разве снизойдут? А главное, нам и без них хорошо. На крови и возносимся — в вечную жизнь. Новый мир только в муках рождается, так, комиссар? — Леденев говорил, как больной под гипнозом.
«Бог, ангелы… Христа вон славит, как юродивый», — подумал Сергей взбаламученно.
— Допросить его надо, — сказал он, кивая на дверь.
— А чего вы хотите от него услышать? За что он нас бьет — и так вроде понятно. Кем послан — так об этом и в газете можно прочитать, в «Донской» их «волне». И вольно ж ему было явиться сегодня — весь праздник испортил. Детишек вон перепужал.
— Так Рождество еще как будто не сегодня, — сказал Северин, невольно проникаясь творящимся вокруг него абсурдом.
— А вы до завтра чаете дожить? — спросил Леденев. — Так завтра — это о-о-о… Кому еще выпадет Рождество-то встречать?.. Пойдем, Челищев, — приказ писать будем на завтра.
— Теперь и с комиссаром, — напомнил начштакор, кивая на Сергея.
— Само собой, — поднялся Леденев.
Сергей и не заметил, как оказался за другим столом, на котором была уж разложена карта-трехверстка, и будто ниоткуда появился, должно быть вылез из звериный шкуры, новый человек — опять щеголеватый офицер, высокий, хромоногий, Мефистофель, с холеной конусной бородкой и заостренными усами, с невозмутимым, жестким взглядом темных глаз, в которых чудился нерастворимый осадок превосходства надо всеми. Мерфельд, начоперод.
Леденев наконец сбросил шубу, и ордена Красного Знамени на черной гимнастерке его не было, как и знаков различия. Сел у окна на табурет и, не взглянув на карту, врезал взгляд в неизвестное время, в ночную снеговую пустыню, где как будто и вправду ничто не могло ни возникнуть, ни сдвинуться с места без его разрешения, и даже налетавший неизвестно из каких пределов ветер лютовал на бескрайнем просторе не сам по себе — нес его, леденевскую, волю, слова:
— Противник перед фронтом корпуса пассивен и наблюдает за передвижениями наших войск по линии Персияновка — Грушевский. На правом фланге корпус действует совместно с кавбригадой Блинова. Тылами опирается на двадцать первую и двадцать третью стрелковые дивизии и третью бригаду Фабрициуса. Комбригу-один, произведя необходимые приготовления до двух часов утра, скрытным маршем обойти высоту «четыреста три» указанным разведкою маршрутом. Забрать Жирово-Янов, выдвинуть разъезды к Норкинской и, оседлав железную дорогу, рвать пути на Новочеркасск…
То была речь машины — в ней не было не то что интонаций, но даже ни единого живого слова, одни только термины, названия бригад и голые глаголы. Ни происхождения, ни места рождения она не выдавала, разве только привычку и даже предназначенность повелевать, разве только военное образование, хотя ни императорской военной академии, ни даже офицерского училища Леденев не кончал.
— Комбригу-два к семи часов утра вести бригаду к высоте и развернуть к атаке в линию, не доходя трех верст.
— Но Горская с марша — отдохнуть не успела, — сказал Челищев, обрывая бег карандаша и вскинув на комкора острые глаза. — А мы ее вперед пихаем. На пушки, без достаточной поддержки артиллерией.
— Потому и пихаем, — ответил Леденев, — что у нее пугаться чего-либо теперь уже сил не найдется. Она ведь, усталь, всякое другое чувство давит. Сытый и отдохнувший красоваться идет, а заморенный — умирать. Такой зря и пальцем не ворохнет.
Сергея поразила эта мысль — его, человека, не раз писавшего в газеты: «победа или смерть», «кто себя пожалел, предал дело борьбы за всемирное счастье трудящихся», «переносить во имя революции не только голод и усталость, но даже огонь». Не то чтоб он не представлял, что такое усталость в походах, но все-таки почувствовал себя едва ли не ребенком, который каждый день ест мясо, но ничего не знает о людской работе на быка или свинью.
Леденев говорил не о жертве и не о самоотвержении, а о слабости человека, от которого бесполезно требовать чего-либо сверх человеческих сил, но можно поставить в такие условия, когда ему придется стать героем. Да и не героем (потому что герой, представлялось Сергею, — это собственный выбор), а машиной, которая не ошибается.
— Так, стало быть, блиновцы изобразят наш правый фланг, — поднял голову Мерфельд. — Сидорин будет лицезреть их со всех своих аэропланов у Горской на уступе, в то время как Гамза уже заполз ему за шиворот. Красиво. Но что это нам даст, помимо суматохи в их тылу на левом фланге? С валов-то их такою горсткой не собьешь. С чего же ты взял, что Сидорин на этот твой вентерь с подводкой всю конницу выпустит? Куда как выгодней держать ее за валом, предоставив нам лезть в эту гору, как грешникам к небу, а верней, нашей пешке, которой еще больше суток тянуться. А конницей своей обхватывать нас с флангов, когда наша пешка в эту гору полезет? Для хорошего концентрического удара сил у нас слишком мало — какой там прорыв? А ты толкаешь Горскую под пушки, да и Донскую и Блиновскую туда же — ведь втопчет в землю «Илья Муромец». На ровном месте — как на стрельбище. Артиллерийскую дуэль-то проиграем, даже не начав.
— Артиллерийская дуэль, — повторил Леденев с удовольствием. — Запомнить бы надо — вверну на совещании в штабе армии. Буран завтра будет, — сказал он так, как будто сам уже и вызвал из каких-то незримых пространств тот буран. — На небо погляди — ни звездочки. С Азова нажмет.
— Ну подведешь ты к валу корпус по бурану, а он-то из вала разве выйдет? Что ж, он куриной слепотою мозга заболеет к завтрашнему дню? Уроки-то прежние помнит, наверное. Потопчемся под валом, как бездомные собаки перед тыном, и назад, поджав хвост, побежим? Или подымемся, подобно облакам, и кони наши, как орлы, взлетят?
— Сказал слепой: «посмотрим», — ответил Леденев. — А ну как вся Донская армия назавтра к тем высотам стянется. Это дело живое — в приказе не опишешь… Ну, все на этом? Тогда пойдемте, ваше благородия, на Партизанскую посмотрим.
— Благородиями бывают прапорщики, — ответил Мерфельд, поднимаясь. — А я, уж коль на то пошло, высокоблагородие.
— А ты знаешь, отчего я в красные пошел? — сказал Леденев. — Чтоб это «вашевысоко…» не выговаривать, язык не ломать.
— Других соображений не было? — насмешливо осведомился Мерфельд.
— А это чем плохо? Кто меньше гордость твою гнет, тот тебе и родной.
Сергей насторожился, с жадностью вбирая разговор, но все уж поднялись, накидывая полушубки и шинели, и, спешно подписав свой первый боевой приказ по корпусу, он вышел вслед за всеми на крыльцо и тотчас осознал, насколько опоздал с никчемной подписью, поскольку в слепом, завьюженном мире все вправду ожило и двинулось по первому же леденевскому слову. Перед взглядом его потекли сотни призрачных всадников, из невидья и в невидье, в метель, и впрямь уже казалось — только тени, ибо двигались все в совершенном, каком-то неестественном беззвучии, не кони, а гротескные мифические чудища, уродливые межеумки былинных великанов и готических химер — с непомерно огромными, словно раздувшимися от водянки головами и ногами как будто в инвалидных лубках. Он, Северин, не сразу понял, что к мордам коней приторочены торбы с овсом, а копыта обуты в рогожу — чтоб ни всхрапа, ни звяка подков о придонные камни и наледи.
И проводив глазами этих, как будто созданных одним его воображеньем всадников, по три в ряд исчезающих в пепельной мгле, Леденев, не сказав ни единого слова, толкнулся под крышу, и Сергей как привязанный двинулся следом. Все оставили их с Леденевым вдвоем.
— И все же надо допросить его, — сказал Северин, чтоб хоть что-то сказать, а может, просто понимая, что Аболин — это единственное, что пока еще связывает его с Леденевым.
— По дороге не наговорились? — спросил Леденев и вдруг резко выдохнул, как будто прочищая грудь и горло.
— Как же имя его? Настоящее?
— Извеков. Евгений Николаевич. Здешних мест рожак, новочеркасский. В семнадцатом году подъесаулом был, теперь в каком чине, не знаю.
— Так вот и надо допросить. Вдруг тут у нас их люди — надо понимать.
— Вот репей, прицепился. Вот я у нас и есть его человек. На жертву он пошел. У них, как говорится, у корниловцев, мертвых голов: когда идешь в бой, считай себя уже убитым за Россию. Мне нынче, как видите, малость не до того.
— Но есть начальник оперчасти.
— Ну вот он и займется, — ответил Леденев, как о чистке конюшни.
— Вы что же, вместе с ним служили? Ну, в германскую?
— В плену у австрияков познакомились. — Твердо спаянный рот Леденева шевельнулся в едва уловимой улыбке. — Ну а вы где воевали?
— На Украине, с гайдамаками. — Сергей чувствовал, как голос у него по-петушиному срывается, и с возрастающим ожесточением продолжил: — Давайте уж начистоту. Сосунка к вам прислали? Да только это, извините, не вам уже решать. Прислали — стало быть, сочли необходимым. Именно меня! Так что придется уживаться. И в штабе я отсиживаться не намерен.
— Ты с бабой спал? — посмотрел на него Леденев будто с жалостью. — Есть у тебя присуха, ну невеста или, может, жена? А что ты так смотришь, будто тавро на мне поставить хочешь? Это, брат, не шутейное дело, а самая что ни на есть середка жизни, то же, как и людей убивать. О Рождестве ты спрашивал — почему я его на сегодняшний день передвинул? Всем срок невеликий дается на этой земле, а нынче и его лишиться можно. Вот если ты, допустим, ни одну не облюбил, тем более обидно умирать. Так что, может быть, и погодил бы — себя-то пытать? Вот заберем Новочеркасск, а там, поди, и девочки из офицерских бардаков — тогда и воюй.
— Я чужие объедки не жру, — отрезал Сергей, как ему показалось и хотелось ответить, с холодным достоинством.
— А где ж я тебе нынче честных баб возьму или девок непорченых? Голодает народ, хлеб не сеет никто. У меня тоже бабы есть, милосердные сестры. Все бляди. Товарищи бойцам, потому и дают. Обслуживают всем чем могут. Да и бабье нутро нипочем не уймешь — наоборот, еще жадней становятся.
— В настоящее время о половом вопросе думать считаю для себя смешным, — отчеканил Сергей, испытывая раздраженное недоумение, как может столь ничтожное животное занимать Леденева, и вместе с тем почуяв сладостно-мучительную, идущую откуда-то из-под земли голодную тоску — двойной раздирающий стыд: за то, что это темное, звериное неподавимо им владеет, и за свою мужскую нищету, за то, что близость с женщиной — простейшая из милостей природы — ему до сих пор не дана, и что Леденев это видит.
— Понятно. Железный боец. Да только революция нам будто этого не запрещает. Или может, ты квелый, ну, хворый какой?
— Я сейчас нахожусь в непосредственной близости от позиций противника и ни о чем другом не думаю.
— Ну и где же ты предполагаешь завтра пребывать?
— Где вы посчитаете нужным, — влепил Северин. — Но прошу испытать меня в деле. Я командовал взводом и ротой.
— На коне ездить можешь?
— Могу, — чуть не выкрикнул он.
— Ну, побудешь при мне. Дадим тебе коня. И шашку выбирай, — повел глазами Леденев на целую гроздь клювастых клинков, подвешенных на крюк.
Сергей как можно медленнее и безразличнее поднялся, степенно подошел к многосуставчатому железному ежу, повглядывался в медные головки, в старинную чекань кавказской работы и выбрал простую казачью, саму будто легшую в руку. Такую же, какой рубил лозу и глиняные чучела под руководством Хан-Мурадова, сухого, маленького, жилистого ингуша с широкими покатыми плечами и талией в наперсток.
Уроки даром не прошли: наивный ребяческий трепет и романтическая, что ли, через книги, зачарованность бесстрастно-хищной красотой холодного оружия («Не по одной груди провел он страшный след…») как будто уже перешли в привычную тягу к нему и даже охлажденную, почти ремесленную дружбу.
Но все-таки Сергей не мог поверить, что он уже у Леденева, сидит и разговаривает с этим человеком во плоти; что завтра же очутится в сосредоточии той силы, о победах которой кричало советское радио; что, возможно, и сам налетит на врага и рубанет, достанет по живому, откроет заточенную в костях и мясе душу, просечет ее страшным ударом, чтоб навсегда остался след, чтоб никогда не забывалась эта лютая свобода — пересоздать, переиначить мир.
— А что же о приказе ничего не скажешь? — спросил Леденев, наблюдая за ним, словно за первыми шагами ребенка без поддержки.
— Так вы уж будто без меня решили, — засмеялся Сергей злобновато. — Бригада вон уже ушла — чего ж мне, кидаться за ней? Да я и обстановки, в сущности не знаю.
— Вон карта, погляди. А лучше вечерять садись да спать, — немедля сжалился комкор, и Сергей то ли вспыхнул, то ли похолодел, решив, что над ним издеваются.
— А начпокор Шигонин что же — почему вы его на совет не зовете?
— А вон у Пантелеевых в хлеву поросенок живет — почему не зову?
— Ну, знаете…
— Вот именно, знаю, — сказал Леденев. — В Саратове есть доктор, Спасокукоцкий — может, слышал? Так вот, он как Лазаря меня воскресил, потому как Господь наделил его даром таким — с того света людей доставать. А, скажем, мне или тебе такого дара не дал. И если б я, допустим, встал над человеком при смерти да начал его резать, как телка́ в домашности, так, верно, и сгубил бы, а?
— Вы что же, в Бога верите? — спросил Сергей с вызовом.
— Нет, не верю. Я каждый день господнее творение глазами вижу и руками щупаю. Управил же кто-то, что каждый из нас таков, какой есть, и только то и может совершать, на что был от рожденья предназначен.
— Так ведь и вы учились… ну, стратегии. И если учиться…
— Ну-ну, валяй. Труд обезьяну человеком сделал, говорят.
Сергей, не зная, что ответить, сел к столу, почувствовав себя мучительно нелепым с этой шашкой — словно подаренной ему игрушкой, которой можно невзначай порезаться.
Расстеленная перед ним штабная карта была теперь как бы гербарием старого, уже не существующего положения сил. Сергей вбирал ее, обшаривал глазами, а Леденев уж стягивал свои напоминавшие чулки, из мягкой кожи сапоги с окованными по износ каблуками.
Полосатая змейка железной дороги ползла к папиллярным извивам тех самых Персияновских высот, в тиски, в насаждения синих гребенок, в ледоходный затор зачерниленных и наискось полузакрашенных прямоугольников (пластунских и конных казачьих полков) и уводила взгляд к неровным заштрихованным квадратам далекого и близкого Новочеркасска. Казачья конница стояла за валами, за всеми гребенками, скобками, реснитчатыми полудужьями окопов, и как ее оттуда вытянуть на голую равнину, Сергей не понимал.
Заснуть он, конечно, не мог. На расстоянии, казалось, запаха, дыхания не то спал, не то бодрствовал овеянный легендами войны, живой, несомненный теперь человек, чью внутреннюю жизнь необходимо было разгадать, и человек этот двоился, троился перед ним — то совершенная, непогрешимая машина, то будто бы психиатрический больной, заговоривший под гипнозом, то, наоборот, совершенно здоровый мужик, насмешливый и приземленно-мудрый, даже не презирающий интеллигентов, разводящих бесплодную «умственность».
Северинские мысли скакали и путались. То он думал о завтрашнем дне, о том, как взметнется в седло и покажет себя Леденеву, то видел карту ощетиненных, клыкастых ромбами белогвардейских укреплений, то вспоминал «признательные показания» комкора («чья сила меня меньше унижает, за тех и воюю») и его же поповские проповеди, которым он, Сергей, не мог, однако, противопоставить ничего, в такую глубину… нет, не веков, не векового страха ослушания, а именно самой реальности они уходили, как цепкая трава корнями в землю, и даже если ее выполоть, то вырастет другая, такая же живучая, упорная.
И Аболин не шел из головы, и стыд за свою слепоту свивался с ребячливой гордостью: а может, он, Сергей, и вправду Леденева спас? Но в это ему почему-то не верилось — такая, что ли, сила исходила от этого человека, что Северин невольно вспоминал суеверные слухи о комкоровой заговоренности. Да и в самом Аболине, верней Извекове, в давнишнем знакомстве его с Леденевым была какая-то загадка: упрямо чудилось Сергею, что Леденеву еще есть о чем поговорить с вот этим ходячим мертвецом. Наверное, совместная борьба за жизнь когда-то связывала их — такого не забыть. И эта вот невольная улыбка, как будто осветившая на миг лицо комкора…
А вдруг он, Леденев, сейчас подымется и тихо выйдет к этому Извекову, которого велел не бить и никого к нему не допускать? — кольнула мысль, не показавшаяся дикой, как будто и впрямь не более странная, чем все произошедшее сегодня, и какое-то время Сергей в самом деле сторожил каждый звук.
Но Леденев не двигался за загородкой, и вот уже не к месту, против воли шевельнулось то самое чувство двойного стыда, которое в нем поднял Леденев, заговорив о бабах. И тотчас вспомнились красноармейцы, с которыми Сергей уже успел поговорить, те самые прославленные леденевцы, иструженные переходом сквозь метель, набившиеся в хату и говорящие о золоте, которое возьмут в Новочеркасске, о женщинах, которых там найдут. И он вдруг подумал, что Леденев не то и сам такой же, как они, не то хорошо понимает, что только звериный инстинкт и может двигать несознательной мужицкой массой. Страх смерти с одной стороны и вожделение с другой. Скакать сквозь смерть и быть либо убитым, либо вознагражденным. И эта мысль его не испугала и не оскорбила. Ему опять представилось, что он не в лагере красноармейцев, а в становье какой-нибудь древней орды, идущей завоевывать полуденные города, где женщины, мясо и мед.
Ему и раньше чудилось, что в такой кочевой, дикой жизни людей, даже и не людей, а кентавров, в непрерывных походах, в жестоких лишениях и потому столь яростном кидании на всякую добычу — в таком-то образе существования и есть полнота бытия, его ничем не приукрашенная, а значит, и ничем не искаженная нагая сердцевина. Быть может, таким-то и должен быть настоящий боец революции — по-звериному мощным и жадным, цельным завоевателем нового мира. Не то чтобы свободным от каких бы то ни было нравственных требований, но целиком отдавшимся… чему?.. кровавому бою, грабительству, поняв, что вот это и есть твоя сокровенная суть?..
Он не мог передать свое чувство, догадку словами — еще и потому, что чуял ноющий озноб, волною разливавшийся по телу. Да что же это с ним такое? Он не был невинен, но тот случай близости — с деревенской девчонкой, Марылей, привлеченной его командирством и новеньким, щеголеватым обмундированием: тот же самый барчук, только красный! — оставил в его памяти лишь силу телесного влечения и унизительное разочарование: ждал какого-то непредставимого, невыразимого восторга — и ничего, обман, опустошенность, нищенская милостыня, одно физическое ощущение, не захватившее души.
Он мало знал женщин, смотрел на них сквозь книги, музыку, стихи, сквозь виденья тургеневских девушек, роковых незнакомок и всадниц Майн Рида, а с другой стороны — сквозь отцовские медицинские энциклопедии, которые не только раздевали, но и потрошили человека, вываливая для ознакомления раскрашенные внутренности, показывая страшные сифилитические язвы, провалившиеся, как у смерти, носы…
Конечно, он был молчаливо, угрюмо влюблен — в необыкновенную девушку, Соню Брайловскую, в ее антилопьи глаза, неизъяснимо лицемерную улыбку приглашающего отвращения, — и не было сил допустить, что сделана она из мяса и костей, ест ту же пищу, что и ты, чихает, подмывается, что и она когда-нибудь умрет…
Да о чем же он думает? Корпусной комиссар! На которого завтра смотреть будут тысячи: какого к ним прислали нового большевика. А может быть, так действует сознание приготовляющего себя к смерти человека: вдруг вперемежку начинаешь думать обо всем пережитом и еще не испытанном, о том, чего, быть может, никогда уже не испытаешь?
Не мог уснуть — переполняло предстоящее. Завтра утром — в бою, на глазах Леденева — должно было решиться: пустое место он, Сергей, иль все же человек. Как будто бы такое же волнение испытывал он в ночь перед экзаменом, перед оценочными стрельбами и смотрами, и было странно, что сейчас боится немногим сильней, чем тогда… А отчего же трепетать? Под орудийными обстрелами, под приникающим к земле пулеметным огнем он бывал много раз, видел смерть, хоронил своих павших товарищей, так странно, невозможно непохожих на себя живых… только вот никогда еще не дорывался до живого врага.
Ему вдруг вспомнились слова кого-то из наполеоновских маршалов: мол, воевал он двадцать лет без перерыва, но ни разу не видел двух сошедшихся кавалерийских громад, разве только как конница вырубала спасавшихся бегством стрелков. «А я вот увижу, — сказал он себе. — Вот это-то я завтра и увижу».
VI
Сентябрь 1916-го, Кениермеце, Венгрия
Голова ощущалась огромной, размером с ведро. От тряски вагона, от стука колес неутомимыми толчками наполняла ее боль, словно кто-то бил Романа молотком по голове, и он уже привык. Поезд бешено мечет назад какое-то незнаемое и непредставимое пространство, а потом замирает и подолгу стоит, и в вагоне совсем беспродышно, как в зарытом гробу. Но в этой-то бездвижности и оживают перемятые, как будто побывавшие под жерновами люди:
— Ах ты мать твою в душу, да что же они не дают нам поесть?
— Утро, что ль, или вечер? Бори-ис…
— Не утро и не вечер, а это мы на том свете.
— А жрать я хочу — это как? Душа-то, поди, есть не просит.
— А кто тебе сказал, что мы в раю?
— Святые отцы вроде как обещали. Всем убиенным за царя и веру.
— Им легко обещать. У них мосол говяжий в щах, а мы в окопах гнили, сухари сосали. Вот тебе и вся вера, и царь, и отечество. За что умирать? Одна и радость что отмучиться, от страха смертного ослобониться, чтобы сердце не жал.
— Без табаку совсем хреново. Харчи еще туда-сюда, а вот без курева зарез…
Грохочут засовы — и молнией, как Лазарю в пещеру, бьет в недра теплушки ослепительный свет. Полуживые пленные встают и, как слепцы, протягивая руки, принимают подаяние — чувал гнилого хлеба на вагон или «каву», разлитую по толкающимся котелкам и консервным жестянкам.
— Снова пойлом отделались!.. И когда ж будет хлеб?
Кипяток отдает жженой пробкой, полынком, желудями, но и его выхлебывают с жадностью… И опять бег машины, против которой ты ничто.
Под перемалывающий перестук колес в сознании Романа несвязные всплывают, меняются воспоминания. То он видит Карпатские горы, как в донские зеленые шубы, обряженные в гущину своих лесов; повитые куревом, на грани видимого сказочно-недосягаемо синеют их граненые вершины — неосязаемо-воздушные, плавучие соборы, воздвигнутые не людьми, а самою землей, которая неисчислимыми веками жила одна без человека и искала Бога. И голос матери, в печном тепле и кислом запахе овчин напевно выводящий: «Котик-братик, котик-братик… Несет меня лиса за синие леса…»
А вот уж Хотинское поле, перепоясанное многоцветными шеренгами полков, недвижных, как куртины неоглядного регулярного парка: одесские уланы, новгородские драгуны, казаки-оренбуржцы… Терцы в серых черкесках красуются серебряным узорочьем кинжалов и легкими статями поджарых кабардинских скакунов, а дальше пламенеют полосатые халаты обугленно-смуглых текинцев, последним нестаявшим снегом белеют их мохнатые папахи, тоскуют в ножнах страшные, изогнутые полумесяцем клычи. Вороньим крылом, отвернутыми лемехом пластами чернозема лоснятся крупы, спины, груди вычищенных лошадей, блестит их ременная сбруя, даже жиром натертые, словно крытые лаком копыта.
А вот чубатые донцы на кровных степняках — на миг Роману кажется, что он различает Халзанова, его горбатый хищный нос, его безулыбчиво спаянный рот, его лицо с пролегшей меж бровей бороздкой тяжкого, бесплодного раздумья. Быть может, эту появившуюся складку тревожно целовала Дарья, когда пришел в отпуск домой, пыталась загладить ее, заживить, вернуть лицо то, молодое, счастливое, способное свободно, бездумно улыбнуться. А может быть, хотела сохранить уже бесконечно родные черты, не пропустить ни одного ничтожного кусочка, всюду выжечь свое неизгладимое хозяйское тавро, исходить, опечатать губами, заклясть боль и смерть. А его, Леденева, никто и не ждет…
И вот уж как от смерти летит из Хотина махальный, полоща в струях ветра багряный флажок. Лицо такое, словно увидал что-то воистину чудесное, о чем слыхал от бабки на печи: подводный град, архангельское воинство, лик Богородицы на солнце… и все, что остается его распахнутым глазам, — остановиться или лопнуть, а сердцу — разорваться от восторга. И как будто прояснело — сквозь тяжелую наволочь туч, угрожавших дождем, просиял вышний свет, опалил построжавшие лица, затопил все Хотинское поле, полыхнул на клинках, трензелях, стременах, словно впрямь превращая казачье-мужицкое войско в небесную рать.
Оглушенный потоками меди и катящимся прямо к нему исступленным «Ур-р-р-а-а-а!», Леденев видит только переднего невысокого всадника с оторочкою свиты и шлейфом конвоя, в самом себе и каждом рядом чувствуя трепещущие струны напряжения, которые все туже накручиваются на колки по мере того, как живой, невыносимо настоящий император приближается к нему, мужику-Леденеву, проезжая вдоль строя от правого фланга до левого.
Все отдают вот этому единственному всаднику то самое, что всякому живому существу, и лошади, и человеку, дается труднее всего — свою совершенную, нескончаемую неподвижность. Надолго замерев, выказывают этим, что все они готовы за него и умереть… А он, государь, уже поравнялся с гусарами, и Леденев уж различает подрагивающий храп его белой лошади, и спокойную непринужденность посадки, и холеную рыжую бороду, и пытливо сощуренные серовато-зеленые, как у кошки, глаза.
Несмотря на улыбку в глазах, на холеность, лицо казалось бледным и осунувшимся от усталости, и когда пропадала улыбка, на нем проступала не то застарелая, уже непобедимая тоскливая покорность, не то просто скука, пресыщенность и отрешенность ото всех и от всего, что он должен делать.
Роман не понимает. Вся фигура царя, и посадка, и каждое движение его выражают полнейшую, ничем не нарушимую уверенность, что всё вокруг него мгновенно замирает и оживает только потому, что этого желает он… да и не желает, а просто так должно быть и никогда не будет по-другому. И все, от Брусилова до рядового, должны это чувствовать и необсуждаемо чувствуют это, счастливые стараться, замирать и умирать. Но откуда тогда столько смирной, терпеливой тоски — как в глазах у дряхлеющей, не могущей уже пробежаться за зверем собаки или, скажем, во взгляде измученной тягловой лошади?
Обратившись к гусарскому строю лицом, государь говорил те слова, которых, как он думал, ждали от него. Благодарил за верную и ревностную службу, называл молодцами, храбрецами, героями, заглядывал в глаза, лучисто улыбался — покорно делал то, что, как он думал, должен делать, что вложили в него с малолетства, предназначив с рождения, не думая о том, чего он хочет сам и что он может делать хорошо. «И этот — батрак. На кого же батрачит? На Бога?..»
— Вахмистр Леденев, — говорят про него государю. — Несравненный рубака. Многократно выказывал беззаветную храбрость.
— Каков молодец, — в несчитаный раз говорит государь, остановив на Леденеве ласковый, но исподволь тлеющий скукою взгляд. — Откуда же ты, братец, родом?
— Багаевской станицы, ваше императорское ве-ли-че-ство! — кричит наразрыв Леденев, обжигаясь словами и ощущая отвратительную дрожь.
— Казак? — недоуменно изгибается рыжеватая бровь.
— Никак нет, ваше императорское!.. Иногородний.
— Что ж, братец, послужишь, как раньше служил? — На лице государя выражается будто растерянность, и голос звучит едва не просительно.
— Рад стараться, ваше императорское величество! — кричит он немедля, а в голове уже кипит: «Нежели из-за этого мы? Убиваем людей далеко от родимой земли, костыли принимаем в награду? Как может такой всеми нами владеть? Да он только думает, что это он нас направляет, и мы только думаем, что ждем от него приказания. А по природе: всеми нами и силен, а один — то же самое я иль Блинков… Коней пустить — и мокро будет».
Он смотрит на царя откуда-то со стороны — и видит всю малость вот этого одного человека, даже прямо ничтожность его передо всей громадою застывших лошадей и всадников, передо всей огромной силой их задавленных потребностей, растущей обиды и злобы за постоянную необходимость умирать, за свои бесконечные тяготы, за отрыв от семей, за неведение, ни когда, ни чем для них закончится война.
В разъеденных временем, наивно-голубых, как у детей, глазах старых унтеров поблескивают слезы; все тысячи гусар, улан и казаков не отрывают от царя впивающих, обожающих глаз, словно впрямь отдавая ему что-то самое сильное нутряное свое и поверив, что смерти для них больше нет.
Вся громада бесхитростных, грубых, неграмотных, образованных, знатных, безродных, зажиточных, бедных, даже разноязыких людей удержана в недвижности понятиями воинского долга, служения отечеству и клятвы перед Богом, а еще, вероятно, и крепче всего — самым древним на свете, невытравимым в человеке страхом одиночества и смерти: в неразрывном единстве, в строю, в боевой красоте еще пульсирует надежда уцелеть, а в безначальной давке — никакой.
Но разве слиться в человеческое братство можно только под царем, спаяться лишь перед лицом повальной смерти, на которую царь всех и гонит? Неужели нельзя заедино потянуться не к этому, слабому, пригнетенно-усталому человеческому существу, а к самим же себе, к своему нутряному «домой», «хватит, навоевались»? Почему бы свою волю людям не взять?.. «Так у каждого воля своя, — обрывает себя Леденев. — У казаков своя, у мужиков… и казаки, и мужики, опять же, разные бывают… У дворян, офицеров своя. Попробуй вон Барбовичу сказать чего-нибудь против царя — рубанет. Какая армия без послушания? Какая красота без Бога и царя? Если каждый свой голос подымет, вовсе резать друг друга начнем, и потопчут нас немцы, все к едрене Матрене пойдет… Ну и как же тогда? Покоряться? Дальше землю собой удобрять? Так и впредь матерям получать на сынов похоронные? Я-то ладно, еще повоюю, мне всю жизнь воевать, а других гнать на смерть? За кого? Вот за этих лощеных?.. Значит, воля должна быть одна. Чтоб не меньше царя была сила, чтобы вера не меньше, чем в Бога, но такая, чтоб нас, мужиков, твердо ставила, гордость в нас выпрямляла. А то он думает, что знает, чего надо мужику. Полагает, что счастье великое — умирать за него, а нас самих и не спросил…»
Что-то сделалось с ним. Он вдруг почувствовал, что можно самому — даже и одному — изнутри расшатать, стронуть с места вот эту громаду людей и коней, не изломать ее порядок, не разметать, не рассори́ть, а в той же слитности направить на любого, повести за собой на того, кого сами посчитают врагом, — и покатится эта первородно-могучая сила, выжигая по всей земле то, чего быть не должно, и неся, утверждая одну свою волю.
«Во весь мах коней выпустить», — повторил про себя Леденев, ощущая, как зубы его оголяются в своевольном оскале… Но вот как святотатца, отвергнувшего веру, швырнуло его обратно на землю, сорвало дыхание, отшибло все памороки. Сквозь заволокшую ущелье каменную пыль он видит проступающие цепью серые фигуры, острошипые каски германцев. Чуя неотвратимо подступающий страх, он пытается встать, но не держат чужие, далекие руки и ноги. Корябает застежку кобуры. И уже на последнем десятке саженей качаются тусклые жала штыков, которыми его сейчас приколют, как зубьями тройчаток — закапканенную крысу.
Он дважды стреляет в высокого унтера, с усилием взводя тугой курок, и колодка нагана утекает сквозь пальцы. С бессмысленным упорством силится подняться, как будто это главное, что он обязан сделать, как будто смысл в том, чтоб быть убитым стоя, как будто усилие встать единственно дает ему почувствовать себя, а если лежишь — уже, значит, мертв…
Везли двое суток. Под грохот засовов опять полыхнула зарница, и закричали «ауфштейн!» и «выходить!». Паровозное пыханье, гулкий звон буферов, железные тычки, винтовочные дула, ползучее шарканье тысяченогого серого гада. Гимнастерки, шинели, шаровары, обмотки — все из грязи и пота сработаны…
Их гнали, как скот, по перрону и по булыжным улицам средь каменных домов, в краю какого-то иного, не представимого в донских степях и даже русских городах порядка, где как будто и вовсе не осталось земли, свободной от давно уж вкорененного в нее, вмурованного камня, на котором здесь держится все, даже небо, всюду он — обомшелый, столетний, незыблемый и неприступный в богомольной своей устремленности ввысь.
Но вот потянулись подсолнечным полем. Кругом неоглядная желтая марь под дымчатым небом. Семенящие пленные, воровски озираясь, срывают тяжелые, пухлые шляпки подсолнухов, прячут их под рубахами, с голодной жадностью выщипывают семечки, жуют с лузгою вместе.
Дорога тянется под изволок, и желто-пламенная цветень поля обрезается пустошью. Трава еще упорствует десятка три саженей, но с каждым шагом чахнет, сменяясь совершенно голой, черепкастой землей. Идут, как по дну пересохшего озера, растресканному, красно-бурому, как спекшаяся кровь, идут, словно остатки проклятого Богом воинства, как стадо одержимых бесами евангельских свиней, таких нечистых, что и топь не принимает их.
Изрезанное бороздами разработок, ржавеет торфяное поле. В широкой котловине — то ли шесть, то ли восемь огромных бараков в двойном загоне из колючей проволоки, по четырем углам господствуют сторожевые вышки.
Расхлебенились рамы ворот. На плацу меж бараками — сутолочь и качанье стоячих утопленников. Многоязыкий гомон тысяч — чужая и схожая с русской, родная, безродная речь закручивает неразрывные бурливые узлы, и кажется, что слышишь шум реки, лишенный всякого значенья. Черно-опаленные, грязно-щетинистые, костляво-обезжиренные лица. Ввалившиеся, тусклые, то зверовато-беспокойные, то безучастно-отрешенные глаза. Такие же, как там, за пропасть верст отсюда, — у полчищ живущих на фронте кротами, червями, ползком, поклоняясь земле, зарываясь в нее, чтобы скрыла от смерти.
Воздух в длинном бараке был вязок и зыбок, как студень, — приходилось его разрывать. От земляных полов до потолка — трехъярусные нары, большей частью пустые. Вновь прибывшие овцами сбились в проходе, не зная, какие места занимать.
Плюгавый надзиратель-австрияк, стоявший у стола, заваленного вещевыми мешками, всучал подходившим по брезентовой сумке: внутри котелок, ложка, вилка и нож с закругленным концом, две щетки из конского волоса, моток суровых ниток, две иголки и даже с полдюжины разнокалиберных пуговиц.
— Ну немцы дают! Лучше наших каптеров. Кажись, можно жить, братцы, а?
— Ага, и ступай к ним вот с энтой посудиной — не иначе как щей с потрохами дадут. Народ-то видал? Еле ноги таскают. А ты немца уже полюбил, как собака.
Распихали по нарам.
— Вы офицер? — услышал над собой Роман.
Красивое, породистой печальной красотой носатое и тонкогубое лицо нервически подергивалось, казавшиеся непомерно большими глаза горели накалом упорства и злобы, как у коня, которому до крови сбили спину.
— Неужели похож?
— Верно, все мы уже на себя не похожи, — подавился смешком офицер. — Но в вас еще есть что-то от человека.
— Премного благодарен, ваше благородие. Вахмистр я. Роман Леденев.
— Ну что ж, а я Извеков Евгений Николаич. Позволишь присесть? — На нары Извеков кивнул с таким омерзением, словно все, что вокруг, угрожало уже несмываемо опоганить его. — Ты будто бы гусар?.. А, келлеровский корпус, славно. Поручика Эрлиха знаешь?
— Убило его. За Прутом.
— Что ж, луце ж потяту быти… Увы, не все так думают, и с каждым днем всё меньше. Ты только посмотри на них.
— На кого же это «них»? Как будто такие же русские.
— Ну да, такие-то мы, брат, теперь все русские. Стыдно, как стыдно. Героев у нас много, но и мрази не меньше. Сдаются ротами и чуть не целыми полками. Не раненые, не бесчувственные, нет. Кидаются к германцам, как в братские объятия. Мечтая об одном — о послаблении. Чтоб кто-то, хоть германец, избавил их от долга воевать за собственную родину.
«Умом рехнулся, что ли?» — подумал Роман и спросил:
— А вы, вашбродь, что, были ранены?
— Представь себе, — ответил тот с вызовом. — Бомбой с аэроплана, когда мой полк форсировал Стоход. Очнулся и полз, как червяк… А ты, что же, сам сдался?
— Такая же чепуха. Из «кряквы» нас немец в ущелье накрыл — слыхали про такую? Снаряд у нее в землю входит на сажень. Оно само собой, не надо бы мне плена, однако же в окопах то же самое гниешь. Поганое дело — ползком воевать. Тут уж и впрямь на Бога одного надежда, а сам уже не можешь ничего.
— Да-да, ты гусар. Я, брат, и сам не знаю лучшего, чем конная атака… У Федора Артуровича с его железной волей никто и не подумает о плене. То же и казаки — особенная нация. Но мужик, так сказать, из середки, а тем паче фабричная шваль — вон они, посмотри, — зыркнул он на возящихся по соседству людей, и губы его передернулись в злобе. — Получили по ложке — и готовы кричать, что австрийское стойло лучше русских окопов. Им, видишь ли, втемяшили в башку, что немецкий рабочий и австрийский крестьянин им братья. Что надо протянуть друг другу руки через проволоку и пойти по домам. Что нет никакой земли предков, а есть угнетатели трудящихся классов. Ты, верно, братец, тоже почитывал эти листочки?
— Ну коли грамоте обучен, отчего ж не почитать? — В печатных воззваниях, которые гусары находили в своих простуженных окопах и землянках, Роман находил много верного, но спорить с Извековым ему не хотелось.
Плен заслонил ему все остальное, как чувство жажды подавляет чувство голода и тем более злобу к тому, кто не давал тебе наесться вдосталь.
— Ну и что же ты думаешь?
— А думаю, что хорошо бы было, когда б никто из мужиков читать не умел, — ответил Леденев с усмешкой, думая: «Царю хорошо да вам вот, помещикам».
— Один умеющий читать растолкует вот эту писульку десятку неграмотных. Что, собственно, и наблюдаем. Солдаты разложены большевиками и не желают воевать.
— Да вшами они разложены, — не вытерпел Роман. — Лучше вшей агитаторов нет, либо хлеба гнилого и дырявых сапог. Да и ладно бы вши, ладно смерть над тобой. А дома что, в хозяйстве? Баба — клячей в запряжке? Детвора золотушная? За это, что ли, муки принимать? Да за тех дурноедов, какие у нас в Петрограде сидят и обедают каждый день с мясом?
— Ну вот и ты уж начинаешь поддаваться этой дряни, — усмехнулся Извеков, посмотрев на Романа нежданно спокойно и даже будто сострадательно — своими странными, печальными глазами, казавшимися подведенными, как у Петрушки в балагане.
Тонкокожий, издерганный, он, видно, вспыхивал как порох и так же быстро остывал, но говорил не умолкая:
— Увы, в твоих словах есть доля истины. Поглядишь на какого-нибудь биржевого торговца или сына заводчика — почему не на фронте? А половина мужиков в окопах, отчего и в полях недород. Спекулянты скупают весь хлеб и непрестанно подымают цены. В тылу совершенный бардак: интенданты воруют, промышленники поставляют гниль и рвань. Да, есть законы экономики, и они сейчас действуют против России, но ты не понимаешь главного, ты путаешь вершки и корешки. Ты решил: если твой государь подвергает тебя нескончаемым тяготам, ничего не давая взамен — мяса, хлеба, сапог, — тогда и ты не должен своему монарху ничего. Да и не ты, а миллионы так решили — что они никому ничего не должны. У них теперь главное — права человека. Свобода! Свобода от чести, от долга, от совести. Родную землю от германца боронить? Идите к черту, я свободен, мой первый долг есть самосохранение. Все, что естественно, не безобразно, и пусть интендант ворует сукно, и пусть рабочие нарочно портят пушку и винтовку, и пусть солдаты обнимаются с германцами, и да святится имя человека! Все только и делают, что требуют, требуют, требуют, — и каждый признает за человека исключительно себя: «мне, мне», «я хочу». И чем это кончится, а? Повальным братанием, свальным грехом? Германская нация, у которой порядок в крови, спихнет Россию в выгребную яму?..
Извеков еще долго говорил, и Роман соглашался со многим, находя в его длинных речах подтверждение собственных мыслей, своего недоверия к той большой правде, которая была в воззваниях социалистов, — слишком, что ли, хорошая для человека и потому недосягаемая, сказочная, такой переворот всей жизни обещавшая, что, кажется, и сбыться не могла, как ни были вольны в своей судьбе и даже в перемене места люди, прикованные к своему жилью и плугу неизбывной нуждой.
Он слушал с жадностью, довольный, что Извеков говорит с ним как с равным, как образованный с таким же образованным, и что он, Леденев, понимает его. При этом было ясно, что Извеков говорит скорее сам с собою, что он и вправду, видно, малость повредился головой — не то от мучения плена, не то от контузии, — а может, ему просто нужен был слушатель и никого, кроме Романа, не нашлось.
Когда Извеков выдохся и замолчал, Роман, предупредительно покашляв, спросил о насущном:
— Вы, ваше благородие, не знаете ли, где мы?
— Мы, братец, на Дунае, в сердце Венгрии. Недалеко от Будапешта. В Эстергоме. А сейчас — в карантинном бараке.
— Всего-то двое суток ехали — и уже в самом сердце? Стало быть, и до фронта не шибко далеко, — усмехнулся Леденев и понял по глазам Извекова, что тот хорошо его понял.
В неведомо какое время, в незнаемых местах бог знает кто — отряд из восьми человек, одетых, как блуждающие дезертиры или просто ошметки разбитого войска, — вели в поводу трех истощенных лошадей, подымаясь по долгому взгорью, петляя меж огромных ледниковых валунов, среди которых попадались вдруг разрезанные, как конским волосом высокий каравай, неведомо какой небесной силой. Похоронно выл ветер, обдирал обнаженные руки, лицо, громадными волнами перевеивал мириад снежных хлопьев, порхающих над миром, точно пух из распотрошенной перины.
В молчании карабкались все выше, лосиными, козьими тропами сквозь черный ельник, сквозь рощицы приземистых дубов, сквозь матерый сосняк, туда, где снег лежал уж высотой с аршин, валил все обильней, все гуще, пухлой мглою забвения застя ближайшее будущее.
И вот уж вереницей двинулись вдоль каменной стены, отвесно уходящей куда-то в небесную твердь, тащили под уздцы упершихся коней, приседавших на задние ноги от страха и в любую секунду могущих сорваться вот с этого узкого выступа, увлекая тебя за собой в беспроглядную бездну, куда падать, казалось, так долго, что память о тебе сотрется раньше, чем ты наконец разобьешься о камни.
Поводья резали ладони до костей, кладя такой глубокий след, какой кандалы оставляют на запястьях у каторжника, и мускулы, казалось, распускались, как веревки на колодезном вороте. Завывающий ветер обрезал полохливое лошадиное ржание, пресекал в самых легких дыхание, забивал воспаленную глотку леденистым песком.
Наконец обогнули вот эту, подпиравшую небо скалу и, не веря глазам своим, замерли на перевале: угрюмым бесприютным миражом в свинцовых сумерках простерся вниз лесистый склон, такой недостоверный, призрачный, что боязно шагнуть. Но вот пошли, все больше углубляясь в частый ельник и уже ища место, где можно устроить ночлег. Забились в расщелину, привязали коней и рухнули средь валунов, словно уложенных руками великанов в подобье циклопического очага.
Никто из них, казалось, не мог уже и пальцем ворохнуть, но вот все вразнобой зашевелились, и трое из них поднялись и пошли рубить лапник поблизости… И вот уж все кружком, притиснувшись друг к другу, сидели вкруг горящего костра, протянув к нему руки и, как завороженные огнепоклонники, не спуская глаз с пламени, вбирая благодатное тепло и преданно оберегая вот это первобытное спасительное чудо от завывающего ветра и всей окружающей тьмы.
Языкастое пламя трепетало и никло к земле, но не гасло, по-собачьи лизало поднесенные руки, неверно озаряло обхудалые, неподвижные в устали лица.
— Вот идете вы, Зарубин, к русским, — медлительно заговорил один из них, будто с усилием припоминая слова родного языка, и пламя выхватило из чернильной темноты давно не бритое лицо Извекова со ставшими еще огромнее от худобы глазами. — Но какие ж они вам свои? Доберетесь, допустим, а вас арестуют как уже неприкрытого большевика. Ведь я молчать не буду. Леденева вон нам совершенно распропагандировали — как губка вашу мерзость пьет, вместо того чтоб дать по морде хорошенько. Направлялись бы сразу в Женеву. Там ведь, кажется, нынче все ваши вожди собрались — радетели за счастье русского народа.
— Иду я с вами потому, — ответил названный Зарубиным, — что еще неизвестно, кого из нас там арестуют — к тому самому времени, когда мы наконец-то дойдем.
— А не слишком ли много вы о себе воображаете?
— А кто же это жалуется, что мы уже всё разложили? Что солдаты на фронте давно уже слышать ни о чем не желают, кроме дома и мира? Ну и чего ж бояться мне и почему бы не бояться вам? — размеренно цедил вот этот человек, казалось, совершенно убежденный, что там, за горами, за мраком, на самом деле все уже перевернулось, а если нет, то ждет он этого, как ледохода по весне.
— А знаете, товарищ, если ваши пророчества по социал-демократическому соннику и вправду сбудутся, хотя бы и отчасти, я вас сам пристрелю, — отчеканил Извеков.
— Э! Зачем так говорите? — с нерусским акцентом сказал сидящий рядом с ним широкоплечий, статный человек. — Как братья стали, нет? К своим доберемся, поможет нам Бог, — и что, как и не было? Под мертвецами вместе не лежали? Последний кусок не делили? Как можно такое забыть? Как можно брата своего убить и говорить такое даже?
— Ну вы-то, князь! — проныл Извеков. — Что ж, ваши деды белому царю не присягали? А он своим богам поклялся, Марксу — слыхали про такое божество? — разрушить государство русское до основания, чтоб не было ни Бога, ни царя. И что ж, он после этого вам брат?
— Вы меня уж за дикого-то не держите, — обиделся тот.
— А чем же вам не нравится быть диким? Так называемый дикий тверд и целен в своих правилах чести. Да я, если хотите, сам такой вот дикий, на том и стою. Так называемый дикарь не ищет проку в своей верности и всякую награду почитает для себя достаточной, да и не ждет он никакой награды.
— Долготерпит, милосердствует, не завидует, — послышался смешок четвертого скитальца, сидевшего угнувшись и дрожа.
— А что, не так? — откликнулся Извеков. — Не завидует — так уж точно. Покорно занимает место, которое отвел ему Господь, а не спрашивает, то ли место ему отвели. Он по наивности своей и думать не смеет, что его обделили. Эх, милый мой, да если б все мы были дикими, то и горя не знали бы. Все оттого, что много о себе воображаем. И первым делом, дорогой мой, мы, интеллигенты и даже дворяне. Сами первые вдруг и решили, что нам надобен царь поудобнее. А за нами уже и народ. Каждый вдруг почему-то решил, что ему от рожденья недодано. Оттого-то и тяга больная — ре-во-люционная.
— Хорошо вам рассуждать, — вдруг сказал Леденев, одетый, как и все вокруг него, в облезлую австрийскую шинель. — Вам-то вон всего сколько от Бога положено: и земли по пять тыщ десятин, и гимназия, и наука военная, и англичане кровные сыздетства под седлом. Можно и не просить ничего, все и так уже есть — знай служи. А нам чего от Бога, мужикам? Отцовские мозоли по наследству да уродский горб? За чужими конями ходить? С военным делом то же самое — строю учат да рубке, как медведей на ярмарке. Не то что по-немецки говорить, а и по-русски складно не умеем. Как же нам не обидеться? Одного, господа, никак в толк не возьмете: каждый рот куска просит. Вы желаете кушать — так и нам ить без хлеба никак.
— Так что ж, тебе и хлеба не давали? — поддел его Извеков.
— А вы его, вашбродь, видали хлеб-то, каков он есть не на столе, а в поле? А то, может, думаете, что он так и родится караваем, у булочников-то, а нам вон с Улитиным вовсе не надо пахать? Да и много чего окромя есть, без чего человек уже не человек. Ежли гнут почем зря, ежли жизню твою выхолащивают чисто как боровка да ни слова сказать не дают, значит, скот ты и есть. Книги те же, наука — вредно нам много думать? В темноте нас хотите держать? Да покорности требуете? Как по мне, нет поганее слова, чем ваша покорность. Вот вы говорите: Россия, благолепие, сила великая. Только сила-то эта, вашбродь, на мужицких хребтах испокон и стоит. Вы этой красотой любуетесь, а я ее, допустим, и не вижу: держу ее — хребет трещит, того и гляди вовсе сломится. А сломится он — и рухнется вся красота.
— Так чего же ты требуешь? — взбеленился Извеков. — Вот ты, лично ты, георгиевский кавалер? Своей отвагой, сметкой и усердием ты, считай, уже выслужил прапорщика, и мы, офицеры, тебя принимаем в свой круг.
— Да как же, приняли бы вы меня, когда бы не плен.
— Служи как служил — будешь вознаграждаться и впредь, — упорствовал Извеков. — Или ты хочешь все и немедленно? Мои пять тысяч десятин земли, мое образование? Хочешь переворота всего? И как же ты предполагаешь устроить эту мировую справедливость? Что, пойдешь за такими вот большевиками? Бросишь фронт, командиров, товарищей… тьфу ты!.. бросишь братьев своих, на большую дорогу пойдешь, отберешь у меня все, что надобно? У купца, у зажиточного мужика, у соседей своих — казаков? Ровно так же, как Каин у Авеля? И ты думаешь, мы отдадим? Вот вы, князь, отдадите? Ведь он вам брат и все мы братья.
— Не слышим мы один другого, — ответил Леденев с тоской, но будто и с глухим упорством человека, все для себя уже решившего. — Не может быть так, чтоб один разогнуться не мог, как трава под копытом, а другой его вовсе не видел на этой земле. Так вот и знайте: скоро ли, нескоро ли, а все одно в народе гордость выпрямится.
— Так как же мы сбежали?! — воскликнул тот, кого все называли князем, уже с каким-то детским отчаянным непониманием обводя всех своими бараньими, блестящими, как антрацит, глазами. — Вместе шли, хлеб делили, коней? А в России — не так?
— В этом и парадокс, дорогой мой, — сказал молчавший до сих пор немолодой уж офицер, похожий чем-то на Брусилова, с тощим желтым лицом и чуть раскосыми глазами. — Сейчас мы поспорим о переустройстве России, пообещаем пристрелить один другого, как только доберемся до своих, а после этого уляжемся и прижмемся друг другу, чтоб хотя бы немного согреться. И дальше пойдем как один человек. В чужой стороне, в окружении врагов, в вопросе, так сказать, последнего куска, как вы верно заметили, мы проявляем чудеса единства, и пусть не все, но многие способны послужить другому, как себе. Но как только уходим от смерти, этот соединяющий нас стадный страх одиночества слабнет, и мы опять становимся голодными и сытыми. И что с этим делать — неведомо.
— Так, может быть, и надо научиться делиться с ближним всеми благами, как последним куском? — с улыбкой сказал тот, кого называли Зарубиным. — Вы же сами, Григорий Максимыч, признали человеческое братство как естественный инстинкт, заложенный в нас, — так отчего бы нам не заложить этот инстинкт в основу общественной жизни?
— Это рай, господин большевик, а рая на земле не будет никогда, хоть вы и беретесь построить его, — ответил Григорий Максимович.
— Ну так к кому мне прижиматься, господа-товарищи? — насмешливо-опасливо спросил дрожащий от холода, сгорбленный молодой офицер. — Пока тут несть ни эллина, ни иудея, ни монархиста, ни большевика. Леденев, к тебе можно?
— Тут вот ляг, а то опять к углям полезешь — обгоришь, — ответил Леденев, укладываясь на бок.
VII
Январь 1920-го, Юго-Восточный фронт, Александро-Грушевская
Говорят: во сне дети растут, летают во сне и растут — ему же, уже не ребенку, казалось, что каждый сантиметр его тела сам собой расправляется как будто бы в усилии толкнуть остановившееся время и приблизить рассвет.
В соседней горнице не спали, возились, подымали гомон, гремели утварью, стучали сапогами, и слышно было, как на двор въезжают вестовые, храпят и топчутся их кони, но комкора никто не тревожил — ничего чрезвычайного, надо думать, не происходило… И вот затопотали уже без страха разбудить — на деревянном островке расплывчатого керосинового света в дегтярно-черной бездне ночи, верст, ветров, — и Северин немедленно поднялся с голодной, ясной силой во всем теле. Проворно обулся, оделся, перетянул себя ремнями по шинели, оглядел револьвер, пристегнул к портупее леденевскую шашку…
Челищев, Мерфельд, Носов, связисты, вестовые разгоняли машину штакора — Леденев же исчез, так же неуловимо, негаданно, как появился. Обозлясь на себя, Северин поразился: как же мог пропустить — ведь не спал. Куда он уехал?
— Пора, товарищ комиссар, — сказал ему Носов, и Сергей, возбуждаясь, толкнулся наружу.
Густые лавы конных, безликих в косматых папахах и нахлобученных остроконечных башлыках, неспешно, размеренно текли по проулкам, утягиваясь в сизую, гасившую мерцанье девственного снега полумглу. Нескончаемо-мерно похрупывал снег под копытами, пахло дымом костров, дотлевающими кизяками, свежим конским пометом.
— Комкор где? — спросил Северин.
— Да вот же, — кивнул влево Носов.
Возникший ниоткуда Леденев, в папахе черного курпея, в тяжелом овчинном тулупе, как будто отправлялся в зимнюю дорогу, а не к бою. Шагнул и полулег в тачанку с пулеметом Льюиса, не взглядывая на Сергея и ни на кого.
— Садитесь, Сергей Серафимыч, — позвал из соседней тачанки крест-накрест перетянутый ремнями, в защитном полушубке Мерфельд. — Ну что, приготовляетесь к крещению? — усмешливо прищурил темные, какие-то черкесские глаза.
— Да приходилось видеть кое-что, — ответил Сергей насильственно-пренебрежительно.
— Но все-таки не нашу лаву, полагаю, — прочел на северинском лбу начоперод. — Когда Леденев ведет, есть на что посмотреть, уж поверьте.
— Считаете его исключительным?
— Таких больше нет и не скоро появятся. Моцарт от кавалерии. Я с ним пятый месяц и ни разу не видел, чтобы он повторился. Железная структура и бесконечная импровизация. Умеет он перерешить на всем скаку, иначе развернуть гармонию.
— Заменить, стало быть, невозможно?
— А вы к нам приехали поставить вопрос о замене? — с отчетливым презрением осведомился Мерфельд. — Ну так я вам скажу. Корпус, может, и не пропадет — у него теперь очень хорошая школа. Но что такое корпус? Молот тысяч, верней, десятки струн и молоточков, как в рояле, живой инструмент, и все зависит от того, в чьих он руках. И я не видел, чтобы кто-то так играл на людях, на девяти своих полках. Да и не в одной стратегии дело. Вы думаете, за другим бы шли? Сквозь этот буран? По конское пузо в снегу? Спустя три недели почти непрерывных боев? Голодные, тифозные, во вшах? По балке в обход этой ночью на Жирово-Янов пошли бы? Что ж, думаете, по паркету? Иудеям в пустыне было легче идти.
«Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет…» — припомнил Северин из Ветхого Завета, который издевательски, но ведь и признающе цитировал Извеков-Аболин.
— А почему за ним идут? — Он кинул взгляд на расписной задок тачанки, над которым торчала папаха комкора.
— Ответил бы я вам: из страха, но это совершенно недостаточно. Вот, скажем, и вы, и Челищев, и я можем встать с револьвером на пути у бегущей толпы, угрожать ей и даже кого-то убить. Но если побежит не эскадрон, а полк, тем более весь корпус — любого из нас просто стопчут. Что такое один человек? А вот мимо него не проскочишь. Да, это страх, но какой-то другой — он не умещается в дуло нагана. Кого и как накажут, это станет понятно потом, той кары для бегущего еще не существует, а смерть — вот она, у тебя на плечах, стряхнуть ее надо сейчас, а хоть бы и сдохнуть немедля, лишь бы не надрывать себе сердце нескончаемым страхом или, скажем, не мучиться больше в походе. А этот человек внушает страх перед собой, сильнейший, чем страх перед смертью. Нет Бога, кроме Аллаха, и смерти, кроме Леденева. А ведь он ничего не может вам сделать. Ну, пристрелит одного из сотни — так это еще, может, не тебя, а ты с остальными сомни его, стопчи и беги себе дальше. А они перед ним останавливаются. Идут, куда он скажет. А нет Леденева — и у матерого бойца какой-то детский страх покинутости, что ли… А впрочем, сами все увидите — чего же я его расхваливаю, как раб своего падишаха…
Донская бригада шла снежной пустыней — она была безжизненно тиха и ясна, необозримая заснеженная степь, под начинающим сиреневеть, таким же чистым небом. Метель не рябила, нигде по далеким буграм не кипел, жгутами не крутился снежный прах, ни единой белесой крупицы не порхало в просторном, опрозрачневшем воздухе.
— А метель-то как будто и не собирается, — кивнул в проясневшее беспределье Северин. — Что ж теперь — безо всяких завес? Перед белыми как на ладони?
— Еще только утро, Сергей Серафимыч. Донщина — коварная страна. А во-вторых, вот это-то и значит перерешить все на ходу.
Косматый пар дыхания метался у горячих конских морд, рвался из черных дыр башлыков и бахромчатым инеем оседал на усах, бородах и все гуще седеющих гривах. Бригада текла в две реки, все двигалось будто само — без трубных кличей, без команд, и было уже что-то жутковатое, нечеловеческое в этом молчаливом, сомнамбулическом движении: будто и не живые кони-всадники шли, а соткавшиеся из морозного пара смертоносные призраки, дышавшие такой же мертвой студью, как и мрак, из которого вышли, поскрипывая и побрякивая сбруей. Ох и страху они бы сейчас навели на белые дозоры и секреты, на еще не проснувшихся на валу казаков — наметом вырастая из-под снега, словно из ледяной преисподней.
Комкор полулежал в тачанке истуканом, ехал между двух серых потоков, как случайный попутчик. А небо вдруг из края в край неуловимо погрузнело, потемнело, как будто провиснув под натиском наплывающих с запада туч. Свинцовые громады их сбивались, спирались, напластовывались друг на друга, сплавляясь в беспроглядную, вся тяжелее давящую хмарь. Повторялось вчерашнее. Задул низовой, хлесткий ветер, погнал сипящую, дымящуюся зябь поземки по степи, поднял между колонн смерчевые жгуты снежной пыли.
Мерфельд красноречиво поежился и вздернул воротник мерлушкового полушубка. «Колдун, — мелькнула у Сергея мысль. — А впрочем, надо слушать местных старожилов, вот и все. Да и сам он рожак этих мест».
Колонны шли шагом, сопротивляясь гуттаперчевой стене нажимающего с юго-запада ветра. Пурга секла вкось, все гуще заштриховывая белым и будто бы стирая силуэты всадников, как тысячелетние ветры стирают барельефы древних храмов. Сергей не понимал, как теперь держать связь меж полками, а главное, меж штабом и бригадой Гамзы, которая ушла в обход валов на Жирово-Янов. Ведь любой вестовой заплутает в метельной степи.
Сквозь кромешную хмарь, сквозь кипящую мглу молочной сывороткой просочился безнадежный, ничего не дающий рассвет. Метель уж не секла — залепляла глаза мириадом роящихся хлопьев, а вязкое, ползучее движение полков все продолжалось, и вот Сергею померещилось, что движутся по кругу, как если б кто-то наложил на них заклятие, которое не снять, сколь ни блуждай. И будто уже смысла не было вот в этом нескончаемом ползучем движении, в мучительном упорстве леденевцев, но они продолжали идти, раздергавшись, сломав свои колонны, наполовину спешившись и взяв своих коней — спасителей и мучеников — под уздцы. Они шли так, словно вот эта цель была перед ними поставлена задолго до их появления на свет, словно это был не леденевский, а передавшийся по крови неумолимый и необсуждаемый приказ. Какая воля их толкает, чья? Самой революции или все-таки этого одного человека?..
Серебряный голос трубы ножом прорезал пухлую, загробную уж будто глухоту метели, и оба призрачных потока разлились направо и налево, потекли рукавами в кипучее белое марево, огибая засыпанный снегом курган.
Тачанка Леденева остановилась перед ним. Откуда-то из белой пустоты возникли коноводы, ведущие с полдюжины особых лошадей — четвероногих палачей в естественном отборе, инквизиторов, ибо все они были укрыты попонами от ушей до хвоста. Должно быть, те самые кони из сказки, в пристрастии к которым Шигонин упрекал комкора.
Комкор словно вылупился из овчинного кокона, оставшись в одной только темной черкеске. Спустился к коням. Стянул с одного обындевелую попону, как охотник снимает слепой клобучок с головы прирученного сокола, потрепал по сухой, горбоносой, будто выточенной голове и не то чтоб взлетел, а как ртуть перелился в седло.
Поджарый тонконогий аргамак, одно с комкором тело, как спущенная с поводка борзая, вознес своего седока на макушку кургана, проваливаясь по колено в снег и брызгая из-под копыт мохнатыми ошлепками.
— Пойдемте и мы, — сказал Мерфельд. — Который комиссаров?
— А вот — Степан, — откликнулся ражий, веселый боец с обындевелой гроздью спутанного чуба и светло-синими глазами на арбузно-румяном лице.
Простое, человеческое имя светло-рыжего коня смутило Сергея — то ли дело Буран или Ветер, — но Степан притянул его взгляд: сухая маленькая голова с чудесно осмысленным выпуклым фиолетовым глазом, косящим на неведомого человека как будто испытующе и требовательно, широкая лоснящаяся грудь дубовым комлем и высокие, сильные ноги, передние — стрелой, а задние — натянутым луком.
Мальчишески волнуясь, Сергей будто голыми нервами коснулся его шеи и окованной луки. Боясь промахнуться, поймал ногой стремя и кинул себя, как учили, в седло — немедля восхитился своей ловкостью и в тот же миг понял, что на него никто не смотрит.
Бойцы штабного эскадрона, величественные и ленивые в своем матером совершенстве, равняли ряды под курганом. Кирпично-бурые и серые их лица были немы, устало-равнодушны и даже будто тупы.
Застыв, как врытый, Леденев не отрывался от бинокля, смотрел в непроницаемую муть сквозь рои снежных мух, залепляющих круглые стекла.
— Молчит «Ермак», а? Не слезает с печи «Илья Муромец», — сказал ему Мерфельд, осклабясь.
В безвестье, в слепоте минута шла за час. Сергей, остерегаясь спрашивать, мог только догадываться, чего ждет Леденев. Должно быть, вестей от каждой бригады, а главное, от Партизанской, ушедшей на Жирово-Янов. Теперь Сергею показалось, что Леденев уже ничем не управляет и не может управлять, что и нет такой мысленной силы, которая могла бы управлять бригадами сейчас и сделать зрячими все тысячи людей. Но вот из метели, как из-под снега, вырвался косматый, в бурке, зверь, и серый кабардинец Леденева гневно захрапел и заплясал, грудью сдерживая чужака.
— Тарщкор! — хрипнул призрак. — От комбрига-один!
Мерфельд, сдернув перчатку зубами, уцепил четвертинку дрянной, желто-серой бумаги:
— Обошел. Балкой движется. Сказка!
— Комбригу-один стоять под хутором и ждать, — сказал Леденев. — Терпеть, как мертвые, покуда казаков от вала не оттащим на пять верст. Горской — рысью вперед, от донцов оторваться. Блиновской — вперед, держаться к Донской на уступе.
Сорвались вестовые, как листы из-под беглого карандаша. Кабардинец комкора пошел вниз по склону, и Северин послал за ним играющего, просящего повод Степана. Дробью ссыпался вниз, обжигая лицо снежной пылью, и даже будто бы светлей, просторней стало в мире.
Пошли крупной рысью, и вот сквозь шерстяные полотнища метели проступили, саженными рывками наросли серошинельные бруски Донской бригады. Леденев не касался поводьев и сидел несгибаемо прямо. Аргамак бежал сам, все тысячи коней и всадников текли и поворачивали сами — одно с ним, Леденевым, тело. Теперь казалось, что сама земная ось проходит сквозь него, и вся необозримая равнина со всеми ручьями, заливами конницы вращается вокруг него огромным белым кругом гончара — все движутся туда и замирают там, куда даже не поглядит, а подумает он.
Сникал, выдыхался предсказанный им лютый приазовский ветер, хотя еще толкотно, мутно было в воздухе от мириадов снежных хлопьев. Громадными метельными валами был заслонен тот земляной, незыблемый веками вал, в существование которого пока и не верилось. Взаимно были скрыты друг от друга вот эти призрачные тысячи и стерегущие их там, в невидье, за метелью, зарывшиеся в землю беляки, присутствие которых в мире Северин пока что тоже не мог осознать как реальность, как будто накануне изучал не леденевскую штабную карту, а старинную, где белых пятен больше, чем исхоженных пространств.
И вдруг давно уже Северину знакомый и тем сильнее поразивший его вой, соединенный с клекотом и визгом, пронизал залепившую уши, набухшую над миром тишину — и пущенный оттуда, из незнаемого морока, снаряд встряхнул снеговую завесу всего саженях в сорока перед Сергеем и еще больше замутил пространство впереди.
Стихия еще безраздельно господствовала над землей, а люди, утверждая свое величие в природе, навязывая ей свою нужду, уже трясли над степью исполинскую пуховую перину, уже месили, рвали из-под ног друг друга вот эту выстывшую, заметеленную землю.
— Увидели, сволочи! По площади бьют, — ощерился Мерфельд, смотря на комкора. — А наши-то что молчат? Полчаса вестового от Малютина жду. Ведь затемно должен был выкатить погремушки свои.
— Ну так пошли поторопить. Комбригу-два — вперед аллюром. Держи, комиссар, погляди, где ты есть, — не глядя, протянул бинокль Сергею Леденев, словно только теперь и вспомнив о его физическом присутствии.
Сергей вцепился в трубки и приник. Распухала рябящая мгла от снарядных разрывов, и туда, встречь кипящей, громовитой лавине, сотворенной людьми и природой, — словно с ней и схлестнуться, рубить, кануть в ней без следа, — утекали колонны донцов, а уж до Горской было не добраться никаким воображением…
Невидимые батареи корпуса забили в ответ, в глухой, белый морок, в пустое. Над степью пухнул орудийный гул. Над головами штаба с клекотом и скрежетом перелетали трехдюймовые снаряды…
Леденев стронул с места весь штаб. Дорысили до нового, как будто все того же снежного бугра. Сергей опять приник к биноклю. По проясненным горизонтам, из края в край, вперегонки вымахивали грязно-белые вихревые деревья. Два цвета было в мире: уж больше не господствующий белый и черный — развороченной, вздымаемой земли, воронок, разбрызганных комьев и всего шевелящегося на равнине живого.
Все белое небо затянуто рваной, лениво клубящейся наволочью удушливо-едкого дыма — толкал, наносил его ветер в лицо, и Леденев закашливался, запечатывая кулаком оскалившийся рот, сгибаясь в седле и на миг становясь человеком.
Чащоба кипящих разрывов по фронту опала — бескрайняя, захлестнутая током тысяч, простерлась изрытая взрывами степь. Другой, несравнимый по тяжести, железно осадистый гул возник и разбух много дальше, накатывая с юго-запада, откуда недавно бил ветер, и Сергей догадался, что это саданули корабельные орудия белогвардейских бронепоездов. Но ни единого тернового куста не встало у него перед глазами, не дрогнула, не вздыбилась земля, засеянная черной зернью эскадронов, и не навис над головой железный скрежет перелетных снарядов — примерно в трех верстах правее ушибленно охнула и содрогнулась незримая степь.
— По правому флангу, блиновцев толкут, отрезают от нас, — пояснил ему Мерфельд и тотчас же расхохотался. — Не думают, что этот правый фланг давно уже у них в тылу. Глазам своим верят.
— Останься с Донской, — сказал Леденев ему тотчас. — Стоять за лощиной и ждать. Поехали, комиссар.
Следом хлынул штабной эскадрон. Частоколом колонн и сквозящего белого света, серой смазью шинелей пронеслись будто окаменевшие эскадроны донцов.
Еще один взяли кургашек, и над черной поземкой утекающих к югу полков Сергей наконец-то увидел туманно сереющий вал. Может, и не увидел бы — не расцедил бы взглядом копотную пустоту на белесое небо и долгие скаты высот, когда б не черная пила казачьей конницы, которая заколебалась в горизонтах перед самыми высотами.
Весь клонясь к конской шее, выметывая снежные ошметья из-под бешеных копыт, дорвался до комкора вестовой — совсем еще мальчишка в красном башлыке. Восторг и суеверный ужас стояли по края в его глазах и, переполнив, выплеснулись на лицо:
— Танки… Танки, тарщкор! Огромадные!..
— Батарею за мной на карьер.
Леденев на скаку осенил свою паству как будто и впрямь крестным знамением — двоеперстием ткнул вправо-влево, и взводные колонны горского полка разлились перед ним рукавами, пропуская его и Сергея в зияющую пустоту. И немедленно следом в северинскую спину ударил живой, кровный гул, тряско, грохотно что-то вломилось в просвет, как будто волоча осумасшедшевшие молотильные катки по снежной целине, и, обернувшись, Северин увидел бешеных в намете уносных.
Саженях в десяти правее от Сергея смачно треснул снаряд, черно-белым фонтаном взметнулась земля, и вместе с ней, валя Сергея на спину, рванул в дыбки испуганный Степан. Северин осадил, налегая на конскую шею, и, весь дрожа от возбуждения, приник к комкорову биноклю.
Притянутая «цейсами», стена казачьих сотен запестрела несметью конских морд и мохнатых папах, и вот на ее бугорчатом фоне задвигались какие-то туманные квадраты, крупнея, рельефно очерчиваясь, превращаясь в плавучие серые глыбы. Он не чувствовал страха — одно лишь пожирающее любопытство, и будто бы в соседнем измерении, в котором он присутствовал лишь слухом, рвались неподалеку новые снаряды, и вот в коротких паузах стал слышен тугой дрожащий гул, и Северин увидел первую махину. Проклепанный откос стального лба, ребристыми ручьями льющиеся гусеницы, спадая с двухэтажной высоты опорных плит, готовые грызть, уминать под себя, утягивать под брюхо вспаханную землю, раздавленное мясо, смолотые кости…
— Ниже, мать твою черт! Ниже! Ниже! Дистанцию!.. По крайнему слева… Беглым! Огонь!.. — Настигшие комкора орудийные расчеты с неуловимой быстротою сняли трехдюймовки с передков и наводили мертвые и черные телескопические дула на чудовищ.
Луснул первый-второй-третий выстрел — пред серыми утесами взметнулись терновые кусты разрывов…
— Ну что ж ты, комиссар? — оторвал Сергея от бинокля леденевский голос. — Скажи свое слово.
Свечкой взвился седой кабардинец в снеговом островке, вознося Леденева над строем мерлушковых и суконных голов, и все сотни вокруг него взвыли, как один человек, и страшен был этот хрипатый, клокочущий, с подвизгом вой — словно впрямь зародившийся раньше всех слов на земле.
— Слуша-а-ай! — прокричал Леденев таким же, как у всех, сипатым, повизгивающим голосом, опустив на гудящую землю копыта и вонзая в Сергея указательный палец. — Комиссар говорит!
В груди Сергея все залубенело, но, чуя, что не может, не смеет онеметь, пересилился и заорал, по-мальчишески закукарекал, не думая о выборе сильнейших, лучших слов и кидая на ветер единственные, откуда-то берущиеся сами:
— Бойцы революции! Вон они, гады железные! Показались и думают, мы обмараемся! Перед кем?! Черепахами этими?! Черепахи и есть! Еле ползают! Снаружи броня, а внутри давно уже сами от страха в штаны напрудили! Они думают, нас остановят! Часы самой Истории вот тут, на этом валу, остановят! Да только как стрелки на часах ни держи, все равно солнце встанет над миром! Ничто ему не помешает взойти! Мы сдвинем эти стрелки нашей алой трудовой рабоче-крестьянской кровью! Всю до последней капли отдадим! А они… Кишка они прямая!.. — хрипел, зажатый конскими боками и повернутый к валу лицом, и тысячи взвывали ответным слитным криком, колеблющим будто саму небесную твердь… Все были в нем, и он, Сергей, во всех… все ревели уже потому, что к небу безмолвно взлетела одна леденевская шашка, и, повторяя этот взмыв, рука Северина сама потянула из ножен клинок, твердея, прирастая силой сотен, одевшихся стальным жнивьем из края в край.
В белой пасмури неба раной вспыхнуло красное знамя. Сергей перестал быть один, в себе, для себя. Убить его было нельзя — захваченный потоком лошадей, он тек в вулканической лаве, и вся земля под ним расплавленно дрожала, как в дни сотворения мира.
Через сотню саженей неожиданно близко увидел протяжно клокочущий оплывень — то казачьи полки шли навстречу. Сходились две громады на галопе, поглощая несметью копыт разделявшую их грязно-белую пустошь, набирая к меже, обозначенной мертвыми глыбами танков, — как будто взапуски, кто первый заберет, захлестнет их собой, как речная вода на разливе.
То правей, то левей от Сергея на всем скаку вдруг спотыкались кони, валились, кувыркались, выбрасывая снежные шматы из-под копыт. Танки шпарили из пулеметов. И казачья волна захлестнула их первой, словно железные быки незримого моста… И вот уже Сергей увидел лица казаков — молодые и старые, сосредоточенно-спокойные и даже будто бы веселые, словно в свадебной скачке на тройках, — и вид этих лиц, вполне человеческих, на миг поразил его, словно он в самом деле ждал увидеть косматую, звероклыкую нечисть. На миг перед ним будто встало огромное неотстранимое, трясущееся зеркало. Но красного знамени там — в отражении — не было, и это-то, пламенем бьющееся, безубыльной кровью, ее вечной силой горящее знамя вернуло Сергея к незыблемому убеждению, что вот — враги, а вот они, вокруг него, несут его — свои.
А Леденев, где Леденев? И сердце его сжалось чувством страха и как будто уж сиротства: а вдруг убит, вдруг вырван из седла — и все уже катятся за одним только знаменем? Неужто спрятался за спинами от смерти?..
Леденев просто шел вровень с каждым и всеми из первого ряда, как любой из бойцов, как еще один камень в стене, и клинок обнаженный покоился у него на плече, как у всех, по уставу, как коса у идущего к полю косца, и лицо его было просторно и пусто, как все поля, которые прошел, собирая с них жатву. И вот за последние три десятка саженей до разделительной черты аргамак его вышел вперед на три корпуса — как будто лишь наказом своей высокой крови, как будто лишь одним трясучим ревом лавы, пустившей его во весь мах, и Леденев вонзился в бешеную стену казаков один.
Так кнут выбивает на крупе коня белесый рубец. Сергей не поймал ни единого всполоха шашки, зато увидел, как кулями валятся с коней и словно бы в эпилептическом припадке выгибают дугою казаки на всю глубину этой просеки… и вот уже ему, Северину, надо было рубить самому. В упор увидел молодое и красивое оскаленное светлоусое лицо — не того, на которого шел, а зашедшего слева, под голую, сжимавшую поводья руку. И сердце тотчас вспухло ударом животного страха, но этим же сердцем, которое стало в его теле всем, поймал он замах казака и тотчас же ширнул клинком навстречу — над конской головой, вполоборота, дугою под воздетый локоть, как учили, — и туго дрогнула до самых пальцев шашка, напоровшись на что-то ни живое, ни мертвое.
Не в силах задержаться, проскочил, вонзаясь в чащобу летящих навстречу чужих — с такими же безумными, упорными, как у коней, смотрящими как будто сразу во все стороны глазами… набрал на бородатого, полуседого старика, который как за плугом шел, а не на смерть, — кинул мах из-за уха, руша страшный, казалось ему, безотбойный удар, — электрическим током стрельнуло в запястье, чуть не вырвало шашку из пальцев и не выбило кисть. Через миг он почуял тупой, сокрушительно садкий удар там, где череп садится на шею, и даже будто потерял сознание от боли.
Покачнулся в седле, распрямился и увидел опять молодого, как сам, казака, инстинктивно забрал правый повод и закрытым ударом встретил павшую наискось руку, словно гибкую ветку, лозу, что-то крепкое, как березовый луб… Тонкоусый казак сам отсек себе кисть вместе с шашкой, жалко, заячьи вскрикнул, по-детски зажмурив глаза, и отчаянно-неузнающе, в исступленном каком-то заклятии выпучил их на культю.
Сергей помертвел перед жутко-невинным обрубком, но тут высокий рыжий конь ударил грудью в бок Степана, и Северин, зажатый конскими боками, вмиг очутился в круговерти падающих лезвий, косматых папах, красных лент и серебряно-синих погон. Его оттирали, толкали, хватали за колени деревянными клещами, кусали Степана за плечи и шею ощеренными лошадиными зубами…
«Отбей правый бок!», «Отбей голову!» — визжал размноженный перед глазами Хан-Мурадов и, превратившись в Леденева, молнийными вспышками перекрестил двух казаков, на буревом пролете охлестнув Сергея горячим рассолом их крови.
Степан, заржав от боли, взвился на дыбы, но Леденев поймал его за повод, помогая осадить, и рванул за собою в бесстыдное бегство. Волнами утекали эскадроны Горской вспять, а следом, в снежном кипеве, катилась грохочущая лава казаков. И разбегом ручьев по окаченным из ведра половицам удлинялись ее крылья-фланги — сомкнуться на бригаде, раздавить, — и Сергей уже не понимал, как она, изогнувшись подковой, до сих пор не схватила всю Горскую, окружив, как река, разливаясь на два рукава, окружает утес.
Чужие лошади вытягивали шею, как на плаху, ощеривая плиты желтых, как будто уж и вправду людоедских зубов, их всадники уже кренились набок, изготовясь рубить, иные же вовсе свисали с летящих коней до земли, неведомо зачем, огромными нетопырями, и снова подымались в седлах, как фигурки в тире… И только различив хохочущую трескотню пулеметов и увидев на фланге бригады тачанки, Северин наконец догадался, в чем дело. Наматывая на колеса снежные крутящиеся вихри, три десятка упряжек неслись за бригадой борзыми, как две дуги летучего, невиданного вагенбурга, и подметали веерным огнем испятнанную трупами, ископыченную целину, ширя площадь покоса, ничейной земли, не давая забрать уходящую Горскую в клещи.
— Комиссара держи! Упадет! — кричал кому-то Леденев.
Только тут Северин осознал, обратным зрением увидел, что леденевский ординарец, Жегаленок, держался неотрывно от него, Сергея, и, верно, не одну казачью шашку отвел от его головы…
А слитная струя казачьего правого фланга, не сбитая даже отсечным пулеметным огнем, была уж впереди бегущих горцев и заворачивала вперерез. И вдруг эта кипящая папахами и гривами река как будто наломилась на такое же по силе поперечное течение: то из лощины, как из-под земли, во фланг ей выхлынули свежие полки — Донская, с Мерфельдом, бригада. То был кратчайший концентрический удар: донцы и повернувшие направо горцы устремились навстречу друг другу. Полки же левого белогвардейского крыла увидели перед собой блиновскую бригаду, а в спину им, так вольно разлившимся по целине, еще с утра, еще до света дышала та бригада призраков, что называлась Партизанской, — змеей заползшая в тыл белых по замогильной темноте.
Сергей ликовал на скаку, увидев все лукавые кривые леденевского замысла… Но в голове его вдруг помутилось, и, ослабив поводья, он лег на луку, обхватил напотевшую конскую шею.
Скакавший рядом Жегаленок захватил Степана в повод и наметом повлек непонятно куда. И вот уже в бескрайней белой пустоте Сергей опустился с коня в подхватившие руки, и его уложили на снег.
— Ух и кровищи, матерь божья! — смахнул Жегаленок папаху с его головы, распутал на шее башлык. — Счастье ваше, чудок зацепило, — пришлепнул к затылку Сергея какую-то тряпку. — Ну, комиссар! И казака срубил в первом же бою, и свою кровь пролил… Пойдет у нас дело на лад, говорю! У, старый черт — кубыть, песок уж из него трусится, а ловок, падлюка! Тупяком секанул — зарубка вам будет на память, теперь уж не забудете: никак их нельзя за спиной оставлять, а ежли какой мимо проскочил целехонек, так шпоры коню что есть силы — тады уж по потылице вас не достанут, тоже и по спине.
Голова ощущалась непомерно огромной, все пухла, но как будто уже не от боли, а от не помещавшейся в ней невозможной, несбыточной яви всего этого дня… Поднявшись при помощи Мишки в седло, оглядывал с пригорка всю равнину. То ли шесть, то ли восемь казачьих полков табунами метались в смыкавшихся красных клещах, шли вразнос, врассыпную, сбивались в слепые гурты… Опустевшие лошади, волоча и мотая убитых своих седоков по снегам, с безумным ржанием шарахались, сшибались… Ударившие с трех сторон бригады Леденева закручивали буревую карусель — казалось, что равнину перед валом сверлит тысяченогий, гикающий смерч, в земле разверзлась исполинская воронка, в которой исчезает, перемалываясь, мятущееся безголовье казаков…
А в это время с севера, из-за курганов, текли серошинельные колонны подоспевших красных пехотинцев. Валили бороды, деревни, фабрики, заводы завьюженно-седых, назябшихся, надорванных, идущих завоевывать счастливые века, и батальоны их развертывались в цепи, чтоб, квадратными дырами ртов изрыгая «ур-р-аааа!», по трупам вырубленных казаков бежать к высотам, людским прибоем бить в крутую грудь «неприступного» вала, скрести его мерзлые склоны ногтями. Батареи же белых до последней минуты молчали, не могущие бить по своей атакующей, а теперь заклещенной, вырубаемой коннице, которая с такой самолюбивой глупостью пошла на Леденева из-за вала.
Еще не взятый штурмом в лоб, Персияновский вал был уже обречен: изрубив и погнав казаков, леденевцы хлестнули в огиб высоты и уже растекались за гребнем, в незримых тылах.
На севере, за развернувшимися к штурму красноармейскими цепями, все тяжелее, все плотней пульсировала канонада, и теперь уж по самому гребню высот вымахивали взапуски колючие столбы черно-белых разрывов.
Сергей с Жегаленком пустили коней и куцым наметом поехали к валу, перегоняя цепи красных пехотинцев, идущих не кланяясь, как на параде. Две первые пехотные волны уже осели черной сыпью на белом склоне высоты — должно быть, занимающие гребень пластуны, боясь окружения, схлынули с вала, бросая окопы, орудия, все…
Сергей увидел танки — тех самых слепых «троглодитов», «трухлявые пни», о которых кричал перед Горской. Леденевцы секли их, как сказочные змееборцы порожденных землею чудовищ, сигали с седел на высокие их скаты, плясали в полный рост на плоских башнях, клинками шуровали в люках, остервенело выковыривая из железных недр потроха экипажей.
Необозримое пространство степи горячечно бредило криками, стонами, призывным ржанием пытавшихся подняться лошадей. Теперь уже не два, а три господствующих цвета было в мире. Вся снежная равнина пропитана, испятнана, окроплена, исчервоточена, затоптана красным.
Кровь плавила снег, смерзалась, цвела на снегу какими-то павлиньими разводьями от черно-багрового до едва различимого розового, тянулась круговинами, проталинами, краснела в каждом гнездоватом следе конского копыта. Бесконечными стежками, россыпью, кучами — трупы. Лошадиные и человеческие. Красноармейские и белые. С разрубленными головами, с расклиненными наискось грудями. С оскаленными челюстями и полубеневшими глазами, то с оловянно-синими, то с гипсовыми лицами, в последнем изумленье запрокинутыми к небу. С замерзшим выражением растерянности и потерянности, доверчивой уступчивости тому необратимому, что с ними сделалось, — эти были противнее тех, на которых застыло, казалось, последнее усилие сопротивления, как будто выражавшаяся в лицах жалкая покорность принижала их смерть, как будто и жизнь их была пуста и зазря, раз они так покладисто с нею расстались. Живые, они были так податливы и пуле, и клинку, и страху, и злобе, что, даже мертвые, не верили в несговорчивость смерти.
Сергей ехал снежной дорогой, мясными рядами, грядами убитых коней, которых будут свежевать и рвать на части, варить в котлах и жарить на кострах оголодавшие бойцы 23-й стрелковой дивизии и бригады Фабрициуса… Дорога эта не кончалась. За высотами — мертвые, сплошь беляки, и над ними торжественно-медленное, будто уж погребальное шествие Горской бригады.
Сергей увидел Леденева: тот ехал равниной убитых, в пространстве своего творения, казалось, уже ни для чьих глаз не предназначенного совершенства — безрадостный и никому не нужный, как последний царь земли. Сергей не отрывался от него: тот двигался так, словно ему было назначено разделять мир, лежащий у него на пути, на то, чего быть не должно, и то, что годится для будущей жизни, но за спиной его пока что оставались лишь руины и того, и другого.
Он был один — и Северин, остерегаясь подступиться, ехал следом на расстоянии примерно двадцати саженей… Вдруг в уши шилом впился чей-то вскрик.
— Стой, погоди, — сказал он Жегаленку, сворачивая к неглубокой, узкой падине.
С полдюжины горцев владетельно высились над сбыченным гуртом полураздетых пленных казаков, толкали их конями, замахивались плетками, а кто-то невидимый продолжал кричать взрывами, с усталыми подхрипами зарезанной свиньи.
Спустившись, Северин увидел: какой-то горец, сев верхом, зажав ногами голову поваленного навзничь человека, что-то делает с ним, с головой… и с такой же обыденной простотой и естественностью, с какою режут каравай.
— Сто-о-ой!.. — закричал Сергей, пустив коня и весь колотясь от неверия. — Стой, сволочь! Не трожь!..
Как бы весь перейдя в свою жертву, силой какой-то заведенной в нем пружины боец продолжал отрывать надрезанный скальп, тяня за черный чуб и заливая кровью глаза казака… Не зная, что делать — убить? — Сергей обломился с коня и, запутавшись в полах шинели, упал на колени, подполз и вцепился в железные плечи, рванул…
— Халзанов! Халза-а-анов!.. — раздирающе крикнул под ножом человек… и боец, выгибаясь дугой и скребя снег ногами, как-то разом обмяк, надорвался во всех своих жилах, опустившись на Северина, — не очнувшись от дикого своего помрачения, нет, а как будто истратив завод до конца, что-то главное вырвав из жертвы…
— Ты што?! — спорхнув с коня, вцепился в горца Жегаленок. — На кого?! Комиссара не видишь?! А ну!.. — отодрал от Сергея бойца, отпихнул…
Северин, задыхаясь от мерзости, сел на снегу.
— Ты што это, сволочь?! Зверюга!.. — Он хотел притянуть к себе этот немигающий взгляд, заглянуть помраченному в душу, в нутро, отразиться вот в этих глазах, взгляд которых проходил сквозь него.
— Отвечай! — заорал Жегаленок. — Чего вытворяешь, резак? Тебе десяток беляков прибрать, а ты вон каку казнь учинил. Живого режешь, будто мясу на базаре. Да ты знаешь, чудак, чего у нас с такими делают, потому как комкор приказал? Знаешь, я тебя стукнуть хучь зараз могу за такую насмешку?
Горец медленно поднял на Сергея глаза — как впаял. Упорные в неизживаемой, изверившейся ненависти — боли.
— Не для потехи я.
— А зачем?! — как задушенный, хрипнул Сергей.
— Узнал я его, — чуть повел головою боец на пресмыкавшегося рядом казака, который собирался в ком, подтягивая ноги к животу и стиснув руками кроваво-скобленую голову.
— Кого узнал? Кто он?
— Слободских моих в землю живыми закапывал. В Большой Орловке, не слыхали? Рубанул он меня, думал — кончился. А я, вишь, оживел, вернулся за ним с того света. Семью мою убили, жену занасиловали, Алешке, сыну, голову свернули — совсем еще был воробей, — не дрогнул голос человека, как будто читавшего вслух про чужую судьбу, и Северин узнал его: то был один из добровольцев, прибившихся к обозу Болдырева под Лихой, — будто немой, неразговорчивый мужик, седой, как волк, и кряжистый, с грубовато-красивым лицом и широко посаженными карими глазами. Да-да, Монахов, он…
— Ну так и судить его! На то и есть Ревтрибунал! Да и убил бы! Зарубил! — закричал безголосо Сергей. — А так-то — зачем?.. Зачем — как они нас?!. — и тотчас осознал бессмысленность вопроса, нелепого в монаховских глазах.
— Мне их всех надо знать, — ответил Монахов неживо. — Кто командовал ими, кто детишков давить приказал. Кубыть, и другие из них по земле еще ходят, баб любят своих, матерей, на небо красуются, солнышку радуются, еще убивают — чужих-то детей. Вот и пришлось его пощекотать. Уж тут как хотите судите — с кишками всю правду бы вымотал.
— И что же, узнал? — спросил Жегаленок сочувственно.
— Так точно, — ответил Монахов, смотря сквозь Сергея. — Халзанов, сотник, — не слыхал? Он ими командовал. Да хорунжий Ведерников, — повторял как заклятие — самому не забыть.
Что-то щекотно клюнуло Сергея в темя: Халзанов, Халзанов… где ж ему попадалась вот эта фамилия? Да точно же, Халзанов — леденевский комиссар. Воззвания, статьи, стихи для народа. «И все каза́ки удалые погибнут здесь среди снегов, истлеют кости молодые без погребенья и гробов…» А тут другой Халзанов — враг. Однофамилец?
— Послушайте все! — поднялся он, надсаживая голос. — Таким палачам, карателям, выродкам пощады не будет. Один приговор будет — смерть! Но пленных вот так… Они хуже диких зверей, но вы-то бойцы Красной армии. И если ты, красный боец, свой человечий облик, душу потерял, тогда тебя же первого!.. Сам лично…
VIII
Сентябрь 1919-го, Камышин
В больших амбарах разоренной хлебной ссыпки теснилось свыше тысячи полуголодных, оборванных, завшивленных людей, в которых по лампасам на грязных шароварах можно было узнать казаков.
То были пленные, которые не так давно и с разной степенью усердия (кто поневоле, кто с остервенением) сражались против красных в составе Донской белой армии, в частях генералов Мамонтова, Голубинцева, Секретева, Быкадорова, Фицхелаурова, и каждый из них теперь ждал решения своей судьбы: расстрела ли, отправки ли на каторгу, а может, и помилования — в обмен на покаяние и клятву искупить свою вину в рядах той самой красной гвардии, против которой воевали. В последнее верили меньше всего — то есть одни почти не верили, другие же не допускали для себя перехода на сторону тех, кого ненавидели нерассуждающей ненавистью. Ждали худшего — смерти, или сразу, от пули, или в долгих мучениях, от непосильного труда, от голода, от той ничем не исцеляемой болезни, что зовется «безысходностью» или, проще, «неволей».
Да, они были крепки, жадны к жизни, как цепкая молодая трава. Почти никто из них не захотел покончить с мукой нескончаемого ожидания, никто не мог остановить в себе придавленное страхом и тоскою сердце, как это делают иные травоядные, попавшиеся в лапы хищников, и если кто и умирал, то делал это только поневоле — так же, как и рождаются люди на свет, не ведая и не гадая, что ждет их на этой земле. Умирали от тифа, от чахотки, от ран. Умирать от тоски было рано, но давящая эта тоска уж достигла той тяжести, когда одни темно и вяло начинают помышлять о смерти как освобождении, другие же, напротив, почти уже готовы поддаться на любое обещание пощады и свободы — ухватиться за самое дикое, подлое средство спасения, как утопающий в болоте хватается за вожжи, которыми его еще вчера пороли, а то и за приклад, которым размозжили голову его родному брату.
Офицеров средь них — в чине выше хорунжего — не было, зато чуть ли не половина была мобилизована в Донскую армию приказом войскового атамана и воевала против красных лишь под страхом трибунала. Хватало и тех, кого пихнуло к белым озлобление на большевистские станичные ревкомы, вершившие над казаками неправые суды и грабительские конфискации, отбирая весь хлеб и лишая всего нажитого.
Когда слышался грохот подъезжающей кухни, казаки оживали на своих лежаках из соломы, и вот в один из тех погожих сентябрьских дней, когда один блеск солнца в синеве внушает человеку и надежду, и физическую жажду жить, снаружи послышался не топот копыт, а рокот многосильного автомобильного мотора, и часовые закричали выходить и строиться.
Казаки разлились по широкой поляне, которая была обнесена колючей проволокой на наспех врытых в землю стояках. Из подкатившего автомобиля вышли двое комиссаров в коже, а вслед за ними — рослый, в накинутой шинели человек, чья выбритая голова издалека казалась голым черепом с нетленными глазами, и мертвой стынью опалило отпрянувшие лица казаков. По стиснутой плечом к плечу толпе, по ее позвоночным столбам пробежал электрический ток, поднял шепот и гул по рядам:
— Мать честная! Царица небесная! Братцы, гляньте! Ей-бо, Леденев! Из земли вышел, зверь! Не убили! Воскрес!..
— Мало нашего брата порезал!.. Из чего ж его Бог бережет?! Коли так, стал быть, верно Господь отступился от нас, казаков…
— Мели, балабон! Видал ты его?!
— Да как зараз тебя! Под Романовской-то! Привел Господь увидеть — смерть в глазах!.. Гляделки разуй, точно он!
— Не рубает он пленных. Офицерьев, так тех без разговоров! А простых отпущает! Хлебороб — так иди восвояси.
— Ну держи карман шире — сейчас он тебя и помилует!..
И замолкли все разом — подступил к ним в упор зверь из бездны, посмотрел ровным взглядом, заключающим всех в одно целое и в то же время зрящим в душу одному тебе, и никуда было не деться от этого взгляда: всяк пятился и упирался в самого себя, желающего жить.
— Здорово, казаки. Угадали меня? Ну так слухайте. Крепко бились мы с вами, столько крови меж нами легло — будто нету уж брода друг к дружке. Не осталось, должно быть, ни в красных, ни в белых такого, у которого бы никого из родни не убили. Как тут счет подвести нашим общим обидам? Не попадись вы в плен — так и дальше бы с нами секлись, разговоров бы не было. Однако же стоите вы перед мной, и, поди, все одно помирать никому неохота. Сразу не расстреляли вас — оттого и надежда где-то в самой середке хоронится: могет быть, простит мне Советская власть, что в белых я был. А ежли и вправду простит? Да только скажет вам: воюйте за меня? Рубите беляков, как прежде красных, и даже еще злее, всю кровь свою отдайте за меня. А не пойдете — так и помирайте: или к стенке поставят, или сами подохнете с арестантской тоски. И что же вы на это скажете? Не может быть такого, чтоб казак пошел на своих братьев-казаков? Лучше уж помереть, чем с такими врагами, как мы, заедино стоять? А за что помереть? Из-за чего вы с нами воевали? За свою, надо думать, хорошую жизнь? За землю, которую мы хотели у вас оттягать? А много ли средь вас таких, у кого той земли вдосталь было? Всем, что ли, при царе как у Христа за пазухой жилось? Разве нету средь вас бедняков-хлеборобов, какие всю жизню казак на быка, а бык на казака работали, одной рукой пахали, а другою слезы утирали? Так за что ж воевали вы с нами? За чью землицу? За чужую? За то, чтобы она и дальше помещиков кормила да ваших атаманов? А в Красной армии, что ж, мало казаков, таких же, как вы, горемычных? А есть среди вас и крепкие хозяева́, которые от своего труда зажиточные, а не на батрацком горбу. Так что же, Советская власть у таких отбирает всю землю? И вовсе со свету сживает? Нет, это вы равняться не хотели, от сытого рта кусок отрывать и отдавать его голодному, как, между прочим, Бог Христос велел, а богачи его за это и распяли. А вот явился бы он зараз к вам, сошел бы на землю да и провозгласил бы то же самое за трудовое человечество: «делитесь» — так и камнями бы побили, а? Не так? Ить он, Иисус, нынче с нами под красным знаменем идет, да только вы, слепые, этого не видите. Ну а ежели б взяли вы верх, сохранили б наделы свои и добро, дальше что? По старинке пошло бы? Батрак в хомуте, а богач погоняет? Вы сытые, а подле вас бедняк, такой же хлебороб, голодные слюни на ваше довольство пускает да злобой исходит на вас? Неужто опять он, бедняк, не взбунтуется — с такою-то злобой, какая ему сердце точит, кровя пьет? А не он, так сыны его, внуки? И снова пойдет брат на брата? И опять конец мира, опять реки крови? То-то вот и выходит, что пока не прикончим неравенство, не будет промежду людей ни ладу, ни вечного мира. Так, может, коней повернуть и бить вместе с нами помещиков и генералов? А то стоите вы перед мной, и никто уж не чает до мира дожить, да и до завтрашнего дня. А земля, за которую бились, пустая стоит, и бабы ваши хрип в работе гнут, а детишки уже и забыли, когда были сытыми. Ну вот и судите: воротиться вам к ним или тут помирать, как бездомным собакам. Я зараз зову вас в ряды Красной армии. К себе под начало. Идите за мной, и я дам вам волю.
— Что ж, стал быть, к силе прислониться, а веру продать? — сипло выкрикнул кто-то из толпы казаков, как только Леденев умолк. — Братов своих продать?
— А всю войну кого рубил? Не братьев? — ответил Леденев. — Я, брат, земляков своих, как волк зареза́л и знал, кого жизни лишаю, и ты то же самое. Такая война. Одна теперь правда осталась у каждого — идти за тем, кто жизнь тебе дает и волю. За генералами пошел — и где ты теперь? В загоне, как скот, смерти ждешь? А вот он я, перед тобой — живой и в твоей жизни вольный. А почему так вышло? Вояка из тебя никудышный? Или вас дураки ведут — генералы-то ваши? Ить нет. Деникин, однако ж, Москвой не тряхнул и теперь-то уже до нее вряд дойдет. А потому что, брат, не сила главное, а дело, за какое в бой идешь. Наша правда, как видишь, и мертвых из земли подымает. Меня-то вы уже похоронили. Вот и дальше — того будет верх, кто себя будет меньше жалеть. А вы себя жалеете. Что ж, вы насмерть стояли? Нет, драпали. И дальше побежите. Деникин ваш, Сидорин побегут, потому как воюют они за себя, за хорошую жизнь, какая у них при царе была. А мы — за счастливую долю для всех, за это нам и жизнь отдать не жалко. Кинут вас на убой генералы и сбегут на туретчину. Плевать им на родные ваши курени. Нет за ними ни правды, ни жизни. Либо за мной сейчас пойдете и тогда, может, будете живы, к земле своей вернетесь, либо уж пропадайте в чужой стороне, баб своих повдовите, детей своих покиньте на вечное сиротство. Один раз говорю: идите за мной и деритесь за них, за баб, за потомство. На размышление даю вам сутки, а кто уж и зараз согласен, два шага из строя.
Толпа зашевелилась с вязким гулом, заколыхалась, забурлила, как будто переваривая, перемалывая леденевские слова — обвалившись, как глыбы с подмытого берега в реку, они раздробили единую, неприступно молчащую массу и, продолжая перекатываться, начали расталкивать людей по сторонам.
Выходили из строя — поврозь и десятками, и вот перед незыблемо стоящим Леденевым остался лишь один, широкоплечий, с русым чубом и светло-синими глазами чуть навыкате, казак. Вокруг него рос островок, все мощней омываемый ручьями уходящих к Леденеву казаков.
— Ну а ты что стоишь? — спросил Леденев, остановив на нем все тот же взгляд.
— А мне-то куда? — отозвался казак, смотревший на него не с ужасом или надеждой, не с ненавистью или обожанием, а будто бы глазами обезумевшего или слабоумного, с какой-то уж юродской прямотой, когда непонятно: то ли облобызает сейчас, то ли, наоборот, оплюет. — Убьешь ить, не иначе.
— Зачем же? Иди. Авось и доберешься до Гремучего живой и невредимый.
— И до Багаевской? — исказилось лицо казака, выражая не то омерзение, не то жалость к тому, кто держал его жизнь, как примятый лопух под ногой.
— И до Багаевской.
— Ну а приду — чего ж, сестре поклон передавать?
— Так и сам приду — веришь?
— Да как не поверить, когда ты из мертвых воскрес? Ну а придешь — что ж, Дарью замуж позовешь?
— Там видно будет. Даст Бог, и Грипка возвернется к родным нашим местам, когда белых прогоним. Или что же, покончена жизнь?
— Да как же это? Ить каратель я. Сроду мне не простится такое. Неужели забыл? Как с Матвейкой-то, зятем моим, погуляли по нашим местам? Как подворье спалили… твое? Как жену?..
— Не ты это сделал — уж мне ли не знать?
— Не я, да которые с нами, — мучительно ощерился казак.
— Что, совесть убивает?
— Совесть не совесть, а будто бы хворый я зараз душой, навроде помраченный. Смотрю на тебя — и не верю. Уж такая охота берет — покаяться при всем честном народе. Показать все как есть. Или что, один Бог правду видит, да и то не скоро скажет? Никого уж в живых не осталось, кто Гришку Колычева помнит да зятя его, Матвейку Халзанова? Никто в лицо не угадает? А главное, ты — неужто забыл? Могет быть такое?
— А нынче уж вся наша жизнь и есть то самое, чего не может быть, — усмехнулся Леденев глазами. — Так что хочешь — живи, а хочешь — помирай. — И, повернувшись, двинулся к автомобилю.
— А я вот все помню, — сказал ему в спину казак, но Леденев его уже не слышал.
IX
Январь 1920-го, Хотунок — Новочеркасск
В обложной пустоте неживого, ослепшего неба, затянутого тучами, как одно исполинское око бельмом, вдруг проблеснуло, засияло взошедшее в зенит холодное, бесстрастно-торжествующее солнце. Посмотрело на снежную, перерытую взрывами, закопченно-кровавую землю, на тысячи убитых, рассыпанных по ней, и тысячи живых, все продолжающих друг друга убивать.
Стольный град Всевеликого Войска Донского стало видно уже без бинокля: вон он, за колеями железнодорожных путей, за бездымными трубами фабрик и серыми казармами рабочей слободы — простерся, вознес над собою самим пирамиды граненых, сквозных колоколен. Туда, в рабочие предместья, в нагие черные сады окраин укатывались схлынувшие с Персияновского вала пластуны, расчеты батарей и экипажи бронепоездов, кидая на валу и по дороге все: колючие сети, рогатки, запряжки, тяжелые гаубицы, умолкнувшие пулеметы и сами бронепоезда, стальными бронтозаврами издохшие на взорванных путях.
Туда, вслед за ними, безудержно катились эскадроны Партизанской, которая первой вломилась в тылы, еще не надсадилась в скачке, в рубке и почти не имела потерь. И вот уже забили вдоль Тузловки орудия двух корпусных дивизионов, кроя насыпь, сады облачками шрапнельных разрывов.
Сергей никак не мог себя нащупать, стать слышным самому себе. Сбылось то прекрасное, яростное, о чем он так долго мечтал, — лицом к лицу сойтись с врагом и выпустить душу, как будто и впрямь обретя какую-то новую сущность, в тот миг, когда шашка войдет в податливую мягкость человеческого тела, в нутро непримиримого врага, который примет твою правду только мертвым, который должен умереть как дерево в глухой, неприступной чащобе — упасть и открыть людям больше небесного света.
Сбылось со страшной силой, но не так, как виделось. Как только он крикнул «Да помогите же ему!..», вот этот Монахов молча вытащил шашку и вогнал ее в глотку своего недорезанного казака. Пригвоздил его голову к снежной земле, выбив зубы, и Сергей захлебнулся словами, ощущая, как лезвие разрезает язык. Из распятого рта хлынул алый пузырчатый ключ, в два ручья пал на землю, протянувшись по снегу усами… одна нога согнулась и выпрямилась в судороге, пропахивая в снежном крошеве глубокую, до земли борозду.
Сергей не мог сказать ни слова, наконец сделал шаг, взял Монахова за воротник и мучительно хрипнул:
— Ты-и-и… ты-и-и-и… арестован, Монахов… Оружие сдать.
— Воля ваша, — ответил вдовец-бессыновщина каменным голосом. — Ведите в трибунал, а лучше к Леденеву. Кубыть, он на меня посмотрит через нашу несчастную жизнь.
Сергей, забрав его с собой, поехал разыскивать штаб. Как судить этого человека, он не знал.
— И много ты их, брат, уже прибрал? Ну, своих палачей? — допрашивал Монахова сочувствующе-любопытный Жегаленок и, видя, что тот запаялся в себе, ковырнул: — А я ить слыхал про него, Халзанова-то этого.
— Видал его? Знаешь? — оживился Монахов, будто и не висел над ним суд трибунала.
— Да как сказать? Издали да в малолетстве… Кубыть, из багаевских он, сосед наш с Романом Семенычем. А брат его старший, Халзанов Мирон, у нас комиссаром — это ишо когда Роман Семеныч в родимом нашем хуторе Гремучем Советскую власть подымал. Это нынче нас, видишь, великие тыщи, а тогда только жменя была. С чего непобедимая дивизия-то наша началась? А с нас, гремучинцев да веселовцев. А зараз уж Первая Конная. Ты думаешь, кто я таков? А самый тот первый проходец и есть.
— Халзанов что, Халзанов…
— Ну так тебе и говорят. Уж он-то был всем комиссарам комиссар, другого и не надо, простите уж, товарищ военком. Всем взял: и с шашкой, и в стратегии, а уж какие речи сказывал — ажник сердце слезьми обливалось за нужду трудового народа, и босые, как есть, шли мы в бой… Ну так я и гутарю: он-то, Мирон Нестратыч, хучь и офицер, а наш насквозь, красный, а брат его, Матвей, совсем даже наоборот, до кадетов подался. Как революция взыграла, казаки-то на Маныче попервой ишо смирно сидели, воевать не хотели, сам знаешь. Одни офицера́ и выступали да самые что ни на есть от чужого труда богатеи. Вот и энтот Халзанов Матвей, комиссара-то нашего брат, самый первый пошел с атаманом Поповым. Багаевской дружиной заворачивал, по нашим хуторам гулял, расправы наводил. Он-то самый Романа Семеныча батю спалил, ну подворье-то их, Леденевых, в Гремучем у нас. Сам не видал, да слухом пользуюсь. Лихой он казак, Халзанов-то этот. А там, могет быть, и до вас, орловцев, дорвался. Что же, мы не слыхали, как землицей-то вас казаки наделяли?
— Должно быть, так, — сказал Монахов. — А признаешь его, если встретишь?
— Кубыть, и сходились в бою, и не раз, а вот чтобы признать… Так иной раз глядишь: и знакомое будто лицо, а вот кто по фамилии… Он, не он, не скажу.
— Да как же это? Вашего ведь юрта.
— Да ну и что, что нашего? Он за все время до войны у нас на хуторе и трех разов не гостевал, да я мальцом в ту пору был. Ты вот что, Монахов, ежли тебя теперича не шлепнут, потому как дурак ты, отыщи в нашем войске Григория Колычева. Он-то и есть того Халзанова шуряк. Тоже в белых был раньше, а теперь вместе с нами воюет, разведкой командует — помиловал его Роман Семеныч с потрохами, потому как опять-таки наш хуторной. А еще по причине одной, о какой тебе знать не положено. Вот его-то, Григория, и спроси про зятька — может, знает, чего: тот Халзанов, не тот.
— То есть как это помиловал? — встряхнулся Северин, хотя перед глазами тотчас встало начертание на огромном кумачном полотнище: «ОБМАНУТЫМ КАЗАКАМ — ЧЕСТНЫМ ТРУЖЕНИКАМ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ НЕ МСТИТ!»
— Советская власть то есть простила, — поправился Мишка. — У нас их, таких казаков… Бьют белую сволочь, как, скажи, вместе с нами всю жизню за народ воевали, и всех Роман Семеныч в нашу веру обратил. Из плена достал, глаза им открыл… Куда ж его девать-то, товарищ комиссар? — кивнул на Монахова. — Глядите, наши город забирают — вовсе не до него.
— Не бойтесь, не сбегу, — сказал Монахов. — Как у меня была одна дорога, так и есть.
Чугунные цилиндры паровозов, проклепанные башни «Ильи Муромца» с черно зияющими прорезями пулеметных бойниц, затиснутые в серую броню площадки, нескончаемые вереницы товарных вагонов, застывших на путях и опрокинутых, как детские кубики, обрушенные пирамиды ящиков, тюков, орудия с разбитыми боевыми осями и укатившимся под откос колесами, заглохшие грузовики, глазастые «паккарды», «форды», похожие на сломанные и разбросанные всюду игрушки барчуков. Пророками Судного дня танцующие над пакгаузами оранжево-черные чудища, рукастые циклопы, полотнища, валы мазутного дыма и пламени. Патронные двуколки, санитарные линейки с поленницами раненых и трупов, чьи приоткрытые оскаленные рты застыли в немом крике, обращенном к череде лениво проезжавших мимо леденевцев.
В захлестнутом без боя хуторе, где, словно в пожаре, трещали и лопались ставни, ворота, гремели в колодезных недрах цепные бадьи, Сергей нашел штаб. Бойцы штабного эскадрона окружили массивное краснокирпичное здание с невысокой квадратной трубой. Северин протолкался под крышу и не увидел никого, и не услышал ничего, и даже как бы не почувствовал тепла натопленного цеха: в раздувшиеся ноздри, прямо в мозг ударил запах хлеба — поджаренной житной муки, горелого постного масла и всхожего теста.
Штабные, краскомы, бойцы сидели на каменно твердых чувалах с мукой и рвали пальцами огромные, как мельничные жернова, коричнево-смуглые круглые хлебины. Запихивали кляпами, глотали со слезами, раздумчиво, сосредоточенно жевали, как будто силясь вспомнить самое простое — невыразимый вкус горячего, из печи вынутого хлеба. Воистину были глухи и немы, в глазах — отрешение ото всего. Челищев, Мерфельд, Носов забрали по краюхе, и даже Леденев, сидевший за прилавком, как хозяин, отщипывал теплую мякоть от начатого каравая и ел.
— Одной бригадой заберу, — говорил ему с вызовом стройный, сухощавый краском в аловерхой кубанке и синей черкеске с серебряными газырями.
— Делай, — сказал Леденев, размеренно жуя и глядя сквозь него.
— Нет связи ни с Буденным, ни со штабом Восьмой, — сказал осторожный Челищев. — Не зная положенья под Ростовом…
— Ну какое теперь может быть положение у их превосходительств, — ответил Леденев. — Забрали мы их нынче в копытные щипцы на выступе у Генеральского моста. Мамантову и Топоркову от Буденного оторваться и рысью на Аксайскую во избежание мешка и леденевских орд на правом фланге и в тылу, — как будто читал шифрограмму из ставки белого главнокомандования. — Иди, Гамза, за славой. Теперь ее, пожалуй, и баран добудет.
«Так вот он какой, Гамза», — вгляделся Северин в лобастое, с горбатым носом и квадратной челюстью лицо, в посаженные близко к носу острые глаза под навесом стекающих книзу бровей.
Леденевский завистник исподлобья ударил комкора ножевым взблеском взгляда, повернулся на месте и вышел, торопясь доказать, что он — сила.
— Садись, комиссар, бери завоеванное, — позвал Сергея Леденев, ни выражая взглядом ничего. — Расскажи, чего видел.
— Много разного видел, в том числе и паскудное. Но сейчас, полагаю, не время об этом.
— А ты как петух — сразу бьешь по зерну. Вплынь по крови идем — где уж тут протрезветь? Ведь красота, а, комиссар? Или ты ее, может, иначе себе представлял, а теперь подвергаешь сомнению? Так и есть: вскачь идешь — красота, а привстанешь — паскудство. Без нее, может, а? Уж тогда и паскудства не будет — от такой красоты. Да только и самой ее не будет. Молодые любят воевать. К чему мальчонка тянется больше всего на свете? И уж такой он в измальстве слухменый да желанный, а все одно на палку сядет и поскачет верхом: «Шашки вон! Пики к бою! Шпоры в бок коню, ура!» В войну уже играет. Работа — это разве доблесть? А игра… Еще и не родился, а в самом материнском пузе знает, на что веселее всего в орлянку играть.
«Он как-то по-своему прав, да и не по-своему, а…» — подумал Сергей, почуяв в собственной крови необсуждаемую тягу, как будто бы наказ самой природы, данный человеку много раньше, чем сам он, Сергей, появился на свет, идущий откуда-то из-под земли, сквозь пласты мезозоя, юры, застывшей магмы, вулканического пепла — как шум, спрессованный из хруста разгрызаемых костей, урчанья хищников и визга жертв, как ветер, господствующий на пустынных пространствах Гондваны в те эры, когда еще не было слов и каждое живое существо могло жить лишь ценой уничтожения другого.
Рука же его в это время сама потянулась к пододвинутому караваю, рот сам собой наполнился слюной, и ни с чем не сравнимый вкус теплого хлеба, одуряюще острый его аромат подчинил себе все северинские чувства, и ненужно уже удивляли вопросы, потому что вот эта краюха, ее вкус, ее запах и были ответом на все.
Все вокруг него жило на честности неумолимых первородных причин: и этот вот таинственно безрадостный, всесильный человек, и все вокруг него штабные и бойцы, и рыжие их кони, и Мишка Жегаленок, и даже Николай Монахов, убивший безоружного за сына и жену.
Минут через десять он вышел вслед за Леденевым из пекарни и, поднявшись в седло, шагом двинулся вместе со штабом к последнему увалу перед городом. Ничего любопытного в происходящем для комкора уж не было.
— Комбригу-один продвигаться к Вокзальному спуску, закрепиться на южной окраине и рвать мосты через Аксай и Институтский… — диктовал на ходу Леденев.
В три часа пополудни Партизанская вхлынула в Новочеркасск. А перед сумерками в город вступил и полевой штаб корпуса. Несметные копыта гулко цокотали по мерзлым мостовым — казалось, клекочущий горный ручей ворочает, толкает, несет вниз по обрыву множество камней, глуша этим шорохом, цокотом далекие взрывы стрельбы.
Шинельные трупы зарубленных бросались в глаза уж не больше, чем тени фонарных столбов, афишные тумбы, деревья, побросанные чемоданы с распяленными пастями и вылезшими языками перевитого тряпья.
По четверо в ряд леденевцы текли по Ермаковскому проспекту, наполненному треском разлетавшегося дерева и звоном осыпавшегося с верхних этажей стекла. Над вымощенной площадью, над головами кружила шелестящая бумажная пурга: газетные листки, воззвания, приказы слетались на землю, как птицы на корм, цеплялись за ветки деревьев и копья оград, обклеивали мостовую объявлениями, которые трепал разбойный ветер.
Сергею кинулись в глаза знакомый портрет на обложке и крупные буквы «Донская волна». Угрюмо-неприступное лицо гранитного служаки — генерала Расстегаева, «вождя казаков станицы Суворовской», застывшего с заложенными за спину руками, как будто отдавая и себя, и всех своих восставших казаков на гибель за Россию, которой уж нет и не будет.
Подъехав, Сергей снял журнал с чугунной решетки. Такой же точно номер был в деле Леденева, которое он изучал в ЧК. Журнал воспевал военную доблесть и гений белогвардейских генералов и казачьих офицеров, пестрел их фотографиями в парадных кителях, был наполнен крикливыми сводками красноармейских потерь, беллетризованными репортажами и стихами самих офицеров, каких-то жертвенно-восторженных студентов, юнкеров, гимназисток, курсисток. «Миром, дружными усилиями мы поможем грядущему Гомеру написать “Войну и мир” на Дону…» Но была в этом номере и большая статья о враге — Леденеве. «Далеко не заурядная личность, один из немногих самородных талантов, вышедших из среды простого народа, но, к глубокому сожалению, приложивших свои силы не к созиданию народного величия, а к его разрушению». Написал это будто бы белый шпион, перебежчик Носович, проникший в штаб Южфронта в 18-м году.
Зачем-то сунул номер под шинель, будто надеялся прочесть о Леденеве что-то новое и важное, будто эта статья была еще не расшифрованным посланием и предстояло отыскать к ней ключ.
Под несметью строчащих копыт поломоечной тряпкою лип к мостовой, напитывался талой грязью сброшенный на землю сине-желто-красный флаг. Лишь один войсковой кафедральный собор, берегущий казацкую славу, оставался незыблем, но и он уж казался пустым, продувным — сквозь него шел стрекочущий, звончатый ток равнодушно-усталых, победительных красных полков, и бронзовый Ермак протягивал корону Леденеву.
Под гулкими сводами храма стучали каблуки окованных сапог, гремела низвергаемая утварь и, как на колке дров, стреляло дерево — бойцы опрокидывали аналои, крушили ковчеги с мощами страстотерпцев и праведников, тащили золоченые потиры, дароносицы, лампады, раздирали парчовые ризы, ломились в царские врата и тайну тайн. «Ну а как, если поп здесь столетиями одурачивал темный народ, торговал божьим страхом и брал отпевальные взятки? — сказал себе Сергей и поглядел на Леденева, как будто бы сверяя свои мысли по нему. — Смирению учили: терпите, покоряйтесь — все от Бога: нужда, угнетение, смерть. Ну вот и получите — устал народ терпеть». Но все равно подкатывало к горлу: ломали красоту — народом, между прочим, и построенную.
— Эй, кто тут? — позвал Леденев, и тотчас подались к нему, угнувшись, вестовые. — Торговцев вот этих из храма изгнать — пущай старик на небесах порадуется. Полковым комиссарам довести до людей: за барахлом не бегать. Эскадронным и взводным — расстрел.
«Вот тебе и город на разграбление», — изумился Сергей.
— Ну а ты что стоишь, комиссар? — посмотрел на него Леденев. — Красоту ведь поганят, не так? Ставь порядок. Сделай так, чтоб все видели: Бога нет, а ты есть.
Сергей поворотился к паперти и, спешившись, толкнулся на крыльцо, под высокие своды притвора, в метания монгольских воинов, огней, кидающих рыжие отблески на темные лики святых. В лицо ему дохнуло стынью векового камня, душистым тленом, ладаном, известкой, угарным чадом множества погашенных свечей. Ругаясь в бога мать, святителей, крестителей, штабные эскадронцы плетями и прикладами изгоняли грабителей из алтаря — те бросали тяжелые комья парчи и в лепешки топтали высокие толстые свечи.
— А ну кончай грабиловку, в кровь Иисуса! — надсаживался Жегаленок, вознося сиплый рев к серафимам, в подкупольную высь, до каменного неба, направо и налево благословляя плетью грешников. — Бога нет, а комкор не помилует!..
Все делалось само — Сергей был не нужен. Толкнулся назад, на свободу, вскочил в седло и, выспросив у ближних, куда повернул Леденев, поехал к атаманскому дворцу на Платовском проспекте.
Угрюмо-первобытно озаренный желтыми кострами двухэтажный дворец содрогался, гудел, сквозил проточной жизнью полевого штаба.
Чугунно-кружевная лестница, парадные портреты государей, войсковых атаманов, великих князей, огромные, в рост, зеркала. Связисты бешено вращали рукояти телефонов, тянули провода, возились с телеграфными машинами, распутывали ленты деникинских приказов.
— А ну подставляй посуду, ребята! — неслось из соседних комнат. — Раньше атаманы пили, а зараз и нам довелось. Ладан с медом, святое причастие! — трещало разбиваемое дерево, гремели и бились бутылки, хлестало в котелки и растекалось языками по паркету похожее на кровь рубиновое драгоценное вино, росли у людей и бутылок кипучие пенные бороды.
— К погребам пулеметы, — услышал голос Леденева Северин. — Вина до утра не давать. Начсанкору час времени, чтоб не осталось ни одной подводы на дворе.
Сергея давила усталость, кружилась голова, подташнивало, и каждый сустав как свинцом был налит, но все вокруг делали дело, и он с исчезающе слабым стыдом самозванства подписал два приказа по корпусу и приказал себе заняться ранеными.
Поджидавший его у крыльца беспризорный Монахов молчаливо пошел за ним следом. Жегаленок и вовсе давно стал Сергеевой тенью, разве что чересчур разговорчивой:
— Да вы и сам, товарищ комиссар, такой же раненый. Вам бы зараз прилечь отдохнуть да поснедать чего. Буржуйские-то бабы аккурат к Рождеству наготовили всякого — вот бы и разговелись. На пустой-то живот и дите, поди, не убаюкаешь, а не то что победу ковать…
С Хотунка, с Персияновских страшных высот прибывали ползучие транспорты раненых; визг и ржанье хрипящих в надсаде упряжных лошадей, скрип и скрежет обмерзлых колес, треск оглобель, тягучие стоны и женские крики сливались в какой-то вселенский вой-плач. Ранения были ужасны: разрубленные головы в заржавелых от крови бинтах, багрово стесанные лица, щеки, уши, култышки отхваченных рук, урубленные пальцы, обмотанные грязными тряпицами.
Лежащие вповалку на линейках, иные уже отдавались толчкам мостовой как дрова, безгласные, с замерзшими оскалами, с плаксиво приоткрытыми, нешевелящимися ртами. Другие, полусидя, смотрели, как из мягких, бородатых, покрытых сукнами и шерстью казематов, раскаленных гробов. Над ними вились, копошились, безжизненно горбились сестры, держали забинтованные головы у себя на груди и коленях, настолько обессилев сами, словно только что выдавили из себя эту взрослую, ни живую, ни мертвую тяжесть.
Сергей впервые их увидел — женщин корпуса, тех самых, о которых говорил минувшей ночью Леденев, — и совершенно уж не удивился. Они спускали раненых с повозок, доволакивали до крыльца, подымали по лестницам и едва не обваливались вместе с ними на койку и на пол, передавали помогающим бойцам и брели, как слепые, со стекшими по швам, как будто потрошеными руками.
Сергей принял раненого и вместе с Жегаленком повел того к крыльцу. На обратном пути Мишка сзади облапил сестру:
— Позорюем, што ль, любушка?
— Ы-ых ты! — Сестра издала лишь протяжный измученный вздох, какой, должно быть, исторгает человек, перед тем как опять погрузиться под воду.
— А ну отпусти, твою мать! — взбесился Северин. — Не видишь — падает, а ты!.. Собаки и то знают время… Эх вы! — сказал для всех. — Вам ноги ей мыть.
Сестра, налитая, окатистая, с обветренным круглым лицом, о красоте которого нельзя было судить, взглянула на него тоскующе-недоуменными глазами мучимой коровы.
— Стреляла б таких, — сказала Сергею, освобождаясь от прихвата Жегаленка. — Да чем стрелять? …? Да и того нет.
Сергей заволновался, ощущая на себе давление измученных, но все же любопытствующих взглядов, обвел глазами лица ближних и натолкнулся на одно — из-под пухового платка, по-бабьи обмотанного вокруг головы, взглянули на него отяжеленные печалью и полные живой воды прозрачно-серые глаза. В них таилось неведомо что: не то всепонимающая нежность, будто одна она и знает, как болит у тебя, не то, напротив, отрешенность ото всего происходящего вокруг, оцепенелая покорность, когда жизнь есть, а что ей с собой делать, она уже не знает и не хочет понимать.
Сергей запнулся, приковался было, но тут в серой смази людей, в стенающей толпе, в проулке, за воротами увидел вдруг другое, знакомое лицо и обмер: Аболин!
Не веря в то, чего быть не могло, Сергей толкнулся в улицу, распихивая встречных, — призрак Аболина тотчас канул в толпе и зачудился в каждом, понапрасну хватаемом за руку. Никого, даже близко… И ее, милосердную девушку, Северин потерял.
Обозлясь на себя и почувствовав подступающую дурноту, он присел у ограды, привалился к решетке. Померещилось? Спутал? Но такое лицо разве с чьим-нибудь спутаешь?
— Мишка, слышь? А что с тем офицером?
— С каким это?
— А какой на комкора вчера… я привел.
— А где ж ему быть? Под замком, — ответил Жегаленок удивленно. — Особый отдел, должно, занимается. А может, уже и прибрали.
— То есть как это прибрали?
— А чего рассусоливать? Это вона Монахов у нас через свое семейное несчастье по целому часу врага потрошит, а так-то чего?
— Но особенный враг ведь, особенный.
— Тю! Вы что же думаете, первый он такой, кто до Роман Семеныча с занозой добирается? Ить двести тыщ золотом Деникин отваливает за нашего любушку, живого или мертвого. Ну вот и пытают, паскудники, счастья по-всякому. Рубаки самые что ни на есть из казаков до него дорывались, да кто супротив Леденева на шашках устоит? Да на нем, ежли хочете знать, ни единой царапины нет — ни один своей шашкой до тела его не достал, — уже неистово расхваливал комкора Мишка. — Ну вот и подбираются по-всякому. То из винта ссадить, подлюги, норовят — стрелки такие есть, что за версту без промаха нанижут, — то, вон как энтот офицер, ужалить норовят, тоже как и змея, с одного, стал быть, шагу дистанции. Оно страшней всего — такая подлость аль измена. Мы ить и с пищи пробу кажный день сымаем, потом только ему, Роман Семенычу, даем.
— Так и заняться этим офицером со всей строгостью.
— На ремни, что ли, резать? — усмехнулся Жегаленок, покосившись на Монахова. — Так ить ничем хужее смерти не накажешь. Как его ни пытай, а все одно успокоенье выйдет. Из чего ж лютовать?
— Ладно, поехали, — поднялся Сергей и стал отвязывать Степана от решетки.
Да кого же он только что видел? А может, вы больны, товарищ Северин? Увидели столько всего в один день, вот вам и начало являться невозможное?
— А Особый отдел сейчас где?
— Да, кубыть, где-то тянется, — откликнулся Мишка, подавляя зевок. — Могет быть, под Грушевской, а то и вовсе под Лихой. Чижелая служба у них. Со стульев по неделям не слезают, как и мы с коней. Всё измену вынюхивают: а ну иди сюда падлюка-самогонка да следом лезь предатель — кислый огурец. Вся и работа у сердечных, что нам, негодяям, грабиловку шить, прихвати я, положим, у какой-нибудь бабы хучь с меру ячменя.
— Ты вот что, Мишка, увидишь особиста — укажи мне.
А девушка эта, сестра милосердия, — тоже, что ль, померещилась? А может, местная, при госпитале тут была? Ведь полезут, как Мишка к той, свойской, — нельзя допустить.
— Послушай, сестра на дворе там была…
— Зойка, что ль?
— Я не про ту, к которой ты пристал.
— Так я и говорю вам — Зойка. Чего ж, не понимаю, про какую вы? — ухмыльнулся Жегаленок. — На ту-то вы и не посмотрите, а энта барышня, совсем наоборот, из ваших, городских. Ее, породу, сразу ить видать. На ней и вшей-то зараз, может, как на кошке блох, а все одно: коль я при ней сыму портянки, ее аж всю наперекос возьмет, до того ей мужицкая грубость противна… Да вы не сомневайтесь, товарищ комиссар. Честная девка, — заговорщицки склонился Мишка к Северину. — Да и комкорова она.
— Чего? — рухнул сердцем Сергей.
— Да хожалка его, а теперь вроде как, получается, крестница. В Саратове за ним ходила по ранению, из соски, как дите, выкармливала, когда совсем плохой он был. Так что ежли ее хучь грубым словом тронет кто — Роман Семеныч выхолостит зараз. У нас и вовсе с этим строго. Ежели так, по доброй воле, так отчего бы и не сделаться: и ей, бабе, радость, и тебе то же самое. А чтобы дуриком какую тронуть — боже упаси.
— Так что ж, она в Саратове жила?
— Ну да, там до нас и прибилась — уж какая толкнула нужда, не допрашивал, да ясное дело, что не от сытого житья. Видать, на всем свете одна-одинешенька.
Атаманский дворец, озаренный кострами, не спал. Трещали в огне ножки кресел, багетные рамы картин.
— Вон он, — поймал Сергея Мишка за рукав, кивая с хоров вниз — на подымавшегося по широкой лестнице человека в зеленой бекеше. — Начальник нашенский Особого отдела, Сажин.
Сергей встал на пути широкоплечего, приземистого особиста — и снизу вверх в глаза ему уперся гадающий взгляд темно-карих, сощуренных в щелочки глаз. Лицо округлой лепки, ничем не примечательное, показалось Сергею чересчур уж простым.
— Слыхал уже о вас, товарищ Северин. — Глаза не выразили ни сомнения, ни жалостно-брезгливого недоумения: «нашли кого прислать», а лишь одно желание — как можно скорее закрыться совсем, уснуть где угодно.
— Вам в Грушевской передали офицера, — сказал Северин, отведя особиста к дивану в углу.
— Какого еще? — так искренне не понял Сажин, что Сергея озноб прохватил.
— Лазутчика белого. Минувшей ночью в штабе взяли. Комкора пытался…
— Вот так так. — Прищуренные изнуренные глаза на миг превратились в крючки. — Знать не знаю и слыхом не слыхивал. При вас, выходит, было дело?
— При мне. Я его и привел. К обозу пристал под Лихой, подпольщиком назвался, из Ростова… А!.. Долго рассказывать. В общем, взяли его — под замок, а утром уж все, наступление… — Сергей как на притолоку налетел, и в мозгу его вспыхнула лампа: Леденев приказал — Извекова не бить и никого к нему не допускать!
— Ну что ж, — сказал Сажин. — Должно быть, лежит где-нибудь в буераке.
— Но Леденев сказал: не трогать.
— А это он при вас, при свежем человеке постеснялся, так сказать. А что там дальше, кто же его знает. Вы его янычаров видали? Понимают его, как собаки. Должно, в тот же час и прибрали.
Сергей из какой-то ему самому непонятной опаски, не рассуждая, умолчал о главном: что Леденев признал в Аболине, верней Извекове, старинного товарища по плену — и выходит, на выгрузке раненых он, Северин, наверное, и впрямь увидел настоящего, живого беляка.
— Забудьте, Сергей Серафимович, — вздохнул покорно Сажин и вдруг, поозиравшись, перешел на шепот: — Во-первых, сами, я так понял, дали маху с лазутчиком этим. Да я не в укор — любой бы мог на вашем месте обмишулиться: поди его, шпиона, угадай. А главное, совет вам: вы насчет офицерика этого к Леденеву не лезьте — как, мол, так, куда дел, почему без меня?
— То есть как это не лезть? — притворился Сергей возмущенным.
— А вот так. Где есть Леденев, там нет другой власти. Один он у нас карает и милует. По собственному усмотрению.
— А вы для чего? Шигонин-начпокор?
— А что мы? Рядовые труженики. А он знаменитый герой — сам Ленин отмечает и личные приветы ему шлет. И ведь есть за что, а? Вон город какой забрал одним корпусом. Вот и попробуй вякни что. Привык он к полной власти, даже, можно сказать, охмелел, а в центре этого не могут знать, одни только его победы видят, а его самого за победами — нет. Сообщаем, конечно, что он и с пленными, и со своими вовсю самоуправничает. Да только ведь факты нужны. А из фактов у нас — только трупы. А от чего он получился, этот труп, попробуй докажи — от вражеской ли пули или от своей, — казалось, жаловался Сажин, как сутки назад начальник снабжения Болдырев. — Ведь фронт, смерть кругом. Хоть этого взять офицера — а был ли он? Дойдет, предположим, до спроса — так все наши штабные в один голос: не видели такого. А если и видели — пропал в суете наступления. Убит случайной пулей. Чего ж его искать, когда мы и своих-то хоронить не успеваем? Свои у нас, товарищ Северин, свои пропадают. И находим изрубленными. Не то и впрямь какой разъезд казачий наскочил, не то совсем наоборот — подумать даже страшно. Ну вот и суди, чего тебе ближе — партийная совесть или своя физическая жизнь. Нет, я не обвиняю, потому как факт не установлен. Первый же буду рад, коль не прав окажусь в подозрениях, но все-таки уж больно подозрительно выходит — подавление всякого голоса против него.
«Пугает, — подумал Сергей. — А зачем? Чтоб я от страха делал что? Молчал и был при Леденеве вроде мебели? Промокашкой на каждом приказе? Или, может, к себе притянуть меня хочет? В свой лагерь? Чтоб доносы писал вместе с ними?.. Сажин, Сажин… От Сажина доносов будто не было».
— Я понял вас, Федор Антипыч. Человек я у вас новый — ну вот и осмотрюсь пока, товарищей послушаю.
— Без надежных товарищей в нашем деле нельзя. И без старших товарищей — в центре, — вгляделся в него Сажин серьезно-уважительно.
«А не смекнул ли он, что двинули меня как раз из центра? — подумал Сергей. — С инспекцией прислали, соглядатаем — и хорошо б ему сойтись со мной на всякий случай покороче».
На этом разговор их кончился. По дворцовым гостиным, кабинетам, столовым вповалку спал, толкался, копошился, кричал в телефонные трубки штабной шинельно-гимнастерочный народ. Паркеты в липких лужах и потеках красного вина, повсюду раскатившиеся опорожненные бутылки, на ломберных столах — обглоданные кости, объедки, кожура вперемешку с чадящими, причудливо оплывшими свечами.
Сергей нашел Челищева — сидящего над картой, почесывая за ухом химическим карандашом.
— Ну что, Андрей Максимыч, положение проясняется?
— Да что вы? Со штармом удалось связаться, а с Буденным — нет. Незнаемо, что под Ростовом — гадай. А впрочем, полагаю, комкор наш прав всецело: уведет свою конницу Сидорин за Дон, и тут-то мы, в Новочеркасске, встали накрепко. А вы отдохнули бы, Сергей Серафимыч.
Сергей сел на диван, спустил наплечные ремни и стал расстегивать шинель. Аболина уж не достанешь — где бы ни был. Разве только еще раз нос к носу столкнешься. Был бы тут Леденев — прямо в лоб и спросил бы: как прикажете вас понимать?.. И почему же Леденев так запросто признал свою с ним связь? Ну а кого ему — тебя, что ли, — бояться?
На колени упала «Донская волна». Сергей машинально раскрыл знакомый журнал, перелистнул с полдюжины страниц с парадными фото каких-то казачьих полковников и подхорунжих, нашел статью о Леденеве и, будто впрямь надеясь отыскать в ней что-то новое, вцепился глазами в ряды типографского шрифта:
«Без сомнения надо признать за правило, что только тот умеет повелевать, кто сам умел повиноваться. А это в старой службе Леденева было. Были у него, очевидно, настойчивость и характер, а кроме того было и вахмистрское знание лошади… Но как к человеку своей среды, красноармейцы, весьма требовательные в манерах обращаться с ними к своему начальству из бывших офицеров, совершенно легко и безобидно для своего самолюбия сносили грубости и зуботычины от Леденева…»
«А ведь и вправду, — подумал Сергей, — всего-то три года назад он был одним из тысяч грубых вахмистров, почитал командиров, чины, слепо повиновался, зависел, терпел, нес в себе вековой, вбитый с юности страх ослушания, шомполов, розог, виселицы и, вечно унижаясь перед высшими, испытывал потребность унижать. Делал все, чтобы выбиться на войне в офицеры, только это одно им владело. И вот, получается, вышел — революция вывела, наделила такой силой власти, о которой не мог и помыслить. Быть может, прав Извеков-Аболин — лишь затем и пошел в революцию, чтоб она его сделала аристократом, не машиной уже, а хозяином, богом войны. И одна только власть и потребность еще большей власти у него в голове, и будет резать всех, кто станет поперек его пути в Наполеоны. Но тогда он явление страшное, и его надо остановить. Нет, стой, подожди — ведь ты его видел сегодня: ему уже будто и радости нет во всей его силе и власти. А из чего ж ты заключаешь, что радости нет? Из того, что он непроницаем и глаза у него никогда не смеются, как сказал тот мальчонка на станции? Он говорит: война была и будет всегда, род человеческий приговорен к ней от начала мира, — и будто бы не возражает против этого и любит красоту войны, только ради нее, может быть, и воюет, хотя мы должны воевать за то, чтобы не было войн на земле… Нет, ты его не знаешь. Понять его с чьих-то чужих, хоть восхищенных, хоть враждебных слов нельзя. И вообще извне — нельзя. Пусть он сам говорит».
X
1910-й, хутор Гремучий Багаевского юрта, Область Войска Донского
Жить и жить бы в бескрайней заповедной степи, где даже гнездоватый конский след не виден, пожранный травой. Кружить по балкам племенные косяки, вдыхать полынно-горький ветер, ходить за конями, объезживать неуков, к которым еще вовсе никто не прикасался из людей, — вплетется в гриву нитка летучей паутины, так он уже тревожно всхрапывает, начинает гонять кровь и мускулы под атласистой кожей, — пластаться на выжженной суховеем земле, смотреть на одно только неизмеримо высокое небо, безжалостно чистое, с белой дырой всевышнего солнца, искать прогалы черноты на ночном небосводе, блуждать зачарованным взглядом по уходящим в гору звездным шляхам, ловить след падучей звезды, похожий на белый рубец от кнута, какой вгорячах выбиваешь на крупе вороной кобылицы. И людей бы не знать.
Все мысли, все чувства Романа как будто умалялись до растительного самоощущения, и понимал он про себя не больше, чем однолетняя трава. Вся злоба, все обиды, сама неизбежность сравнения своей доли с чужой всецело растворялись в подавляющем, молчаливом величии степи, в металлическом звоне кузнечиков, порабощающем слух, — оставались на хуторе, в задернутой струистым маревом дали.
Там бьется он со всем казачьим миром — на игрищах, на Масленицу в стенках, на мельнице в очереди у весов. С хрястом, кхыканьем, с воем — в переносье, в кадык, в селезенку, в печенку, в бога мать, всех святителей… Сколько помнит себя, подступались к нему казачата: «Мужик, на чьей земле живешь? А вода чья в колодезе, какую ты пьешь кажный день? А в Маныче? В Дону? Вся наша, как есть. А ты кто такой? Мужик, гольтепа. Чига голопузая». А коноводил Гришка Колычев, хуторского атамана младший сын. Смотрел отцовскими глазами, продавливая душу в пятки, и по-отцовски, с расстановкой выговаривал: «Земли тебе надоть, мужик? — Зачерпывал пыли с дороги, протягивал: — На! Жри, тебе говорят. Ух и сладкая. Конфетка медовая. — Знал, подлюка, что отроду Ромка тех конфет не едал, грудку грязного сахара разве только на Пасху и видел. — А ну, держи его!»
Извиваясь ужом, выдирался из рук навалившихся на него казачат, воротил что есть мочи лицо, зубы стискивал, как кобелек, но его, повязав по рукам и ногам, прижимали к земле, набивали рот пылью — до кашля, до удушья, до слез: «Кушай, кушай, ешь вволю!» Унижение, гнев на бессилие — вот что душило, неразрывно связавшись с непередаваемым запахом смертного тлена, с горьким вкусом казачьей земли, с ее дерущим глотку натиском, как будто та, не принимая чужака, не только ложилась на кожу едва ощутимым налетом, но и лезла в глаза, в ноздри, в глотку, торопясь завладеть Леденевым до срока.
«Заткнуть всем пасти, задавить, разодрать Гришку, как лягушонка, чтоб от страха под лавки кидались, как завидят меня», — клокотало в его голове… А отец все вбивал в эту голову: «На твоем месте — казачатам в пояс кланяться. По милости их дедов тут живем. Как не принял бы сход хуторской, не дозволил нам строиться, так и сгинули бы всем семейством в степу. А тут хату имеем свою, какую ни на есть, коровенку, курей, меринка вон ввели. А грамоте тебя опять же учит кто? А выставят завтра со школы? Нам с тобой надо в землю вцепиться, как в падлу кобель, чтоб нашей она стала — хучь пара десятин, зато свои. По копейке откладывать. Казаков-стариков почитать — как завидишь их, шапку ломить. А ты на их детей волчонком смотришь».
Еще не было Ромки на свете и отца еще не было, а донская земля неослабно влекла к себе тысячи мыкавших горе и нужду мужиков. Далеко во все стороны света шел слух о ее баснословной, неиссякаемой родящей силе. И текли нескончаемыми ручейками разнородные переселенцы — русаки из центральных губерний, украинцы с Полтавщины, с Харьковщины… Холостые, семейства с детьми. Голытьба с изможденными лицами и усохшими в былку ногами, мужики при достатке, с набитой мошной, упорные в работе, дошлые, пройдошистые.
И Семен Леденев в одиночку подался на Дон из родных Семилук — не захотел жить дома безземельным, четвертый сын в большой семье. Блукал по верховским станицам северных малоземельных округов, нанимался в работники, плотничал, шорничал, пахал, вбирая запах чужого чернозема, а потом уж спустился до Маныча и посватался к Ромкиной матери — из многодетного семейства коренных иногородних в станице Егорлыкской взял — и явился на хутор Гремучий вместе с нею и первенцем Ромкой, владетельно ревевшим и смолкавшим, присасываясь к выпростанной из рубахи материнской груди.
Приезжие, иногородние по-разному врастали в казацкую землю. Кто позажиточней, арендовали сотню десятин, покупали для пахоты пару быков, торговали с рук разным потребным в хозяйстве товаром, переторговывали скупленным и краденым, открывали лавчушки с кожевенным, красным товаром, галантереей, керосином, солью, спичками, закупали с заводов косилки, рядовки, плуги, давали в долг, копили векселя — за косилки, за веялки, за быков, за коней, за казацкую справу к действительной службе, — откупали и строили мельницы, хлебные ссыпки, богатели, росли, нанимали работников. Голоштанники смирно батрачили, упорные и цепкие, как жилистый бурьян на каменном суглинке, тянулись ко всяким ремеслам, к учению, к грамоте, трудом и сметкой силясь выбиться из нищеты. Казаки в своей массе презирали и тех, и других: богатеев терпели, завистливо косились на высокие, под жестью курени, над беднотой же изгалялись, за аренду земли драли шкуру да все гольный суглинок норовили подсунуть. Ото всех, даже самого что ни на замухрыжистого казачишки, растекалась глухая, дремучая спесь: вся земля на Дону им за верную службу царями пожалована, по ноздрю за нее деды крови хлебнули, на три сажени вглубь казачьим потом напоили. Скажите спасибо, что проживать вам дозволяем у себя, всем мужикам, из лыка деланным и хворостиной подпоясанным.
Дозволили и Леденевым. Прокофий Попов, по уличному прозвищу Хрипун, отвел Семену затравевший угол на своем базу, передвинул плетень. На отшибе, над яром забелела саманная хата, покрашенная крейдой с лицевой стороны, уставилась на улицу двумя подслеповатыми оконцами. Сквозь земляную, камышом застеленную крышу торчала глинобитная труба, для лучшей тяги довершенная ведром без днища. Распушился по зимнему небу еще один хвост горьковатого — такого сладостного после стольких бездомовных лет — кизячного дыма.
И хата, и печь, и рыжая телка — все в долг. В аренду брал отец четыре десятины твердой, как железо, супесной земли: без двух пар быков не подымешь. Держался за чапыги, а Ромка погонычем шел. Нож глубоко, до черноты взрезал заклекшую, безжизненно серую корку. С сияющего лемеха, вывертываясь наизнанку, стекала бесконечная глянцевитая лента, и ни с чем не сравнимый пресный запах разверстой земли будоражил нутро.
Подрос — сам взялся за чапыги Ромка, налегал, шел по серой хрящеватой земле, сгибаясь, как в немом молении о хлебе, всей своей жильной тягой прося отвориться, раздаться — ощущая биение плуга, словно земля под ним толкалась как живая, не пуская в свою сокровенную плодородную глубь. А отец поучал: «На правую, на правую чапыгу налегай, на перо его ставь, чтоб опосля отвал не чистить. А бочонок чего ж у тебя не подкручен? На укос лемех ставь — видишь, он у тебя забирает на всю ширину, и быки через это страдают, идти не хотят. Плуг настроить — ум надо иметь. Это, братец, не легче, чем музыку на рояли играть».
В иные года приходилось поденничать, наниматься к богатым хуторским казакам, к тем же Колычевым. Сгребали вороха чужого хлеба с чужой же косилки, метали вороха чужого сена на чужой же воз, косили, боронили, задыхаясь от надсады, не столько непосильной, сколько неблагодарной. Так ходит лошадь в чигире по кругу, вращая водяное колесо, работая на человека и только чуть-чуть на себя, смирившись, что не будет ей ни воли, ни вдосталь овса.
И тянуло уже не к земле, а к коням, да и раньше-то, с первых шагов по земле, поперед всего — к ним, к силе их, красоте, чудесному, почти что человечьему, а то и большему уму. Верность дикой свободы, беспреградное мчанье, непреклонная гордость в изгибе их шей. И в небо-то глядел — все чудился ему голубоглазый белый конь, поднявшийся в дыбки на меловом обрыве.
«Да куда тебе на конь? Садись на свинью. Лапоть ты дровяной, твое дело — пахать», — потешались молодые казаки. И будто правы были — вот что жгло. Казачонку как год от рожденья сравняется, так сажают верхом на коня.
Тянуло Ромку к этому народу. Мужики-то ходили все больше согнувшись, как те быки в ярме, не подымающие глаз от борозды, покорно тянущие воз-нужду, пока не одряхлеют, а в казаках, хотя и тоже гнувших спины в поле, была какая-то неизъяснимая особенная сила, которую они как будто вправду взяли от родимой земли, по крови унаследовали от буйных своих прадедов, больше всего любивших волю и ненавидевших холопство, бежавших от царя, бояр и воевод, из кабалы и от судьбы, воевавших за эти раздольные степи с татарами, ходивших на туретчину, в необозримую Сибирь, в немыслимую Персию, сбивавших руки в кровь не только плужными чапыгами, но и веслами легких своих крутогрудых стругов, ничего не боясь и никогда не признавая своей долей только то, «что Бог им дал». Идти, идти туда, за край земли, в пределы, обозначенные только звездами и нитью горизонта, где можно размахнуться всею силой жизни, пускай и потерять ее, но поравняться, породниться со всем этим великим, бесчеловеческим безбрежьем, высотой…
А как в седло себя кидали с маху, как гарцевали и джигитовали, на полном аллюре слетая и тотчас снова вскакивая на коня, то лежа поперек седла, то сидя задом наперед, то обрываясь, свешиваясь до земли, цепляя кончиками пальцев носовой платок и выпрямляясь, словно красноталовая ветка, освободившаяся из-под колеса. И ничего с такою силой не хотелось, как доказать, что он, мужик, не хуже может: заваливать набок застывшего, как будто вкоренившегося в землю дончака, на всем скаку, привстав на стременах, рубить лозу, чтоб косо срезанная хворостина отвесно втыкалась в песок заостренным концом, крутить себя на скачущем коне, с неуловимой быстротою переметываться, перетекать всем телом из седла в седло, ныряя бешеному степняку под брюхо и перескальзывая поперед его груди. И не только достигнуть всего, что казаки всосали с материнским молоком, но и первым стать, первым средь них, чтоб в глаза не могли поглядеть ему прямо, как не может на солнце смотреть человек.
Да только где ж добыть добрячего коня? Украсть? Год за годом отец за божницу целковые складывал — на быков да на плуг, на косилку. Брат с сестрою у Ромки — родила мамка двойню, Степана и Грипку. А матери уже три года нет… Вбежал как-то в горенку — и не узнал: неужели она на кровати? Лицо как углем подвели, одни только скулы остались да нос. Тянулись по подстилке разбитые работой коричневые руки, как высохшие тыквенные плети в мертвый зной. И она, показалось, не сразу узнала его, и не мог посмотреть ей в запавшие, по-звериному настороженные и вместе с тем неуловимые глаза, не выдерживал этого накаленного взгляда, начищенно блестевшего из глубоких провалов орбит.
Ему стало жалко себя. Всех их, всех, Леденевых, но прежде всего именно себя — того, беспамятного, крохотного, что захлебывался гневным криком на руках молодой, сильной матери, властно требовал грудь и по-мышьи прихватывал молочными зубенками сосок, и того огольца, что всегда мог примчаться и с разбега уткнуться лицом в материнский живот, чтоб как будто и вправду опять очутиться по ту его сторону, оградиться им, как самым верным щитом, ото всех своих бед и обид. И, подмытый вот этим детским чувством покинутости и беспомощного одиночества, он шагнул и припал к безответному телу, из которого некогда вышел он весь.
Что-то сдвинулось в мире, где только трава равнодушно вверяет свои корни земле, а судьбу — суховею, палящему солнцу или лезвию звонкой косы, усыхает и деревенеет, умирая бесстрашно и молча. Говорили: от бабьей болезни; говорили: на все Божья воля — но Ромка слышал: Бог молчит, ничего не ответил на смерть его матери и на смерть вообще — верно, нечем ответить, кроме разве угарного чада церковных свечей да тягучего баса попа Филарета, у которого вечно бурчит в животе и запах кислых щей с говяжьими мослами перебивает запах ладана.
Ему казалось: мать надорвалась в неблагодарной, непосильной работе, на которую их, Леденевых, обрекал весь железный, испоконный уклад человеческой жизни, и казачьей, и всей вообще на земле: от зари до потемок гнуть хребет на богатых, отдавать полновластным хозяевам чуть не все заработанное, крутить молодое, красивое тело жгутом и все вернее ощущать, что чем дюжее себя крутишь, тем меньше остается силы жить. А Бог… Бог если и был, то силой, подобной весеннему палу в степи, бездонной воронкой, разверстой средь звезд.
Каким-то совершенно новым взглядом он посмотрел на казаков, на статных, кровно-розовых казачек с горячими, свежими лицами и обнаженными в улыбке рафинадными зубами: те будто бы нарочно выставляли свои здоровые, цветущие тела, обтянутые сборчатыми юбками и чистыми рубахами, гордо, счастливо шли по веселой земле, а мать уже навек была отделена от всего того зримого и осязаемого, из чего создан мир.
Три года прошло. Теперь он живет в артели табунщиков, на многих тыщах десятин целинной, никогда не паханной земли. Гремучинский казак и отставной урядник Атаманского полка Федот Чумаков зазвал его в конезаводство генерала Ашуркова: «Коней, примечаю, жалеешь. К панам пойдешь глядеть за табуном? Положат тебе жалованье пять целковых в месяц… Смотри, у нас служба чижелая». Ну вот и служит он с Федотом, с Сидоркой Струковым, веселым конопатым парнем, с двумя калмыками, Ягуром и Бурулом, чьи ноги кривы и сильны, как насталенные копытные щипцы, словно оба с рождения на колодезном вороте двадцать лет просидели, да с дедом Пантелюшкой по прозванью Борода, на голом сморщенном лице которого за весь век не пробилось ни единого волоса, оттого и прозванье — в насмешку.
Чумаков и калмыки учили его объезжать дикарей, чуять норов коня, понимать в лошадиных статях и изъянах, Борода же — лечить и ходить за конями. Словно девка в венок луговые цветы, выбирал в яслях былки духовитого свежего сена, перещупывал каждую, собирая в пучок; по спине лошадиной водил, как ребенка мочалкой оглаживал: гляди, мол, как надо — ты рожу не помоешь поутру, и то тебе противно, а коню чистота до зарезу нужна, дышит он не одной только грудью, как ты, а всей кожей.
Так и жить бы с конями, да только, вишь, и жеребцы за кобылиц друг с другом бьются, водят их косяками по степи за собой, покрывают красавиц, выделяют одну, возле которой по-особому тревожны и порывисты. Вон как Ветер кладет свою злую змеиную голову на лоснящийся круп белоногой Строптивой, трется храпом о гладкую кожу — скажи не человек. А оторви его от матки, привяжи — будет рвать тебе душу тоскливым, негодующим ржанием, будет биться в станке, перегрызет, бывали случаи, чембур и все одно уйдет за кобылицами.
Вот так и он, Роман, метался по ночам на нарах или голой земле, ощущая свое тело клеткой для чего-то слепого, бунтующего, клещами выворачивающего наизнанку. Неутолимое желание его имело только один образ — Дашки Колычевой, ее лица, прозрачно-синих глаз, всего ее тонкого, гибкого стана, так вьющегося в поступи, что больно посмотреть. Вот ведь как: с Гришкой, братом ее, насмерть бились, а Дарья вошла ему в душу, как сазану кукан под жабры.
Когда еще на выгоне приметил.
Белоголовая девчонка с огромными на худеньком лице пытливыми глазами смотрела на него с бесстрашной, вызывающей прямотой отвращения. Тогда и не было в ней ничего, кроме этих диковинно синих, пугающих глаз — лягушонок, цыпленок на худых голенастых ногах, но не мог поглядеть на нее прямо и немигающе. Почему-то вдруг делалось стыдно за свою рубашонку залатанную, за босые, покрытые цыпками ноги, а то вдруг нападала беспричинная радость, и ходил перед ней на руках, с казачатами схлестывался, выхвалялся, выказывал лихость.
А нынче выровнялась Дарья в удивительную девку. В поясе — кольцом ладоней можно обхватить, и вся как будто бы звенящая, натянутая в струнку. Высоко несла гордую голову в золотистом сиянии пышно-тяжелых, как заливы созревшей пшеницы, волос. А посмотришь в глаза — как ледяной колодезной воды с пятисаженной глубины глотнул. Даром что не казак, выделяла его, смотрела неотступными, насмешливо корящими глазами, как будто говоря: «Ну что же ты? Боишься? Вот я вся перед тобой. Делай со мной что захочешь. А вернее, на что духу хватит». И он молчаливо преследовал. А дальше их руки уж сами друг дружку нашли.
Сколько можно так вытерпеть — воровски пробираться к церковному саду, боясь нетопырей и мертвецов на кладбище, хорониться от всех чужих глаз и ушей, приникать дружка к дружке наподобие ложек, затиснутых одна в другую, и изнывать от невозможности дойти до последнего края, до того, без чего невозможно прожить ни единому существу на земле.
Целомудренная простота лошадиных сношений казалась Роману куда как честнее людской, боязливой любви, опутанной, как ежевичником, разнообразными условиями. Что ж, ему себя выхолостить? Оскотинеть — нарушить ее, на всю жизнь обнесчастить позором? Страшна участь девки, какая загуляет с казаком ли, с мужиком ли до свадьбы: коли станет известно, что уже не невинна, то всем хутором будут травить, мазать дегтем ворота, а то и поймают ребята в степи, побьют, изнасилуют в очередь, завяжут ей подол на голове, стянут руки треногой и выгонят в поле — и побредет она, слепая, запинаясь о кочки и падая, пока не выбьется из сил, а то и вовсе не сорвется в яр, ломая себе шею… Или, что же, посватать? Хуторского атамана дочь? Ему, мужику, гольтепе? Да самый захудалый казачишка сгонит с базу: «Пшел отсюда, мужик! В тебе казачьей крови — ни поганой капли».
А тут и Гришка, братец, подскочил на игрищах, как кочет, прихватил за рукав, глянул в душу: «Примечаю, ты с Дашкой. Покуда подобру прошу: отцепись от сестры. Шел мимо — иди. А нет — смотри! Ить девка, должон понимать. Как с женою тебе все равно с ней не жить — так чего ж ты? Попомни мое слово: откроется, что спортил ты ее, — не жить тебе на свете».
О том и думал, пришивая ременный чембур к недоуздку, как подскакал к артельной мазанке Сидорка:
— Ну, Ромка, сказать али нет? Сваты до Колычевых, знаешь?
— Откель же? — спросил с напускным равнодушием, ощущая, как кожа трещит на лице и над сердцем.
— Кубыть, из Багаевской. Халзановы, слыхал? Говорили тебе, атаман за нее не меньше, чем урядника, отхватит, а то и целого подъесаула. На скачки нынче побегешь?
Бросил Ромка чембур, подседлал Огонька. Задохнулся налетом горячего горького ветра, но внутри была горечь острее — самый-самый полынный настой. Безжалостно палило солнце, уж ставшее в дуб. Накаленная дымная степь, простиравшаяся желто-бурой верблюжьей кошмою от края до края, была пустынна и мертва. В задернутой текучим маревом дали родимый хутор показался вдруг Роману перевернутым: в расплавленном палящим зноем небе возникли странные подобия пирамидальных тополей и белой колокольни, которая огромным известковым капельником свисала с небес — зеленой маковкою книзу, как если б крест Спасителя, прикованный цепями к ней, был якорем, опущенным в струящееся голубое марево.
На выгон стекался народ — весь луг запрудило краснооколыми казачьими фуражками, павлиньими красками праздничных юбок, расшитых завесок, платков. Давно уж был офлажен пятиверстный круг и на кругу устроены препятствия: крестовины, двойной палисад, глухой, в два с четвертью аршина, дощатый забор, корзины из жердей и напоследок труднейшее из всех — высокий вал с глухой плетеной изгородью, за которой не видно канавы с водой, так что надо взять обе преграды зараз или уж зашибиться.
Прощупывая землю костылями, притащились горбатые и еще не утратившие молодой своей выправки, трясущие полуседыми бородами старики. По-совиному топорщились зеленые, словно патиной тронутые брови над тускло-оловянными бессмысленно-упорными глазами; шишкастые коричневые руки дрожливо утирали слезы, какие бывают у старых собак и доживающих свой век строевых лошадей; позванивали древние медали и кресты, приколотые к синим и черным сюртукам, просторно болтающимся на усохших плечах. Расселись на сооруженном для них деревянном помосте.
Народ гоготал, гомонил, уминался. Ребятишки стабунились у оградной веревки с навешанными красными флажками. Все глаза обратились на первых подъезжающих всадников — в лазоревых, розовых, красных сатиновых и шелковых рубахах, в казачьих фуражках со спущенными под подбородок ремешками.
— Погляди, Сидорей, — вытягивая черепашью шею из стоячего воротника мундира, пихнул старикан Буравлев локтем в бок огромного ссутуленного атаманца с печальными и мудрыми медвежьими глазами. — Навроде из моих гарцует, а?
— Алешка и есть. Хведота твоего меньшой.
— В мои кровя! Бедовый! А хистом, скажу, еще дюжее меня взял. На императорском смотру я первый приз за джигитовку снял — так и его хучь зараз перед самими их величествами выставляй.
— А энтот чьих же будет? — ткнул Евстрат Касалапов ногтистым прокуренным пальцем во всадника на буланом коне. — Не признаю отсель. Не Еланкиных меньшой? Али Волоховых?
— Экий ладный казачок, — одобрительно прицокнул атаманец Селиванов. — Будто Клюевых парень. По одеже видать, не из шибко справных.
— Да у Клюевых сроду таких коней не было! — возмутился Буравлев. — Мы с Мартыном-то, покойником, полчане были. Под Карагачем сгинул. В пики двадцать орудиев взяли! А Мартын сплоховал — за одним янычиром погнался, а второй его сбоку ссадил из ружья.
— Замолкни, балабон! — прикрикнул Касалапов, пристукнув по настилу ясеневым костылем.
— Чего это?
— Не об том ты толкуешь, — сказал медвежковатый Селиванов. — Казачок чейный вон, не угадываем. А ты, как слепая кобыла, в объезд потянул — Мартына покойного к слову приплел да ишо янычара с ружьем.
— Верховой энтот вовсе никакой не казак, а мужик, — подал голос Прокофий Попов по уличному прозвищу Хрипун. — Семена Леденева парень, соседа моего. Табунщиком в Привольном у Ашурковых.
— Куды ж он выткнулся, мужик?
— Куды конь с копытом, туды и рак с клешней, — гоготнул Касалапов.
— Так-то чем не казак? Вон как ладно сидит, даром справа худая на нем, — прогудел Селиванов, провожая Романа придирчивым взглядом.
Роман, в полинявших на солнце обносках, в бараньей шапке набекрень, вел взглядом по радуге бабьих платков, отыскивая среди лиц единственное Дарьино. Оглядывал и всадников. Гришка Колычев в краснооколой фуражке и распоясанной лазоревой рубахе проехал мимо, не здороваясь — на высоком гнедом дончаке.
Среди знакомых до прожилок хуторских казаков выделялся заезжий — на вороной красавице-кобыле, полукровке с англичанином, в шевровых сапогах и сатиновой синей рубахе. Чернявый, с ястребиным носом и тонкими усиками над верхней губой — как баба себе брови подвела. С завистливой жадностью, цепким взглядом барышника оглядел Леденев кобылицу под ним. Грудь глубокая, длинная, и передним ногам на аллюре ничего не мешает, зад прямой, малость свислый, ноги безукоризненно стройные, с длинными бабками, никакого размета, косолапины в них. С боков как бы сдавлена между грудью и крупом и еще больше вытянута — легка, как гончая собака. И послушна хозяину, как члены его собственного тела. С пофыркиваньем дергала, поматывала головой, косилась на того веселым, нежным глазом, могла б заговорить — так тут же бы спросила: «Ну когда же ты пустишь меня?» «Вот так и Дашка под него пойдет», — упало в Леденеве сердце, и опять ощутил, как задергались мышцы у него на лице.
Подъехал вплотную. Заезжий молодец почуял на себе его тяжелый взгляд и посмотрел в ответную — беззлобно и без вызова, широкими голубовато-серыми глазами. Глаза их встретились, и Леденев почувствовал укол небывалого, неизъяснимого чувства — не ревности, не зависти, не злобы, а будто даже страха: так конь вдруг пугается собственной тени и сторонится, избочившись, а то и шарахается, несет, забирая предельную скорость, чтоб оторваться от вот этой темной своей спутницы, стереть ее ветром, погасить сумасшедшим наметом, а отделиться от нее, несущей в себе что-то от тебя самого, как раз таки и невозможно — не раньше, чем солнце умрет. Было в этом граненом смугло-черном лице, и в глазах, и в фигуре такое, от чего будто в самой крови Леденева полузвериным бормотаньем предков ожило далекое, расплывчатое представление о потустороннем, изнаночном мире покойницких душ, невидимых бесов за левым плечом.
Роман не успел ни размыслить, ни даже разглядеть как следует глаза и лицо чужака — зазвенел медный колокол, и все поехали к меже.
Выравнивались долго, все время чья-то лошадь высовывалась мордою вперед…
Но вот ударил колокол, и разом сорвались. Вперед ушел Алешка Буравлев на светло-рыжей белоногой кобылице, за ним — табунком сразу пятеро. Распаленный кобылой, Огонек влег в поводья, и Роман с неправдивой, сновидческой легкостью обошел Кочетка и Степана Чувилина.
Саженях в пяти пузырилась надутая ветром рубаха Алешки, вилась в дурном нахлесте махорчатая плеть, не сходившая с рыжего крупа. Вихрилась горячая белая пыль из-под летящего хвоста, оседала на лицах и трепещущих храпах преследователей. Утоптанная хуторская толока на разрыв натянулась под всадниками, как на пяльцах платок, и по этой летящей навстречу нескончаемой глади прожигал на своей вороной кобылице чужак, клал наравне с Романом дробную, дымящуюся строчку. Рот его был ощерен, но лицо выше кипенно-белой полоски зубов и глаза оставались спокойными, как у зверя в засаде. «Придерживает, для препятствий бережет, — ворохнулась колючая мысль. — А я Огонька уж намучил — на хутор бежал во весь дых».
Взнялись над палисадом, и ни один не зацепил, и вот возник перед глазами, вырастая, и показался вдруг неодолимым двухаршинный дощатый забор. Над ним мелькнули задние копыта буравлевской кобылицы, и всем телом подался вперед Леденев, посылая коня на заплот.
Вороная взлетела в сажени правее, с двухвершковым запасом от точеных копыт забирая препятствие, но Халзанов уж слишком подался вперед, весь клонясь к конской шее, и кобылица высоко отбила задними ногами в воздухе, и повторяя это страшное движение, отбил шевровыми ногами и наездник, неимоверной силой вышибленный из седла. В неуловимый этот миг Роман увидел его в синей пустоте, в последней связи с кобылицей — на поводьях, никуда уж, казалось, не могущего деться, кроме как полететь через голову лошади, распахать носом землю, угодить под копыта или разом свернуть себе шею.
Но он еще не знал вот этого Халзанова. Оказался тот ловок, как кошка, которую хоть с колокольни швыряй: захватил лошадиную шею, повис по левый бок понесшей кобылицы, вытягиваясь в струнку над землей, и тотчас же метнул себя в седло, казалось, вовсе не толкнувшись ногами от земли, а только напружив, скрутив свое железное, сухощавое тело!
Отстал, конечно, от Романа, пока выравнивал да стремена искал. Поднабрали другие — Чувилин и Колычев Петр. Роман придавил Огонька, и рыжий зад Алешкиной резвачки начал приближаться с каждым махом. У Алешки рубаха взмокрела и прилипла к спине меж лопаток, и плечо Огонька потемнело от пота. Роман уже не чуял в нем запаса.
Халзанова не было видно. Роману хотелось оглянуться назад, но слишком был занят борьбою с Петром… И вот уже перемахнули все корзины, и тут в уши шилом вонзилось еще одно чужое конское дыхание — Халзанов пошел во всю силу своей кобылицы, которую до этого расчетливо прижеливал, и Леденев со злобой и стыдом увидел струны, комья черных ног — они ходили рычагами разогнавшегося паровоза, и вот уже под брюхом вороной мелькало восемь, двадцать ног, и храп ее резал Романа до самой середки.
На последнем препятствии все и должно было решиться. Не всякая лошадь идет на высокий лозняк, не видя, что за ним — все та же плоская земля или провал. Резвачка Буравлева не пошла. Рвал ей губы железом Алешка, силясь выправить вскачь на преграду, и, обернувшись с плачущим оскаленным лицом, покорился, сошел-таки с круга, чтоб налетающие следом не зашибли.
Всем своим чувством лошади, силы соперника Леденев предугадывал, что размахавшийся Халзанов не повторит своей ошибки, но видел, что встопорщенные уши вороной заломились назад, изобличая страх и нерешимость, — и потому, рискуя всем, придавил что есть силы, чтоб первым взвиться над канавой. Халзанов взлетел почти на два корпуса сзади него, но тотчас же стал набирать и вот уж вколачивал в землю копытами, рвал на себя, стирал с лица земли летучую леденевскую тень, как будто и из самого Романа выбивая частицу за частицей его силы.
Последние двести саженей, нахлестывая лошадей плетьми, они прошли вровень, как будто и хозяин, и тень один другого, и вот уж, полосуя себе сердце, Роман увидел уходящую вперед запененную морду вороной, пускай на волос, но вперед — так ему показалось, и сердце в нем оборвалось с ударом колокола, зайдясь от бешеной обиды и отвращения к себе…
Дарья все это видела. Земля под нею пошатнулась еще поутру, и вещее предчувствие неотвратимо надвигающейся новой, совершенно неведомой жизни с тех пор не отпускало ни на миг. С утра пошли с матерью в церковь, вернулись — у дома чужой тарантас, холеные, сытые кони немалый, видно, сделали пробег.
— Дашуня, рассказала бы, чего такого видела на утрене, — позвал с неожиданной лаской отец.
Пошла на зов в залу — за столом истуканами трое гостей-казаков. Друг в друга чисто вылиты: широкий размет властно сдвинутых на переносье бровей, носы крючком, окладистые бороды, удлиненный разрез твердых выпуклых глаз, внимательных и строгих, будто на иконе, но и пугающих своею волчьей студью. Один был, правда, безбородый, молодой, тонкоусый — повстречался с ней тотчас глазами, какими-то затравленными, но в то же время понуждавшими к повиновению, и на миг показалось: то Ромка поглядел на нее — с другого, смуглого, носатого лица.
Кровь кинулась ей в голову. Потупилась, сморгнула морок: да ну какой же это Ромка? Все чужое. Бирюк и есть, весь в батю с братом, даром что прилизался, как приказчик в бурьяновской лавке. По доброй воле под такого?.. По ласке в голосе отца, по каменной серьезности гостей все поняла и приготовилась противиться: не люб мне, и все, через себя переступать не стану, хоть вы режьте, — и в то же время думала о том, к лицу ли ей черная кружевная файшонка и как обхватывает стан сатиновая голубая кофточка, была в своем счастливом дне, доселе небывалом, поскольку чуяла непогрешимо, всею кожей, что и сваты, и сам жених признали: хороша.
Ну а Ромашка-то, Ромашка? Босиком еще бегали — выделяла его из оравы мальцов по особому взгляду дичащихся глаз, которые встречались с ее взглядом и тотчас убегали, но все преследовали и смотрели на нее с недетской выпытчивой жадностью и даже с выражением страдания, мучительного будто бы усилия понять, откуда она, Дарья, вообще взялась такая, и радостная гордость за себя опаляла ее изнутри, раскаляя лицо, даже уши.
Изначально заложенным и, наверное, рано проснувшимся в ней бессознательным женским чутьем угадала в босом мужичке того рослого, статного парня, на которого стали заглядываться все молодки и девки на хуторе, и казачки, и иногородние, и завидовать Дарье, присушившей его, горько жаловаться на свою незавидную долю: «На кого батя указали, под того и ступай», и восхищаться ее смелостью: «Ну, Дашка…» До чего только вот доведет смелость эта? Убежать с Ромкой в дикое поле? В калмыцкой юрте жить, с конями? Тут, в Гремучем? Невенчанными? До костей расклюют. Родные братья будут вслед плеваться. Вон уж Гришка и так напустился, вырвал Ромкин подарок, полушалок цветастый, — из-за пазухи вынула полюбоваться, дуреха: «В страму весь род наш ставишь, курица! До Фроськи Родимцевой выткнула, на люди! Далеко же у вас зашло. Сватов не сулился случаем заслать? Вот уж батя возрадуются. Поучат вожжами тебя… Смотри, девичья честь один раз теряется — всю жизню похилишь, обратно не выправишь».
А тут обвалились вот эти, Халзановы. Сваты до нее наезжали и раньше — и свои, хуторские, и из дальних станиц. Отец не неволил, да и свой интерес соблюдал: в мужья Дарье прочил не абы кого. Но теперь по тому, как почтительно он обращался с гостями, не то чтобы приниженно-угодливо, а именно обрадованно, вцепившись в старшего Халзанова, как собака в говяжий мосол, она со страхом поняла, что вот за этого чернявого отец ее будет выталкивать чуть ли не силой.
И вот она стояла у веревочной ограды, в толпе галдящего народа, и искала средь всадников Ромку — знала, что прибежит из Привольного. Нашла бок о бок с гостем — Матвеем, стало быть. Чужого занимал буланый Ромкин жеребец — точь-в-точь он и Дарью оглядывал в доме, занозистым взглядом барышника.
Дарья с недоуменным стыдом уличила себя, что поневоле сравнивает их. Схожи были и ростом, и статью, и даже в лицах было общее: высокие крупные лбы, обточенные плиты скул, крутые подбородки. Но коршунячий нос заезжего, и смоляной его курчавый чуб, и зло изогнутые угольные брови наотрез отличали его от Ромашки — от бесконечно уж знакомого лица, которое она исцеловала, исходила губами и пальцами, блуждая по лбу, спинке носа, глазам и будто открывая для себя какой-то иной его, тайный, одной только ей и ведомый образ.
Но с тем же темным, отстраненным недоумением перед собою признавала, что этот чужой, угрюмый, нахохленный, черный не только не противен ей — как думала сказать отцу и верила, что верит в это, — но и влечет к себе необъяснимой силой, как будто той же самой, что и в Ромашке, но и какою-то еще, какая только в нем есть, и если б повстречался прежде Ромки… Ромашка что — уже до донышка понятны были Дарье его упорно-неотступная к ней тяга, его почтительное восхищение, которое одно ему и не давало дойти с ней до самого края… но сколько можно так и чем у них все кончится?
Как перед скачущими лошадьми глухой лозняк, перед нею была неизвестность, и она могла с легкостью перемахнуть эту изгородь, выпуская на волю свое истомившееся естество, но в отличие от лошадей точно знала, что за этой последней преградой будет даже не яма, а беспролазная трясина всеобщего презрения и измывательства. А этот, Матвей, диковато-красивый чужак, мог оказаться и жестоким, и блудливым, как кобель, и вообще черт-те знает каким, но за ним были определенность замужества, соблюденный обычай, венчальный обряд, жизнь на прочных устоях.
Ее и впрямь уж разнимало надвое. И жалость к себе, и жалость к Ромашке, и даже будто бы уже обязанность не отступиться от него, и вместе с тем чувство их связи как мельничного жернова на шее — все это свилось в ней в один нерасплетаемый клубок, и разорвать его она могла, казалось, только умерев. «А кто зараз первый прискачет, под того и пойду», — проскочила в ее голове совершенно уж дикая мысль, и она со стыдом оттолкнула ее от себя. Что же, она, как кобылица меж двумя жеребцами, стоит и ждет, пока один побьет другого? А если он обскачет? А если Ромашка? И так, и так — мучение и страшно.
С неизъяснимым диким возбуждением, словно и впрямь ждала решения судьбы, следила Дарья за сорвавшимися всадниками, в числе которых были оба ее брата, но их-то она как раз и не видела.
Сперва ей было видно все: мелькающие ноги вытянутых в стрелку лошадей, набитые ветром рубахи, сведенные, как кулаки для удара, или страдальческие, как бы плачущие лица седоков… Потом все вытянулись в цепку разноцветных пятен, потом и вовсе скрылись за кургашком, потом возникли вновь — уменьшенные до размеров муравьев, стремительно меняющие очертания комочки, которые сбивались в один катящийся клубок, и снова разделялись, протягивая за собою шерстистые нитки поднявшейся пыли, как будто разматывая себя до конца. Но не размотались, а наоборот, метущимся под горку перекати-полем увеличились — один и еще три, несущихся вскачь наравне. Она не разглядела, а сердцем угадала Ромку средь троих, а где Ромашка, там и этот на своей чудо-птице.
Их лошади перелетали барьеры, как будто еще больше удлиняясь на дуге высокого прыжка, и вдруг всадник в синей рубахе взлетел над своей вороной вверх тормашками, как цибик сена на рогах взбесившегося бугая, но тотчас опять очутился в седле — с такой же естественной легкостью, с какой сорвавшаяся с крыши кошка приземляется на все четыре лапы, и сердце Дарьи, бьющееся в ребрах, как крылья стрепета на взлете, с опозданием рухнуло — не то от страха за него, не то, наоборот, в надежде, что сейчас он свернет себе шею.
Вокруг нее охали, гикали, взвизгивали, и вдруг в едином вздохе и онемении толпы она услышала как будто комариный звон, который тотчас перешел в пронзительно-визгливое, всю душу выворачивающее ржание. У самого забора трепыхалась вороная лошадь, рядом с ней неподвижно синела рубаха зашибшегося седока, и Дарье на миг показалось, что это Матвей, хотя и тот, и Ромка давно уж ушли от этого места.
То нахлестывая лошадей, то припадая к конским шеям в каком-то исступленно-заклинающем порыве, они летели так, словно хотели какою угодно ценою уйти на свободу один от другого, не дать один другому затолочь свою несущуюся тень во прах, и межу проскочили как один человек. Колокольный удар уравнял ощеренные зубы и раздувшиеся ноздри лошадей, вморозил их в прозрачный воздух, как по нитке. «Кто же первый прибег?» — спросила себя в тоскливой растерянности…
— Запалил ты его. Давай теперь вываживай, — кивнул Халзанов Ромке на хрипящего, носящего боками Огонька.
Роман посмотрел на него долгим взглядом, выражающим то, чего Халзанов, разумеется, понять не мог и понял, видимо, по-своему — как зависть обойденного на скачках.
Леденев понимал, что этот казак у него ничего не украл. Победу вот эту — уж точно. Но если б вот этот Халзанов и Дарью взял только своей личной силой, вошел в ее сердце, заслонил собой Ромку, тогда б и это было справедливо… да только ведь не сила человека, а вековой уклад всей жизни делал их неравными, одного прибивая к земле, как траву, а другого казачьим лишь званием вознося над мужицкой породой, отнимая у Ромки и выдавливая за приезжего Дарью, и вот это-то было невозможно простить, но и что с этим делать, тоже было неведомо.
Писарь выкликнул казака Багаевской станицы Халзанова Матвея, вторым — Петро Колычева, третьим — Ромку. Степенно поднялся хуторской атаман, держа в руках богато изукрашенный ракушками нагрудник и наборную уздечку, но тут случилось непредвиденное — сломав в презрительной усмешке губы, Халзанов плетью отодвинул полагающийся приз:
— Прощенья прошу, господа старики. Подачек мне не надо.
— Вот так голос! — Кременно-властное лицо Игната Колычева вытянулось в каком-то бугаином изумлении. — Кому же тогда?
— Ему. Он передним прибег, — кивнул чужак на Леденева через левое плечо.
— Мелешь, Матвейка, сам не знаешь чего, — сцедил сквозь зубы незнакомый пожилой казак, — должно, его, халзановский, отец, такой же крючконосый.
— Чего ж тут не понять? Недолюбляют казаки, когда мужик нас всех обскакивает.
— Бери, тебе сказано! — нажал отец глазами на Халзанова. — Все видели: ты передним прибег. А ежли не выбился, то и нисколько и не отстал.
— А ежли наравне, так и делите между нами. Чего ж вы его вовсе третьим поставили? Конек-то у него не шибко резвый, у нас с Петро куда добрее кони — стал быть, наездник лучше нас, за то ему и честь. Аль не по-правильному это, господа старики?
— Во норов, а?! — уже как будто восхищенно покачал головою отец его.
Приз порешили разделить: нагрудник отдали Халзанову, а уздечку Роману. Нарядную витую плеть вручили Петро, а голубую шаль с цветами — никому. Жаль только, Дарью разделить было нельзя, из одной нее двух цельных сделать.
XI
Январь 1920-го, Новочеркасск
— И что же дальше было? — спросил Северин старика Чумакова, когда тот умолк. — Ну с Дарьей-то этой?
— А за Халзанова-то и пошла. Он, Ромка, ить босяк был, а главное, мужик. Казаку это дюже непереносимо — свою дочерю за мужика выдавать, казачью кровь мешать с мужицким квасом. А Халзановы — род отменитый. И богатые были, как, скажи, полипоны, и служили исправно, боевыми геройствами завсегда отличались, а Халзанов Мирон так и вовсе ажник подъесаула на японской выслужил.
«Вот лицо казака, каким он был до революции. Темнота первобытная. Кровь! Из-за нелепых предрассудков да сословной спеси были вывихнуты жизни двух людей», — подумал Сергей.
— Что ж, она по родительской воле пошла, из-под палки?
— А это я не знаю, милый человек, чего и как она соображала, — ответил старик, помолчав. — Могет быть, отцу покорилась, а могет быть, и влопалась, про былую присуху забыла. Верно ить говорят, кошка — баба: кто последний погладил, к тому и ластится. Халзанов энтот добрый был казак: и статью, и лихостью — всем взял… кубыть, и по-бабьему делу… Ну вот и угадывай.
— А Леденев? — спросил Сергей о том, что ответа не требовало.
— Да что ж, обиду принял, стал быть. Она ить, почитай, его уже была — цветок-то лазоревый, на всем хуторе первая. Так-то будто бы и ничего — мало, что ли, красивых, да и жисть поперед лежит длинная. Да ить секли его у нас на сходе, Ромку-то, по энтому делу.
— Что значит? За что?
— Да вот слыхал, а правда ли, не знаю. Кубыть, и спортил ее Ромка до венца, а могет быть, намерился только, а тут как на грех случись рядом Гришка, брат ейный, и давай их обоих костерить на чем свет да Ромку за грудки — ну Ромка его и побил чуть не до смерти. Давно у них к этому шло. Ромка, он ить до чертиков гордый, а Гришка ему — ты, мол, хам, про сестру и думать не моги. Мы — казаки, хозяева́, а ты — гольтепа, гужеед, навоз тебе копать. Взыграло ретивое. Ну и прибегли за ним Колычевы к нам в Привольное — отец, атаман, да Петро, старший брат, — поймали Романа в степу и на сход. Да по пути, кубыть, арапником отделали. Иной, могет, после такого удовольствия вовзят бы Богу душу отдал, да Ромка крепкий. Тело что — заплывет, а на душе рубцы остались, сердцу в кровь засекли ему.
— Разболтался ты зараз чегой-то, старик, — сказал взводный Хлебников, подслушивавший чумаковский рассказ. — Узнает комкор об твоей откровенности — язык укоротит.
— А то ему нету забот окромя. Он до меня теперь, кубыть, не снизойдет — уже и не вспомню, когда крайний раз с ним гутарили. Да и так-то — быльем поросло. Уж сколько годков заследом легло, да каких: кровями народ изошел. Был Ромка-подпасок, а нынче вон — Роман Семеныч, красный генерал.
Сергей поднялся от костра и двинулся в глубь кирпичных казарм — искать самого Леденева… Тот резко сел средь спящих, жутковато бездвижных бойцов и во всю силу легких, непроизвольно-судорожно выдохнул. Посмотрел на Сергея невидяще, будто то, что приснилось, внутри него все продолжалось:
— Ты чего, комиссар? Не спится?
— Да уж как тут уснуть. Разговор есть. Сейчас, — потребовал Сергей придушенно, остерегаясь разбудить людей.
Не говоря ни слова, Леденев поднялся на ноги, накинул полушубок и пошел между спящими. Сергей последовал за ним в пустую комнатку.
Комкор повозился у натопленной печки, поставил на стол большой медный чайник.
— Вон пачка, вон стаканы, — сев за стол, навалился на локти и поднял на Сергея взгляд.
— Аболин где? — выдохнул Сергей.
Глаза Леденева не выразили ничего: на миг Сергею показалось, что тот и в самом деле давно уже не помнит ни о каком Аболине — еще одной своей копытной вмятине.
— Или как его там, товарища вашего? — не вытерпел Сергей. — Извеков? Ну?! Где?!
— Ты что же, не видишь — все время куда-то деваются люди. Подешевел человек за войну — ни креста над могилой, ни имени, ни воздыхания.
— Хватит! — хрипнул Сергей, не чувствуя ни страха, ни восторга вызова — одну только злость и омерзение к себе, не весящему перед этим человеком ничего. — Вы его… отпустили!
— Ну отпустил, — уронил Леденев вместе с пригоршней чая в стакан. — Дальше что?
— А дальше, что ж, вам за такое — ничего? И совесть молчит? Так и надо? Врага непримиримого… пускай опять нас бьет? Потому что товарищ ваш старый? А вот они все — кто же? не товарищи?
— Ты хоть что-нибудь делаешь сам по себе? Хоть раз в жизни делал? — Леденев посмотрел на него поверх дымящейся струи из чайника, и немигавшие глаза Северина под этим скучающим, всего про него уже понявшим взглядом начали подтаивать. — Не так, как тебе партия приказывает или ты думаешь, что совесть революционная тебе велит, — с кем по-людски ты должен обходиться, кого, наоборот, за человека не считать? Не так, как в книгах поступать предписано? Бывает же такое — жалко человека, пришелся тебе по сердцу, и все тут. Тебе — казни, а у тебя нутро не принимает. Или наоборот, вроде свой, а такая паскуда — ажник нечем дыхнуть рядом с ним. Ну хоть срешь-то ты сам? Как захочешь? Иль, может, тоже по часам? Хотя уж тут по нынешнему времени как раз приходится терпеть: хошь не хошь, а с коня не слезай, не смей орлом садиться в чистом поле: казак наскочит — быть тебе без головы. Да еще и в говне. Вот и вся диалектика.
— Вырвать такое сердце, которое долга не помнит. Что ж, если человек подчиняет себя революции, то он уже и не свободен? Что значит «сам — не сам»? Да я, если хотите, разве только родился не сам, а дальше все сам. Сам пошел в революцию, в партию, добровольцем на фронт. И партия прикажет — сделаю, потому как поверил и знаю свободным умом: врагов надо уничтожать. Таких, как он, непримиримых. Не слепо, нет, а именно что видеть, кто перед тобой. Вот есть у нас такой боец, Монахов Николай, так он у меня на глазах вчера убил пленного. Скальп, скальп с него снял, то есть кожу отрывал от головы… И я его должен судить — отдать ревтрибуналу. Но у него такие ж казаки убили жену и ребенка — он мстит.
— Кому мстит? — Тут Леденеву будто стало любопытно. — Всем казакам, какие есть?
— Не всем, а вот именно тем. Узнал он того казака — и о других его пытал, о палачах, которые там были, в его родной Большой Орловке. И как судить его, не знаю. По букве закона или по совести.
— Ты смотри, — в первый раз за все время Леденев поглядел на него будто и удивленно, — а я-то думал, у тебя нутро бумажное. Навроде чучела, газетами набит — что Троцкий в газете напишет, то к сердцу тебе и прилипнет.
— А у тебя она какая, душа-то? — Впервые Сергей сказал ему «ты». — У него всю семью убили — и не такие ли Извековы? Решили: восставшему хаму нет места на земле и детям его тоже. А ты — отпустить? Нет революции, Монахова в ней нет, а что твоей душеньке мило, то и есть революция? И все перед тобой трепещут — Бога нет, а ты есть? А я не буду трепетать и молчать не буду, слышишь? Они за тебя свою кровь проливают, да и не за тебя, а за народ, за счастье его, а ты их и не видишь, своих же бойцов. А кто ты такой? Народ тебя вознес, полюбил за талант — и что, все позволено? Нет, даже тебе позволено не все. Тем более тебе! Иначе это уж не революция, а диктатура одного. Да и не диктатура — пакостничанье.
— Ты спрашиваешь или обвиняешь? — спросил Леденев, пододвигая к Северину налитый до краев стакан, как будто вне в зависимости от ответа готовый разделить с ним этот чай. — Тебя зачем ко мне прислали? Грехам моим учет вести?
— А ты не греши! — непроизвольно рассмеялся Северин и с облегчением признался: — Да, учет! А ты как хотел? Ни перед кем отчета не держать?
— Что ж, до сих пор не рассудили — нужен я революции или более вреден? — На твердо спаянных губах комкора проступила какая-то ребячески-наивная, недоуменная улыбка.
— Каждый день революция заново судит, — отчеканил Сергей, подбодрённый вот этой растерянной, как будто и просительной улыбкой, казавшейся столь не присущей Леденеву.
— Ах вот как. А у кого бы эти самые бойцы вчера в метель на вал пошли?
— Так что, и все позволено?
— А ты мне запрети, — посмотрел на него Леденев, даже не презирая. — Прикажи, арестуй, зоб мне вырви, как Извеков хотел. И бери мои орды, за Дон их веди. Ну вот и выходит: каждый нынче у нас позволяет себе ровно столько, сколько вынести может. Власть ведь, брат, никому не дается — берут ее. А не можешь ты взять — по себе и не меряй.
— Так за что ж ты воюешь — ты, ты, Леденев?
— Да кубыть, и понятно, за что я воюю, коли уже воюю. Однако ж правда человек не лозунг — свобода, равенство и прочие права. Хоть кого поскреби — каждый эту свободу на свой лад понимает. Советская власть нам что посулила? Что каждого из нас услышит и учтет, кто раньше был ничем. Ну вот и послушай меня, а то ведь без меня и революции-то никакой не выйдет, тоже как и без каждого. А про Извекова забудь — пропащий он. Мы-то за будущую жизнь воюем, а он за прежнее свое хорошее житье, которое мы без возврата прикончили. Так что либо не жить ему вовсе, либо уж на чужбине, без родины.
— Вы совершили преступление, — упрямо сказал Северин, сам не чуя весомости собственных слов.
— Ну так донеси на меня куда следует. Тем, кто тебя ко мне прислал. Признаться, парень, не ждал я такого, как ты. В обиду не прими, но уж больно ты молод. За какие ж такие заслуги на корпус поставлен, да еще к самому Леденеву? Ты людей убивал?
— Вчера рубанул одного, — сказал Северин, озлобляясь. — Не знаю — может, и до смерти.
— А я уж было думал: ты в губчека какой служил. Там-то и отличался — людей на распыл пускал. Вон у тебя на контру нюх какой… Ты себя береги.
— Это как понимать?
— А так, что тебя, могет быть, лишь затем ко мне и прислали, чтобы в первом же бою прибрать. Вот приберут и спросят с меня тут же: куда это ты, деспот, комиссара подевал?
— Вы это всерьез? — не поверил Сергей, как в то, что собственный отец точит нож на него.
— Ростепелью пахнет, — сказал Леденев как безумный, перескакивающий с одного на другое. — Не удержит коней лед в Дону. Не пришлось бы до весны топтаться на этом берегу. А люди-то, вишь, перемаялись — и как же их, таких, вести? Вразнос пошел корпус, дорвался до водки и баб. Давай, комиссар, помогай своим воспитательным словом, а то ведь заспимся — и корпуса уже не соберем. Да Мерфельда найти — пропал куда-то.
«А ведь и вправду я предубежден против него, — раздумывал Сергей, пробираясь меж спящих. — Заведомо настроен: Леденев — скрытный враг, пока что сам себя не понимающий… Да если б меня в Москве не настроили, давно б уже собачьими глазами на него смотрел, как Мишка Жегаленок. Разве мог бы судить беспристрастно? Ну а что же я вижу? В сутки город забрал. Сто орудий, шесть танков. Кто еще бы мог так? Да, он любит власть, да и не любит, нет, а состоит из власти. Да, своеволен, дик и не отсек былых своих привязанностей. Но чего еще ждать от вчерашнего царского вахмистра? Свобода и власть в руках столетнего холопа — это штука не из легких. Вот так же и шахтера достань из-под земли — так он и ослепнет от солнца, ощупкой пойдет. Колодки с каторжника сбей — на четвереньках, зверем ползать будет. Когда еще научится ходить по-человечески. И у кого из нашего народа не разбитые ноги. Ведь пороли его — до сей поры спина горит. Унижение-то и загнало его в революцию. Ничем не ограниченная, не взнузданная воля. И надо загнать пар в котел. Забрать стихию в топку, в машину высшей цели, как электричество в стальные провода. Иначе же он сам себя сожжет…»
Сергей насквозь прошел кирпичную казарму и с наслаждением вдохнул сырой и пресный воздух. Ему и самому хотелось в город — увидеть Зою, милосердную сестру, и словно убедиться, что та не приснилась ему, и вправду на него обрушилась, внимая ожиданию одинокой души.
Спали под навесом, в телегах. Поозиравшись, Северин увидел серую фигуру и узнал в ней Монахова: тот двигался меж спящих неестественно беззвучно, не знающим успокоения и устали пришельцем из другого мира, обреченным скитаться в бескрайней степи — меж людей, у которых есть будущее. Вот он склонился над подводой, коснулся чьего-то плеча, и с подводы поднялся высокий, широкоплечий человек в защитном полушубке, нахлобучил папаху и будто под конвоем двинулся к конюшне.
Сергея взяло любопытство: прижимаясь к стене и скрываясь в тени, по краешку он пересек пустынный плац и, как в детских разбойничьих играх, подкрался к пустому станку.
— Слышь, земляк, дуру-то убери, — донесся из станка ленивый, сонный голос, — а то как бы я тебя не стукнул вгорячах.
«Это что у него? Револьвер? — жигануло Сергея. — Вот так сдал все оружие!»
— Ты в белых был? — ответил Монахов вопросом.
— Ну был, — зевнул неведомый Сергею человек. — Ты-то сам кто таков?
— А тот, кто сразу с красными пошел.
— Вона как. Да только Советская власть и нам грехи скощает будто. Не мстит казакам-хлеборобам, каких генералы сманули, — слыхал про такое?
— В Большой Орловке тоже был?
— И там был, — приглох отвечающий голос.
— Землей мужиков наделял, — подсказывающе надавил Монахов.
— Что был, не скрываю, — дрогнул голос в обиде и злобе. — А чтобы казнить… На то ведь охотников кликали.
— А не зятек ли твой Матвей Халзанов, сотник, выкликал?
«Колычев», — догадался Сергей.
— А ты кто таков, чтобы спрашивать?!
— А тот, кого вы там землицей оделяли. Вот зараз явился тебя поспрошать.
— Стреляй. Мертвяки, я слыхал, разговорчивые. Аль думаешь, на мушку взял — так я перед тобой и исповедуюсь? Ошибочка, товарищ. Привычный я к энтому делу, давно уж пужаться устал.
— Ну издыхай тогда без покаяния!..
Сергей уж было крикнул, но монаховский голос толкнул его в грудь:
— Скажешь — нет? Халзанов, он всем заворачивал?
— А ты в глаза его видал?
— Ты видал, коли родственник твой.
— Сотней нашей командовал он, а стояли мы целым полком. А что казаки озверились, так не его вина и не ему было сдержать. Кубыть и вы нас не особо миловали, а? Кто стариков-то наших на распыл водил, кто пленных рубил да казаков, какие об ту пору по домам сидели? Кто красного кочета в курени нам пускал? Ну вот и вышло — кровь за кровь. Заглонулись мы ею, и наши, и ваши. Чего же теперь — так и будем квитаться, пока хучь один шашку сможет держать? Так ить переведем друг друга начисто, гляди, и на семя никого не оставим.
— Я ваших ребятишек не давил и жен не насильничал.
— А я будто да?! — давясь не то слезами, не то смехом, всхлипнул голос.
— И где же он нынче, Халзанов твой?
— А ты поищи среди нас, — заклокотал, затрясся в смехе отвечающий. — Кубыть, и найдешь тута вот, под арбами.
— А ежели без шуток?
— Да какие уж шутки? Вишь, как она, жизня, чудно поворачивается: ишо энтим летом могли с тобой цокнуться, а зараз обои идем за Советскую власть. Гляди, ишо и спину мне прикроешь аль я тебя от смерти отведу.
— Халзанов — где? — повторил Монахов как машина.
— Спроси чего полегче, — ответил голос глухо. — Нет его, зачеркнул сам себя — на такое уж дело пустился. А не веришь — тебе же и хуже. Все одно окромя ничего не скажу.
XII
1911-й, станица Багаевская Черкасского юрта, Область Войска Донского
Война влекла Халзанова сильней всего на свете. Сыздетства ненасытно впитывал рассказы стариков о давнишних походах: как рубили под Ловчей баснословные полчища башибузуков, среди которых попадались черные, как ночь, словно сам сатана вызвал их из кипящей смолы на погибель всему христианскому миру, на свирепых конях, грызущихся промеж собой, как дикие собаки, с поводьями, унизанными человечьими ушами, как сушеными яблоками, с отрезанными головами, притороченными к седлам, — но какое же войско, хоть трижды будь адово, супротив казаков устоит? Как осаждали Плевну на глазах самого государя — и тысячами солнц скакали по горам и застили весь свет слепящим полымем гранаты, рождая такой трус и грохот, какого и гора Синайская не знала, никакие народы пред лицем Господним. Как покоряли снеговые перевалы, карабкаясь по каменным утесам, гладким как стекло, замерзая, срываясь и падая в пропасть так долго, что удара о землю уж было не слышно и даже не видно, словно в недра колодезя упорхнул палый лист. Как истребляли горские аулы с генералом Баклановым, которого не брали ни булат, ни свинец, а сам как рубанет — коня напополам.
На долю каждого в халзановском роду выпадала большая война или служба средь диких племен. Прапрадед Митрий отражал нашествие Наполеона и доходил до самого Парижа, о чем свидетельствовали три благоговейно сберегаемые, давно уж потускневшие от древности тарелки голубоватого фарфора, с круглых донцев которых смотрели жеманные, в одном как будто бы исподнем, полуголые красавицы. Прадед Федор ходил под баклановским знаменем, где, как в изножии распятого Христа, нашиты были голый череп и скрещенные кости. Дед Игнат был в турецкой кампании, заслужил два Егория и лишился руки, отпиленной по локоть полковыми лекарями. Отец, Нестрат Игнатыч, гонялся за персидскими контрабандистами, а брат Мирон всех превзошел.
За отличную службу в полку был удостоен направления в офицерское училище в Новочеркасске, одолевал учебу наравне с дворянскими сынами и, невзирая на глумливые потешки, одолел, был выпущен хорунжим и отправился в Маньчжурию. В войну с японцами ходил по вражеским тылам, был в знаменитом конном рейде с генералом Мищенко и вернулся домой целым подъесаулом, с офицерским Георгием, «клюквой» на шашке и даже правом личного дворянства.
Матвей торжествовал за брата и ощущал, как эту радостную гордость подтачивает чувство, похожее на зависть и обиду: уж не поздно родился ли — на его долю будет война?
Вся будущая жизнь была ему ясна, как звездный шлях при чистом ночном небе. Покрыть себя славой небывалых геройств, возвысив казачий свой род, служить царю, рубить его врагов, а потом или пасть смертью храбрых, или уж умереть от усталости жить, передав сыновьям свое честное имя.
А Мирон о войне говорить не любил и, только уступая настойчивым Матвеевым расспросам иль подвыпив, начинал рассказывать:
— Узкоглазые они, японцы, вроде наших калмыков. И воло́с на лице, как у бабы, так, усишки одни. На вид больше щуплые, но тягущие. И церкви в том краю калмыцкого манера — в три яруса крыши и стрехи кверху загнуты. Наскочили мы как-то на их батарею — и остался один офицер, на колени упал перед нами. Мы думали, сдается, а он как закричит по-своему да как выхватит шашку — попоролся от левого бока до правого. У их офицеров, говорят, так положено: в бою не устоял — должен сам себя смерти предать. Без чести не жизнь. Да только вот думаю я: честь-то честь, а с другой стороны поглядеть — ведь дурак.
— Это как же? — изумлялся Матвей.
— А никак не постигну: из-за чего мы с ними воевали. Мы ведь и в глаза друг друга не видали и не увидели б до самой смерти, а вот кто-то взял, подтянул нас одних к другим и скомандовал: «пли!» А чего нам делить? Он у меня, японец, чего-нибудь украл или я у него? Или тесно нам жить на земле? Им, японцам, положим, земли не хватает — на жалких островках судил им Господь обитать, а нам что ж, государю нашему — нешто мало России? В эшелоны наш полк погрузили: сутки едем, неделю, другую — без конца и без края земля. Вдвое больше народу, чем сейчас, наплодится — все одно будет вволю и лесов, и степей. За три века не вспашешь, а в горах — и железо, и уголь, и медь, и чего только нет. А за голые сопки с японцем сцепились. В чужом краю поклали свои головы, народу сгубили бессчетно и назад отступили ни с чем.
Чудно было слышать Матвею такое:
— Не все одно, кого рубить? Царев приказ вышел — воюй. Хучь турка, хучь японца.
— Кого рубить, быть может, и без разницы, а вот за что — совсем другой вопрос. Одно дело — за землю родную, за веру отцов. Хоть за пищу, как звери, — ниспошли Бог на землю невиданный голод. А на что нам те сопки? Зачем чужой земли искать, когда свою устанешь мерить? Нас на том конце мира побьют, а тут будут матери выть да бабы вместо сгинувших кормильцев в хозяйство впрягутся? Я, если хочешь знать, вот с этими вопросами чудок под суд не угодил. Так же мне говорили: «Ты казак, твое дело — рубить». Да только я, брат, не говядина, чтоб на убой бежать куда пошлют. А мне: «Молчать, отставить разговоры. Не твоего ума, служивый, дело». А их ума на что достало? На то, чтобы народ переводить?..
Но Матвей уже будто не слышал, все братовы вопросы смахивал с себя, как жеребец липучих мух и мошкару, мотая головой и бья копытом. До действительной год оставался ему… Тут-то бабка Авдотья и надумала внука женить.
Халзановы не первые в станице богачи, но все же отменитые. Породных лошадей косяк, быков восемь пар, десяток коров, под сотню овец. Курень под железом, в шесть комнат. Земли полсотни десятин. Нанимали работников — сеять, косить, убирать. Но мало кто в Багаевской догадывался, что заправляет всем этим хозяйством не Нестрат — благообразный, как старообрядец, казачина, — а Нестратова мать и Матвеева бабка, Авдотья. Дед Игнат был уже как дитя — и внуков-то, бывало, в упор не узнавал, — а она намотала незримые вожжи всей халзановской жизни на свою еще крепкую руку, помыкая и сыном, и внуками, словно коренником с пристяжными.
Матвея к себе призвала:
— Тут, внучек, вот какое дело. Посоветовались мы с батяней твоим и решили: вошел ты, милый мой, в свои лета, и одному на свете проживать уже зазорно трошки. Довольно тебе на игрищах баловаться.
— А служба как же, бабуня?
— Так в ней все и дело, чадунюшка. Уйдешь — и поминай как звали. Пустое место по себе оставишь. Мирон с семейством отделился, отец твой в летах — сколько ишо годов Господь ему отмерит, кто же знает. В дому завсегда должна быть хозяйка. Ить в ахвицеры метишь, как и брат твой. С действительной рази домой возвернешься? Оно ить, ахвицерство, нескоро дается. У Мирона-то двое уже, погляди. Ему теперь можно служить. Он на чужбине казакует, а семя его растет. В старину-то ить сроду парнями казаки служить не уходили. Брат-то твой на войне побывал — жив остался, уберегла его Заступница. А ежли ишо какая война на твою долю выпадет? На ней ить головы кладут. И что же — Бог тебя храни, — детишков не оставишь? Так ить и род переведется.
Ну бабка Авдотья! Наказала подумать, а сама уж невесту сыскала — указала: в Гремучий езжайте, у тамошнего хуторского атамана дочка в аккурат на выданье. Семейство почтенное, справное, породниться с таким не зазорно, да и девка, слыхать, всем взяла…
В Гремучий Матвей поехал с тупым равнодушием: ну окрутят с какой-нибудь — так венец не собачий ошейник, человека с ружьем не приставят, чтоб не давал тебе к другим притрагиваться. На девок он многих заглядывался, с жалмерками путался, но чтобы одна присушила его — не случалось такого.
Сидевший истуканом, поглядел на Дарью — от ответного взгляда заломило в груди, как студеного воздуха на Крещенье глотнул. А у нее уж и вишневый сок на скулах проступил — и от стыда, и от того, что увидала, какое восхищение в нем вызвала…
Через месяц стоял рядом с ней в переполненной церкви, давил восковой стебель свечки в руке и ощущал себя, как упряжная лошадь в шорах. Левая половина мира была отгорожена непроницаемой завесой — подвенечной фатой. И не то было боязно, не то, наоборот, напрокол жгло желание сдернуть газовую занавеску. И еще одна мысль — где-то в самой середке — безотступно точила: а вдруг нечиста? Угадал, что не в нем Дарья видела мужа, что не он, обвалившийся свататься, а другой потянул эту девку к себе, как колодезным воротом, и ночами не шел у нее из ума, когда его, Матвея, еще не было. Да и что тут гадать — Гришка все рассказал, новоявленный будущий шурин. До венчания синий ходил, хорошо, голова не проломлена — кто же это его убивал? А мужик тот, Роман Леденев, — на скачках с ним пришли ноздря в ноздрю. На скачках наравне, а с Дарьей как? Вдруг уже не догонишь? Вдруг у девки взял то, что Халзанову, мужу, положено? Кому об том доподлинно известно? Только ей да ему, Леденеву…
От знакомства до церкви он виделся с невестой всего несколько раз, и ни единого живого слова они друг другу не сказали до сих пор. В ней все отзывалось на его испытующий и оценивающий взгляд: снегириным румянцем загорались высокие скулы, руки сами собой теребили завеску, под кожей слышно вздрагивала кровь, глаза стыдливо потуплялись и прямо взглядывали вновь, твердо сжатые губы нет-нет и трогала усмешка над неестественностью их взаимного мучительно-тягучего молчания, но Матвей ясно чувствовал какой-то притаенный холод отчуждения, идущий от нее, как от горячей в солнцепек земли, леденистой в глуби, на дне пятисаженного колодезя.
Это не было страхом перед миром чужих, неизвестных людей, которые брали ее в свой курень, отрывая от матери, братьев, отца, это не было оцепенением перед самой глубокой переменой во всей ее жизни — перед событием, важней которого — только роды и смерть. Это не было обыкновенной оглушенностью происходящим, хотя внешне ее омертвение ничем не отличалось от пришибленности всех других невест, которых он успел перевидать…
Стояли, ходили вокруг алтаря, не сразу сумел насунуть кольцо на палец жены, поцеловал ее в прохладные и неотдатливые губы, живую, как утопленницу… переливчатый звон бубенцов, летящие с конскими гривами по ветру разноцветные ленты… трещали и стонали под коваными каблуками половицы куреня, полосовала слух трехрядка, вворачивались буравами в душу какие-то заупокойные взвизги гостей, на ухающих баб, ходивших в круговой, как будто кипятком плескали — и посреди всего вот этого неистовства ни живы ни мертвы сидели они с Дарьей, настолько же немые, неподвижные, насколько бешено и жадно радовались жизни все вокруг.
Когда Мирон — насилу прятавший улыбку дружка жениха — достал платок и протянул повенчанным: «Давай, беритесь за углы», повел в отведенную им, молодым, на ночь горницу, Матвей угрюмо думал все о том же: что делать с Дарьей, если та и вправду окажется нечиста?
Держался за конец платка, как малое дите за материн подол, и прислушивался сам к себе как к чужому: изобьет? сгонит с базу — пускай идет куда глаза глядят?.. И озлоблялся на себя: так что же он до самой церкви промолчал, не сказал: девка сгубленная, не беру, — шел под венец, как ярмарочный косолапый за своим вдетым в ноздри железным кольцом? В надежде — не тронул ее Леденев?.. А она что ж молчала, покоряясь родительской воле? Да не потому ли, что стыдиться ей нечего? Или ждет, что Матвей безропотно покроет ее стыд, побоится в страму ставить род свой, на весь свет сам себя ославлять? А что вусмерть забьет, не подумала? Каждый день ее будет втихаря поколачивать, потаюхою в гроб загонять?..
Нет, он не мог вообразить, как схватит ее за волосы, саданет головой о косяк, повалит на пол, станет бить, вонзая кованые сапоги в податливый живот. Он еще на пороге у Колычевых, в самый миг, как увидел ее, догадался: неспроста загнала его бабка Авдотья сюда, неспроста эту девку подсунула — не найти ему лучше, чем Дарья, и не надо искать, по нему одному и была она вылита.
Самолюбивый страх мужского унижения боролся в нем со страхом оскорбить ее несправедливым подозрением, оттолкнуть от себя. Он даже понял Леденева — настолько хорошо, насколько вообще возможно понять другого человека, — и удивлялся только одному: почему этот сильный и гордый мужик отступился от Дарьи так сразу? Впрочем, сытый голодного не разумеет. Босяк он, Леденев, — может, не захотел обнесчастить ее своей бедностью, нагрузить неизбывной нуждой, изнурить в колотьбе за кусок для себя и детей. А честь ее взять — захотел?..
Застыла на пороге.
— Ну что стоишь? Входи. Чего уж теперь? — позвал он зачужавшим голосом.
Подступила к нему, глядя в пол. Не вытерпев, вклещился в руку, усадил на кровать с собой рядом. Сжалась вся, словно кошка под чужой, незнакомой рукой, даже голову в плечи втянула. Пересиливая отвращение — и к себе, и к тому, что боялся открыть, — он осторожно взял в ладони ее голову, попытался откинуть фату и, запутавшись, зыкнул:
— Да сними ты этот нарытник к черту! Глаза твои видеть хочу. Как он тут у тебя?..
Сдернул морочный этот подвенечный покров вместе с белыми восковыми цветами — бесхитростно прямой, бесстрашный в своей обреченности взгляд ударил ему прямо в сердце, и по одним ее глазам, расширившимся так, словно застыла на дороге перед парою понесших рысаков, он тотчас понял, что она не тронута, и почувствовал стыд пополам с облегчением. Дыхание в нем вовсе пресеклось…
Ее безответно покорное тело казалось то ничтожно маленьким и слабым, и сердце заходилось от страха что-то в ней сломать, — то, напротив, всесильным в своей нутряной глухоте, и Халзанову чудилось, что толкается в мертвую, на пять саженей в глубь настуженную землю. Но тут она вдруг вытянулась в струнку, задыхаясь от переполнения и хватая ртом воздух, словно выныривала из воды на самом стремени… И, загнанно упав лицом в подушку, не сразу осознал себя, а после, жадно всматриваясь в ее оцепенелое лицо, владетельно и неуклюже трогал ее полуприкрытые глаза, крался, шел по ее золотым в керосиновом свете рукам, словно зверь, проводящий межу по земле, отделяя свое от чужого. «Моя, моя…» — убеждал он себя, но будто бы и вправду улавливал чужой, нетленный, невыветриваемый запах, словно этот мужик, не забрав ее девство, все равно обокрал его. Остался в мыслях Дарьи той любовью, с которой она нянчилась, как с куклой, когда была еще совсем девчонкой, и сама вместе с нею росла. Как будто все, что он, Халзанов, взял и еще может взять у Дарьи на честных мужниных правах, предназначено было тому темно-русому парню с тяжелым взглядом светло-серых глаз, смотревших на Матвея с завистливой тоской и запоминающей ненавистью.
«Ничего, заживем — выбью, вытравлю этого мужика из нее», — говорил он себе… Проходили недели и месяцы — обрела наконец-то дар речи, а ему все казалось, что в законной их близости неотступно присутствует третий, что не ему, Халзанову, а мужику шепчут что-то бессвязное ее раздавленные губы, что не его, а мужика видит Дарья текучими, неуловимыми в блаженном помрачении глазами.
Неужели бывает такое — принимать одного, а нутром, сокровенной своей женской сутью открывать другому, оставшемуся за десятки верст отсюда, далеко за пределами зрения, чувств, повседневных потребностей? Да что же в нем за сила, в этом мужике? Разве он, Матвей, порченый, квелый, урод? Да он девок к себе подзывал, как собак — любая сорвалась бы, только свистни. Может, сила того босяка — это лишь чистота первородного чувства и тоска сожаления о несбывшемся счастье, только право рождения рядом, в одном с Дарьей хуторе? Чего ж такого у него, Матвея, нет? Это, наоборот, Леденев в чистом поле живет, за чужими конями приглядывает, а Халзанов — хозяин земли. «Вот каким должен быть настоящий казак», — говорят про него старики.
Мужик этот будто и впрямь стал тенью его — в ту самую минуту, когда их взгляды встретились впервые, — и куда бы Халзанов ни шел, оставался привязанным к этой нестираемой тени, которую отбрасывал до самого Гремучего, и не только кидал ее, но как будто и сам выцветал до прозрачности, отдавая тому мужику свою силу, невзирая на то, что с костями владел этой девкой, давно уже своей женой.
Однажды ночью в поле он не выдержал. Лежа с Дарьей в телеге голова к голове, глядя в вышнюю иссиня-черную пустошь, засыпанную в глубь по куполу мерцающей звездной половой, с тоскливым стоном вытянул:
— Ну хучь слово скажи.
— Об чем же? — дрогнула она.
— Да вот как жить со мною дальше думаешь?
— А как живем?
— Да как покойники на кладбище, хучь вроде и живые. Были долгие ночи, а все одно летаешь где-то. Мне до тебя, как вот до этих звезд — кубыть рукой подать, а не дотянешься. Тут, на груди, тебя пригрел, а сердцем не угадываю. Что же, можно так жить? Как же это терпеть, когда твоя баба заместо тебя другого в мыслях держит? Ложится с тобой, а все одно через тебя как будто с ним? А я ить не конь, не бугай — людская душа в меня вложена… Ну, что молчишь? Не бойся, скажи — бить не буду.
— Скажу, как есть, — ударишь, ой, ударишь, — засмеялась она.
— Да говори уже. Всю душу мне своей молчанкой высушила. Как любила его, так и любишь? Да только что же это за любовь такая, что под меня пошла навроде как овца, а он тебя, выходит, сам мне отдал? Любовь — так и сбегли бы, а мне — «пропади, разнелюбый». Чего ж он тебя не украл, чего ж ты за ним не пошла? Или нужду не захотела мыкать с босяком? Детишек рожать в лопухах, как собака?
— А и ушла бы — веришь, нет? Да только последний разочек, как виделись с ним, Гришаку-то, брата, чудок не убил. Глаза как волчиные сделались — я таким его раньше не видела.
— Ну так и ушли бы тогда. А сами друг от дружки отреклись — я же и виноват получаюсь?
— А Гришка-то там и бы помер? Брат ить все-таки мне. Испужалась я сильно. Кругом никого. До дому я кинулась, на помощь покликать. Ему одному и бежать. А дальше уж как? Нельзя было ему на хуторе показываться — батяня с Петром за Гришку пришибли бы. Такая, выходит, судьба.
— А ежли судьба, то и быть его, этого Ромки, нигде не должно. Ни здесь, — коснулся Дарьиного лба, — ни здесь, — накрыл ладонью тугой ее живот. — Либо я тебе муж, либо ступай отсель куда глаза глядят — ищи своего мужика в чистом поле.
— Куда же мне теперь идти? Теперь уж все — беременная я, — сказала как будто не собственной волей, с неслыханной им прежде умудренной, печальной и доверчивой покорностью, которая рождалась где-то в самой глубине накрытого Матвеевой ладонью живота.
— Чего? — переспросил он, чтоб хоть что-то сказать.
— То, то… Старался ночами, забыл? — Она лежала неподвижно, глядела в безмолвную и недоступную звездную прорву. — А что Ромку забыть не могу, так в этом вправду ты и виноват.
— Вот так голос! При чем же тут я?
— А похожи вы с ним.
— Это как же?
— Душа в вас одинаково показывается. Иной раз в глаза посмотрю — ажник страшно становится. Кубыть, и не ты, а он поглядел.
— Ну, баба глупая! Душа! Ты, может, видишь плохо либо вовсе слепая? Да и слепые, говорят, не хуже отличают. Лицо-то каждому свое дается, да и голос. Халзанов я, Халзанов — ни с кем не перепутаешь. Как коршуна с селезнем, как тебя со старухой. Глаза себе им, Ромкой, застелила, а меня и не видишь, какой я. Обидно трошки, а?
— Ну и не слушай ты меня, глупую бабу. Одно твердо знай: теперь уж не денусь от тебя никуда.
— Дитем присушил?
— А ты думаешь, что — понесла бы, ежли б не захотела? — засмеялась она с высоты своего непонятного женского знания. — А Ромку забыть не могу — ты в этом меня не неволь. Не сохну по нему, не думай. Отрезанный ломоть обратно не прилепишь. Виноватая я перед ним: надежду подавала. Озлобился он. И раньше-то волком смотрел на казаков, а как ты объявился — вовсе бешеный сделался. Гришку чуть не зашиб — уж так бил, так бил… Что секли его, знаешь? В степу у табуна батяня с Петром изловили. На сход привели — весь хутор высыпал смотреть.
— За Гришку, что ль? Так, стало быть, за дело.
— За Гришку, за меня… что спортить хотел. Чтоб на казачий каравай не зарился, ветку гнул по себе. Такое-то в обиду не принять? И думать боюсь, чего сделалось бы, когда бы вместо Гришки ты ему попался. Оскорбил ты его.
— Это чем же? Чего я у него украл? Тебя, что ль? Или я виноват, что босяк он? Ты бедняк — так, могет быть, и я тогда должен от добра своего отказаться, колесной мазью рожу себе вычернить? Со мною, казаком, желаешь поравняться? Ну так и дотянись до нас, до казаков, — работай, служи. Наш род, халзановский, ить тоже не сразу в энту землю врос. Да и Мирон вон офицером не родился. А ежели ты палец о палец не ударил, чтоб выйти из нужды, то как же тебе со мной равно жить? Да ежли каждый так обидится и волком жить начнет, какой тогда порядок будет? — вопрошал и ответа не ждал.
Признание жены не то чтоб потрясло, а именно что прояснило душу, и он уже не понимал, как мог этот мужик безотступно владеть его мыслями, угадываться в Дарьином бессвязном бормотании, ощущаться на коже ее, на губах вместе с запахом горького ветра, парного молока и клеверного сена.
Матвей наконец почуял себя на свободе. Под уходящей ввысь и ввысь несметью звезд, как будто бы звенящих и окликающих друг дружку, мерцающих так густо, что места мертвой черноте уже не оставалось, рука его покоилась на дышащем заслоне Дарьиного живота, ощущая сквозь плотность холстинной завески тишину и покой потаенного роста. Только это и было всей явью, недоступно далекой, непонятной, как небо, и умещающейся под одной его ладонью, — а мужик, Леденев, не имел к этой яви никакого касательства. С таинственной своей неведомо чем на Матвея похожестью, на которой настаивала, как будто бы сама себе не веря, Дарья, мужик наконец зажил сам по себе, затерянный где-то в ночной непрогляди среди мигающих кумачных крапинок костров, — уже не человек и даже не тень, которая слилась со всем бездонным мраком, где и было ей самое место. Матвей волновался уже о другом.
Мать его умерла родами дочери, когда ему сравнялось девять лет. Родившаяся девочка не прожила и года — беззубый, сморщенный шафрановый червяк с похожими на ящеричьи лапки ручками и ножками. С тех пор вид беременных всякий раз вызывал в нем то детское чувство сиротливой беспомощности и трепетного страха перед смертью, перед возможностью ее в ту самую минуту, когда должна возникнуть новая, неведомая жизнь.
Воображать творящуюся в женском существе работу Халзанову было мучительно: человеческий плод высасывал из тела матери все соки, безмысленно и жадно, как трава из земли, вытягивал кровь, румянец с лица, иссушал, слепо рос, беспокойно ворочался, а в положенный срок так и вовсе казнил лютой мукой — каково же им, бедным, было жать из себя что-то уж невместимо огромное, больше самого чрева. Имей Халзанов над собой такую волю — и вовсе бы не прикоснулся к Дарье, чтоб не мучить безжалостным скрутом нутра, чтоб не слышать сверлящего душу безобразного крика ее.
Когда живот у Дарьи округлился, бесстыдно и бесстрашно-обреченно выпер в мир, а к похудевшему лицу пристыло выражение прислушливой, богомольной покорности, взгляд странно проясняющихся, отрешенных глаз все чаще начал обращаться внутрь себя, как к небу, Матвей вдруг понял всю свою ничтожность в сравнении с тем вечным, обыденно-простым и вместе с тем необъяснимым, что уже началось для нее и с чем ей предстояло совладать в одиночку.
Она со все большим трудом носила свое располневшее тело, держась за поясницу и с нескрываемой гримасой напряжения подволакивая то одну, то другую непослушную ногу; остановленная неожиданным подсердечным ударом, приливом боли в животе, хваталась за плетень и косяки, чтоб устоять. Порой по целым дням лежала на кровати, такая с виду слабая, что ей уже, казалось, не подняться, а по лицу ее, преображенному, проходила легчайшая рябь самых разных, переменчивых чувств, вызываемых связью с дитем: то тревоги и страха, то боли, то, казалось, напротив, признательной радости и мечтательного любования, словно уж различала лицо и улыбку того, кого носит под сердцем. А он, Матвей, теперь уже не нужный, необходимый в этом деле только на одну ничтожную минуту, не мог взять на себя хотя бы маленькую часть ее работы и даже близко к истине понять, что с нею происходит.
С первым снегом пришло извещение — Халзанову Матвею явиться в сборный пункт на третьи сутки Рождества. Подошел срок действительной службы. Облитые глазурью солнца и синевой безоблачного дня, нестерпимо сияли зеркальные волны сугробов. Холодный диск светила в вышине переливался радужными кольцами. По ледяной равнине Дона с шипеньем вились серебристые змеи поземки. Подымавшийся ветер перевеивал колкий крупитчатый снег, закручивал по улицам жгуты искристой снежной пыли, вздымал по буграм кипящую белую муть, но снежные просторы степи были светлы и чисты до самых горизонтов.
Похрапывал и фыркал на базу гнедой Алтын, беспокойный и злобный дончак-шестилеток, цвет и гордость халзановского табуна. Матвей с отцом перебирали справу: седло с окованными луками и зазубренными стременами, с коричневыми саквами и задними сумами, наборную уздечку, потники, попону, шипастые подковы, ухнали две пары сапог, две шинели… а из горенки варом тек Дарьин раздирающий вой. Кричала так, словно кусками отгрызали внутренности, ноги: «Ой, не могу! Ой, смерть!..» — и Матвей проникался таким отчаянным, щемящим страхом за нее, что и на волчий голос нельзя перевести, но и ощущал необъяснимую покорность и даже свою непричастность к тому, что совершалось там, за дверью.
Когда же взвинчивающий Дарьин крик, дойдя как будто до последнего предела напряжения, наконец оборвался, Матвей не мог поверить собственному слуху, боясь пойти и расспросить, чем кончилось.
Бабаня с повитухой допустили его к Дарье лишь под утро. Без кровинки в лице, она непонимающе взглянула на него опухшими, потусторонне-задичавшими глазами, признала и смотрела, уже не отрываясь, желая и не в силах улыбнуться. А потом он услышал настойчивый, неугомонный, повелительный крик непонятно откуда возникшего нового, будто еще не человеческого существа, ничего не терпящего, не понимающего и ни с кем не желающего договариваться. Все должны были нежить его, согревать и кормить, по первому же требованию засовывая ему в рот сосок, а он только и знал что требовал и того, и другого, и третьего, до режущего визга оскорбляясь на малейшее пренебрежение к себе.
Ничтожно маленький, он был цвета вынутого из горна железа, остывающего под слоем окалины и пепла, — казалось, вся Дарьина кровь перешла в пылающее тельце с морщинистыми скрюченными лапками и белесым пушком вдоль спины. Головенка, поросшая, как кукурузный початок. Прижатые уши, нос пуговкой, беззубый рот с широким языком. Зеркально-синие глаза глядят с таинственной спокойной умудренностью, с такой снисходительной важностью и как бы властительной скукой, как будто парил в недоступных надзвездных пределах великие тысячи лет, а потом уж явился на эту голубую и снежную землю.
Матвей со странным чувством отчуждения и с щиплющим волнением смотрел, как сын шевелит складчатыми ручками и потирает задом крошечных ладоней свои непроницаемые синие глазенки. Понять, что вот он, его сын, что скоро они с Дарьей как-то назовут его, было выше халзановских сил. Жить дома ему оставалось одиннадцать дней…
Почуневшая Дарья выпрастывала из рубахи каменную от избытка молока бело-желтую грудь, давала Максимке сосок и вздыхала:
— Да будь она проклята, служба твоя.
— Ну не на век же ухожу. Моргнуть не успеешь, как в отпуск приду.
— Старики про войну говорят. Второй уж год в станице одни казаки нарождаются. И у Нюрки Матвеевой, и у Глашки Сакматовой двойня. И в Гремучем у нас, и по соседним хуторам. Верный знак — быть войне.
— А ты стариков больше слушай. Сколько живу, столько и слышу: будет мор великий, будут в небе железные птицы летать и людей, как арбузы, расклевывать. Им, старикам, уж помирать пора, чуют, что скоро в землю, — вот и нас, молодых, туда тянут, страшной смертью пугают. Видать, уж очень им желательно, чтоб остальные тоже света божьего невзвидели. Всё гробовой доской накроется — тогда и им, должно быть, помирать уже не так обидно. Всё страх перед Богом наводят, неправильно живете, говорят, а сами будто не бесились смолоду. Кого ни возьми — что ни жадней к грехам прикладывался, тем крепче за Бога под старость хватается да Страшным судом всех стращает. Доживем мы с тобой до их лет — тоже будем пугать молодых, а они нам смеяться… А война — что война? Тоже жизнь. Даже, может, и краше еще… А вот так — много ты понимаешь…
В третий день Рождества, на морозном рассвете он заседлал храпящего Алтына, поцеловал Максимку в лобик и метнул себя в седло. Окинул взглядом баз и будто кованный из серебра курень. И резные балясы, и окна, заросшие инеем, и жестяные петухи на крыше, и сараи — все показалось ему маленьким, игрушечным даже.
Дарья молча пошла, ухватившись за стремя и смотря на него снизу вверх. Из соседних дворов выезжали казаки-одногодки, дружки, ревниво сличая чужих жеребцов со своими.
— Никак с собой жену надумал взять? — насмешливо крикнул Матвею Федот Коновалов, и Дарьина рука покорно отпустила стремя.
XIII
Январь 1920-го, Новочеркасск
Вместе с красной ордой прикочевала в стольный град Донского Войска нежданная средь Рождества, парным солонцеватым духом крови дышащая ростепель. Пьяным запахом шалой весны потянуло по вымершим улицам. Запарились подтаявшие, набухшие споднизу пресной сыростью сугробы, и мокро зачернели оголившиеся мостовые, зазвенела по жести капель, загремели, срываясь, сосульки, заручьилась вода, полня улицы клекотом… И вместе с этим пьяным запахом, стеклянной звенью, клокотанием, вместе с известием о том, что Первой Конной взят Ростов, во всех трех бригадах леденевского корпуса как будто распрямилась сжатая пружина, и вместе с талыми ручьями выхлестнулись в улицы потоки леденевцев, ломясь прибывающей полой водой в ворота и двери домов, выплескивая, низвергая с верхних этажей обломки сокрушенного домашнего уюта.
Перед глазами у Сергея на мостовую рухнул целый мюльбахский рояль, исторгнув смертный взрыд и выпустив наружу извитые обрывки лопнувших, конвульсивно трясущихся струн.
Еще не раскисли продолговатые рубцы могил, еще не закопали всех расстрелянных за оставление позиций, пьянство и шатания, как толпы живых, распоясанных уже вовсю творили то, за что Леденев лишь вчера приговаривал к смерти. Разбивали пакгаузы, склады, ворота винных погребов, дырявили цистерны спирта из винтовок, высаживали днища из огромных бочек с драгоценными винами, подставляли под бьющие струи котелки, ведра, пригоршни, шапки, взбирались на цистерны зачерпнуть и, опрокидываясь в люки, утопали, купались, шли грудью, бродили по колено в густо-красных реках, припадали и пили, будто лошади на водопое, и туда же валились ничком, натекали, как тряпки, всплывали, как падаль.
Горланили похабные частушки, резали «саратовскую», выбирая мехи до отказа, ударялись вприсядку, выделывали казачка, ходили колесом по площадям.
Носились гривастыми вихрями в улицах, высекая подковами синие искры из речных голышей, задирались, сцеплялись, бились в кровь с подошедшими красноармейцами двух стрелковых дивизий, называя их пешкой и вшами, в то время как те называли их блохами.
Жгли костры из расколотых в щепки столов и комодов в разгромленных господских, чиновничьих, купеческих домах, варили кондер в походных котлах и жарили мясо.
Громили магазины на проспектах, рвали штуки сукна, ситца, шелка, волочили охапки пальто, женских юбок, чулок, кружевных панталон.
Первобытно-звериное было в этом бурлении и шатании толп — ликование смывшего все огорожи и пошедшего вскачь табуна, и Сергей заражался этим плещущимся через край возбуждением, ощущая, что он никакой уже не корпусной комиссар, сын земского врача и доктора медицины, читавший Маркса, Горького, Толстого, а будто бы такой же взбудораженный весною и кобылицами в охоте жеребец. Хотелось влиться в эту киповень, пойти, обнимаясь за плечи с бойцами, ломиться в чужие квартиры, в глухую, довольную, сытую жизнь, в изящество культуры, в цивилизацию горячих ванн, обеденных правил и теплых сортиров, енотовых шуб и жилетных часов, крушить, колошматить, рубить зеркала, китайские вазы, портьеры, рояли и даже — никакого «даже» — книги… не потому, что те украдены у этих голодных и темных людей, а лишь затем, чтобы пьянеть, раскаляться и полниться силой… Но вот впивался в уши женский вскрик, и Северин как будто просыпался — бросался коршуном на горца, партизана, выдергивал из кобуры наган, стрелял поверх голов, крича: «Не сметь!..»
Когда б не Жегаленок и Монахов, его бы самого, быть может, пристрелили, стоптали на своем пути, как понесшие кони… Насилие над женщинами, впрочем, было редкостью — во-первых, может, впрямь из одного лишь страха перед Леденевым, во-вторых, потому что победителям досталось множество «княжон», «маркиз» и «баядерок» из офицерских бардаков.
Сергей искал Мерфельда — ему указали на дом в ропетовском стиле, так называемое заведение мадам Бочаровой. Стоящее на задних лапах чучело медведя, тяжелые портьеры, тюлевые занавески, кривоногая штофная мебель, ковры… Гремел «Собачий вальс», переливающийся в «Полечку-трясучку», дрожали пол, посуда, зеркала, разило спиртом, табаком, духами, паленым волосом, горячим утюгом и чем-то еще будоражаще-гнусным — похоже, скученными женскими телами, парными и вонючими, как мясо только что забитых и освежеванных коров.
Какой-то незнакомый белявый командир отплясывал камаринскую прямо на столе, раскидывая руки, выкаблучиваясь, сбивая бокалы, бутылки… Вокруг гоготали комэски, начснабы, бойцы, держа на коленях и тиская «барышень». Холеные руки и плечи, истоки тяжелых грудей, удавленно распухших, вылезающих из кружев, как опара из квашни, облитые шелками окатистые бедра, высокие ноги в ажурных чулках, уплывающе-шалые взгляды подкрашенных глаз, кровососуще-окровавленные рты — все хлынуло разом, как через пробоину, не давая вздохнуть, пронырнуть, упереть взгляд во что-то другое, закручиваясь, стягиваясь на Сергее в какой-то плотский узел, забирая его, как трясина.
Все жило напоказ, все ощущало на себе его голодный, свежий взгляд, заученно потягивалось, улыбалось, зазывало, дыша равнодушной готовностью даться… «Да им же все равно, — кольнула брезгливая мысль, — что мы, что офицеры, и нам, выходит, тоже…» Но вместе с отторженьем накатило, глуша и полня кровью, ничем не подавляемое возбуждение.
Во главе стола — Мерфельд, в самом деле теперь Мефистофель, со своей заостренной бородкой, рогатыми бровями оперного демона и невидящим взглядом пресыщенных глаз…
— А, Сергей Серафимыч… Решили вспомнить гимназические годы? Или пришли наставить на путь истинный? Взыскать по всей строгости революционной морали?
— У самого должна быть совесть, а если нет — чужую в вас не вложишь, — сказал Сергей как можно холодней, косясь на красивую стерву, сцепившую руки у пьяного начоперода на плече.
Она смотрела на Северина зеленоватыми кошачьими глазами, как будто знающими про него что-то самое стыдное.
— Это верно, — согласился Мерфельд. — Кому что дано — кому совесть, а кому лошадиные чресла, как у Гришки Распутина. — Девки прыснули смехом. — Есть, знаете ли, в некоторых наших комиссарах что-то скопческое — с Шигониным успели познакомиться? Одна у них женщина — революция. Так и должно быть, скажете? Одной ей служить? Да только ведь женщина, а? Грядущая жена. Могучих лишь одних к своим приемлет недрам… готовая дать плод от девственного чрева. А эти чем могут ее, простите, оплодотворить? Вот она и принимает одного Леденева. С ним в щедром сладострастии трепещет, в то время как эти лишь слюни пускают. Не можешь любить — тогда остается святым быть. А вернее, монахом, инквизитором, иезуитом. Других принуждать пожертвовать всем, чего самому не дано. И все-то у них должны быть железными. И все-то живое, что есть в человеке, — порок. Кровь лей, и свою, и чужую, а семя — не смей. Ведь если оплодотворить не можешь, то тут-то, милый мой, и остается единственная сладость — кровушка. И власть над любым, с кем бабы идут, над всяким, кто сильнее, даровитее тебя. — Мерфельд был уж так пьян, что как будто и трезв.
Сергею на миг показалось, что перед ним не красный командир, начоперод прославленного корпуса, а все тот же Извеков со своим бесконечным презрением к большевикам.
— Ну что же вы, присаживайтесь. Или брезгуете? Сам такой же монах? Хотя, возможно, и святой, не исключаю.
— Мне, может, штаны снять и доказать вам тут обратное? — нашелся Сергей, вызвав хохот. — Комкор уже сутки найти вас не может.
— Ну если комкор, тогда совсем другое дело. Я, признаться, его ведь и вправду боюсь.
— А по мне, так ничьей уже власти нет в городе, — сказал Сергей, садясь за стол и бешено расстегивая душный полушубок. — Упились, опустились до зверского образа. Предприми сейчас белые рейд…
— Ошибаетесь, Сергей Серафимыч. Пожелай Леденев — в два часа будет корпус. Все встанут, даже мертвые. Причем повинуясь как раз тому самому табунному чувству, услышав призыв своего вожака, поскольку чувство это, так сказать дочеловеческое, в любой живой твари сильнее всего. Страх одиночества и смерти, совершенно неизбежной, если ты отобьешься от массы, вожака своего потеряешь.
— Так почему ж он это допускает?
— Потому что он знает закон человеческих масс. Знает, что человек не святой. А если и святой, то не всегда. Четыреста верст шел он к этому Новочеркасску, желая отогреться, жрать и женщин. Человек может вытерпеть многое, все вообще, но не может терпеть бесконечно. Ему, как пружине, необходимо расслабление, и тут уж с какой силой давят, с такой-то он и распрямляется. У русского человека, как видно из истории, вообще лишь два вектора — самопожертвование и саморазрушение, а середина между святостью и скотством ему скучна, неинтересна. Мы нынче ведь рай на земле построить хотим — на меньшее не посягаем.
— А сам-то он кто, Леденев? — спросил Сергей, рассчитывая на откровенность кристально пьяного и говорящего лишь правду человека. — Монах? Святой? Диктатор? Большевик?
— А именно что русский человек, — ответил Мерфельд. — Из тех самых русских, что вечно недовольны и даже несчастливы тем, что дано. Которые не примирятся, что долей их должно быть только то, что Бог им послал, — одна только эта, как есть она, жизнь. Такие-то русские и бежали на Дон от бояр и пускали здесь корни того, что нынче называется казачеством. Такие-то и шли конквистадорами в Сибирь, такие-то и были, ежели хотите, первыми большевиками, точнее революционерами, то есть отрицателями всякого насилия над собой и своего бессилия перед судьбой.
— Товарищи красные гусары! — вдруг со слезою и восторгом крикнул незнакомый командир. — За героя революции, комкора Леденева! Стоя! До дна!
Стряхнув с себя обвившиеся руки проститутки, начоперод поднялся, словно куст бурьяна из-под снега, и, прихватив с собой бутылку, не говоря ни слова, пошатался к выходу. Сергей толкнулся следом.
— Не в службу, а в дружбу, Сергей Серафимыч, полейте, — попросил его Мерфельд, склонившись над фаянсовым тазом. — Лей-лей-лей, не жалей!.. А-ы-ых, хорошо!..
— А на вопрос вы все же не ответили, — сказал Сергей, когда начоперод растерся полотенцем досуха и начал застегивать френч.
— Какой? О Леденеве? Вы напрасно, Сергей Серафимыч, рассчитываете на мою пьяную искренность. Я, кажется, и так наболтал много лишнего о вашем славном ордене. Впрочем, если хотите, по-моему, он большевик. И даже больше большевик, чем все наши политкомы, вместе взятые. В отличие от этих болтунов он все говорит своей жизнью. Дает красоту, как он сам выражается.
— А зачем она, эта его красота? Чья, чья она, если хотите?
— А чей, извините, рентгеновский луч? Концерты Рахманинова? Орловские лошади? Все эти явления названы по именам своих создателей, но станут достоянием всего освобожденного трудящегося человечества, не так ли? Ну вот и его красота, по-моему, очевидно наша, красная. Или вам представляется, он такой же дальтоник, как эти вот дамы: что под белых вчера, что под красных сегодня — все один кусок хлеба?
— Речь не только о белых и даже совсем не о них… — начал было Сергей.
— А-а-а, вот он что, — с презрением выцедил Мерфельд. — Ну а как вы себе представляете армию без диктатуры? Тут уж, как ни крути, каждый взводный — тиран. Да, ему нужна власть, абсолютная. А иначе не мы будем в Новороссийске, а Деникин в Москве. Леденев — это власть, сущность власти, Леденев — это воля никого не жалеть, ни себя, ни других. А наши комиссары хотят стоять над ним: направлять его, требовать, прямо им помыкать — и чем тогда, простите, отличаются от царских воевод, против которых восставали мужики?
— Ну, знаете… — выдохнул Сергей.
— Нет, не знаю, не понимаю. Просвещайте, воспитывайте, разъясняйте темным мужикам марксистское учение, проповедуйте евангелие… Да, да, на примере евангелия разъясните им сущность, правду социализма, поскольку Библия для них доступнее всего. А Леденеву предоставьте власть, военную, поскольку у него вот эти темные, животные в своих желаньях мужики уже два года как стоят за революцию и умирают за нее, за тот социализм, в котором ничего не понимают. А может, больше нашего, наоборот, — не умом, а нутром-с…
На улицах хлопали выстрелы, в стеклянной звени сбежистой воды, в копытном цокоте ревели, хороводились, толклись, навесив на руки торгуемое барахло, трясли перед носом собратьев бренчащими гроздьями жилетных часов, которыми сами себя наградили за храбрость.
— А отчего ж вы его так боитесь? — спросил Северин, когда они вышли на улицу.
— А вы нет? — усмехнулся Мерфельд. — А на вашем бы месте стоило. Вы ведь понять его хотите, заглянуть ему в душу. Я, знаете, однажды тоже попытался… ну, покороче с ним сойтись. Заговорил с ним о семье, о женщинах — не хочет ли он начать новую жизнь с новой женщиной. Так он мне сказал: еще раз заведешь об этом разговор — убью. И он не шутил. С ним страшно говорить о прошлом и о будущем. Представить страшно, чем он будет жить, когда кончится эта война. Ну разве что новой войной — со шляхтой, с англичанами, с японцами. В нем не то чтобы не осталось ничего человеческого, но человеческих желаний — в нашем понимании — любви, семьи, детей… он все это потерял. Да и не потерял, а именно отдал. Пожертвовал для революции. Вы думаете, много ему радости вот в этой его власти? Нет, власть — это невозможность никого жалеть, и первым делом собственное счастье. Ну и как же прикажете мне не бояться его? Себя, свою любовь не пожалел, а меня пожалеет?
Разговор оборвал вестовой, доложивший, что Северина ищет Сажин, просит срочно прибыть в атаманский дворец для описи экспроприированного «буржуйского имения». Сергей поехал с ним, раздумывая обо всем услышанном от Мерфельда, и вот очутился в заповедной пещере. В сиянии свечей отблескивали ограненные прозрачные и золотые на просвет, рубиновые, изумрудные, сапфировые камни, браслеты, медальоны, перстни, ожерелья, сгребенные в кучки, подобно куриным костям, скорлупе и лузге. Ковры из старых денег на полу. Столбы из золотых монет впритир друг к другу. Начальнику особого отдела Сажину не хватало лишь конторских нарукавников. Он и двое подручных бесконечно считали монеты и вели опись брошей, камней — пальцы были в чернилах, и в глазах уже тлела тоска.
— Вот, Сергей Серафимыч, моя золотая могила. Это ж сколько скопили на рабочем горбу, живоглоты, и то, верно, только остатнее, чего увезти не успели, — в Дону, наверное, боялись утонуть.
— Так что ж, это красноармейцы сами вам несут? — Сергей увидел уж не сказку, а воплощенное проклятие труда, как будто от всего очищенное вещество наживы, сгущенную до твердости металла душу чистогана, те пот и кровь, которые, как в алхимических ретортах, превращались в это золото.
— Эх, скажете тоже. А то будто не видите, чего они — сами. Перекинул через седло мешок и пошел. Женщин вон на свой счет одевают. Их бы всех поскрести — так еще ровно столько же будет. Мало, мало сознательных. Они ведь в своей массе рассуждают как…
— Слыхал уж: у буржуев взять не грех.
— Ну вот видите. Наше — значит мое, а до высшей идеи мало кто подымается.
— Ну а если тряхнуть, — сорвалось у Сергея. — Или что, притворимся незрячими?
— Эх, Сергей Серафимович, — вытянул Сажин страдальчески. — Тряхнуть — это знаете сколько вопросов? Кого тряхнуть? Геройского бойца, который своей крови не жалел? В чем же он виноват, если нам поглядеть на него через его босяцкую житуху? Он ведь, такой-сякой, поди, по десятому году батрачил с отцом и сытым отродясь себя не помнит. Вот он и понимает, что ежели прихватит золотой цепок да все его товарищи чего-нибудь возьмут, то вот оно и равенство… Так, сердечко, с бантиком… А-а-а! не могу больше!.. Пропало бдительное око революции! Ослеп я от этого блеска! Ну найди же ты мне ювелира, Соломин, я тебя умоляю… Вот и выходит, Сергей Серафимыч: судить по всей строгости каждого — с кем же останемся? Кого в бой вести? Леденев же и спросит: куда подевали людей? Первостепенная задача-то какая, — кивнул на повешенный кем-то плакат: рабочие, крестьяне и матросы вонзают штыки прямо в пасть безумно-пучеглазому дракону, обвившему чешуйчатым хвостом громаду фабрик, — и надпись внизу: «Смерть мировому капиталу!»
«Странный чекист. — Сергей пытливо вглядывался в простоватое, одутлое лицо, в запавшие, расщепами глаза, не выражающие ничего, помимо терпеливого согласия со всем идущим, как оно идет. — Какая уж тут твердость? Мять станешь — костей не найдешь. На горьковского Луку похож. Все видит — всех оправдывает и будто бы и прав кругом в своем неосуждении».
— А если не судить, — сказал, — а именно тряхнуть? Потребовать, конфисковать? Приказом по корпусу?
— А это вам второй вопрос, — пошли от уголков сощурившихся глаз смешливые морщинки. — Кто будет трясти? Какой-такой силой и властью? Что, взводом комендантским? Штабным эскадроном, который сам же больше всех нагреб. Над каждым часового не поставишь. Ну вот и остается воспитывать партийным словом. Может быть, у кого-то глаза и защиплет.
— А если Леденев прикажет?
— Он может согнуть, — признал особист. — Да только он ведь сам такой.
— Какой «такой»? — впился Сергей.
— Опять же сами видите, наверное, — уклончиво ответил Сажин. — На первых-то сутках, как город забрали, в кулаке всех держал, контратаки от белых стерегся, а потом распустил, отдал на разграбление город. Видит: изголодались бойцы — надо вознаградить, показать им свою справедливость. А не то, может статься, не пойдут они дальше, а если и пойдут, то уж невесело. Это, знаете, как в дикие времена — деревяшкам-то, идолам племена поклонялись: то дарами задабривали, то розгами, наоборот, секли, ежели эти деревяшки плохо им помогали. Вот нынче крестьянская масса навроде такого же идола. Стихия и есть, и комкор наш ее то сечет без пощады, то, как видите, наоборот. Знает, где придавить, где ослабить, чтоб и дальше была она, масса, как глина в руках. Его ведь не только боятся, но и любят еще. Без любви на войне ничего и не сделаешь.
«Ну что ты будешь делать? — засмеялся Сергей про себя. — И тут не винит и не судит. Не судит, но и не оправдывает».
— А не подымить ли нам, Федор Антипыч, на улице? — сказал в расчете на иную степень откровенности — наедине.
— Э-э, нет! — засмеялся Сажин. — Пока вот этого всего не перечту, права уж не имею покидать помещение. И вы, кстати, тоже, Сергей Серафимыч. Под вашу подпись и никак иначе. Вон он у Соломина в глазах какие черти пляшут. А, Соломин? Вот эта вот подвеска грушей, поди, на целый пароход потянет. Давайте уж считать, товарищ военком. Вот ведь какая штука-то обременительная — совесть.
Сергею сделалось тоскливо до удушья. Он все забывал о своей безотменной повинности — скреплять личной подписью и карманной печатью все приказы по корпусу, все акты, все описи, — и власть подтверждать, запрещать, арестовывать была ему мучительна, как университетский курс юриспруденции посредственному гимназисту, не говоря уж о моральной стороне вопроса: судить и оценивать тех, кто и старше, и умнее его. Эх, с какою бы радостью он поменялся местами с любым здешним взводным, да хоть и с Мишкой Жегаленком…
А еще он надеялся вскорости выйти отсюда и добраться до госпиталя: там она обитала, только раз им и виденная, совершенно необыкновенная девушка, Зоя — из жизни ли, из снов ли, как будто не могущая принадлежать вот этому воюющему, кочевому миру, но и неотрывная ото всех этих ожесточившихся, грубых и наивных людей. Хотелось увидеть ее — и поверить, что она не приснилась ему.
И вот он сидел при свечах в зашторенной комнате и с той же отупляющей тоской, с какой перебирал пшено и гречку вместе с матерью когда-то, пересчитывал сотни червонцев, смотря на них сквозь призрак ее оцепенелого в усталости, но все равно бесконечно живого лица, такого чистого, что даже взглядом к нему больно прикоснуться, а уж выдержать взгляд этих глаз… И вместе с тем такое чувство, будто он, Северин, ее знает давно, даже рос с нею вместе, и только подойдет к ней — она его немедленно узнает, будто пробудившись, и тотчас же они продолжат как будто бы оборванный на полуслове разговор, шутливый, со взаимными насмешками и чуть ли не возней, обвальными падениями в снег, в котором затеряешь валенок иль варежку. В лице ее было обещание счастья, того, что смешно назвать счастьем, ибо девушка эта явилась Сергею его же собственной душой, которую в него пока что не вложили.
И вот все золото и камни были пересчитаны, уложены в ящики и опечатаны, и Сажин, с наслаждением потягиваясь, вышел на балкон. Раскрыв, протянул Сергею серебряный, с каким-то вензелем на крышке портсигар.
— Вы будто бы из сормовских рабочих, — сказал Сергей, закуривая.
— Из них, — улыбнулся чекист, — да только к чужой славе лепиться не стану. Я в пятом году в восстании ведь не участвовал. Слесарь был я в ту пору на хорошем счету, по технике много читал, в мастера меня прочили, а у мастера жалованье было знаете какое. Со штабсом-капитаном наравне. Нашел свою линию жизни, а тут меня спихнуть с нее хотят. Свои же, понятно, рабочие — чего ж, я не видел, каково им у горнов по десять часов? — а все ж своя рубашка ближе к телу. Ну и вот болтался, как навоз в проруби. Пока пелена спала с глаз…
— А сейчас как? — спросил Сергей резко, позволяя себе даже нотку презрения. — Может, тоже, простите, болтаетесь?
— Это вы о чем? — уточнил Сажин мирно.
— Ну как, о Леденеве. Знакомы мы, конечно, с вами без году неделя, но все же не могу понять, как лично вы к нему относитесь. Другие отзываются определенно: герой так герой, бандит так бандит. Для вас-то он кто?
— Для меня-то? Герой. Вины за ним не знаю никакой, а подозрения свои в кишку могу засунуть, потому как субстанция это летучая и ни к какому протоколу ее не пришьешь. Пока, как говорится, не доказано обратного — герой. Советовал вам давеча его остерегаться? Говорил, политкомы у нас пропадают, несогласные с ним? Ну так и сейчас говорю и советую. Да только любую, Сергей Серафимович, контру, даже самую мелкую, с поличным надо брать, как кошку на ухват. А это громадная личность: он вам на каждое сомнение Новочеркасск преподнесет, а сверх — телеграмму от Ленина: «Примите мой привет и благодарность». А это уж читай как хочешь, хоть даже и так, что именем народа разрешаю вам, товарищ Леденев, казнить любых людей согласно своей совести.
— И как же он, по-вашему, вот эту телеграмму прочитал?
— Да кто ж вам это скажет? — ответил Сажин чуть не бабьим причитанием. — Оно конечно, лютый он, как и не человек. Кровь и так дешева нынче стала, а для него и вовсе вроде смазки в дизель-двигателе. Да только ведь иначе революцию не делают, полки за собой не ведут. Куда ведут, спросите? За Советскую власть или к собственным целям? Так этого и там, — возвел Сажин к небу в глаза, — я так полагаю, не знают доподлинно — откуда же мне? Темен ведь человек, и ничем-то ты его до дна не просветишь, пока он сам тебе свою натуру не покажет. Так-то будто и спору нет: за Советскую власть добровольцем пошел с первых дней, несмотря что папаша кулак. Да, кулак, вышел, так сказать, в люди из бедняцкого класса, мельничушку свою заимел, да уж где она, та мельничушка, теперь — ведь сожгли беляки, столько крови ему, Леденеву, пустили, что вовек не откупишь. Третий год белых бьет — это надо считать. Да только ведь власть получил — и соблазн. И бабами, и водкой, и даже вон золотом — всем пресытиться можно, а власти хочется до без предела.
— Это все философия, — отмахнулся Сергей, — а вы любите факты. Вот и дайте мне их. Шигонин-начпокор, Кондэ, другие вам известные товарищи не раз уж доводили до сведения Реввоенсоветов, что он в открытую ругает коммунистов перед массой. Выставляет грабителями трудового крестьянства, вплоть до того, что, мол, побьем всех генералов — тогда и за Советы примемся. Про это вам известно что-нибудь?
— Известно, — ответил чекист таким тоном, как если б Сергей вопросил о снеге зимой. — Об этом московским «Известиям» с «Правдой» давно уже известно — что он за казаков вступался перед Лениным, чтоб Донбюро получше разбирало, кто есть кто, бедняк-хлебороб или закоренелый кулак, а не всех под одну контрибуцию стригло.
— А про то, что с Советами воевать предстоит, ни слова, значит, не было? Получается, врут комиссары?
— Эх, Сергей Серафимыч. Человек как напьется, так пьяная правда из него и полезет, то же самое и у голодного — правда своя. Не умом — брюхом смыслит. Да какая бы власть ни была, даже наша, Советская, все равно ее будут ругать, по первой-то. Разорение-то налицо — через войну оно, конечно, да разве это каждому втолкуешь? Мужик-то видит что? Что у него ревкомы хлеб все время забирают, что евонная баба с детишками давно уж пшеничного хлеба не видели, а то и вовсе помирают с голоду, пока он с Леденевым за всеобщее счастье воюет. Ну вот и начинает он роптать. Вон в корпусе без малого пять тысяч человек — так от каждого третьего слышишь: довели нас жиды распроклятые.
— От Леденева что, от Леденева?
— А что вы от него хотите, ежли он — тот же самый мужик? А во-вторых, он, может быть, и враг в самой тайной середке своей, да только вот именно что не дурак. — Голос Сажина медленно засочился в Сергея, словно в кровь из иглы. — Вы спрашиваете: может ли он корпус повернуть? А зачем ему корпус? Рубаки, конечно, отборные, да только что они такое против целого нашего фронта? Взбунтовать их сейчас — это значит себя объявить вроде как прокаженным. Волчья доля — как ни мечись, а все одно затравят. А если поставят на армию, двадцать тысяч дадут, пятьдесят, тогда уже совсем другое дело.
— Так что же нам, сидеть и выжидать?
— Ну зачем же сидеть? Слушать, соображать. Присматриваться хорошенько. А то вы, Сергей Серафимыч, и вправду у нас пятый день, а уж хотите полной ясности, кто же он такой есть. Да и потом, не нам решать. Наше дело — все видеть как есть и доводить до сведения кого надо. Громадная личность — центр должен судить.
«Да он просто премудрый пескарь, — подумал Сергей, проникаясь брезгливостью к Сажину. — Будет ждать, чья возьмет, и примкнет к победителю. Нашел свою линию жизни, ага. Что в пятом году, что теперь… Но в главном он прав — судить-то нам не из чего… Но я ведь верю в Леденева. Еще и не зная, не видя его, уже в него верил, в одну лишь красоту легенды, а теперь — в красоту его силы. И если так пойдет и дальше, я не смогу его судить — смотря влюбляющимся взглядом, а не беспристрастно».
Попрощавшись с чекистом, он вышел на улицу. Леденев вместе с Мерфельдом отбыл в Ростов. Сергею хотелось отправиться с ними, посмотреть на живого Буденного, но надо было вытащить себя из леденевской силы — чтоб целиком себя не потерять. А еще он все время, как голодный о хлебе, — ну скажи еще, как о воде в Каракумах, но ведь вправду безвыборно, — думал о Зое.
Совсем уж растеплело, везде журчала неурочная вода — с домовых крыш, с налившегося самогонной мутью небосвода. Зарядив, день и ночь убаюкивающе воркотали дожди, червоточили, плавили снег, и вот уж не осталось ни клочка рождественской снеговой чистоты, черно и масляно заслякотило мостовые, разлились рукавами огромные талые лужины, стольный град потускнел — уже не боярин в бобрах, а нищий в отсырелом рубище.
Сергей сошел с седла, бросил повод Монахову, которого взял к себе ординарцем, безмолвной тенью, сгорбленной под ношей своей ненависти, и двинулся в глубь засаженного липами больничного двора. Его уже многие в корпусе знали в лицо — и самого страшного, чего Сергей боялся, уже как будто не случилось: зажить среди этих людей на правах приблудного призрака, сквозь которого, не застревая, проходят все взгляды.
Бойцы смотрели на него со сложным чувством собственной ущербности и превосходства, какого-то почтительного, отчасти даже трепетного и вместе с тем жалостного любопытства, с каким, наверное, глядят на человека, произносящего латинские названия всех злаков, но не могущего запрячь быка, собственноручно никогда не сеявшего хлеба.
Сергей понимал: почтительны не перед ним, а перед той непостижимой, абсолютной силой, которая его прислала, — и не перед волей, которая может казнить, а перед небывалой, всесокрушительной громадой человеческих умов и воль, которая переворачивает мир и носит имя Ленина и партии большевиков. Во-вторых же и, может быть, в-главных, Сергея признал Леденев — не то чтобы поставил вровень или рядом с собой, но все-таки дозволил числиться в живых, а не в чернильных, мертвых душах корпуса.
В конце концов, многие видели, что он не тюфяк и не трус — и вот, идя по госпитальному двору, Сергей будто сам ощущал, как он ловок и ладен — в скрипучих наплечных ремнях, в добытом Жегаленком защитном полушубке, уже побывавший в знаменитом бою, упомянутый в первом же номере корпусной «Красной лавы» как произнесший речь перед бойцами Горской и даже будто бы увлекший их на танки. Он думал, что и Зоя должна его видеть таким, и тотчас же чувствовал страх: а вдруг сейчас увидит себя ее глазами — надутым пузырем, самозванцем, никем?..
Привычно-нестрашно, но почему-то странно близко — в лазарете? — чмокнул выстрел, и тотчас же за домом плеснулся женский вскрик… Он никогда не слышал Зоиного голоса, но почему-то вмиг почуял: там она!.. Сорвался на крик, царапая ногтями крышку кобуры… и расшибся о воздух, как птица об оконное стекло, в самом деле увидев ее, оседавшую прямо на белую розваль поленьев — под тяжестью раненого! В тот же миг он узнал и Шигонина — тот сидел на дровах, зажимая ладонью бок слева и бессмысленно уж поводя непослушной рукой с револьвером…
В глубь больничного сада, оглядываясь, убегали безликие двое. Сергей молчком рванулся следом — не догнать, а скорее погнать… больше всего боясь, что те опять начнут палить — в нее!
За спиной — облегчающий, подгоняющий топот и крики своих… Один из убегавших, почти не оборачиваясь, выстрелил. Сергей на бегу наструнил зудящую от напряжения руку, врезал мушку в подвижную серую спину и нажал на курок. Перед глазами все скакало, дергалось, рвалось: и эта серая спина, и мушка, и деревья, — но Сергей, распаляясь, трижды клюнул бойком… Ответная пуля грызанула ствол яблони у его головы, и тотчас же оба безликих метнули себя на забор, взвиваясь, перемахивая, обваливаясь вперевес.
Он выстрелил еще раз с пьянящим ложным чувством: «попаду» — в дощатой стенке пуля выщербила метину, осыпала на землю мелкую щепу…
К забору прибилось с полдюжины красноармейцев:
— Куда?! Зараз срежет! Ушли!.. Видали их, товарищ комиссар?!
Сергей немедля побежал обратно — к Зое. Она была там же, с Шигониным, на груде поленьев, у козел, прижимала к его заголенному, окровавленно-бледному боку белый скомок чего-то оторванного от себя, от исподней рубашки, от тела.
— Шигонин, жив?! Вас не поранило?.. — свалившись на колени, выдохнул Сергей, бесстыдно радуясь, что может с ней заговорить.
— Да помогите ж снять шинель! Подержите его! — приказала она твердым, бешеным голосом, жиганув Северина коротким повелительным взглядом, и поневоле подалась к нему, и он в упор увидел ее кошачьи гневные глаза и родинку над верхней оттопыренной губой, когда обнял и стиснул Шигонина, как большого ребенка.
Тот рычал и мычал, выгибался дугой, ощеряясь от боли… Почти прижимаясь к Сергею лицом, опаляя его своим срывистым, тягловитым дыханием, она с удивительной ловкостью и быстротой перепоясала Шигонина своим чисто-белым платком.
— Монахов, бери его! Куда нам? Ведите.
Шигонин не обмяк, не обезволел, ответно вцепился Сергею в плечо, и Зоя пошла впереди… «А ведь и ее могли…» — не смог уместить Северин, оглядывая всю ее, от сбившейся косынки на светло-русых волосах до желтых солдатских ботинок, должно быть английских, трофейных, с неизносимыми подошвами, в застиранной защитной гимнастерке и юбке синего сукна чуть пониже колена, во всей этой грубой одежде солдата.
Он знал, что у Монахова убили сына и жену, что смерть не заклясть, не убить чистотою единственного человека, никакою твоей в человеке нуждою, — и ему стало страшно, как в детстве при мысли, что ни отца, ни матери когда-нибудь не будет, а значит, и его никто не пожалеет.
Но сразу следом поднялась, по горло полня, радость, что вот она цела — и он уже с ней говорит, хотя бы и допрашивая, что произошло, кто были эти двое и почему стреляли в начпокора… что вот сейчас он утвердится в ее бытии на правах… ну хотя бы товарища… такая радость, что и раненый Шигонин показался ему совсем легким.
Крыльцо, вестибюль, милосердные сестры… Шигонин был нем, лишь иногда постанывал сквозь стиснутые зубы, наступая на левую ногу.
— Постойте, без вас тут… — шалея от собственной смелости, поймал Северин Зою за руку, так страшно и блаженно почуяв всю ее, что сердце рухнуло, и с невозможной, в оторопь кидающей покорностью она пошла за ним в какой-то кабинет. — Что ж это было? Кто? — спросил как можно строже, усевшись напротив нее.
— Не знаю. Не видела раньше. Одеты в военное, безо всяких вот только различий. Я пошла за дровами. Тут они — «не помочь ли, сестрица?». Ну и позволили себе. — Улыбка какой-то нехорошей бывалости искривила ее опеченные губы. — Тут товарищ Шигонин — «не сметь!». Они его по матери, все в крик. А дальше уж вы… Сами видели все.
— Шигонин-то откуда взялся? За какой-такой нуждой?
— А все за той же — с дровами хотел подсобить, — улыбнулась она той же скучно-привычной, искушенной улыбкой. — Нет, он себе не позволяет. Ночевать не зовет.
«А куда зовет? Замуж?.. Ну, Шигонин, монах…»
— Узна́ете вы их?
— Узнала бы, наверное. Да только где же их теперь найти — весь город в наших. Да и не только наших — всяких много, все по-военному одеты, как тут разобрать. Я ведь не Александр Македонский — всех в лицо не помню, тем более счастливцев, каких еще не ранило, да и новобранцы идут.
— Ну а сюда-то, в лазарет зачем идти бойцам, если они не ранены?
— К нам, знаете, идут с любыми жалобами. Лекарство требуют от сифилиса. А то ведь и карболкой сами лечатся, и толченым стеклом.
— Давно же вы в корпусе? — спросил Сергей лишь для того, чтобы ее не отпускать.
— С тех самых пор, как есть он, корпус.
— Так что же, вы от самого Саратова? — напоказ восхитился Сергей.
— От Саратова, да. Товарищ Леденев у нас лечился. Все думали: не встанет, а он встал. — Так говорят простые люди о божьей воле, о судьбе.
— Работали в госпитале?
— Да, у профессора Спасокукоцкого. Потом пошла за Леденевым.
Сергей вспомнил Мишкин рассказ: ходила за комкором, выкармливала с ложечки, — и будто ткнули спицей в сердце.
— А если бы не он, остались бы в Саратове?
«Для Леденева женщин нет, — немедля вспомнил он. — «Но разве она не может любить безответно?»
— Пошла тогда, когда решилась. — В глазах ее мелькнуло что-то неопределимое — не то испуг, не то, быть может, стыд, — и вот уж посмотрела на Сергея с прямотой отторжения, говоря: не его это дело, из-за кого она пошла и что ей Леденев. — Раньше боязно было, и мать не пускала, не хотела бросать я ее, не могла. А потом уж бросать стало некого. Вот и пошла.
Сергею захотелось откусить себе язык, ударить по лицу…
— Вы что же, думаете, он меня… ну как персидскую княжну? — спасла его, сжалившись, Зоя. — Или что я за ним, как собака? А хоть бы и так — что ж в этом такого? В свободном обществе никто не запрещает, и вообще, чем дешевее жизнь, тем больше стоит каждая минута. Живые же люди. Но только не он.
— А он какой?
— Да мне откуда знать? — засмеялась она, на миг и вправду став той девочкой, которую знаешь всю жизнь. — Я, по-вашему, кто ему? С ночными горшками его и кальсонами близко знакома. А в душу ему не заглянешь — не то чтобы страшно, а он тебя только к горшку своему и допустит.
Сергей почувствовал освобождающую радость, но тут в кабинет, как на пожар, вломился Сажин:
— Это ты, что ли, милая, с начпокором была?
— Она, — ответил за нее Сергей. — Двоих этих не знает.
— Отойдемте, Сергей Серафимыч, — красноречиво зыркнул Сажин.
Преследуя ждущим, настойчивым взглядом потупленные Зоины глаза, Сергей поднялся и сказал:
— Ну, счастливо служить вам. Мы обязательно еще увидимся.
Она подняла на него строгий взгляд, как будто запрещающий к ней приближаться:
— Мы если увидимся, то потому, что вас поранит или заболеете. А мне бы этого не хотелось. — И как будто с издевкой добавила: — Хватит с меня одного комиссара.
На дворе гомонили бойцы, милосердные сестры.
— Глухо, тарщ Сажин, — доложил подбежавший к крыльцу особист Литвиненко. — Дворы проходные — как канули.
— Ну ясно, — отмахнулся Сажин. — Вы, может, ранили кого из них? — спросил Сергея.
— Как будто нет. Не видел.
— Ну вот что, Сергей Серафимыч. Шигонин сказал: на него покушение. То самое, о чем мы говорили, — что политкомы у нас часто погибают, — неловко улыбнулся Сажин, как будто сообщил Сергею о своей нехорошей болезни и спрашивал о пользе толченого стекла.
— Чего?! Да кто же это покушался?
— Смешно сказать. И страшно. — Сажин поозирался: не услышит ли кто — и выдавил с болезненной, как будто стыдливой улыбкой: — Комкор, говорит, вот этих послал.
— И на каком же основании? Узнал их?
— Да нет, говорит, не видел их раньше.
— Ну и какое ж покушение? Ведь ясно: уголовный случай пьяных идиотов.
— Со слов сестрицы заключаете?
— Так к ней и пристали. Шигонин нечаянно рядом случился.
— Непохоже, Сергей Серафимыч, на ножовщину пьяную. Та — по темным углам, в бардаках, на базаре, тоже как и разбой. А чтоб средь бела дня да в госпитале — из-за женского пола? Вон их сколько по городу, девочек, — покупай не хочу, зачем же к сестрице цепляться? Врать-то ей, надо думать, конечно, никакого резона, и с виду все, пожалуй, так и обстояло, как она говорит, да только уж больно провокацией пахнет. Всем в корпусе известно, что топчет за ней начпокор. Вы только не подумайте — интеллигентно, осаду ведет по всем правилам: «Под душистою веткой сирени…» и такое подобное. Ну вот и получается: при иных обстоятельствах он всегда на людях, то есть, можно сказать, при охране, а тут дело такое, строго с глазу на глаз. Ну вот и бери его рядом с ней. Удобнейший случай.
— Чепуха! — засмеялся Сергей. — Почему же он жив-то тогда, извините? Хотели убить — что мешало? Ведь видели, что жив, — и убежали?
— Да и девчонку бы прибрали заодно, — сказал механически Сажин, и у Сергея сжалось сердце. — Пожалуй, правда ваша, но все же дело путаное. А если, предположим, не убить хотели, а только припугнуть на первый раз? Из строя вывести, на койку уложить? Язык, словом, вырвать?
— Так он и на койке, как видите, не замолчал, — усмехнулся Сергей. — И потом, разве так уж Шигонин вредит ему? А если не ему, тогда кому?
— Ну а как же, Сергей Серафимыч? Ведь ругает комкора в открытую — и в штаб нашей армии, и в Реввоенсовет Южфронта пишет.
— Это, Федор Антипыч, только предположения. А их вы сами говорили давеча, куда засунуть. Да ну приставьте вы, в конце концов, к нему охрану, и пусть себе ругает.
Шигонин Сергея не то чтоб отталкивал, но и ничем не притянул. Наверное, в иных, доледеневских, обстоятельствах Сергей бы подпал под влияние вот этого большевика, еще молодого, но много уже испытавшего: за плечами у Павла были годы партийной борьбы — пароли, явки, сходки, типография, стачки, начальство над красногвардейским отрядом в Дебальцеве, участие в двух оборонах Царицына, карательные экспедиции по казачьим станицам. Вдобавок к этому, рабочий-самоучка, он был необычайно образован и спорить умел как никто. Но рядом с Леденевым было место только для одного человека — самого Леденева, все остальные рядом с ним не просто меркли, но даже будто бы переставали быть.
Шигонин был отталкивающе из другого вещества, чем каждый в этой дикой, первобытной и гармонической стихии. Все были одно тело с Леденевым, подобные ему и неразлучные с конями, как будто так и вышедшие из утробы матери, верхом, а Павел — вот именно что инородное тело, заноза. Высокий, нескладный, издерганный, трясущийся в седле, как куль мякины.
Соперника в Шигонине Сергей не видел — тот был не то что страшно некрасив или тщедушен, но, верно, именно таких и называют «дохлая сула» казачки на Дону. В лице его, по-бабьи голом, с бесцветными бровями альбиноса и такими же белесыми глазами, казалось иногда, и вправду было что-то скопческое, как настаивал Мерфельд. Какая-то насильственная, постная, безысходная непогрешимость. Как будто и за Зоей-то ухаживает только потому, что свыше было постановлено, что настоящий коммунист обязан быть женатым, и не на ком-нибудь, а на товарище, таком же бойце, — издевался Сергей и, тотчас же спохватываясь, стыдил себя за то, что насмехается над раненым.
Ему опять пришлось вникать в клубок взаимных притяжений и отталкиваний в корпусе. Впрочем, разве же это клубок? Сергей видел четкую линию. С одной стороны — Леденев, влюбленные в него красноармейцы, даже кони. С другой — непричастный и, верно, не могущий причаститься к этой красоте Шигонин и его политкомы. Посередке — Гамза, который, видимо, страдает от того, что, несмотря на всю свою отчаянную лихость, никогда Леденевым не станет, и осторожный, дальновидный Сажин, соблюдающий «нейтралитет».
Непонятен был сам Леденев — кристалл его личности, сути, абсолютно прозрачный и абсолютно же непроницаемый. Вокруг него, казалось, и вправду существует заговор молчания, в который вступили только самые близкие люди. Или, как Мишка Жегаленок, по-собачьи преданные, или отмеченные офицерством, происхождением, породой — Мерфельд и Челищев. Откуда у него такая тяга к офицерам, такое доверие к ним? Опять вставал перед глазами отпущенный на волю Извеков-Аболин. Когда и где он, Леденев, так коротко сошелся с белой костью? Что не может забыть — как клятву верности, как Царское Село? А должен-то их ненавидеть — чужую, неприступную породу, хозяев культуры, войны, ведь так Извеков говорил. Халзанова этого, зажиточного казака, который у него любовь украл.
XIV
Январь 1915-го, Львов — Москва
Халзанов Матвей все не мог осознать, что с каждым рывком паровоза все больше удаляется от фронта.
Он видел жену — будто только она и могла озарить всю его затуманенную, от него самого уже скрытую жизнь, провести его к дому по копытным следам всех коней, что ходили под ним. По изрытым воронками Галицийским полям, мимо холмиков братских могил, уж подмытых дождями и присыпанных снегом. До родимой степи, стосковавшейся по грозовой животворной прохладе, до терпкой горечи полынного, сухого ветра на губах, до зеленого зеркала Дона, невозмутимо-величавого, как небо, отразившееся в нем.
Он видел ее ходившей по кругу, месившей глину голыми ногами, в подоткнутой юбке, которую придерживала кончиками пальцев. Высокие, гладкие, как нацелованная Доном галька, ноги трудились во всю свою силу, с натугой вырываясь из крутевшей глины, и от этой их силы, наготы, белизны, от бесстыдно-зазывной усмешки в немигающих синих глазах у Матвея сводило живот, сохло в горле.
А вот она у Дона на омоченных водою плитняках, колотит вальком по белью, и солнечная рябь воды струится по ее разгоряченному остервенелому лицу, смягчая, расправляя сдвинутые брови, касаясь сжатых губ и словно раздвигая их в улыбке… А вот она у люльки с сыном, ее взгляд на заплакавшего среди ночи Максимку — вроде и недовольный, измученный, сонный, но в глубине своей таящий невытравимую тревогу, извечный, неослабный страх волчицы за щенка: вдруг не удастся уберечь от голода и холода?
Он пытался увидеть и сына, и перед ним вставало смугло-розовое личико, невозмутимое и важное, как у калмыцкого божка, всезнающе смотрели неизъяснимой чистоты, какие-то надмирно синие глаза, как будто ничего из человеческого, посюстороннего еще не выражая, не видя ничего, помимо безначального сияющего света, в который его окунул Создатель всей жизни.
Он понимал, что сын неузнаваемо, невероятно изменился, что от тех его жалких ножонок и ручонок со складками давно уж не осталось ничего, и тоска по упущенному защемляла Халзанову сердце, превращаясь в потребность увидеть, каким же стал сын, и ничего не оставалось, кроме радости движения и надежды на отпуск. Он чуял даже будто благодарность за ранение.
Убить же или ранить его могли бессчетно… Ноябрь. Ужокский перевал. Чтобы увидеть горизонт, необходимо подымать глаза к холодному, бессолнечному, но все равно неизмеримо высокому небу. Уходят в вышину — чем дальше, тем синей — торжественно-немые вечные громады. Резные дубовые листья гремят под сапогами будто жестяные. Смолистым ароматом, терпкой свежестью наносит от черных сосновых лесов. Поредевшая сотня Мирона Халзанова совместно со второй и третьей идет по ущелью в глубокий обход. Разведчики ведут всех по раздвоенным копытным следам диких коз, бежавших от войны за перевал, — первый снег хорошо сохранил эти длинные извилистые цепки отпечатков. Самим уже приходится карабкаться по выщербленным плитам, как этим диким горным козам. Осыпается мерзлая крошка. С придушенной руганью съезжает по склону казак, мысками и коленями пропахивая в осыпях глубокие дымные борозды. Дрожащие в натуге пальцы впиваются в камни и выступы. Последними словами ругается Гришка-шуряк. Оскалившись, разит Матвея взблеском взгляда: «Эх, чую, зятек, насыплет нам герман сегодня», — и Халзанов до боли, до внезапного страха воспоминает жену, словно Дарья и глянула на него своей синью из Гришки… Нетронутый снег лиловеет в сгустившихся сумерках… «Вольно ж было Господу камней наворочать до самого неба. Так-то, кубыть, и красота, а ты хочешь не хочешь — иди. Ох, и жадный до жизни я стал, слышь, Матвейка?..»
А он уже не слышит: за каменистым переклоном, в полуста саженях мерзнет в ельнике первый австрийский секрет. Затиснув штык зубами, Матвей ползет к расплывчато сереющей фигуре, пускает в землю пальцы, будто корни. Надолго въелись в память кислый вкус промерзлого железа, зачаток предсмертного взмыка в затиснутом рту и как австриец дул на занемевшие от холода ладони, не чуя, что сейчас его ударят под лопатку.
И вот уж задранные к небу чурбаковатые стволы мортирной батареи, и вот уж камнепадом срываются с вершины и сыплются в австрийские окопы казаки. Жалкий заячий вскрик — то кого-то штыком прибивают к ошелеванной досками стенке окопа. Сухой и звонкий хряст перестоявшегося дерева: «хруп-кррак!» — то кому-то прикладом разбивают башку. В тесноте, в свальной сутолочи о винтовках-штыках и помину уж нет — словно в стенках на Масленицу, кулаками друг друга гвоздят, рвут и давят зубами, как псы. На всем протяжении узкого рва колышется, вьется, ворочается огромный невиданный червь — клубок, скрутень, слиток своих и чужих.
Вклещившись в горло австрияку, Халзанов вдруг видит его молодое лицо в синюшно-белом судорожном зареве ракеты — что-то женское в очерке щек, как у зарубленного Сеньки Щеголькова, и растущие в ужасе, в исступленной мольбе о пощаде глаза. В окопной тесноте меж ними — ничего, и Матвей животом слышит срывистый бой его сердца. Раздутыми ноздрями вытягивает из его шинели запах пота, настуженной земли, ружейного железа, как будто бы присваивая себе все больше воздуха, клокочущего между их оскаленными ртами, — и на мгновение слабеет от отвращения и жалости.
Австриец мелко-мелко мотает головой, как будто отрекаясь от вражды, и Матвей ощущает горячий тычок в правый бок, наполняясь не болью, а силой, облегчающим правом давить до упора. Австриец попал ему прямо в ремень, ужалил, а не попорол… Левее хрипят, колготятся, правее обезумевший от страха австрияк молотит Еланкина по голове какой-то толкушкой — гранатой… Тугой, обжигающе близкий, рассыпчато-колкий разрыв. Матвей понимает, что жив и что падает. Всей спиной и затылком принимает удар и куда-то плывет в слитном звоне и пустой черноте…
Открывает глаза — желтый свет фонаря, убаюкивающий перестук санитарного поезда. На правом плече, на спине саднящие щербинки от осколков — как будто и вправду железные птицы клевали, которыми пугают верящие в скорый конец мира старики.
Молодой врач-еврей в львовском госпитале что-то долго писал, а потом поглядел на Халзанова собачьи-скорбными, трусливыми глазами:
— Придется отправить вас в тыл. Довольно неприятная контузия.
— Руки, что ж, так и будут трястись? — спросил Халзанов, криво улыбнувшись от испуга.
— Ну что вы. Могу сказать с уверенностью: все поправится. Но лечение необходимо. В Москву поедете, в хорошую больницу.
— Рубить-то смогу? — спросил Матвей тут же.
— Что делать? — словно недослышал тот.
— Рубить. — Матвей инстинктивным движением хотел показать, но рука все дрожала, не слушалась: дед Игнат так грозил ребятне костылем. — Ну шашкой, человека?
— Стало быть, человека… вам надобно… уничтожать? — Врач даже начал осекаться от внезапной злобы. Ускользающий взгляд стал прямым, непокорным, печальные глаза мгновенно налились огнем упорства. — Да хоть бы вас всех поскорей перебило таких.
— Каких «таких»? — спросил Халзанов, закипая.
— А вот таких, которым нравится рубить. Вы что же, думаете, все такие? Да если б не вы, казаки… да и не казаки, а горстка среди казаков, то вся эта война и недели бы не протянулась. Все разбежались бы от вида первой крови. Война человеку страшна и ненавистна. Человек хочет мирно трудиться, возделывать землю, украшать ее, строить… создавать, а не рушить. А монархи Европы взяли и оторвали его от всего, что ему по природе потребно: от труда, от семьи, от детей… А вы, казаки, с вашей старой, потомственной тягой к войне, с тупым повиновением царю, которое считаете великим делом чести… вы-то и помогаете гнать свой народ на ужасные муки и смерть. Вы что-то… ну, вроде запала в гранате, только малая часть в общем теле народа, и без вас бы и не было взрыва. Вы, лишенные собственной воли… А! Да что говорить…
— Да где уж нам понять? Да только вот скажите: а если бы вам руки переломали, а вы через них и хлеб свой имеете, и вообще вам без них уж не жизнь, что тогда? А у меня пускай трясутся, как у старика? Это ж как у певца горло вырвать. Голос, что ли, отнять либо выхолостить.
— Да вы ницшеанец какой-то, с нагайкой. Тело мое есть высший разум… — пробормотал еврей, упрятав взгляд. — Как бы вам объяснить, — посмотрел на Матвея взглядом мучимой лошади, которая, как человек, все понимает, но не может сказать ничего. — Я своими руками не служу угнетению, насилию над человеком. Я, видите ли, людям помогаю, а вы их убиваете. А заодно насилуете всех, кто не желает умирать за непонятные им интересы, в то время как их кровные, естественные интересы мира и труда растоптаны кучкой людей — царем и его генералами. Смерти, смерти вы служите — так вам понятно? Ну сколько еще крови надобно пролить, что у вас отобрать, что отрезать, чтоб вы, едва избегнув смерти, уже не задавали глупого вопроса: смогу ли я дальше людей убивать… А!.. Идите отсюда к черту. Желаю вам когда-нибудь прозреть.
«Должно, проживал где-нибудь в Могилеве-Подольском, где полк наш стоял, — думал он о враче, выходя, — а там какой-нибудь казачий офицер грозился руку отрубить его папаше-шмуклеру — за то, что звезды на погоне вышил криво. Вот он и думает, что у нас заместо души одни только плетка и шашка. Силы нашей боится и злобствует, крови шибко боится… да ведь нет, не боится уже, он ее в этом госпитале больше нашего видел. И что донесу на него, не боится. Блаженный какой-то. И как же он хочет нашу жизнь переделать? Да весь порядок сверху донизу на послушании и держится. От попов — чтоб по правилам жить, без греха, а иначе б давно как собаки сношались. От царя — генералам приказ… Ишь, насилие. А говядину есть, животину губить на потребу — это что, не насилие? Или ты травоядный? Что ж, и неуков не объезжать, про коней и не думать? Да заместо быков самому впрячься в плуг? А то ведь мы, люди, быков и коней угнетаем. А если никому царя не слушать, то какой же я младший урядник? По каким тогда правилам жить? Это ж вроде как дом или церковь на макушку поставить — устоит она разве, не грянется?.. Войну он не любит, и что же? А я, наоборот, всю жизнь бы воевал, когда бы только в отпуск к каждым святкам отпускали. Планида моя, ремесло, и Бог его не отрицает. Не Бог ли в промысле своем сотворил нас такими, чтоб каждая на свете божья тварь за жизнь свою боролась, за делянку земли, за довольство?.. А у людей-то, может, с Каина все началось, с завистливой злобы его, и не было войны в Господнем промысле? Однако ж приохотились к человеческой крови и так да сей поры и клочатся промеж собой? И что нам прикажут отцы-командиры, мы туда идем — рубим-колем-бьем… Кого бьем, за что? Вот гад, всю душу мне растеребил…»
Чугунно звякнули тарелки буферов, и всем, кто мог ходить без посторонней помощи, велели выгружаться из вагонов. Носилки, носилки… бессчетно. По деревянным сходням и мосткам вилась тяжелая серошинельная гадюка. Совсем неподалеку, в казенном винном складе развернули один из городских распределительных госпиталей. В неоглядном кирпичном нутре его собиралась текущая вспять из Галиции, Прикарпатья и Пруссии русская кровь, не ушедшая в землю без следа и остатка, но теперь уж не быстрая — вязкая, как в узловатых жилах древнего, зажившегося старика. Стройно, как на параде, тянулись бело-серые гряды уложенных впритык друг к другу тел, а меж ними сновали, уносили куда-то одних, подносили других и все новых служители, суетились сестрицы в своих белых апостольниках, как будто пропалывая огромное поле лежачих, текущее гулом проклятий и жалоб, безобразных ругательств и мольб.
Матвея вызвали по списку и вместе с полудюжиной новоприбывших усадили в сани. Невиданная прежде, явившаяся в нестерпимом снеговом сиянии Москва подавила своим многолюдьем, но и успокоила незыблемостью всех своих церквей, чьи блистающие купола были словно запаяны в прозрачно-синий воздух неба.
Сестра милосердия ввела его во двор трехэтажного желтого дома с колоннами, по широкой, с лепными перилами лестнице сопроводила на второй этаж. Здесь ему помогли и раздеться, и вымыться в ванной, обрядили в приятно щекотное, хрустящее от свежести белье, домашние туфли и серый халат. Попал он к обеду и вот уж озирался среди медленно, по большей части молча работающих ложками больных.
Еще на пороге почувствовал что-то вроде толчка или, может, ожога. Будто впрямь что-то дрогнуло в воздухе или даже мигнуло, как молния, иначе озарив, коверкая все лица и фигуры, и от него, Матвея, пала тень — такая четкая, что в нем самом на миг ничего не осталось.
Подобное бывает, когда нечаянно вдруг взглянешь в зеркало после долгой отвычки, а тем более после болезни, когда ты смутно помнишь себя прежнего и ни разу не видел себя вот таким: похудевшим, слинялым, с запавшими щеками и заострившимися скулами. Страдающие люди, собранные в одном месте и в большом количестве, становятся похожи; отпечаток тоски, изможденности, боли, терпеливой покорности одинаков на лицах всех раненых, как тавро знаменитого коннозаводчика. Узнавал себя в каждом, а сейчас будто впрямь посмотрел на свое отражение и себя не узнал. Ничем не объяснимый, суеверный на миг в него плеснулся даже будто бы и страх. Ведь если в зеркало глядишь, то там можешь быть только ты, и никто другой больше, а если не ты, то кто же тогда?..
Так и есть — Леденев. Вмиг припомнил Матвей застыженную Дарью на смотринах в Гремучем, и забор тот на скачках, и свою изнурительную, самому непонятную ревность к вот этому, вроде и обойденному им мужику.
Какое-то время они смотрели друг на друга — без сверлящего натиска, без усилий сломать встречный взгляд, скорее попросту пытаясь угадать один другого. Слишком многое было поврозь ими пережито. Тот Леденев, которого он знал, был еще жидковат, а этого как будто отковали. Подросли и окрепли все кости лица, чем-то новым, незнаемым отливали глаза.
Это раньше все люди казались Матвею прозрачными и уже неизменными в своих бесхитростных желаниях и помыслах. Теперь все вокруг дивили непросветной темнотой, молчанием о чем-то самом важном, как будто и незнанием самих себя. По товарищам в сотне он видел: война на каждого кладет свой отпечаток, и по-своему каждый растит семена, зароненные ею в душу. Он понял, что не может знать наверное, о чем думает каждый другой человек, что думает каждый в последний свой миг, что чувствует, когда идет на смерть, по каким теперь правилам думает жить вот этот казак или этот мужик, который пятый месяц кряду убивает подобных себе, чтоб его самого не убили.
Когда он смотрел на сидящих кружком у костра казаков, привычными движениями вытягивающих из-под дула шомпол, перебирающих обоймы или чинящих сбрую, — на собственных станичников, сыздетства друзьяков, — ему казалось, что никто из них уже не властен над своей душой, не властен точно так же и даже еще меньше, чем над собственной жизнью, над своею судьбой, которая в какой-то мере, хоть на час, но может быть предрешена самим человеком.
Одни замыкались, угрюмели, даже кашу жевали, будто мельничный жернов ворочали, — то ли страх хоронили в душе и мольбу о спасении, то ли зреющее омерзение к человекоубийству, то ли злобу на все выпадавшие тяготы и тоску по родной стороне.
У других же, напротив, все чувства прорывались наружу, и чувства эти были опять-таки многоразличны, равно как и поступки, в которые они выплескивались. Одни были не в силах ни подавить, ни даже спрятать смертный страх: чем ближе шло к атаке, тем больше подбирались, линяли, цепенели, тем больше делали бессмысленных движений и тем решительней не верили себе.
Хватало и тех, кто решил, что теперь можно все: нарушая завет стариков (не брать чужого на войне и не насильничать, чтобы Бог уберег), воровали и грабили в деревнях и местечках, надругивались над молодками и девками, за попытки противиться или жаловаться по начальству избивали поляков, евреев, русинов, не разбирая, кто есть кто, и хорошо, если не до смерти.
Что из всего вот этого возможного происходило с Леденевым? Тут и себя не угадаешь, а не то что чужую середку. Вряд ли он оказался податлив на страх… Какое-то время они смотрели друг на друга и, ни один не выказав желанья подойти к другому, направились в свою палату каждый, но вот ведь — оказались соседями по койкам.
В палате, кроме них, лежало четверо: казак станицы Платовской Никита Фарафонов, все трогавший свой череп под белой шапкой из бинтов, словно боясь, что тот развалится на части; немолодой драгунский вахмистр Кравцов, чью бритую наголо голову как будто бы заштопал чеботарь, стянув края пореза просмоленной дратвой; широкий, как дуб, латыш Мартин Берзиньш, с округлого лица которого до сих пор не сошел густо-розовый кровный румянец, и однорукий по ранению саперный унтер Яков Зудин — словно с вырезанным языком и начинавший вдруг подергиваться, отвернувшись, то ли злобно смеясь, то ли всхлипывая над своей неизбывной бедой.
Матвей волновался. И видел-то его, Романа, от силы десять раз за всю предыдущую жизнь, да и то больше издали, как, проезжая степью, примечаешь волка на бугре. Кроме скачек в Гремучем, нигде не случалось борьбы между ними. Но то одно, что Дарья в девках сохла по этому вот мужику, крепко помнила долгим охлаждением женского своего естества и, получается, любила их обоих, и не то чтоб сперва одного, а потом уж другого, — одно только это приковывало Матвея к Леденеву. То было уж не любопытство, не одно только настороженное чувство родства, какое сильный зверь испытывает к столь же сильному, а будто бы и вправду что-то схожее с тем изумлением, которое ребенком чувствуешь при взгляде в зеркало: неужели вон тот — это я? А то вообразить и вовсе дикаря, который себя ни разу не видел, разве что-то расплывчатое в неподвижной воде или в медном тазу, и вот пришли в его убогое селение миссионеры, проповедники евангелия, и дали ему карманное зеркальце: какой бы ужас и восторг тот испытал. Глаза бы уж, наверное, боялся отвести: сморгнет — и сам умрет.
Халзанов, к слову, в зеркало не так-то часто и смотрелся. Давно прошло то детское влечение, что было малой каплей влито в ненасытную тягу к познанию мира: какие у тебя глаза, нос, уши и почему такие, а не какие-то другие? Его давно уж волновало только то, каким он еще может стать, нарастив свою силу, а с лицом ничего уже было поделать нельзя — придется жить с тем, которое дадено. Глаза окружающих — вот были подлинные, открыто говорящие всю правду зеркала: глядят на тебя с восхищением — добрый казак, а не видят в упор — так и нет никакого тебя. А лицо говорило, что он — это он. Не урод, не кривой. Что девки плачут от него, понятно было и без зеркала. Кусок стекла, покрытый амальгамой, был нужен единственно для сохранения человечьего облика, и, бреясь, причесываясь, Халзанов видел не лицо, а черный свой чуб или щеку в колючей стерне, следя за тем, чтоб ни клочка не пропустить, и оставаясь наконец доволен глянцем, наведенным бритвой. И только иногда сличал себя с другими — как правило, с выхоленными офицерами, с породной тонкостью, изяществом их черт, с холодным выражением спокойного достоинства, ища в своем лице приметы низости, тупой покорности и умственной ущербности или, напротив, твердой воли и способности повелевать.
Что ему Леденев? Неужели права была Дарья — а кому, как не ей, правой быть, угадавшей обоих самим своим сердцем, нутром? — и похожи они, словно братья, рожденные от одного отца, а может, и делившие близнятами утробу матери, толкаясь в ней, теснясь, еще до появления на свет друг с дружкою насилу уживаясь?.. А может, и вправду отец принял грех мимоездом, да и не знает, что в Гремучем есть сын у него… Говорят, молодым ох и жаден был до этого дела, и летучую крыл, и катучую, усмехался Матвей.
Под вечер не вытерпел — в помещении флигеля, где курили больные, подошел к Леденеву:
— Здорово живешь. Что ж, ты меня, могет, не угадал?
— Узнал. — В глазах Леденева как будто тоже принялся росток не меньшего, чем в нем, Матвее, интереса.
— Чудные дела — вон ить где привелось повстречаться.
— Чего же чудного? Военное счастье такое — можно и земляков повстречать где ни попадя. Где же ты воевал?
— В Галиции, в Донском шестнадцатом полку. В Карпатские горы полезли — контузило вот. А ты где ж?
— А в голубых гусарах, графа Келлера дивизия. За Русским перевалом с мадьярами сошлись. А уже как поехали раненых в плен подбирать, так один офицер и пальнул в меня из револьвера. И топорщится, главное, под своим жеребцом, как червяк, вижу, хрип из него уж наружу, — нет бы помощь принять, а он, ползучий гад, меня в упор. Ну, думаю, все, отвоевался, паралик.
Разговор тек свободно, подчиняясь изгибам того естественного русла, что было пробито предшествующими разговорами со множеством фронтовиков, — и оттого еще свободней, что под общий кур. Драгунский вахмистр, латыш и Фарафонов едва ли не накинулись на свежего, еще не прискучившего человека, с охотой слушали, расспрашивали, вклинивались со своим.
— Бывает, пуля человека не берет, ото лба, как от камня, отпрядывает, а то, наоборот, через такую чепуху иные пропадают. Был в нашем эскадроне один малый, Алешка Коломиец, — так умер он и жутко, и смешно, — рассказывал Кравцов. — Под Ярославицами бой — ты был там, Леденев. Помнишь, черное солнце видали? Брат у него, Алешки, — Петька, силищи неимоверной. Пошли мы в лоб на их уланов, взяли в пики. Так этот Петька с таким усердием австрийца навернул — по середку залезла пика в живот. Ну и хотел он ее вытащить, а следом брат скакал, Алешка. Как Петька дернет эту пику распроклятую — и тупяком Алешке в грудь: сердце остановил. Что ж, думаю, матери будет писать — как Алешка погиб, брат от братской руки. А вы говорите…
Так на плацу у церкви или в поле говорят о погоде, о сенах, о цене на пшеницу, о приплоде и павшем скоте, обо всем том обыденном, от рожденья до смерти идущем по кругу, с чем сжились, как быки со своими ярмами, как дите с материнским соском. Да, легко, но пока по верхам, не касаясь того, что под кожей и шрамами.
— В каком же чине? — спрашивал Халзанов.
— Старший унтер.
— Должно, и крест имеешь?
Леденев только бровь изгибал, рот кривил со значением: ну уж коль воевал, то и крест.
— За что же представлен?
— Увлек за собой, изрубил, захватил батарею, — как по бумаге прочитал с усмешкой Леденев, а где-то в глубине холодных улыбающихся глаз точился встречный интерес к Матвеевым геройствам и наградам.
Но вот усильно поднялись и поползли в палату их соседи — и, оставшись вдвоем, замолчали.
— А что же дома у тебя? — не выдержал Халзанов.
— Дома скоро мясоед — телка заколют, трескать будут, — заперся на засов Леденев.
— Слыхал, родитель твой в хозяева́ шибко справные вышел, — и сам не понимая для чего, настаивал Матвей. — Кубыть, ветряк в Гремучем откупил, работников поднанимает.
— Откуда же слух?
— Да все оттуда же, из дома. Вторая очередь идет с Багаевского юрта, а про что и родня прописала. Гремучинских у нас в полку хватает. Шуряк мой Гришка Колычев под боком. Гришку-то помнишь? Как ты ему башку чудок не проломил? — как будто уголья в чужом нутре поворошил, еще не отгоревшие в золу. Чуял: не зажила в Леденеве обида. Понимал: не помянет о Дарье — никакого у них разговора не выйдет.
В глазах Леденева проступило то старое чувство голодной тоски и безвыходной злобы. Волчьей зависти к сытой собаке.
— Скажу тебе как есть, уж коли ты об этом разговор завел, — заговорил, почти не разжимая рта и ломая халзановский взгляд встречным натиском. — Жалкую, что не ты был в том саду.
— И сейчас бы убил? — спросил Матвей не то с оскалом, не то, наоборот, с растерянной ребяческой улыбкой.
Леденев на мгновение обратил взгляд вовнутрь и опять посмотрел на Матвея:
— А хучь и сейчас. Злобы прежней к тебе будто нет, а привелось бы где нам цокнуться… окажись ты во вражеском войске и признал бы тебя — все одно бы убил.
— Что ж, украл я ее у тебя?
— А как назвать? Я ить нынче не так уж живу, как хотел. Не та жизнь — другая. Та с Дарьей должна была быть. А эта будто бы и невзаправдашняя — как вместо лугового сена гольный донник: ходи, подбирай по степи, что от вас, казаков, нам осталось. И она, Дарья-то, не свою жизнь живет, а ту, к какой ее батяня приневолил. Вот и выходит: ты украл. А не ты — так закон ваш казачий.
— А как живет она со мной, ты знаешь? Может, плохо ей, а? Кубыть к тебе бы убежала — путь не дальний.
— Совет да любовь. Да только мне-то что с того? Всем миром переехали меня, навроде как бурьянок тележным колесом. А ты и воспользовался — себя подсунул Дашке. А где же я-то? Не было меня?
— Так что ж, пожалеть тебя? — спросил Матвей уже с издевкой и ожесточением.
— Ну вот и я тебя не пожалею — приведется… Ты думаешь, ты ее взял? Нет, парень, тебе ее дали. Закон ваш, уклад. Спесь ваша казацкая. А я ее взял сам — не родом своим, не званием казачьим, не братовым чином, не отцовым богатством. И дальше все свое я буду брать сам. У таких вот, как ты. У дворян-офицеров, какие с колыбели к гвардии приписаны: молоко на губах не обсохло, а он уже поручик и смотрит на тебя, как на навоз… — Леденев говорил уж с напором и, вдруг почувствовав, что выдает заветное, замолк.
— То есть как это брать? Отнимать?
— Как на скачках в Гремучем — кто кого обойдет. Мы ить что сейчас делаем? За царя, ясно дело, воюем, так ить и за себя. Ты о крестах моих пытал да производствах — должно, и сам о том же думаешь. Из казаков чтоб в офицеры выйти, так? Брат-то выслужил подъесаула, а ты чем его хуже?
— А, вот ты об чем, — усмехнулся Матвей. Он вдруг почувствовал, что Леденев и может объяснить ему все то, чего он сам в себе не понимает. — Ты вот что скажи. Убивать-то тебе приходилось… ну вот так, чтоб в глаза перед тем посмотреть?
— На то и война.
— Ну и как же ты с этим? Душа не стенит?
— Я много убил, — уронил Леденев.
— Выходит, привык? А я вот забыть не могу. На перевале, перед тем как контузило меня, попался австрияк один — возгрей пришибить. И так он глянул на меня — как будто мать родную просит: «дай дыхнуть!»
— И что, отпустил?
— Убил, придавил, — накрыл Матвей ладонью грудь и вдруг почувствовал, как голос дрогнул в детской жалобе. — Совесть точит меня. То ли я виноват, то ли нет — как понять? И главное, радостно мне… ну не тогда, а вообще. Еще бы пять лет воевал, когда бы домой на побывку пускали. Люблю, понимаешь? Как лавой идем — красота! Сила будто в Дону, ломит все, а над ней человек стоит, ровно Бог над народом. Ты, ты поставлен, ежли ты ведешь. И никого за эту красоту убить не жалко. Как понять?
— Мудрено тебя, казак, понять. То об том австрияке жалкуешь, то обратно не жалко тебе никого, — усмехнулся Роман, но по взгляду его — изумленному, будто впрямь на свое отражение, — понял Матвей: понимает его Леденев — может, так хорошо, как никто на земле. — Такая уж, должно, твоя планида. Быкам в ярме легко да пахарю за плугом — иди себе вперед да налегай, ни на что не гляди, окромя борозды. Есть, знаешь, и такие, которые рубят не спрашивая. А ты думаешь много.
— А ты вот что скажи. Он мне никто, австриец тот, чужой. Немчура, иноверец. Вовсе враг, если так посмотреть. Сошлись мы в бою: не я его — так он меня, иначе нельзя. А ты меня готов при случае убить. Так что же, без разницы? Земляка, стал быть, можно? Такого же русского? Это что ж, брат на брата и сын на отца?
— А мы с тобою, видно, через Дарью породнились? — скрипуче усмехнулся Леденев.
— А навыворот взять, — засмеялся Матвей. — Что мне тот австрияк? Никогда б и не встретились с ним, когда б нас цари не стукнули лбами. Разве он у меня чего взял либо я у него? За что мне его убивать? А я у тебя Дарью отнял. А отнял почему, то есть при каком условии, — соседи мы, так? Вот то-то в одну девку и вцепились, как собаки в кость. Замирятся цари — и разойдемся мы с австрийцами, с германцами, как будто и не видели друг дружку никогда. Он, Ганс, в свою кирху пойдет — молитву вознесть Пресвятой Богородице, что сберегла она его, и я — к попу Василию за тем же самым. А с тобой-то мы не разойдемся — откуда пришли, туда и вернемся, одна у нас родина. Нам-то есть из чего меж собой воевать. Да и не нам одним, а всем казакам с мужиками. У кого земли много, а у кого наоборот. Так что же выходит — ежли между собою нам склочиться, то и куда бы злей была война?
— Выходит так.
— Так это же волками жить. А мы вроде люди. Не страшно?
— Страшно овцой жить, а главное, дюже погано. По мне, уж лучше волком, — ответил Леденев.
XV
Январь 1920-го, Новочеркасск
Базарной давкой тысяч всадников и лошадей, бород, папах, винтовок крутило и мотало человека, безликого и безыменного средь всех. Толкало и гнало сквозными дворами, по улицам — уже не города, а становища кочевой орды, разжегшей тысячи костров в дегтярной темени и всюду навалившей кучи конского помета.
Ломились дикие в дома и с равнодушием татарских сотников въезжали в гулкие притворы, в алтари, рассыпая под сводами онемелых церквей дробный цокот подков, забивались под крыши, в печное тепло, уходя с окровавленной, озверевшей земли, грели руки у пламени, у походных котлов, одуряюще пахнущих разопрелым пшеном и томящимся мясом, а он все брел, толкался, огибал, хоронил от скопищ и стаек, как обреченный на скитания по кругу вечный жид, — человек в отсырелой шинели и островерхом, как монаший куколь, башлыке.
Приюта ему не было нигде, а может, он и не искал пристанища, вполне могущий подойти к костру и быть принятым красноармейцами за своего. Не хотел делить с ними тепло, пищу, воду, даже и говорить на одном языке — русском, теплом, родном, но в их устах невыносимом, как никакой другой чужой.
Так замерз, как, казалось, нельзя — в родном городе, знакомом до сбитых коленок, до детских боевых болячек, до рождественских ангин, до выжженных увеличительным стеклом инициалов удивительной девочки на седом тополином стволе, — и так, как можно только в родном городе, в который входишь на покойницких правах.
А впрочем, он давно уж зябнет и привык. Окоченел, и удивляет только то, что глаза продолжают все видеть, а на щеках и подбородке отрастает щетина. Ведь они не сегодня пришли, эти бороды, рыла… нет, вполне человеческие — вот что дико и необъяснимо, — даже благообразные лица… отобрать у него его дом, его город. Изломать, изуродовать, везде, насколько хватит, положить свой след из конского помета и человечьего дерьма… Алешу убили они не сегодня. Вопросов «как они до этого дошли?», «почему так случилось?» у него уже не было, и оставался лишь один: «неужели пришли навсегда?» И с проклятиями, и с молитвой он, русский человек, донской казак, и все они, пошедшие на красную чуму, не могут ничего, бессильны перед ними — вот этой бесноватой частью своего народа? И все, что было сделано, — лишь месть за потерю всего дорогого и уже невозможность вернуть? Неужель не могло быть иначе? Ведь «всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон», встали тысячи лучших донских казаков, не захотев, чтобы их резали, как скот, и тогда показалось… нет, действительно было, сбывалось: вернем — Вознесенский собор, всю Россию… и будто уж поплыл над Доном древний величальный звон, триста верст до Москвы оставалось, на последний бросок офицерских полков. Почему же не вышло? Махно ударил в спину, и красная клокочущая жижа смыла все: гениальность маневра, столбовых, прирожденных владык — лишь одной своей массой, как Дон на разливе? А может, прав был Витя: народ всегда сильней, талантливей своих отдельных, лучших представителей?.. Но народ поделился едва ли не поровну — на Халзановых и Леденевых… А-а-ы-хы-хы-хы!.. — начал рвать и корежить Извекова смех. — Нет Халзанова, кончился, и остался один Леденев, вовсе не убиваемый, проникающий в каждую русскую душу, как бес, соблазняя, нашептывая: «покорись, целиком мне отдайся, утопи себя в братской крови, и я дам тебе царскую силу и власть». Этот сифилис мозга и сердца оказался всесилен, и на «честь» нам отвечено «нечего есть» и «умри ты сегодня…». И теперь-то уж точно конец? Не хватит сил, народа не осталось, людей, не променявших душу на паек и дьявольскую власть? Ничего не имеет значения, и остается лишь по-волчьи стиснуть зубы и издохнуть?
Что самое необъяснимое — он хотел жить. В сарай, куда его втолкнули по веленью Леденева, перед светом вошли двое красных, ударили по голове и, выволочив на поверхность, везли куда-то в бричке, пока не рассвело, не заметелило, тряхнули в белой пустоте и начали… забинтовывать голову, и с ликованием спасенного оленя понял: отпускают. Да, тварь проснулась в нем, не знающая страха отдаленной смерти и не хотящая сиюминутной. Обрядили вот в эту шинель и башлык, сгрузили на какую-то подводу, в гомон, крики, и он увидел над собой рябую, толстомордую, лениво-злую милосердную сестру.
В косой пурге, под садкий гул бессмысленной, казалось, канонады прибывать стали раненые: отвернутые полы полушубков и шинелей, осколки в поганочно-бледных, сочащихся рудою животах, рыданья раненного в член красноармейца… и вдруг вместо той, рябой, матерящейся: «ничего, проживешь как-нибудь и без…» — другая, нежданно-нездешняя… девушка. Изветренная, выпитая усталью, с бесповоротностью еще не сломанная красота. «Но песен небес заменить не могли…», коньки, руки в муфте, альбом Мариинской гимназии. На миг показалось, что он средь своих, в том первом, незабвенном, Ледяном, и вот она — Таня иль Варя, в солдатской шинели и бабьем платке, с брезентовой сумкою через плечо: «Мы с вами, господа… Нет-нет, мы все решили, и я уже послала письмо маме…»
Откуда она в леденевской орде? Какая нужда, идея какой, за что, с кем борьбы толкнула ее?.. А что, уж, верно, лучше в сестры, чем в комиссарские подстилки, служить по чрезвычайкам за паек… И не мог с нею заговорить и даже в глаза не глядел — хватило с него комиссарика, доигрался с мальчишкой… да если б не подножка от этого Северина, быть может, и достал бы Ирода-царя, рождественского деда — Леденева.
С обозом раненых, уже не Аболин и еще не Извеков, он прибыл в захлестнутый красными Новочеркасск, скользнул с подводы в давке возле госпиталя, затерялся в толпе и вот уже стоял напротив собственного дома, чьи окна лишь отсвечивали желто-рдяным пламенем костров, давно уже тая в своей глуби настуженную, подземным тленом пахнущую пустоту.
Он как-то вяло вспомнил этот запах, когда-то так остро поразивший его, — вокзальных сквозняков, проточной жизни множеств, старьевщицкого мусора, покойницких вещей, потустороннего, всесильного в своем равнодушии холода, перед которым человек и вся его память — ничто. Смотрел на точеные полуколонны, стоявшие на страже чашевидного крыльца, на подковы кирпичных наличников — дом их был и остался ни на чей не похожим, только был уж ничьим, дом, в котором с Алешей переводили гуркотанье голубей на человеческий язык.
— Могу предложить револьвер, — сказал вдруг кто-то за его спиной посреди пустой улицы, и, обернувшись на слова, которые никто из красных сказать ему не мог, он впился в длинные татарские глаза, отсвечивающие почему-то северными льдами, во все это своеобычное лицо с высоким плоским лбом, довольно грубым вытянутым носом и надменно очерченным ртом.
— Ты-и?..
— Ну если вот он ты, то вот и я, — ответил человек, одетый красным командиром — в полушубок защитного цвета и папаху с кумачной приколкой.
— Ты жив… но как ты тут?..
— Шел за тобой от госпиталя. Ты, верно, явился по Ромину душу — тут и гадать не надо, да? Вот и я перешел на подпольные формы борьбы. Пойдем, пойдем — нам нынче, брат, положено в подвалах обитать. Перенимаем у большевиков первоначальные их методы — наводим страх, стреляем в их прославленных вождей.
— Ты неисправим.
— Это лучше всего доказывает, что я жив. — Яворский — а это был он — тащил Извекова знакомыми проулками, в кварталы приземистых одноэтажных, уже деревянных домов, в безлюдье, в заглушье, в кромешную темь.
— Слыхал — ты сгинул под Царицыном.
— Это, брат, эпопея. Цирцею, по правде сказать, не встречал, а вот в свинью неоднократно превращался.
— Так зачем же ты тут?
— А устал, надоело. Как говорил один знакомый наш казак, уморился душой.
— Для самоубийцы ты слишком по-красноармейски одет, — усмехнулся Извеков.
— А может быть, я намерен креститься в их веру.
— Таких они не крестят. Разве что очищают огнем.
— Ну хорошо, считай, что я изверился, — сказал Яворский, — к тому же так оно и есть.
— От этого есть надежное средство — свинцовая пилюля.
— Ну, перед отдаленной смертью, общеобязательной, я, как тебе известно, испытываю детский ужас, а перед немедленной — ужас животный. Жизнь, брат, какая б ни была, — всегда кое-что по сравнению с дыркой от бублика.
— Ну и беги в Новороссийск, на пароход. Если так хочешь жить.
— А что, это мысль. Быть может, это для таких, как я, и есть самое лучшее. Не жить, а тосковать по жизни, которая могла бы быть. Возделывать в себе неутолимую тоску по родине: ах я бедненький, ах я несчастненький, и никто-то мне не поможет, и не надо помогать. Ни царя, ни России, ни Бога — так худо, что и хорошо. Это, знаешь ли, возвышает — хотя бы в собственных глазах. Неумолимый рок. Трагическая жертва века. А солнышко-то светит. Можно и пострадать. Ведь есть от чего, а главное, чем — вот этим моим изысканным студнем, благо из черепушки не вышибли. А ежли какой-никакой капиталец имеется, тогда и вовсе хорошо, страдать можно будет с удобствами.
— Так что ж, ты полагаешь: кончено? — спросил Извеков жадно, спеша сличить чувство Яворского с собственным.
— Читал я тут брошюрку одного краскома, из нашего брата, из перекрестившихся, так он уверяет, любое событие — приход большевиков, крещение Руси, паденье Рима — представляется нам неизбежным только задним числом, в необратимости уже свершившегося, в то время как в самом процессе никакой предрешенности нет, а есть, напротив, тысячи случайностей. Пока война идет, мы ничего не можем знать наверное, а потому и уповать на что-то, и приходить в отчаяние одинаково бессмысленно. Все решают нечаянный необъяснимый мороз, ошибки стратегов, змея в конском черепе… И вообще, ты только вообрази себе, сколько тысяч условий должно было сойтись, чтоб на этой земле появился и воцарился человек, чтобы из первозданного хаоса вдруг возникла земля… Так вот, милый мой, такая теория, пожалуй, похожа на правду, но мне оскорбительна. Холодная и равнодушная вселенная, навязанные нам с тобою хороводы атомов, случайные сцепленья миллионов ничтожных обстоятельств. Слепой произвол — без смысла, без цели. Мне ближе вертикаль божественного промысла.
— Длинно, брат. Ты мне скажи о нашем деле — ты как чувствуешь?
— Ну вот я и чувствую, что Господь уже явно и давно отвернулся от нас. Леденев ли наслал на нас этот буран, буран ли принес Леденева, но наши бронепоезда и гаубицы на валу мгновенно превратились в бесполезные хлопушки. Впрочем, кажется, вскорости Дон разольется уже в нашу пользу. А там, за ним, живая наша конница, полки Гусельщикова, Топоркова… А там и союзные рати возникнут в чешуе златой из моря.
Они вошли в Кладбищенскую улицу.
— Выходит, не веришь, — сказал Извеков в спину Виктору, войдя в калитку мокрого дощатого забора.
— Ну я-то, брат, прост как ребенок. Что вижу, в то и верю, — ответил Яворский, шагая к окну деревянного, с резными балясами дома. — А вижу я, что мы драпаем. Вернее, блестящие наши стратеги со своими штабами. И драпают, заметь себе, с добром-с. — Он постучал условным стуком в непроницаемое черное стекло. — Неправильно, брат, мы с тобой воевали. То ли дело Шкуро — погулял. Мы — за единую и неделимую, а он — за зипунами. Черт знает сколько миллионов ростовское купечество на блюде поднесло. Да и наши донцы тоже, знаешь — Россия, конечно, святая, но не худо бы и елико возможный запасец на изгнание сделать. Быть может, и нам озаботиться, а?
В двери загремели засовы. Безликий в полумраке человек с прикрученной «летучей мышью» безмолвно впустил их вовнутрь, и вот уже Извеков озирался в смутно освещенной комнате, разглядывал двоих сидящих за столом. В суконных гимнастерках без погон. Один, с горилльими бровями, челюстатый, похож был на вахмистра, а то и вовсе на «товарища». Второй, довольно молодой, — с измученным лицом кокаиниста. На столе самогонная четверть, миска кислой капусты, сковородка с картошкой, куриные кости, окурки…
— Евгений Николаевич Извеков, есаул, — сказал Яворский, раздеваясь. — Сотник Беленький, тезка мой. Подхорунжий Ретивцев Прокоп.
— Так, стал быть, ты остался поживиться? — с усмешкою сказал Извеков, садясь к столу и с жадностью протягивая руку к папиросам.
— Положение мое решительно расстроилось, — ответил Яворский, усевшись напротив. — Родители не отличались прозорливостью в практических делах и дом наш на Мильонной и лужскую усадьбу в карман не положили и с собой не увезли. Я, можно сказать, новый люмпен. Морально разложиться оказалось очень просто — для этого достаточно не то чтобы поголодать с неделю, а именно понять, что сытым тебе уж не быть никогда. Что придется работать за хлеб. Ты, Женя, что умеешь делать? Ну, руками? За исключением искусства умерщвления людей? Ах да, ты же наездник, потомственный казак. Найдешь себя в жокеях, в цирке.
Извеков знал соляную язвительность Яворского, его подчеркнутый насмешливый цинизм, к которому тот прибегал, как иные к кокаину и выпивке, и, надо думать, растворял в нем свою тоску по целомудрию. Он не знал за Яворским ни единого подлого дела, включая и почти всеобщие, почти неизбежные мерзости, которые знал на этой войне за собой, считал его чище себя и не верил ни одному его теперешнему слову.
— Честь, верность, служение, — продолжил Яворский, — о, это пожалуйста, рады стараться, но только в мундире непременно от Норденштрема и в перчатках от Треймана. А иначе — чем наше служение отличается от службы мужика? Нас, Женя, изгнали из рая, где мы ни минуты не думали о пропитании, как те самые птички, которые не собирают в житницы. И мы полагали, что так будет всегда, а господа большевики устроили иначе, судьбу нашу сломали, Богом данную, на то они, брат, и безбожники. Не за то ли воюем? Вернуть, вернуться в рай, да только предводимый Леденевыми народ не пожелал вставать обратно в стойло.
— Я когда-нибудь застрелю вас, есаул, — сказал вошедший в горницу высокий человек с «летучей мышью», и Евгений узнал его: это был Федор Нирод, остзейский барон, командовавший эскадроном в полку Глазенапа, прославленный невозмутимым, холодным бесстрашием и…
Евгений увидел завалы босых, раздетых до исподнего расстрелянных — как бледных, костенеющих личинок какого-то немыслимого существа, как буреломный след какого-то метеорита, как нескончаемую череду навально-раздерганных засек, построенных, чтоб заградиться от красных, но, получилось, и на собственном пути, ведь двигались они, Добрармия, Донская и Кавказская, по кругу — на Ростов от Ростова и на Царицын от Царицына. Увидел повешенных на телеграфных столбах, с удавленно распухшими и вылезшими, похожими на бычьи селезенки языками, увидел голых мертвецов, подобных жертвам хирургического опыта в анатомическом театре, с кровавыми дырами в бледных межножьях, словно всё у них выгрызли и сожрали собаки, с отрезанными мужескими органами, засунутыми в рот… увидел сразу все, невыразимое словами и не могущее быть названным никаким одним словом. Он не мог уже вспомнить, чьими были вот те и вот эти убитые и кто кого как убивал, что делали красные с ними и что они делали с красными: свои и чужие сплелись в один неразрываемый клубок, давно уже смерзлись, спеклись в один тучный пласт, как останки доисторических чудовищ, населявших землю на заре палеолита, — и Нирод не был отвратителен ему, поскольку сам Извеков делал то же, что и он, пускай не издевался, не калечил, но и никого не жалел.
— Сделайте одолжение, — услышал он голос Яворского. — Да только сперва объясните: а что ж вы тут забыли? Быть может, и вам лукавый нашептывает: а ну как и вправду чумазые пришли навсегда? А ежели рая для нас с вами, барон, уже не предусмотрено, остается отыгрывать у судьбы хоть эрзац — в николаевках, в золоте. Для нас ить, брат, такая жизня, чтобы стойла чистить, чересчур дюже невыносимая. Ну вот и начали шустрить, устраивать каждый судьбу в одиночку. Тут ведь нас таких, ряженых, в городе не меньше эскадрона наберется. Красные грабят, и мы под их личиной кой-чего прихватываем. Отметьте парадокс: мы считали себя выше нужд низкой жизни, а на поверку человек, который не был сытым никогда, уже не развращается под страхом нищеты, при мысли, что ему придется тяжело работать всю оставшуюся жизнь, а нас такая перспектива ужасает до судорог, до озверения.
— Я здесь не за этим, — отрезал Нирод, сев за стол. — Мой смысл не поменялся с известных вам событий. А вы, Евгений Николаич? — перевел на Извекова взгляд своих волчьих, немигающих глаз, заведомо как будто равнодушных к любому ответу.
— Теперь уж не знаю, — признался Евгений. — Пытался подобраться к Леденеву.
— Так за чем же дело стало? Вот он, под боком, в Атаманском дворце.
— Свое преимущество внезапности я, увы, утерял. Личину и мандат. Необходимы новые соображения и средства. У меня — ни того, ни другого. Но я не понимаю тебя, Витя, — взглянул Евгений на Яворского. — О каких таких нищих ты говоришь? А резал кто нас, резал? Юнкеров, гимназистов, детей? За погоны? За крест золотой да и медный? Какие же такие ничем не развращенные бессребреники? Очистившие душу нуждою и страданиями? Когда это ты признал за голодными право брать у сытого все, включая и жизнь самоё, лишь на том основании, что они голодны? Да мы же из-за них людьми себя не помним. Всю землю загадили, залили кровью и еще будут лить, кровью нашей кормиться, как вши, сначала нашей, а потом… Я-то, брат, понимаю, за что они меня убьют, а этих, осчастливленных свободой, будут резать как свиней, и они не будут понимать, за что.
— Когда-нибудь и товарищам эта кровь отольется, — ответил Яворский. — Причем не Господь, полагаю, прострет свою карающую длань, а сами… Уж что-что, а сами себя наказать мы, русские, умеем. Не успевает Бог доглядывать. Едва обратит на нас свой взыскующий взор, а мы уж сами себе лоб в земных поклонах размозжили. Самим себя не жалко — так кто ж нас пожалеет? Все виновные, все невменяемые. Каждый болен на собственный лад: кто воюет, кто вешает, кто мародерствует в горящем бардаке во время наводнения… и вообще, коль пропадать, так значит, уж все можно.
— И ты — на большую дорогу?
— Я, брат, приобрел страсть к дешевому авантюризму. Таким, как мне, за землю уж не уцепиться — корешки гнилые, нет во мне черноземной той силы, какая, например, в Халзанове была, — ну вот и надо как-то развлекаться.
— Как же?
— Ты об Игумновых слыхал?
— Да ты, брат, и впрямь нездоров, — засмеялся Евгений. — Что, клад на острове Буяне? Пароходы, пираты, таинственная шайка в черных полумасках? А знаешь, я ведь там нырял, напротив Багаевской, на каникулах летом и едва не утоп.
— Да, богатые были купцы, исполины. Двести тыщ серебром утопили и даже аппетит не потеряли. — Глаза Яворского не засмеялись. — А ты знаешь, что у Николая Елпидифоровича есть дочь? Жена, вообрази себе такую пошлость, сбежала с офицериком на Волгу и дочь утащила с собой. А тут уж роковые грозы, Игумнов под арестом у германцев в Брест-Литовске, в то время как наша Анна Аркадьевна не то бросается под поезд, не то умирает от глоточной… Ну, словом, несчастный родитель дает за девочку полцарства, доллар неразменный.
— И где же ты ее намерился искать?
— А здесь, в леденевской орде.
Евгений почуял пощипыванье, как в пальцах от горящей спички, которую зажег, но забыл поднести к папиросе:
— Постой, фотография есть?
— Изволь, — достал Яворский портмоне и протянул ему затрепанную по углам фотографическую карточку.
На ней была девушка в гимназическом платье, и со спокойной ясностью взглянули на Евгения — да, те! — отяжеленные печалью светло-серые глаза.
— Я видел ее, — сказал он, поперхнувшись смехом, и все подались к нему, как борзые на сворках. — В леденевском обозе. Сестрой милосердия.
— Нда, бессмысленная вселенная. Случайные совпадения атомов и молекул, — повторил Яворский. — И очень уж похоже на работу третьесортного беллетриста.
— Да ну какой же черт ее толкнул?
— Самый обыкновенный, ходульный черт нашего времени — с чрезвычайным мандатом и красной звездой. Нашелся ее след в Саратове. Устроилась хожалкой в госпиталь к Спасокукоцкому. А там как будто губчека изобличила в ней враждебный элемент — потому и ушла милосердной сестрой с Леденевым. Впрочем, бог ее знает — может быть, и идейная. Как ты, наверное, заметил, в революцию и вообще на жертву охотнее всех идут дети. Обоих полов. Что их могут убить, для них невозможно и непредставимо. К мотивам же девиц добавляется и материнский инстинкт, а также романтические чувства. Муки нас возвышают, и мы этим пользуемся. Ну так что, господа, за кого же беремся — за сатану или за ангела? А, Женя? Ты, помнится, холост — вообрази себе приданое, какое даст за ней папаша. Все можно купить, кроме родины. А что до Леденева…
— Его я уже видел, — перебил Евгений, опять задыхаясь от неутолимой, как будто и впрямь бессмысленной ненависти.
— И судя по тому, что ты сидишь передо мной…
— Да, отпустил.
Глаза Яворского расширились в каком-то детском восхищении, и он расхохотался:
— Выходит, помнит нашу клятву. Друзья мои, прекрасен наш союз… Нет, ты подумай, как же все-таки смешно: сколько раз мировой этот зверь выручал нас от смерти и сколько раз мы покушались на него.
— Что значит «мы»? Ты тоже?
— А где же я, по-твоему, так долго пропадал? Почему под Царицыном сгинул?
— А Халзанов, Халзанов?! Как ты с ним распрощался?
— Это, брат, эпопея. Хочешь спать или слушать?
XVI
Май 1916-го, река Стоход, Волынь, Юго-Западный фронт
Похотливо уступчива мочажинная почва. Держит — шаг, держит — два, обнадеживает… и вдруг заглатывает ногу по колено. Курчавая перина малахитового мха колышется будто живая. Побулькивает темная вонючая вода, заливая глубокие дыры от вязнущих ног. Густеет серный запах взвороченного ила, несет застойной сыростью и прелью, гнильем топляков. Заливы высокой осоки, лохматый осинник, еловый подрост не дают взгляду воли, а уму — пропитания.
В последних числах мая, перед началом фронтового наступления командование армии задумало масштабную кавалерийскую атаку севернее Луцка и бросило 4-й конный корпус Гилленшмидта в рейд на Ковель. Почему-то из всех направлений удара было выбрано именно это. Не то что выпустить коней, но и идти было нельзя. И вот 16-й Донской казачий полк месил полузатопленную гать, ползуче продвигаясь к деревне Вулька-Галузийская. Из-за лесистого увала накатывали тряское, увесистое буханье и задыхавшееся, рвавшееся «Ррр-а-а-а!..».
— Слышь, братцы? Насыпают терцам.
— Что ж, зараз и нас приласкают, — предрек Гришка Колычев, по пояс вымазанный грязью. — Ну, братцы, говори, кому что завещать.
«От страха веселит себя», — подумал Матвей, поглядывая искоса на шуряка и примечая, как лицо того подергивает судорога, а губы расползаются в мучительной улыбке ожидания. И вспомнились тотчас Карпатские горы, задавленный мальчишка-австрияк и первое ранение, приведшее его, Халзанова, в Москву, и тотчас же следом послышался шелест и клекот снаряда.
Левее от гати, саженях в пяти, тяжелым фонтаном всплеснулась болотная жижа. Еще не заглохли садкий грохот разрыва и режущий визг осколков в ушах, еще не поднялась прибитая осока, как новые шелест и визг накрыли болото — вскипела и уж непрестанно вздымалась столбами застойная, от века не тревожимая топь, все гнилое нутро ее вывернулось наизнанку, оплескивая казаков тяжелой грязью, осыпая ошметьями мха и трухой топляков, и, перемазанные с ног до головы, словно вот этой топью и рожденные, они бесноватыми свиньями ринулись в стороны, толкаясь, сбиваясь, валясь и сами себя скармливая вздыбленной плотоядной трясине.
— Куда?! Не бегай! Вперед! — услышал Матвей крик Мирона. — Впере-о-од! Шагу дай! На сухое!..
Оборванный заячий вскрик — с растущими от изумления глазами Яшка Фокин хватается за грудь. Пройдя еще пару шагов, спотыкается. Матвей и Гришка успевают подхватить его, волочат по осклизлым бревнам гати, ощущая противно знакомую тяжесть безвольного тела.
Куда ни кинь, встает стеной и рушится в лицо, распалясь заглотить, преисподняя — не адский огонь, а поганая яма, могильные соки, взбесившийся тлен. Неподавимый страх подкашивает ноги, но какой-то живой, трезвой частью рассудка Матвей понимает: проклятое болото их и бережет. Австрийские снаряды входят глубоко, и получается не всплеск, а что-то вроде камуфлета — трясина глушит буревое давление взрыва, вбирает и вяжет осколки, хоронит их, топит в себе. Но в чистой вышине неистово вспухают белые хлопчатые дымки — картечины шрапнели общелкивают ельник, смачно чмокают топкую почву, там и сям выбивая людей.
Повалился Ванюшка Пшеничнов, поймав руками голову в повители курчавых рыжеватых волос, не давая сбежать молодой своей крови, сознанию, чувствам, да где там — прорвалась и сквозь пальцы веселая алая кровь, замешалась с коричневой жижей, растворилась в стоячей воде.
Дорвались до увала, опустили хрипящего Яшку на землю. Тот был еще жив, тянулся к ним губами, сереющим лицом — не то передать что-то самое важное, не то расспросить их о чем-то, о чем собирался — всю жизнь, да все недоставало времени.
Халзановская сотня, растянувшись в цепь, полезла на гребень увала. Как будто и впрямь на гортанном немецком наречии залопотали пулеметы, и по сосновой гущине защелкотал, запрыгал их огонь: щепя стволы, срезая хвою, вгрызаясь в землю у корней, неистово сеялись, шпарили, нашаривали человека разрывные.
Вскарабкавшись на гребень, Матвей увидел все: рыжеватые брустверы сквозь колючую путанку проволочных заграждений — грязно-серые рваные цепки соседнего пехотного полка, бегущего назад по кочкам трупов, отступая обратно в трясину, — незатухающие свечи четырех австрийских пулеметов.
Он выкрикнул взводу прицел и сквозь частуху пачечной стрельбы расслышал ругань брата.
— Подымай! — надрывался войсковой старшина Кунаков.
— Всех положим на чистом! — кричал брат в ответ.
У подножья холма собрались командиры всех сотен — дожидались полковника Юдина, спорили, наступать или нет, в то время как лежащие на гребне казаки постреливали по австрийцам и всем своим инстинктом самосохранения все глубже вкоренялись землю, и Матвей ощущал, что никого из них не то что криком не поднять, но и пешнями из земли не выкорчевать.
Давил нарастающий клекот снарядов, и облегчающе звучали их далекие, с перелетом, разрывы. Пулеметные струи, чивикая, резали воздух, накаленные пули с гадючьим шипением цапали землю, подбираясь к рукам, к голове.
Команды подыматься не было так долго, что сделалось понятно: до темноты движения не будет. Атака их бригады захлебнулась по всему отрезку фронта, и пулеметы австрияков замолчали, лишь вдалеке, верстах в пяти левее, упорно пухнул орудийный гул и дрожала земля.
Матвей лег на спину и долго глядел в безучастное, бездонно спокойное небо в просвете между черными верхушками сосен. Застывшие в бездрожной вышине громады облаков, словно вылитые из червонного золота, напомнили ему родные обдонские горы, раскат и покой ледоставного Дона, вот так же сиявшего рыжей рудой закатного солнца. Алели заметенные снежком закраины, то остро зубчатые, то плавно волнистые, на середине же блистало незамерзшее стремя, ломало тонкий лед на слюдянистые пластины, несло полупрозрачные осколки своей будущей ледовой неволи.
Он шел по сахарно похрупывающему первопутку, отпущенный домой на две недели, вдыхая полной грудью морозный колкий воздух и гадая, признает ли его на этот раз Максимка.
По первом приезде из Москвы, не угадал, угрюмо-неуживчиво, недоверяюще-испуганно взглянул Халзанову в глаза.
— Что же, не угадаешь папаньку? — Халзанов почти не услышал своего ослабевшего голоса.
— Мой папанька — Матвей, — прошептал сын в ответ, не сводя с него настороженных, испытующих глаз.
— Вот так так! А кто ж я-то?
— А бог тебя знает. — Голос дрогнул в испуге: а ну как уйдет — и никто уж не явится, кто отцом бы назвался?
— Ты гляди, сгонишь с база родного отца — так и будете с мамкой вдвоем проживать. А так хучь я твоим папанькой буду. Мать-то, видишь, признала меня. Ей-то веришь? Уж она-то меня лучше знает — дольше, чем ты на свете живешь…
Жадно втягивая горький запах кизячного дыма, Халзанов миновал большой ветряк с косым крестом намертво причаленных крыльев, бесконечно знакомые хаты, курени с их резными балясами, магазины, лабазы и бани, которые ничуть не изменились с прошлого приезда и даже со времен его разбойничьего детства, но оттого казались только более таинственными.
Каждый дом, каждый столб и шесток говорили ему: «Да, ты наш, мы признали тебя, оставайся тут с нами, живи». Вместе с зимними запахами в его чувственной памяти оживали и летние: полынка, разнотравья, арбузов, омоченных дождем столетних виноградников, которые он в детстве разорял, подбираясь к тугим черным гроздьям в густом сизом воске.
Отец возился на базу — обернулся на стук и наморщился так, словно к нему заковыляла колченогая собака. Моргая, облапил Матвея, притиснул к себе и всхлипнул, сотрясшись всем телом.
— Здорово живете, батя.
— Живем как-нибудь. А ты, кубыть, опять пораненный? Иначе разве объявился бы?
— Есть трошки, пустяковина. При вас зато побуду.
— В урядники старшие произведен, — неверяще тронул отец три новенькие лычки на погоне. — Гляди, так и брата догонишь. Мирон что ж?
— Кланяться велел. Трудненько догнать его будет — уже есаул.
— На сотню поставлен? — Отец приосанился, глаза перестали моргать, зажглись торжествующим хищным огнем…
Матвей как чужой озирался в диковинно знакомой обстановке. Все так же кисло пахло овчинными тулупами и живым, теплым духом взятых на зиму в дом нарожденных ягнят. Все так же крепки были, не рассохлись натертые речным песком до блеска половицы, все так же голубели и краснели неслинялые цветы на сундуках. Все так же угрозно, взыскующе смотрел из золотого фольгового оклада Николай Угодник, пугавший его в детстве какой-то высшей мерой спроса, как если бы Матвей был грешен еще в материнской утробе. Все так же украшала стол клеенка с портретом прежнего царя в мундире атаманского полка. Бессмысленно-сычиными от напряжения глазами глядели с фотографий молодой отец, застывшие, как на параде, брат Мирон и сам Матвей, в мундирах, при шашках, расчесанные волос к волосу. Лучащимся прощальной теплотой, лукаво-укоризненным, любующимся взглядом смотрела покойная мать.
Осекшийся шорох шагов заставил его обернуться: придерживаясь за косяк, в дверях застыла Дарья, простоволосая, в накинутой на плечи шали, с распахнутыми будто в ужасе глазами. С неуловимой быстротой лицо ее вымыла ошалелая радость, и вся она, не двинувшись, превратилась в тугую, звенящую устремленность к нему, как красноталовая хворостинка, пригнутая на излом, хранит упружистую тягу ввысь и, как только отпустишь, охлестывает тебя в кровь.
Притянул и вдыхал ее, пил, с воскресшей остротою ощущая сонное тепло, голодную силу во всем стосковавшемся теле, сложный запах печеного хлеба, коровьего вымени и анисовых яблок, опаленных морозцем.
И вот уж сидел за столом, держа на коленях Максимку, смотрел на жену, от которой запахло огуречной помадой и сметанной жировкой. На бабку Авдотью, которая когда-то толкнула его к Дарье, и на деда Игната, который выбрался к столу из своей горницы и, умостив на костыле корявые коричневые руки, называл его то казачком, то Мироном…
— Рубцы-то старые почти уже сошли, — сострадательно-бережно трогала Дарья прошлогодние метки осколков у него на плече, находя их, как кошка находит занозы у себя же самой.
— Так я ж хвеномен, — усмехнулся Матвей, нарочито коверкая слово. — Забыла, что ли, аль не говорил? Доктор, было, в Москве мне сказал: ты, братец, загадка природы. Заживает на тебе как на собаке. А ежли мне в грудь, говорю, свинцом вдарит, тогда как? А это, отвечает, было б дюже любопытно посмотреть, даже жалко мне, братец, что ты легко раненный…
— Когда ж она кончится, ваша война? Ить всех по станице, как веником, на воинскую службу замели. И все как в прорву ненасытную: что ни неделя — похоронная. Иван Земляков без ног прискакал и песню привез — силов нету слухать. Про два железных костыля. Как услышу, так тут же тебя вспоминаю — продыхнуть не могу, сердце пухнет. Да братьев, да Мирона.
— Да Ромку Леденева.
— Ну глупой! Теперь не я об нем, а ты забыть не можешь, — засмеялась она, прислоняясь щекой к его ровно дышавшей груди. — Так до своих на хутор и не заявлялся, говорят. Как и нет у него никого — ни брата родного с сестрой, ни отца. Как понять?
— К образованным тянется, в офицеры пролезть норовит. А там уж все другое: и речи, и ухватки… В офицерском собрании в белых перчатках денщики им обед подают. Да барышни с зонтиками, в стану как оса. И нежные — аж голубые, сквозь кожу все жилки видать. А в Гремучем что есть? Коровьим навозом несет да мочой — напоминает ему, стал быть, откуда он произошел.
— Да ты никак сроднился с ним там, в госпитале.
— Да уж кой-чего понял. В науку твой Ромашка вгрызся. По койкам кто царя ругает, кто в карты, кто о бабах, а он, вишь ли, книжки читает, как скажи, над ним наш поп Василий стоит. «Кавалерийские вопросы» графа Келлера.
— А сам-то ты, что ж, не таков?
— Навроде того.
— Так это тебе тоже барышню тогда подавай. От меня-то — навозом.
— Да что мне те барышни? Павлины заморенные. Военную науку, всю, какая есть, пройти хочу. Не «левый шенкель приложи и коня поверни» — тут и кони не хуже людей понимают, — а как сотни водить.
— Науку — людей убивать?
— Война спокон веку идет меж народами. Цветочки луговые, и те друг дружку давят — к солнцу тянутся, поглубже в землю вкорениться норовят. За эту-то землю, на которой живем, разве прадеды не воевали? Воевать не научишься — может статься, такой враг придет, что и вовсе с земли нас всех счистить захочет.
Изумленно-неверяще трогала Дарья его обыкновенную на ощупь кожу. Правду ль доктор сказал или нет, это было неведомо, а она словно впрямь норовила Матвея заклясть, наделить чем-то сильным своим, от чего и железо отпрядывает. Ладонь ее будто текла у него по лицу, по груди, и Матвей ощущал, как тугие, горячие токи проникают вовнутрь, размягчая в нем все, и Дарья своими руками, губами неутомимо лепит его заново — ушную раковину, нос, глаза… Потеряв счет неделям, годам, становился он легок и чист, как дите, как Максимка, который подлетал к потолку на его всемогущих руках и, возвращаясь, ударялся ему в грудь, захлебываясь смехом до икоты…
Кто-то тронул его за плечо, и он, открыв глаза, увидел над собой уж густо-фиолетовое небо, в котором трепетали мертвенно-белесые зарницы от взлетающих там, у австрийцев, ракет. Прямые, как столбы, матерые сосны почти уж растворились в обволокшей землю тьме, от оставшегося за спиною болота подымался туман. По сотне выкликали охотников ползти к австрийским пулеметам.
— Ну что, шуряк, спробуем? — жиганул Матвей взглядом онемевшего Гришку, который с небывалым тщанием возился со своей винтовкой и тем как будто бы оправдывал свою глухоту.
Матвей пошел к брату. Он не чуял ни гордого вызова, ни любования собой, ни хватки долга — одно лишь возбуждение, неотделимое от страха и вызываемое только страхом смерти. Возможно, и было желание выказать храбрость на глазах у товарищей, желание славы, наград, восхищения, но это желание было привито так рано, такое казачье, такое свое, что он и не думал о нем.
— Дозвольте мне, вашбродь, — оскалился.
Брат впился в него тем жадным, тоскующим взглядом, который выдает животный страх потери, потребность остеречь и уберечь, и чувство кровного родства прожгло Матвея.
Командуя сотней, Мирон должен был никого не жалеть и понимал, что он уже не может все время заслонять собой Матвея, что тот, возмужалый, давно отделен от него и должен сам беречь себя от смерти.
— Еще двоих нужно… Охотники! Есть?!
Опередив заколебавшегося Гришку, с Матвеем вызвался идти Афонька Чекунов, молодой светло-русый казак Егорлыцкой станицы. Наконец-то решился и Гришка.
Матвей засунул за рубаху две гранаты, перекрестился стоя на коленях, лег на землю и пополз вниз по склону. Молочно-голубые лезвия прожекторных ручей полосовали фиолетовое небо, врезались меж черных сосновых стволов, преломляясь, ползли по равнинной земле, удлиняясь и ширясь, и казалось, что это какие-то призрачные исполины, поднявшись в полный рост вдоль горизонта, размеренно-медленно машут огромными светящимися косами, вырезая из мрака все живое и мертвое, и каждая травинка в мертвенном луче становилась видна.
«А этот с чего вызвался?» — покосился Матвей на Афоньку. Тот будто бы и не особенно жался к земле, зеленоватые глаза начищенно блестели. Слыхал Матвей: худую весть принесли Чекунову отдыхавшие дома станичники — что с каким-то приказчиком сбежала от Афоньки гулящая красавица-жена, — и будто бы сказал Афонька: «За жизню теперь не держусь»… Ползти сквозь кусты, меж частыми соснами было легко, на вот уж скользнули на чистое, и тут стало жутко: чужая равнодушная земля не дарила ни складки, ни рытвинки, потусторонне-мертвенное щупальце прожектора подбиралось к хребту. С Матвея будто бы стесали старую, до деревянности бесчувственную кожу, и оголившееся тело остро отзывалось на каждый шорох, встрепет, встреск…
Наконец-то ложбинка. Поползли друг за дружкой по узкому руслу, и вот уж стало видно колья заграждения, железные репьи колючей проволоки в залившем всю землю синевато-белесом, как будто бы предсмертно подрагивающем зареве.
— Гляди, обсмоленные! Неужто электричеству пустили?! — хрипнул Гришка.
— Режь давай! Ну!..
Гришка тотчас лег на бок и до предела выставил винтовку с хищными штык-ножницами. Стальная жила хрупнула на лезвиях, как былка, за ней еще одна — пролезли, продираясь, и замерли в этом колючем загоне, сторожа каждый звук… Поползли ко второй, страшной линии этих проволочных заграждений, и Гришка потянулся железными клешнями, и тотчас что-то тенькнуло и проскочило по всей узловатой струне, пучки неистового синего огня со змеиным шипением перекинулись на шуряка, и Гришка, ужаленно дернувшись, забился в падучей, как будто пытаясь стряхнуть с себя этих светящихся тварей, и брызнула по проволоке пулеметная струя. Охлестнутые сжались, влипли в землю.
Австрийский пулемет зашпарил наугад… Матвей, не понимая, что он делает, метнул себя вперед — железный ежевичник прихватил, вдоль хребта раздирая рубаху… Он слышал уже не ушами, а всей своей кожей, и сердце в нем сжималось и вспухало, толкая куда-то. Он видел горбину землянки, которую обозначал игольчатый, еловой лапой вспыхивающий ореол пулемета, он знал: два десятка саженей — и огонь этот станет не страшен, приникая к земле за спиной.
— Стой! Куда?! — успел крикнуть он, но Афонька рывком приподнялся и бросил гранату.
Та ударилась в сруб, отлетела и лопнула, и Афонька упал на лицо. Две-три винтовочные пули грызанули землю возле самого халзановского локтя. Он вильнул и пополз, как обваренный, по дуге огибая Афоньку… Прицельно пущенные пули клевали, ворошили Чекунова и даже будто подвигали по земле, наталкивая на Матвея, как корягу, и Афонька, уж мертвый, Матвея спасал, поневоле закрыв своим телом…
Матвей, вылезая из кожи, приткнулся к землянке, неведомая сила потащила его вверх, распластала на плоской макушке. Будто и не нашарил глазами, а унюхал отдушину, различив горклый запах сожженного пороха. Гранату рванул из-за пазухи, вдавил рукоятку в рычаг и спустил по трубе — загремев, взорвалась слабым сдавленным звуком.
Обрекающий лай пулемета, как обрезанный, смолк, и вместе с этой тишиной в Матвея хлынул рев казачьих сотен — то нарастающее, то слабеющее «Ррр-а-а-а!..». «Вот теперь доберутся!» — опалило его торжество, и немедленно следом почуял горячую боль в правой ляжке. Подбежавшие справа и слева австрийцы бестолково ширяли в него ножевыми штыками, норовя будто не заколоть, а согнать его с крыши как кошку. Уходя от тычков, покатался, стиснул рубчатую рукоять револьвера и сорвался с откоса. Страх толкнул его на ноги. Безликий в сумерках солдат прицелился в Халзанова с колена и выстрелил в ту самую секунду, когда Матвей, отпрянув в сторону, прилип лопатками к стене окопа. Выстрел хлопнул в пустое. В неуловимо краткий миг, вертясь и озираясь, Халзанов расстрелял полбарабана — подранил одного и застрелил в живот другого, упавшего ничком, как срубленное дерево.
Он хорошо усвоил, что нападающие скопом горазды перекидывать работу друг на друга: своя рубашка — не чужая к телу липнет; что они неспособны подчиняться друг другу, как твои руки-ноги тебе самому.
Пригнувшись, поймал рукоять засапожного бебута. Австрийцы в самом деле жались к стенам, хоронясь за уступами, в нишах, и стреляли в пустое будто лишь для порядка… Но кто-то, напрыгнувший сзади, повис на плечах, и Халзанов боднул его в рыло затылком и толкнулся всем телом назад, до капустного хряста вбивая человека в откос. Тряхнул освобожденными руками, почуяв, как из горла рвется торжествующий, повизгивающий хрип, крутанулся рубить и колоть — и немедленный страшный удар сзади в голову помрачил в нем сознание. Утоптанная мертвая земля как будто встала дыбом, стремительно летя ему навстречу.
Он упал и не мог ворохнуться, но все еще чувствовал. Его безостановочно пинали и топтали, но почему-то не кололи, как пригвождают к полу закапканенную крысу. «Бегут», — скользнула мысль… Сапоговая сила впечатала голову в землю.
XVII
Январь 1920-го, Новочеркасск
На колокольне Вознесенского собора, в высшей точке извечного человеческого устремления к Богу, небывало взыграла труба, вознесла надо всем стольным градом призывный серебряный клич: все вставайте, в чьих жилах бежит трудовая рабоче-крестьянская кровь, все из теплого города в бесприютье степей, в реки талой воды, никто из вас уже не может существовать сам по себе, всем — видеть впереди лишь мировую революцию и больше ничего. Вас зовет Леденев.
И уже не слепое, опившееся безголовье разливалось ручьями и ползало в улицах города, а ряды слитной силы, будто взятой в невидимые берега, бесконечно стекались к Николаевской площади, утекали из Новочеркасска в поход, в ледяную колючую морось, в беспроглядье лежащих в тумане полей, к разлившемуся в середине января, еще казачьему, еще белому Дону.
— В прах костями мы ляжем. Ленин — опора и сила в битвах за красную Русь, — перевел трубный клич на кощунственный лад затаившийся в арке Яворский и в который уж раз попытался заглянуть в черный зев башлыка — в неразличимое лицо стоящего напротив неизвестного: — Почему же я должен вам верить?
— Вольному воля. Вы еще офицер или кто? Бандит, Пинкертон, вольный странник?
— Ну а вы, всадник без головы? Послушайте, вы стыдливы, как наложница турецкого султана, — приоткрыли бы лик, тогда бы, может, и симпатия возникла.
— Ну что вы как маленький?.. К девчонке не суйтесь, мой добрый совет. За ней теперь смотрят — с налета забрать не получится. Да и товар попортить можно. Это за Леденева, и живого, и мертвого, двести тысяч дают.
— А не вы ли, железная маска, за ней надзор установили? Конкурентов боитесь?
— Поелику имею такую возможность, отчего бы и нет? И вы, погляжу, не бессребреник, и я не святой. Вас сколько? Трое? Четверо? При мне ревтрибунальские мандаты — берите и езжайте следом на любой подводе. Ждите распоряжений. Авось и обрящете полцарства за купеческую дочь.
— А что ж вы сами с нею не уйдете? Ведь в самом деле может пострадать. Не у вас же за пазухой. Чудом цела.
— Обидно уходить на ровном месте. Хотелось бы оставить товарищам на память хорошую зарубку.
— Еще более странно, — усмехнулся Яворский. — Новомодные психологи уверяют, что у человека не может быть двух побуждений. Либо уж идеал, либо уж капитал.
— Не время, есаул, для русских ковыряний в своей и чужой душе. Вы со мной — так берите мандаты, или все, разошлись, пропадайте, как знаете.
— Зачем мы вам? — проныл Яворский.
— Так ведь страшно одному. Нервы, знаете ли, совершенно… Люди, люди нужны, с головой.
— Я лично вызвался идти сюда за девочкой, — сказал Яворский, — и никаких других распоряжений от своего командования не получал.
— С девочкой вы обмишурились. Теперь я предлагаю вам борьбу с большевиками — или это уже не входит в ваши представления о долге? Послушайте, есаул, никто не лишает вас куша…
— Ну спасибо. Только идти за вами надо, ровно лошадь в шорах.
— Ну почему же в шорах? Могу сказать прямо: я готовлю диверсию. А дальше уж от вашей ловкости зависит. Уйдем к своим, кто будет жив. С девчонкой, конечно.
— Ну и как же вы предполагаете держать с нами связь?
— А самым первобытным способом. Первый столб на околице — там я вам письмецо. Ну вам же нравится играть в команчей, а?
— А девочка, что ж, так и будет в боях под шрапнелями?
— Постараюсь ее закрепить за каким-нибудь ценным больным. Ну так что, вы берете мандаты?
— А знаете, это и вправду интригует. Таинственная тень, незримый кукловод. Всю жизнь мечтал попасть в такую дешевку.
Безликий человек в остроконечном башлыке немедля извлек из-за пазухи небольшой аккуратный пакет:
— И никакого своеволия, прошу вас, есаул, для вашего же блага.
Они разошлись. Густые лавы конницы текли по центральным проспектам, и до них, одиноких теней, по-заячьи петлявших узкими проулками, никому уже не могло быть дела.
«Умеет же закутаться, — раздумывал Яворский, жавшийся к заборам. — Ни телосложения, ни теловычитания, и даже голос будто бы из подпола — ну совершенно неизвестно что. И побежим за этой тенью, как псы на запах колбасы? А главное, зачем? Ничего не хочу, разве что невозможного — в детство. Хочу назад, в свою постельку, лежать в бреду с рождественской ангиной, и чтобы мама трогала мой лобик, и чтобы одно ее слово могло убить смерть. Довериться этим единственным в мире рукам — пускай они сражаются ночами за мое существование, дают мне горькое лекарство и брусничную воду, растирают мне спиртом холодные пяточки и ощущают через них меня всего… А может, в этом-то и дело: сам уже не могу возвратиться — так хоть девочку эту хочу возвратить, вернуть ее отцу, вернуть ей детство и вообще ее единственную жизнь. Она ж как бабочка, что вывелась зимой на Рождество, средь этой степи и снегов. Они никому не прощают породы, да и не породы, а просто инакости — лица, не схожего с их собственными харями. Они и Леденеву, мужику, с текущей в его жилах черноземной кровью, не простят его силы, ибо дать ему быть, как он есть, означает неравенство. Пока жив, он всегда будет брать свою львиную долю, а девочка эта — одним своим лицом напоминать, что возможна другая, недоступная их пониманию жизнь. Это вам не земля, землю можно по-всякому перекроить, а вот божьего дара по кускам не растащишь, не присвоишь, не обобществишь. Теперь уж только за морем спасется… Но хочет ли она, чтоб мы ее спасали? Зачем она в этой орде? Куда идет? За кем? Спасает себя? А может, за первой любовью? За счастьем для всех?.. Этот взгляд ее — что было в нем? Оттолкнула меня или попросту не успела понять, куда мы ее забираем?.. Вольно ж было сунуться тому комиссару. Откуда же он взялся, альбинос, — как будто и стоял там, наблюдал, и мы его просто не видели…»
Пройдя по Кладбищенской, толкнулся в калитку, на двор. В одном из оконцев, задернутом морозной паутиной трещин, зиял черным зраком вчерашний пролом — влепили половинкой кирпича, уломок обернут запиской. Химическим карандашом и печатными буквами назначено вот это вот свидание.
— Слушайте, всадники-други, — сказал, войдя в горницу. — Выступает из города Рома. Мы теперь с вами ревтрибунальцы, — и разорвал пакет коричневой оберточной бумаги. — Выводите лошадей, Ретивцев.
— И ты ему веришь? — не шевельнувшись, поднял на него глаза Извеков.
— Так, а это что такое?.. — В пакете обнаружился листок порыжелой газеты, и, развернув его, Яворский дрогнул. — Ты только погляди на это — узнаёшь?
Он положил на стол перед Евгением страницу «Инвалида», и тотчас же в глаза тому ударил заголовок «Верные сыны России», а под ним — групповая фотография в госпитале: пять сестер милосердия и столько же страдальцев в одинаковых больничных халатах. Один привставал на диване, у всех были бритые головы, и эти оголившиеся черепа и жалкие победоносные улыбки делали их лица малоотличимыми, на первый взгляд и вовсе похожими до капли, но, конечно, Яворский с Извековым не могли не узнать среди «верных…» себя, не могли не узнать всех «сынов».
— Откуда это у него? Зачем?
— Ну, видимо, чтоб показать свое всезнание и даже всемогущество.
— Но зачем ему было таскать эту древность с собой? Или что, он заранее знал, кого встретит в двадцатом году? — засмеялся Извеков нервически.
— Полагаю, его занимал Леденев, а теперь этот древний листок и для нас пригодился. Ну и глаз же, однако, у этого Ангела. Память, соображение. Когда же он успел за нами подсмотреть?
— Ну ты же его видел только что. У тебя-то что с памятью?
— Нет, милый. Только силуэт.
— Послушайте, господа, может, хватит гадать о пустом? — перебил их Нирод раздраженно. — Ведь нас об этом Ангеле предупредили. Он у красных уселся давно, и надежность его несомненна. Скорее, это в вас, Извеков, можно сомневаться, уж коль сам Леденев обходится с вами столь трепетно. А с помощью этого Ангела, быть может, и впрямь удастся добраться до вашего Ро-омы.
— По-моему, этому Ангелу просто нравится с нами играть, — усмехнулся Яворский. — С нами, с девочкой, с Ромой, с его комиссарами. Должно быть, он мнит себя творцом человеческих судеб, художником жизни. Порфирия Петровича у Достоевского не помните? Какие у него имелись развлечения? Боевые пятерки, студентики? Ну, словом, мелочь, скукота, осенних мух давить в участке. А нынче для него простор. Человеческого материала, крови теплой, живой предовольно.
— Я когда-нибудь с ума сойду от твоей литературщины, — сказал Извеков.
— Да нет, ты послушай, сейчас леденевское время — эпических сражений, пролетарских ахиллесов. Конечно, и оно скоро кончится, это сказочно-вольное время, и все заплачут по его кровавой чистоте, по той кристальной вере, что заставляла русских резать русских. Резня, брат, конечно, продолжится, но уже безо всякой надежды на рай. О, сколько песен будет сложено об этой первобытной чистоте и простоте — врубиться в противника в честном бою. О, как воспоют Леденева, Халзанова, Буденного, Корнилова — всех мертвых героев. От нас останется прекрасная легенда, милый мой, о белых рыцарях и красных исполинах, и не важно, кого воспоют как героя, а кого проклянут как исчадие, тут главное — легенда, тем более прекрасная на фоне будущей эпохи. Ведь мы с тобой вихрились в дикой скачке, а завтра будет жизнь ползком и разговоры только шепотом. Грядет большая эра дознавателей, которая сейчас лишь зарождается в подвалах чрезвычаек.
— До чего ж дознаваться-то?
— Кто кем был до великой войны и кем стал. Ибо все мы, мой милый, потеряли себя, все мы бывшие. Не только дворяне, но и все мужики будут бывшими — вот и станут тягать их на чистую воду: доволен новой жизнью? Такого ли счастья ты ждал? Хотели-то пресветлого, без рабства, всечеловеческого счастья, а выстроят то, что получится, — получится же, ясно дело, дрянь. И каждый будет знать… конечно, про себя и даже тайком от себя: дрянная построилась жизнь. И каждый будет знать, что виноват. Изверился — значит виновен, сомневаешься — значит чужой, и даже если веришь слепо, истово, все равно будешь под подозрением. Вожди-то будут знать, что всех обманули, но не себя за то казнить, а мучить всех обманутых, боясь, что те однажды всё поймут — что загнали их в хлев, а не в рай, и что рая не будет. Вот тут-то и понадобятся дознаватели, в невиданном количестве доносчики и сторожа — держать всех обманутых в трепете, вбивать маловерным в мозги, что достигнуто именно то, во что верили, за что жизней своих не жалели.
— Над быдлом-то? Достанет и погонычей, — отрезал Нирод, затягивая узел на набитом вещмешке.
— Видите ли, Федор Аркадьич, — ответил Яворский, — как явствует из этой вот статейки, мы с Извековым некогда были в австрийском плену. Там скверно кормили и даже подвергали вольнолюбцев телесным наказаниям, ввиду чего граница между человеком и животным делалась весьма расплывчатой. Когда вы держите в руках чужую жизнь, тогда вы божество, быть может и зверь, но величественный, а когда держат вашу… Вы ведь курите, а? А если вам не дать курить? А если нас с вами, таких интеллигентных и расположенных друг к другу, запереть в подвале и время от времени подбрасывать хлебушка? И как же вы тогда покажете себя? А главное, я? Напрасно вы, Федор Аркадьич, совсем не боитесь меня. Вот для этого-то и понадобятся дознаватели — до самой сердцевины человеческого существа. Ведь это же так любопытно: на что способен человек, с одной стороны, ради ближнего, а с другой — ради хлеба. Ух как наш народ-богоносец, понесший не Бога, а Ленина, потрудится за хлеб. Хлеб станет условием веры, а вера — условием хлеба. На это будут брошены все силы — на дознание: как долго русский человек проупорствует в вере, если хлеба ему… ну почти не давать.
— Все это очень вероятно, — сказал Извеков, оторвавшись взглядом от той предреченной пустыни, в которую увел его Яворский, — но ты, брат, слишком далеко ушел. Чего ж нам делать с этим Ангелом сейчас? Чего он хочет, этот твой художник жизни?
— Я думаю, в конечном счете все упирается вот в это, — ткнул Виктор пальцем в фотографию.
— Опять в Леденева? — как-то каркающе засмеялся Извеков.
— В него или кого-то рядом с ним. На этой фотографии, как помнишь, отсутствует еще один товарищ. Теперь, как известно, большой большевистский начальник. И я не слышал, чтобы он пал смертью храбрых.
— Вот уж кого жалею, что не пристрелил, — проныл сквозь сведенные зубы Извеков.
— А он ведь тебя, Женя, на себе тащил.
XVIII
Октябрь 1916-го, лагерь пленных Кеньермезо, Эстергом, Венгрия
Теперь у Леденева было много времени, чтобы подумать обо всем пережитом. Он допускал, что может быть убит, покалечен и обезображен, но мысль о плене почему-то не приходила ему в голову — так, видимо, волк не может представить иного бытья, кроме дикой свободы, боясь только холода, голода, смерти, и лишь придавленный, стреноженный получает понятие, что такое неволя, что и она возможна для него.
До офицерства оставался только шаг. За Прутом, меж рекою и высотами укрепленных австрийских позиций, на двух верстах ровного, голого поля из двадцати трех офицеров Ингерманландского гусарского полка в строю остались десять. Громадные снаряды страшной «кряквы» входили в землю на сажень и выворачивали наизнанку ее раскрошенное черное нутро. Корнета Яровенко откапывали ночью, как будто перемятого и сплюнутого жерновами. А он, Леденев, невредим. Червем, ползучей повителью — в прапорщики, в соседний высший класс военного искусства, красоты, законной, неотъемной власти над десятками людей, которых будешь вправе посылать на смерть.
Понимал: лишь теперь, на войне, и может он перемахнуть неперелазную, незыблемую стену меж собой и образованными «их высокоблагородиями» — без науки, без знания десятичных дробей, без экзаменов в недосягаемое кавалерийское училище господ.
На первом же году действительной решил: домой не вернется. В военной службе было все, к чему он сызмальства тянулся. А дома все, от земляных полов до камышовой кровли, кричало о нужде и проголоди, непосильном труде и невыплаканном горе. Да и как возвратиться на родину, где был унижен, где никто не забыл, что Халзанов отобрал у него атаманскую дочь, не сманил, не отбил, обскакав, а забрал, как старинные баре забирали себе девок в дворню?
Ему вдруг до режущей боли припомнилась та ночь в Гремучем, когда он ждал Дарью в церковном саду, а Халзанов, забрав приз на скачках, уехал в Багаевскую, чтобы через неделю набежать за ответом: отдают за него Дарью Колычевы или нет. «Покличу — с хутора уйдем, к калмыкам на Сал или в Новочеркасск, окрутит какой-нибудь поп… а то и в Привольном останусь табунщиком, и Дарье работа в усадьбе найдется… — топорщилась мысль Леденева, как перееханный тележным колесом татарник у дороги, и тотчас поникала, уж будто бы невыправимо сломленная: — Что ж, так и будем по чужим базам загривки в кровь стирать, нужду тянуть, как два быка в ярме, — как батя с матерью, пока не умерла? Так и Дашка пускай изработает молодость, издурнится в упряжке да родами? Для того-то покличешь ее?»
Ничтожество всего, что мог ей дать, представилось ему так ясно, что больше ничего перед глазами не осталось. Через год — на действительную. В офицеры, что ль, выбьется, возвратится в крестах? Так это сколько лет… А Дашка будет ждать неведомо чего? Увядать пустоцветом, когда вот он, Халзанов, казак, — чем не гож?
В нем опять подымалась тяжелая злоба, как тогда, когда мать умерла от неведомой, неумолимой болезни, которая точней всего определялась словами «нечем жить», как объявил заезжий фельдшер, ослушавший мать через трубку.
Ощущал эту злобу в груди как горячие уголья и удушливый смрад — на весь казачий мир, отказывающий Леденеву в праве на любовь и даже будто бы не признающий его человеком: мы укажем, к кому тебе свататься, кого любить и с кем плодить детей, никогда мы не будем равны, казаки с мужиками, хозяева́ с иногородней голытьбой.
Как сломать этот вечный закон разделения всех на богатых и бедных — на хозяев земли и ее батраков? Бог смирению учит — с той участью, которая дана. Бог и вовсе молчит — поп гнусит за него: покоряйтесь, на все воля Божья. Иначе как? Разбоем, бунтом? Как Стенька Разин и Емелька Пугачев? Погуляли — и что? Да и когда все это было? Теперь у казаков земли — ого! вовек не вспашешь. Одни всем довольны, другие — так и сяк, а третьи смиряются, терпят. Да и мужики тоже разные есть. Хоменку хоть взять — и мельницу держит, и хлебной ссыпкой заворачивает, и курень у него не хужей атаманского. Видать, и вправду никогда не будет так, чтоб каждый мог жить тою жизнью, какой пожелает.
Вот это-то и жгло. Мир дышал изобилием жизненных сил, и всякая тварь находила в нем пару — в богатых куренях, в саманных хатах, в несметных зверьих норах, в вольном небе, а Леденеву было невозможно радоваться жизни, как холощеному коню или быку: ничуть не изменившийся в себе и для других, мир выцвел для него — тот самый мир, в котором этот сад, и этот месяц над Гремучим, просвечивающий сквозь сплетения ветвей, как робкая и виноватая улыбка сквозь кружево девичьего коклюшкового полушалка, и угасающее лезвие зари, и доносящиеся с база запахи парного навоза и прелого сена, и даже хуторские казаки, с которыми сыздетства бился в кровь. Все это было неотрывно от него, и враждовать со всем этим огромным миром было то же, что и с самим собою воевать.
Зашелестели тронутые ветки — и, ворохнувшись, он увидел смутную фигуру Дарьи в лиловом просвете меж черных разлапистых яблонь.
— Насилу вырвалась, — дыхнула.
— Ну, что жених? — толкнул он из себя, пытаясь разглядеть ее глаза на поднятом к нему расплывчато белеющем лице. — Пришелся тебе али как?
— А нешто я просила: сыщите мне, батяня, жениха? — дрогнул голос ее от обиды. — Как снег на темя, Ромка! Я зараз хожу как прибитая. Что ж делать прикажешь? Батяня хучь сейчас готовы выдавать. Уж и о кладке с энтим старым разговор — сидят, как сваты, пропивают меня.
— А твое что же слово? — подавился он смехом.
— Так известный ответ. Не ровня ворон ястребу — пущай гнет ветку по себе. Где это видано — казачке с мужиком постель делить?
— Ну что ж, казак он добрый…
— Ромашка, что такое говоришь?! Зараз скажешь «уйдем» — и пойду! Да хучь по ярмаркам с шарманкой побираться! Лишь бы с тобой… — прибилась к нему всем покорным, отдатливым телом, вцепилась так, словно одной не устоять. — Ну! Хучь слово скажи!
И страшную по силе почуял он потребность — взять ее чистоту, подложить под Халзанова порченой: на, доедай! Это было злорадное, подлое и от сознанья паскудства такое сильное желание — сродни тому инстинкту, который понуждает зверя отыскивать в степных укромьях птичьи гнезда с голубыми крапчатыми яйцами или беспомощно-уродливыми голыми птенцами, чтобы полакомиться самим нежным состоянием живого существа, еще только зародышами жизни.
Кинул на руки Дарью, понес, но чей-то голос за спиной арапником просек его до чего-то, способного дрогнуть:
— Вот сука! Сваты со двора — ты в кусты?.. А ты-и?! Я тебе говорил — не тронь? Я тебе говорил — убью? — Гришка Колычев шел на Романа медведем, и он, переполненный запертой кровью, молотнул его в грудь — и казак, пошатнувшись, упал на карачки, было вскинулся, но Леденев саданул ему в челюсть коленом с такою силой, что у Гришки тряхнулась с хрястом голова.
Роман, оседлав, гвоздил его по голове, в набатном наплыве не чуя, что тот уже не двигается, не чуя и Дарьиных рук, с репейной цепкостью пытающихся оторвать его от Гришки, не слыша и визга ее:
— Убьешь ить! Убье-о-ошь!
И вдруг ощутил, что месит бесчувственного, и сердце то ли варом, то ли студью охлестнул ни разу не испытанный им страх, как будто уж напрасный перед тем непоправимым, чего, казалось, и хотел, но и не ведал, что это такое.
Отвалился от Гришки и теперь уж, напротив, не мог прикоснуться к нему — такая успокоенность была в безвольном теле, так непохож был этот Гришка на того, который зубоскалил и храбрился, горячил коня плетью и грозился убить.
— Гриша! Братушка-а! — захлебываясь, выкликала Дарья, как с того конца хутора, вцепилась в брата и тряслась как в лихорадке, ощупывала голову его, закровенелое лицо. — Да ж что это, господи! Гриша-а-а!..
«Сбегутся на крик, и все, в тюгулевку», — трепыхнулась в Романе мыслишка, как напоследок, задыхаясь, дергает хвостом и засыпает пойманная рыбина. Но вместе с этим трепыханием шевельнулся и Гришка, замычал, как бугай-пятилеток, взрыл каблуком сырую землю, словно пытаясь выбраться из-под чего-то придавившего, — и, почуяв какую-то детскую радость свободы от казавшейся непоправимой беды, Леденев наконец прикоснулся к нему. Голова у того была вроде цела, не проломлена.
Навьючив его на себя, поволок, подгибаясь в коленях. Судьбу свою тащил. Понимал: не видать ему Дарьи — встанет ли Гришка на ноги как ни в чем не бывало или станет навроде расслабленного или, может, умом не весь дома, как Тимошка Канунников, все одно завязалась вражда с хуторским атаманом и сынами его. Хорошо, если всех их, Леденевых, не выгонят с хутора… вот уж батя возрадуется, как подумаешь — сердце трещит… Или что, Дарью кликнуть? Пойдет? Только что ведь молила: «покличь»…
— Брось его! Уходи! — прокричала обрывчатым, ненавидящим голосом. — Прибьют батя с Петькой! Сама побегу!
Опустил он стенящего Гришку на землю и сам повалился.
— В Привольное свое беги, в Привольное! На хутор носу не кажи! Видеть тебя не могу! Зачем бил?! Ить не его — меня, обоих нас убил! Куда мне теперь? Ну?! С тобой?! Он, может, помрет тут — ить грех!.. Вот и прощай, Ромашка. Уходи… — смотрела на него отталкивающим и в то же время ненасытным взглядом — не то как на калечную собаку, не то как ощенившаяся сука, у которой самой отбирают весь выводок…
Встряхнулся Леденев. На нарах он, в австрийском лагере, за тридевять земель и от Гремучего, и вообще от России. И ничего и нет, кроме вот этого болота, бараков, вшей, дизентерии да ветра, гудящего в струнах колючки. «Куда возвращаться, зачем?» — спросил он вдруг себя. Что самое смешное, теперь-то как будто и было куда. На шестом уж десятке наконец-таки выпало счастье отцу: взял за себя нестарую вдову с немалым денежным приданым — откупил у Бурьянова мельницу. Даровой силой ветра завертелись ажурные махи, заскреготал пудовый жернов на стальном веретене, перетирая об испод ядреное зерно, — побежал по летку ручеек духовитой муки. Это вам не в землицу все силы вбивать. Тут копейку уронишь — семак подберешь. Вот уже и отстроились, написали ему перед пленом, — большой курень поставили, под тесом. Теперь и Грипку можно выдавать. Вот только Степану, похоже, не миновать мобилизации.
Не на пустое место бы вернулся нынче Леденев. Но копошиться в пыльных закутках мучным червем, гнуть хрип пускай и на себя, но ничего сквозь белый мрак не видя, богатея ползком, прирастая мошной как горбом, он уже не хотел. Играть своей жизнью, брать волю над каждым, кто хочет тебя умертвить, казалось ему веселее, чем истощать себя в работе день за днем и лишь ради того, чтобы однажды лечь в ту самую землю, которую пашешь. Лишь собственной силой, оружием, казалось ему — и даже будто изначально это знал, — возможно опрокинуть те законы, по которым мужицкие дети не равны казакам, а тем более уж офицерам-дворянам; по которым необыкновенная синеглазая девка не идет под того, кого выбрала сердцем, сама; по которым одни иссыхают в беспродышной нужде, умирают до срока в батрацком надсаде, а другие имеют немерено черноземной земли. Одной лишь красотой военного искусства, своею властью над чужими жизнями возможно гнуть те непонятные, извека действующие в мире силы, которые щемили, принижали и до сих пор хотят унизить, подчинить, уничтожить его, Леденева, владеть его волей, судьбой, самим его телом, руками, ногами, глазами, которые солдату не принадлежат, равно как и любому из несмети босяков, что надрывают свой живот на чужих десятинах.
С войной было что-то не так. Не железная сила германцев тревожила, а то неизъяснимое, что совершалось в головах и душах великого множества воюющих русских людей. По полкам, по фронтам давно уже гуляла невытравимая из сердца песня: «Брала русская бригада Галицийские поля…», и затаенно проклинающим, щемяще безнадежным вопрошанием полна была солдатская душа: «Буду жить один на свете, всем ненужен, всем ничей. Вы скажите, кто ответит за погибших тех людей?» С каждый днем Леденев все отчетливей чуял вот это безответное, глухонемое вопрошание: в гусарах своего геройского полка, в соседях — новгородцах и даже оренбуржских казаках, молившихся на графа Келлера, как на Егория Победоносца… в словах, в усильной поступи, в непроницаемо-угрюмых лицах бесконечно ползущих пехотных колонн, а еще больше — в санитарных поездах, в исшматованном криками воздухе полевых лазаретов: там усталость была уже смертная, неразрывная с болью, с проклятиями, с отрицанием Бога, России, царя, с безутешными детскими жалобами и даже требованиями дострелить.
В перекалеченных, издрогших, избитых о землю, заеденных вшами, иссосанных непреходящим напряжением и страхом смерти — какой-то озноб озлобления. Даже в самых отборных частях — не одна только усталь телесная, не одна только тяга на родину. Притаенное где-то в глуби, вызревавшее исподволь в людях, в частях недовольство пробивалось наружу густеющим ропотом, открытой руганью, глумливыми потешками: «Царек наш совсем никудышный и пьяница. Ты ежели в царях сидишь, должон свое войско в порядке держать. А то ить супротив японца вышли — один только срам поимели, с германцем воюем — опять не могем! А как, скажи на милость, с ним, немцем, воевать, когда у царя во дворце одна немчура и засела? Царица-то, немка, засилье взяла. И все генералы царицей поставлены. Они-то и продали нас… Хреновый царек — дает собой бабе вертеть…»
А вот уже и вспомнились ранение, московская лечебница, саперный унтер Яков Зудин с култышкой оторванной правой руки — неизживаемая боль обиды в его темно-карих собачьих глазах.
— Ты мне скажи, за что я отдал руку? — в упор приближал к Леденеву худое лицо, во все поры которого несмываемо въелись крупицы сгоревшей взрывчатки. — Я в этих руках имел ремесло. Во всем Касимовском уезде первый был каретник. Такие делал дрожки — помещики за очередь дрались, об извозчиках не говорю. Ход у меня работал так — не то что генералу, а самому Илье-пророку прокатиться не зазорно, и вот те крест, не богохульствую… — и взмахивал култышкой по привычке, ловил себя на собственном увечье и начинал трястись от смеха и рыданий, выдаваемых за смех. — А кто я теперь? Куда податься мне? С длинной рукой под церкву? Подайте Христа ради покалеченному за веру и отечество? Да сколько еще нас таких с кружкой встанет — разве на всех копеек напасешься? Жена, поди, к приказчику уйдет или к фабричному какому и будет даже правая — зачем я ей, безрукий? Я сам себе чужой! Уж лучше бы убили смертью храбрых… Так вот и скажи, на какую потребу нас гробят? Царю земли мало? А мне не мало, мне довольно, мне рук своих было довольно, они считались золотые, я через них был человек. Эх, приведи Господь мне встренуться с тем гадом, который меня на всю жизнь обнесчастил, — я б его и последней рукой придавил.
— Это кого же? — поразился Леденев, не в силах допустить, что можно замахнуться на цареву власть. Для него это было даже не святотатством, а тем же самым, как ребенок колотит кулачками по земле, будто повинной в том, что он споткнулся и упал.
— А кто нас пихнул? Вот и думай! — затрясся в смехе Зудин. — До царя высоко. А дотянулся бы хоть до кого из этих кровососов — зубами бы грыз!.. А ежли тебе завтра руку отхватят? Ить тоже под церкву пойдешь — крестами своими бренчать. Пойдешь, пойдешь, а то и поползешь — безногих-то видал? Я тебе не желаю того, но вот скажи: за что на смерть идешь? За веру? За царя? А Николашка, пьяница, народ без счету переводит, мужиков от земли оторвал. А чем мужик жив? Не землицей? А у кого и той нет — окромя, значит, рук, ничего, какое ремесло в них задержалось, это уж неразменное наше, чего не отнять, а нас и этого лишают ни за грош. Рук, ног — последнего имущества. И все «ура» кричат и «царствуй». Кровью все изойдем — лишь тогда и поймем, кто нас резал, да поздно… Ну что молчишь-то, истукан? Не понимаешь? Вот так и у всего народа слепота. Я тоже был слепой, а как руку отняли, сразу прозрел. Нашлись такие люди — глаза мне открыли. Что фабриканту от войны прибыток — это ты понимаешь? Фабрикант и оружие всякое делает, и сукно для шинелей, и кожи, и прочий товар. А помещик — тот хлеб для солдат продает. И все под нашу кровь! Охота тебе помирать за такое? Или чинов, быть может, ищешь? А ежли в офицеры выйдешь, так и братов своих погонишь на убой — за кресты, за чины. То был просто слепой, а то таким же дурноедом станешь.
— Так что ж нам всем — винтовки побросать и по домам пойти? — натужно усмехался Леденев. — Всю армию порушить? А немец наши земли прихватывать начнет, ярмо на нас наденет?
— А где она, твоя земля-то? Нынче ты не в ярме? Земля у царя, у помещиков, у крепышей по сотне десятин. А пол-Расеи — в батраках. Хорошо, если пай свой имеешь, лошаденку, быка, — так и того через войну лишаешься. А они, живодеры, совсем даже наоборот, только больше жиреют. Арендой давили, налогом, а нынче и войной нас гвоздют — прямком, стал быть, в гроб загоняют.
— А ты, выходит, все на собственную шкуру меряешь? А как же держава? Сообща народ жив — стало быть, под царем, не иначе.
— А на что нам такая держава, ежли кровь из народа до капли сосет? Сообща, говоришь? Это верно. А чего сообща — как бараны, под нож? Попробуй один что сказать — так живо заткнут. Так вот и надо сообща…
— Опять разбежаться всем разом?
— А хоть и разбежаться. — И как самое тайное выдавил: — А то и штыки повернуть. Чтоб никто, значит, воли над нами не брал, а не так…
Чем дальше, тем острее чувствовал обиду Леденев. Как будто именно его, Романа, обманули в чем-то главном. Паскудней всего было то, что он осознал, что война, которую любит, заведена и движется по тем же человеческим законам, которые до задыханья ненавидит. Как всю мирную жизнь батраки рвали пуп на чужих десятинах, а потом исчезали бесследно, не передав потомству ничего, кроме мозолей и горба, так и здесь, на царевой войне, вся мужицкая прорва батрачит на чужую нужду, в беспрерывном надсаде убивая чужих, неизвестных людей и сама удобряя собой чужедальнюю землю. Зачерствеют под солнцем на хмуром лице галицийской, белорусской и польской земли начертанные кровью письмена, замоет их дождями, заметет снегами, заржавеют осколки железа в истлевших костях, расплывутся, осядут затравевшие холмики братских могил, и ничто не укажет боронящему эти могилы согбенному пахарю, что здесь когда-то бились неведомо за что и умерли люди.
Две недели он провел с Извековым в распределительном бараке, и вот в один из дней Извеков, вспыхнув, замахнулся на австрияка-надзирателя, тот ударил его, набежали другие, повалили Извекова, начали бить, и Леденев, не помышляя, что из этого выйдет, подорвался на выручку… И вот их с Извековым переместили в другой, офицерский, барак, где содержались все такие буйные, то есть склонные к неподчинению.
Тот же студень застойного, затхлого воздуха, тот же запах желудочных хворей, кислой рвоты, дерьма, гнойных язв и нарывов, та же шаткость, согбенность с чугуном на ногах, те же кости бескровных, щетинистых лиц, та же ругань в Христа душу мать.
На ближайших от выхода нарах обнимались, шушукаясь, двое — напудренные куклы с подведенными глазами и напомаженными ртами. Но чем дальше он двигался вглубь, тем больше примечал следов борьбы за сохраненье человеческого облика. Офицерская масса делилась ровно так же, как и рядовой народ. Одни давно уж сделались неряшливы к себе, неприбранные, с колтунами волос, со звериной щетиной. Другие же, напротив, упорно охраняли ту границу, которая и отделяет внешне человека от зверя, каждый день проводили ее по себе острой бритвой, обломком гребешка, сапожной щеткой. Ревниво сберегались как раз таки кусочки прежней жизни: подбритые усики, бачки, проборы, чистота под ногтями, свежесть воротничков… а уж тем более все то, что и отнять у человека невозможно, по крайней мере сразу, в несколько недель: манеры, выправка и речь.
Один из таких, возможно, чисто выбритый, самоуверенный в осанке, с холодной усмешкой в раскосых, но светлых, выпуклых глазах, направился к Роману и Извекову:
— Добро пожаловать в Эстергом-табор, дорогие товарищи.
— «Товарищи»? Странное обращение в офицерском кругу, — сказал через губу Извеков.
— А чем же вам не нравится «товарищ»? — улыбнулся незнакомец. Рот у него был твердый и вместе с тем женственный, в походке и манере говорить угадывался не армейский, не казачий, а именно столичный, гвардейский офицер, каких Роман перевидал, когда учился в Петрограде в школе Филлиса. — Старинное русское слово. Ну, узурпировали его социалисты — так в этих стенах оно возвращает себе старый смысл. Товарищ, верь: взойдет она…
— Вот-вот, и на обломках самовластья… — поморщился Извеков.
— Ну хоть свободой вы горите, я надеюсь? Позвольте рекомендоваться: Яворский Виктор Станиславович, сотник Первого Волгского наследника цесаревича полка. Вам, дорогие господа-товарищи, сейчас предстоит выбрать стойло — поэтому осмелюсь предложить вам таковое по соседству с нами.
— И много там у вас «товарищей»?
— Товарищ в новом смысле, собственно, один — Зарубин. Ох, чую, схватитесь вы с ним, Евгений Николаевич. А то мы тут киснем от скуки. Никто не желает с ним спорить — изворотливый, как Протагор…
Барак был разделен на эдакие соты, дощатые отсеки, в каждом из которых ютилось по шесть человек. За столиком из горбылей играли в карты трое: пожилой офицер в меховой безрукавке, похожий чем-то на Брусилова, подстриженный ежиком и вислоусый, с печатью властности на желтом, обхудалом лице; сидевший по-восточному на нарах крутошеий и статный текинец в засаленном шафрановом халате, с поросшим бритым черепом, горбатым носом и бараньими глазами, диковатый и сумрачный, но с чем-то детски простодушным в рисунке припухлого рта, и наконец похожий на студента, будто и молодой, но седой, как бирюк, человек с непроницаемо-спокойным серым взглядом, трезвым, будто вода в роднике.
Они познакомились. Похожий на студента — прапорщик Леонид Зарубин, пожилой — подполковник Григорий Максимович Гротгус, а текинский джигит — подпоручик Темир Бек-Базаров. Немедля начались расспросы о летнем наступлении… и тут в их «станок» вошел еще один высокий, сутуло-стройный офицер, положил на стол сверток, поднял голову, и — Леденев дрогнул от неожиданности.
— Ну вот теперь все в сборе, — заключил Яворский. — Знакомьтесь, вахмистр Халзанов, наш кормилец.
Если что и могло надломить окаменелое лицо Халзанова, то именно нечаянная сшибка с Леденевым. Он будто опять натолкнулся на свое отражение в зеркале после долгой отвычки — не отпрянул, а наоборот, потянулся к Роману, расширяя глаза, словно дикий ребенок, что ни разу не видел себя в говорящем всю правду стекле.
— Ну здравствуй, мужик. Угадал никак?
— Узнал, — ответил Леденев. — Я твою шкуру и на пяле бы узнал.
Халзанов однажды уже попытался бежать. Попавший к австриякам на Стоходе, он с полнедели провалялся среди раненых, а потом был затолкан в теплушку и выгружен среди неведомой страны. Попал в такой же лагерь, ласкающее слух название местечка — Миловица — как издевка… и вдруг и вправду сказочная, какая-то потусторонне-привольная жизнь. Матвея и еще полсотни пленных, отобрав покрепче, погнали куда-то на юг, распихали по разным фольваркам — и все, о чем мечталось в продувных, настуженных окопах, сбылось тогда и там, где сбыться не могло. Идти за плугом по раздевшейся, черно лоснящейся земле, всем телом налегая на чапыги, следя за тем, чтобы подручный бык не заламывал борозденного, вдыхать горько-сладостный дух перерезанной лемехами травы.
Богатая усадьба. Хозяин Пал Богнар, похожий на халзановского тестя Игната Поликарповича. В батраках трое русских: стрелок Давыдка Выжимок, драгун Алешка Крыгин и Матвей. Двухэтажный домина из беленого камня. Конюшня, хлев, амбар, гумно — все крыто красной черепицей. Косяк лошадей, огромные красные бугаи-пятилетки со свисающими до колен морщинистыми шелковистыми подгрудками, коровы, овцы, свиньи — за всем этим богатством они несут уход. За это кормят ситным хлебом и копченым салом. Горячий воздух напоен густыми, терпкими, знакомыми и незнакомыми ароматами трав. Звенят в них кузнечики. Над венчиками лакомых цветов поплавками покачиваются бархатистые рыжие пчелы. Солнце правит цветущей, плодоносной землей, изливает свою неослабную ласку на людей и скотину, на хозяев и пленных, единит все живое под небом.
Халзанов косит на лугу — окрепшие мышцы поют. Хозяйская дочь Анна, красивая черная девка, украдкой любуется им, разит огневым шалым взглядом, робеет, потупляется, не к месту и насильственно хохочет и снова глядит на Матвея с упорством, как будто непонятным ей самой… И вдруг сходство этого потустороннего мира и той, покинутой, своей, казачьей жизни нарезом проходит по сердцу.
Только тут он, казалось, и вспомнил о Дарье, о сыне, а вместе с ними — о самом себе. Потерявший его, как пятак, закатившийся в сусличью норку, Мирон уже, должно быть, сообщил домой, повинился в письме перед Дарьей и батей, что отправил Матвея на смерть, а если и не написал, то скоро будет вынужден сознаться. И Дарья оглохнет, ослепнет, исчезнет из такого же, как этот, изобильного, светоносного мира, где имеют значение синева в вышине, медвяный запах чабреца и песни жаворонков. Будет выть, как другие… Впрочем, что ж причитать — голосят ведь по мертвому. Так оно даже лучше, наверное: отреветь до глухой пустоты во всем теле и уже с облегчением провалиться в беспамятство. Даже будто и радость окончательной определенности: забрала мужа-любушку и кормильца чужая земля — надо как-то жить дальше. А Дарья будет ждать и верить, что живой, обнадеженная тем расплывчатым, что таится в словах «не нашли», «неизвестно». Досаждать будет Богу мольбами и вынашивать веру в его возвращение, как носила их сына под сердцем, а потом притворяться смирившейся — в расчете обмануть судьбу и исподволь надеясь, что весточка придет как раз тогда, когда ты перестанешь ждать. И сколько так? Месяцы? Годы? Изнывать в неумолчной тоске, отдавая незримо ютящемуся в курене мертвецу свою молодость, силу, упорствуя, не слыша говорящих: «Да если б был живой, давно бы уж пришел…»
Решимость бежать поднялась в нем — прорвалась той же ночью в разговоре с товарищами.
— Да куда мы отседа пойдем? — отозвался Давыдка со стоном. — К австриякам обратно? В тылы? Вер ист дас, хенде хох? Смерть торопишь, казак? За версту же видать, кто ты есть, а рот откроешь — и подавно. Да любой их мадьярский мужик заприметит и выдаст, потому хоть беги, хоть ползи, а все один каюк! Хорошо еще только горячих насыплют. А ну как в лагерь возвернут — тогда что? Тут-то мы, у Богнара, в довольстве, а там живо пузо к хребтине прилипнет.
— Ты женатый? — обрезал Матвей.
— Ну женатый. Ребятенка имею.
— Ну и что ж, хорошо тебе тут, когда там твоя баба не знает, как и плакать по тебе — по живому или по мертвому?
— А баба моя и так третий год убивается. Как монбилизовали, так и тянет хозяйство одна. Когда я там вернусь да какой приползу. Она себе, может, нашла уж кого-нибудь — приказчика аль из фабричных, которых на фронт не берут. Так что мне теперь к ней возвращаться и боязно трошки: явлюсь, а на дворе чужой мужик, да и не он чужой, а я… Да и так рассудить: случится такое, чего быть не может, — дойдем до своих. Ну и куды меня пошлют? Может, к бабе отпустят, домой? Иди, Давыдка, скажут, становись на хозяйство, отслужил ты свое, муки принял, отдал долг государю. Так нет же, обратно в окопы пошлют, как так и надо, в рот им дышло. Мало вшей мы кормили, мало с нас пота-крови сцедили. Ты-то, может, до подвигов шибко охочий, а я не таков. Я уж лучше вот тут как-нибудь, в батраках. Войне-то не вечно тянуться. Уж какой-никакой конец будет — так, поди, и отпустят нас всех восвояси.
— Конца дожидаться, брат, тоже не дело, — сказал Алешка Крыгин. — Это сейчас у нас житуха сытная, а хлеба уберем — так обратно ведь в лагерь пихнут.
И долго еще спорили. Матвей говорил, что надо уходить немедля, пока русские части с боями подступают к Карпатам. И ждать до осени, и уходить отсюда в одиночку ему не хотелось: как идти по чужой, совершенно незнаемой, да и прямо враждебной земле, если рядом не будет ни единой живой, то есть русской души? Бежать от запаха и вида человечьего жилья — эдак ведь и в рассудке повредиться недолго.
К середке августа решились уходить. Недели полторы припрятывали хлеб, обрезки копченого сала, и вот когда под вечер усадьбу придавило грозовыми тучами и глухо зашумел обломный дождь, загоняя мадьярок под крыши, все трое задержались у гумна и, мигом вымокнув, скользнули в буерак. Все вокруг бушевало, бурлило, текло, плыло, мокло, обрывалось, сползало, увлекало по склону на дно. Сперва было даже тепло и радостно, как в детстве, а потом льдистый холод сковал, отяжелевшая под проливнем одежда опаяла все тело свинцом.
Двое суток шли лесом — ночами, по звездам, а днем отсыпались. На третьи сутки им пришлось пересекать бескрайнюю равнину, по зеленым квадратам отавы, по желто полыхающим подсолнечным полям, в которых они и скрывались, припадая к земле, когда по шляху прогромыхивали мужицкие дроги и брички.
На четвертую ночь, когда по всей земле было светло от звезд, какой-то припозднившийся мадьяр, привстав на облучке, заметил их…
Мадьярские жандармы настигли их у леса, перед солнцем, опоясали Выжимка плетью, свалили. С приниженной улыбкой, вскинув руки, Матвей еще надеялся уклещить австрияка за локоть, рвануть из седла и вскочить самому, но в затылок ему ледяно ткнулось дуло винтовки.
XIX
Январь 1920-го, Кривянская — Аксайчик, Кавказский фронт
Неделю лил дождь. С бугров смывало снег, и с птичьим клекотом бежали талые ручьи по ерикам. Затопленные русла балок превратились в реки. В низинах, в горизонтах, сколько глаз хватало, морщинилось под южным ветром, свинцово отливало половодье — и по этому морю, словно впрямь по водам, повторяя библейское чудо, шел корпус, под ледяным дождем, под щелкающим градом, погружаясь по конское брюхо, увязая в промоинах и, конечно, ругаясь в Христа и апостолов.
Что-то идиотически остроумное и издевательское было в том, что вся громада всадников и лошадей держала путь не на сухое, не к спасительной вершине, где наконец-то можно обсушиться, а именно к большой, первородно могучей реке — как будто текла под уклон, несомая потоками воды и будучи с водой одной природы. А навстречу от Дона, полоня близь и даль, громовыми раскатами полз нескончаемый гул, треск и скрежет — верно, там уж взломало поднявшийся, вздувшийся лед, не на одну версту крушились и крошились затиснутые в берегах ледовые поля, ходили на дыбах и громоздились друг на друга великанские глыбы.
Был дан приказ — командующим фронтом, именем республики — форсировать вот этот громовой, освобожденный посреди зимы и разливающийся Дон, терзать коней, бороть себя, саму природу.
Сергей продвигался в обозе — Степан, рыжий конь, с которым он уже успел сдружиться, косил на него кроваво-зеркальным, тоскующим глазом, как будто спрашивая: «Да когда ж ты перестанешь меня мучить?», шел толчками, как в плуге, вырывая из грязи дрожащие, захлюстанные по колено ноги, как и весь он, дончак, предназначенные, чтоб лететь над землей.
Обоз увязал, отставал, плетущиеся орудийные запряжки вставали у смытых водою мостков, у речек, переполненных клокочущими мутными потоками. Сергей часто спешивался, показывал личный пример, хватал под уздцы лошадей, вцеплялся в ободья осклизлых колес, налегал… Подымал не желавших идти номерных и обозных, затеявших сушиться на пригорке, кричал, матерился, грозил, пытаясь нащупать в себе умение повелевать лишь силой взгляда и верностью взятого тона.
Ему хотелось видеть Зою — и потому, что за нее тревожился (явилась мысль, что те неведомые двое, стрелявшие в Шигонина при ней, могут ей повстречаться еще раз, и она их узнает), и потому что потому… и, еще не найдя ее, он уже делал все как бы и напоказ, на случай, если Зоя очутится рядом. Для нее он надсаживал глотку, брал то сдержанный, то негодующий тон и старался не передавить, не сорваться в мальчишеский писк; для нее жили все его мускулы и холодные, красные руки вцеплялись в колеса — это она должна была увидеть, как он решителен и тверд и что он не жалеет себя.
В его глазах она уж сделалась неотлучной участницей всей его жизни: все слова, все поступки измерялись как будто одной только Зоей, становились правдивыми, верными или, наоборот, некрасивыми от того, как посмотрит она. И конечно, не мог объяснить, что ей за дело до него и почему она должна за ним неотрывно следить, но все равно — пускай и силой самоубеждения — жил, ощущая на себе ее серьезный, испытующий взгляд.
И вот она действительно явилась — это чувствуешь тотчас, как будто кто-то ударяет тебя в грудь, и сердце страшно и блаженно обрывается… В тачанке — с раненым Шигониным: ценой ранения тот наконец-то завладел ее вниманием всецело.
«Она его за муки полюбила, а он ее — за состраданье к ним», — мелькнула у Северина злорадно-издевательская мысль, и, тотчас устыдившись, он подумал, что и за муки можно полюбить не всякого: вот Леденева очень даже можно, а Шигонина и, главное, его, Сергея, — неизвестно.
— Здравствуйте, Зоя, — сказал, поравнявшись с тачанкой и сверху вниз заглядывая ей в глаза, в которых, показалось, промелькнуло радостное удивление, словно ехала в оцепенении, а увидев его, ожила. Впрочем, это ему становилось подымающе радостно, когда эти глаза останавливались на его, казалось бы, ничем не примечательном лице, и он как будто бы навязывал ей, Зое, свою радость. — Ну, как ваш раненый?
— Как видишь, помирать не собираюсь, — ответил за нее Шигонин. — Не вышло мне вырвать язык.
— Ну вот и хорошо. Ты пока поправляйся. — Заговорить при Зое о бредовых подозрениях Шигонина, конечно, было невозможно, да и хотелось — без Шигонина, о ней самой, наедине.
Он, впрочем, уловил, как строго-осудительно и вместе с тем жалеюще-недоуменно посмотрела Зоя на этого маниакального упрямца: да, конечно же, бредит, контужен, головой повредился — ведь она и сама была там, на себе испытала, кто вцепился в нее и зачем.
— Что в штабе? — вопросил Шигонин.
— Гадают в штабе — как идти и можно ли вообще пройти.
— Сомнения в приказе штарма? Тяжело — и поэтому не хотим и не будем? Узнаю Леденева.
— Ну зачем же ты так? — сказал Сергей как можно мягче. — Какой уж месяц тяжело, а шли, не жаловались. Как-никак не Христовы апостолы и по водам ходить еще не научились… — И опять он поймал Зоин взгляд и улыбку, словно сказавшие ему: «ты прав».
Улыбка ее, впрочем, была полна усталой, смирившейся грусти: да, никто не пойдет по водам аки посуху, не подымет людей над землей, на это не способен даже Леденев, и придется и дальше ползти, а потом убивать, умирать, проклинать все на свете и по-детски звать маму, и никто не придет утишить и утешить.
Сергею нужно было ехать в штаб.
— Поправляйся, Шигонин. Вы уж поберегите его, Зоя.
Бригады уже миновали Кривянскую, а дальше, он знал, вплоть до самого Дона не встретится ни одного большого хутора, только речки и ерики, полные клехчущей и ревущей воды, без конца и без края непролазная грязь. Придется ночевать под небом, сушиться у костров, и Зое — тоже. Впрочем, ей уже не привыкать — ночевать на подводах, вповалку с повозочными, невольно прижимаясь к чужому человеку, к немытому и каменно-тяжелому мужскому телу, ничего не боясь, потому что и этот боец спит уже без желаний, невинный, как ребенок, от усталости, и если и хочет чего-то, так это выдавить, спихнуть тебя с телеги, перетянуть всю шубу на себя.
Ему и самому уж припадало ночевать в повозках с милосердными сестрами, и сон был именно что братски-сестринский, вернее животный, с одним только желанием — тепла… Впрочем, кто его знает, какой из инстинктов возьмет верх в человеке, который только что избегнул смерти и которому завтра предстоит повстречаться с ней снова, — ведь и его, Сергея, вдруг прохватывало мучительной близостью женского тела, словно уже покорно привалившегося, в одно и то же время слабого и подавляюще всесильного, цветущего, парного, как убоина, и струна в нем натягивалась с такой силой, что и дохнуть не мог, не то что устыдиться.
Но Зоя… Зоя для него была святыней, и оберечь ее Сергей не мог, дать ей защиту, личный кров, постель, тепло… Вернее, очень даже мог — воспользоваться комиссарской властью: пристроить в штаб, в политотдел, в корпусную газету, секретарем, ремингтонисткой… но чувствовал, что Зоя оскорбится такой его заботой, не то чтобы прямо решив, что он ей предлагает удобства за любовь, но желая служить милосердной сестрой, никем больше. Да если б она искала удобств, давно бы уж служила при Шигонине, тогда б она и вовсе от них не отказалась, оставшись в Саратове, в госпитале.
Сергея мучило бессилие помочь: во-первых, он и не умел, и не хотел воспользоваться властью, своей даровой, стыдной должностью, а во-вторых и в-главных, Зоя не просила. Но он и понял, что заступников, и притом бескорыстных, у Зои достает и без него, что пожилые и матерые красноармейцы, которым она в дочери годится, окружают ее на стоянках возможной заботой, что многих обжигает ее непонятная сила — та чистота, которую нельзя нарушить, не лишившись чего-то в себе, чему и названия-то не находишь, но самого жалкого. Да и Леденева боятся…
«Откуда и взялись те двое? — подумал он с горькой усмешкой. — А может, и впрямь Сажин прав: в Шигонина метили, а Зою — приманкой? Да кто же метил? Леденев? А больше кому?.. Не потому ли вас, товарищ Северин, сюда прислали — восторженного дурачка изображать, — что Шигонин писал о его, леденевской, опасности? И какие же методы у Леденева вы видите? Никаких, кроме смерти. Привык перешагивать. Да если б вы подняли крик из-за дражайшего его Аболина, что ж, думаете, через вас бы не перешагнул?..»
Сознание Сергея начало раздваиваться. Он должен был сосредоточиться на Леденеве и отрешиться от себя, но о Зое не мог позабыть.
В двух десятках саженей он увидел связистов, по колено в грязи тянувших телефонный провод — на много верст, от самого Новочеркасска, чтоб дать командованию леденевский голос в трубку, — и подумал, что сам он такой же связист, а вернее, какой-то телефонный Сизиф, сумасшедший: еле-еле ползя, тащит за Леденевым перевитые медные жилы, сам же и вызывает комкора, находясь совсем рядом, но в то же время и за тыщи верст, как будто бы за сотни лет от Леденева, — Леденев же все дальше уходит вперед, не давая расслышать себя и постичь.
Безотлучный Монахов молча ехал с ним рядом — Сергей и его держал в голове, ощущая ответственность, что ли, за этого убитого душою человека. Как ему объяснить, что нельзя и бессмысленно жить только местью? Ну найдешь ты, Монахов, перережешь их всех, и сотника Халзанова, и этого… Ведерникова, что ли, если те еще живы, а дальше? Нам надо за счастье людей воевать… Но зачем же Монахову счастье всех тружеников, если он не возьмет в это будущее никого из родных?
Северин помнил все: ночной разговор Монахова с Колычевым, бывшим белым урядником, — что сотник Халзанов — уроженец той самой станицы Багаевской, напротив которой намечено переправляться и брать ее с боем.
— Послушай, Николай, Багаевская впереди.
— Не потонем — достигнем.
— Ты понял, о чем я. Халзанова этого будешь искать? Вернее, родных его, может? Предупреждаю: если ты там… пристрелю без суда.
— Для этого-то при себе и держите?
— Да, именно для этого. Чтоб ты человеком остался! Да, звери, не люди то были… которые твоих… Но ты-то чем лучше, если сам как они будешь делать? В бою встретишь — бей, достанешь его самого — так казни, а семья его в чем виновата? Ну не как же с волками — что и волчонка надо придавить, потому что и он волком станет.
— Зря вы энтот разговор завели, товарищ комиссар. Я над бабами да над детьми не палач. А вот о муже и папаше ихнем расспросил бы — жив ли он или нет и где предполагает пребывать.
— А Колычев что — не веришь ему?
— Правду только Бог знает, да и то не скоро скажет. Я и про Колычева энтого не знаю в точности, чего он тогда у нас вытворял.
По хутору тянулось чавканье месивших грязь копыт, и несметное множество выбитых лунок в тот же миг заполнялись водой. А с юго-востока все плыл громовитый, пульсирующий гул, и Северин не сразу понял, что то рокочет не река и не ледовые пласты трещат и лопаются с перекатистым стоном, а гремит, распухает начавшаяся там, у Дона, канонада.
Он въехал на двор зажиточного куреня и, спешившись, вошел в прокуренную горницу. Над расстеленной картой, как врачи над больным, копошились Челищев и Мерфельд. Леденев, в черном френче без знаков различия, оседлав табурет, с равнодушным, казалось, презрением говорил в телефонную трубку:
— Удерживаю переправу на Аксайчике. Багаевскую белые отдать не пожелали. В землю втаптывают кавалерию, а точней сказать, топят в грязи. Артиллерию не подтянули, потому что вода… Нет, вы не поняли — ни крестным знамением, ни даже именем республики. Через Дон на Багаевскую не пойду. Ни днем, ни ночью, ни ползком, ни раком… Я готов нести жертвы, товарищ командарм. Но свой корпус топить, как котят, я не буду… Намерен ждать. Пока совсем не разольется Дон и не угонит лед или пока морозы не прижмут. Точка.
Он бросил трубку на рычаг. На гладко выбритом лице окостенело омерзение к происходящему и первым делом к самому себе. Сергей присел и молча вглядывался: лицо как будто было прежним, но все-таки почудился Сергею какой-то новый, непонятный в нем надлом. Усталость от крестной ответственности за жизни людей?.. Сергею порой и вправду казалось, что Леденев переменился после встречи с Буденным, былой своей тенью, безвластной, несамостоятельной правой рукой: увидел там, в Ростове, бывшую свою прославленную Петроградскую дивизию, которую выплавил из мужичья, босяков, и всю текучую громаду Первой Конной, которая могла бы быть под ним, когда бы не ранение, — и почувствовал зависть, обиду. Как знать? Что за этим вот лбом?
— Как здоров, комиссар? — заметил его Леденев. — Привел дивизион?
— Привел кое-как.
— Слыхал разговор? По-твоему, прав я?
— Что командарма дураком назвали?
— А хучь бы и так. Сам ведь грязь обтирал под орудиями, а Степин над картой сидит и двигает нами, как шахматами. Говорил я тебе: накупает в Дону, не пройти будет вплынь?
— А еще говорили, что если выступим немедля, еще успеем на тот берег перейти. Отчего же не выступили? Погулять надо было сперва и пограбить?
— Я, брат, людей тесню до той поры, пока из них кровь идет. А дальше отдых надо дать. А про грабиловку уже, поди, донес до старших комиссаров?
— А как?! — вспылил Сергей. — Народное добро растащено на великие тыщи рублей — так и надо? Упились, били, жгли, разве что не насиловали только лишь потому, что подстилок хватало. Начпокора едва с пьяных глаз не ухлопали! А вы глядите так, как будто это дети расшалились.
— Чудные дела. Людей убивать, и не только в бою, а еще и у стенки, — это нам, стал быть, можно и нужно, а в носу ковыряться — ни-ни. Нужду не в том месте справлять. Да если хочешь знать, то все это наше дерьмо куда как приятнее пахнет, а послухаешь вас, комиссаров, — так навроде в отхожую яму с головою нырнешь.
Сергей задохнулся:
— Это что же мы — врем?
— А как же? Навроде попов. Ты-то врать не умеешь — блаженный, будто новорожденный. С чужого голоса поешь и веришь в то, что вычитал. А иные товарищи… Раньше были попы — страхом божьим нас гнули к земле, чтобы мы на имущих работали, за царя умирали в кровях, воскресения чаяли в будущем веке, а нынче комиссары точно так же наставляют. Ты давеча спрашивал: все ли дозволено? Ну, такому, как я, да и всякому, кто до власти дорвался. Вот тебе и ответ, ваш ответ, комиссарский: а это смотря кому. Кто высоко от партии поставлен, тому можно все: и шкуру драть с любого, и казнить кого хочешь, хучь за казацкие лампасы, а хучь и ради удовольствия, и все, конечно, именем народа. А Ваньку, рядовому, какой за Советскую власть, как за родную матерю, воюет, не то что червонец заграбить нельзя, а даже кишку набить досыта. Святым должен быть, идеей питаться и больше ничем, одно лишь горячее сердце оставить, а все прочие члены каленым железом прижечь.
— Да, прижечь! — сказал, задыхаясь, Сергей. — Все скотское выжечь, изжить из себя! Настоящий боец революции не может быть раб своего живота! Не о естественных потребностях тут речь. Никому не позволено все! И вам, и мне, и хоть кому в большевиках не все позволено! А если кто-то вдруг решит, что ему можно все, раздавим, как вошь! А вы рассуждаете: воля! Какая? Кишку набивать? Терпели от господ всю жизнь, а теперь дорвались — бери, чего душенька просит? Такая свобода народу нужна? Выходит, враги наши правы: освобожден тысячелетний хам? Да если так, какая ж это революция?
— А как ты себе представлял? Посыпали красивых слов, свободу объявили — и все тут же станут святыми, последней рубашкой друг с другом делиться начнут? Нет, парень: что было в человеке, то зараз из него наружу и поперло — навроде как в червивой яме палкой в нем поворошили. Гордость выпрямилась в человеке, да только — верно — вместе с ней и скотство. Как одно от другого отнять?
Сергей уже будто нашелся с ответом, но тут в штабную горницу ввалился комбриг-один Гамза, захлюстанный грязью до пояса, взбешенный и дрожащий, как собака, которую кто-то обварил кипятком:
— Довольно! Накупались! И на двести саженей нельзя подступиться. Из орудиев с грязью мешают. Отвожу я бригаду, и баста! Опять ты, комкор, меня в пекло пихаешь поперед остальных, а другие бригады прижеливаешь? Так вот, я в присутствии всех заявляю, что далее этого выносить не намерен.
— Я думаю, Гамза, наградить тебя надо, — сказал Леденев, смотря на него, как на вещь. — Орденом Красного Знамени, а лучше двумя. Тогда-то, может, заедаться перестанешь. Хотя тебе ордена мало — ты, верно, и на корпус хочешь встать.
— Што?! Ты меня, красного командира… Ты с собою меня не равняй! — разъярился комбриг, теряя самообладание от взгляда Леденева на него как на предмет.
— Да как же я тебя с собой сравняю? — сказал Леденев не с презрением даже, а с усталой покорностью: мол, он бы и рад, да никак невозможно — «от свиньи не родятся орлята, а все поросята». — Уж если я еще живой, с чего ты взял, что можешь говорить со мной как равный?
— Да ты-и-и… Замашки свои офицерские… — Гамза задрожал нижней челюстью. — Ты как себя ставишь?! Да я с первых дней за Советскую власть… А ты со мной как господин?!
— Так ты меня, такого господина, свергни, — ответил Леденев. — Чего же ты терпишь? Субординацию блюдешь? Вот бы нам с тобой цокнуться, а? Первобытным-то способом — хочешь?
Под взглядом Леденева твердое лицо комбрига удлинилось от страха… Да, это был страх — в том самом первобытном измерении, куда его продавливал своим усталым взглядом Леденев. Как пьяный, Гамза повернулся и, ненавидяще-бессильно улыбаясь, побежал к дверям, пинком открыл и выломился в сени, громыхая шашкой.
«И это он при всех, — бежала в голове Сергея мысль. — Унизил комбрига, ругал комиссаров. Как будто и не сомневаясь, что все вокруг думают так же. Так можно не стесняться лишь своих, доверенных и преданных. И ведь кого при этом? Бывших офицеров. Челищева, Мерфельда. Один молчун, аккуратист, а Мерфельд сам над нами издевался… Над кем “над нами”? Над Шигониным? Да ведь и ты, товарищ Северин, Шигонина не очень…»
— Напрасно вы так, — сказал, пытаясь насталить свой вздрагивающий голос, и посмотрел на Леденева, заведомо усиливаясь не мигнуть. — Гамза боевой командир. А вы его при всех… Не знаю даже, как сказать… И вправду, как холопа.
— А чего ж я такого сказал? Вот, предлагаю к ордену представить — ты бы и позаботился, а, комиссар? Глядишь, и залечим его самолюбие.
— А вы почему свой орден не носите?
— Так резьба на винте стерлась — боюсь потерять, — отвечал Леденев, показалось, безо всякой издевки.
Простота объяснения рассмешила Сергея. «А ведь и вправду: ржавь поела — и никакой контрреволюции. Но не носит, по слухам, давно — почему же не отдал в починку? Не дороже полушки, выходит? И другая тут ржавь — в нем самом?.. Чепуха: скрытый враг, тот, напротив, орденами прикрыться горазд. С боями четыреста верст — не до ордена… Во что же ты веришь, товарищ-царь-зверь?»
XX
Октябрь 1916-го, лагерь пленных Кеньермезо, Эстергом, Венгрия
Матвей стоял напротив Леденева, и глаза того не улыбались. Раздетые до пояса, они застыли посреди коричневой площадки, утоптанной навроде стрепетиного тока, где каждая пядь прибита когтистыми лапами сражавшихся за самку стрепетов. Вокруг изнывала от похоти, качалась за колючей огорожей, подхлестывала криками толпа: направо — заключенные, налево — надсмотрщики.
И вот, слегка присев, расставив руки, как слепцы, боящиеся натолкнуться на преграду, и сторожа друг друга каждым пальцем на ноге и волоском на голове, они сходились, замирали, кружили, играли друг с другом, как кошка с собакой, кидали короткие ложные махи, как будто отметая от себя докучливую мелочь, комаров и изготавливаясь к настоящему броску, и каждый был и тенью, и хозяином другого.
Матвею казалось, что он слышит ровное леденевское сердце и что Леденев слышит каждую связку и жилку, играющую у него, Халзанова, под кожей. И вот Леденев сделал шаг, как будто уж вклещаясь ему в плечи — рвануть на себя, подрубить, — и тотчас нырнул, норовя подцепить под колено. Всполохом Матвей поймал его правую руку, затиснул, нажал, выворачивая. В стоячем упоре надеялся передавить, врывшись в землю ногами, хотя и сверкнуло: направо вались, отжимай ему руку всем весом… И тут как подсел под него Леденев, втыкая в промежность колено, — не стало в Халзанове веса, земли под ногами не стало.
Кувырнулся Матвей, кинул через себя Леденева коленями и хотел уже было кувырком оседлать, но как будто железные скобы вбил в него Леденев. Придавил ему правую руку ногой, захлестнул шею сгибом бедра и голяшки — из Халзанова хрип уж наружу, голова сейчас лопнет, как чугунный пузырь. Удавленно распухнув, все мускулы его, казалось, распускались на лохмотья, но, как вода рвет бочку на морозе, леденевскую ногу отжал, и на излом пошло колено у того, и отпустил халзановскую шею Леденев. Отвалился, вскочил.
Врывались стояками ног в утоптанную землю, крутили друг друга жгутом, как белье. Два раза подсаживался под него Леденев и проворачивал вокруг себя, как мельничные махи, и дважды он, Матвей, впечатывался в землю пятками, а не спиною и затылком. Быть может, кто кого и заломал бы, но лагерная проголодь сказалась — и, быстро вырвав друг из друга силы, так вместе, склубившись, они и свалились, хрипя и нося животами, как один человек. Судья поднял руки обоим.
Боролись на потеху австриякам. За победу давали два фунта пшеничного хлеба, шмат сала, полдюжины селедок и коробку папирос. Яворский называл потеху боями гладиаторов. Присели на штабель ошкуренных бревен и долго не могли сказать ни слова — все отдыхивались.
— Ну, мужик, тебе, гляжу, не попадайся.
— Так и ты не из жидких, гляжу. В Гремучем скачки помнишь? — ответил Леденев.
— Вижу, ты помнишь крепко. Дарью не забываешь. Чего ж ты в меня, как в падлу, вцепился? Кубыть, до дома проводить сулился, а тут обратно убивать?
— Убивать я покуда силов не набрался.
— Так зачем же последние тратишь?
— А вот то самое — о Дарье не забыл.
— И не женат, слыхал, до сей поры.
— Когда ж мне было? Да и на ком? Огрызки подбирать? Таких, какие вам, хозяевам, не гожи?
— Красивых много. Всякого сословия.
— Ну вот и путался со всякими. А чтоб с одной до самой смерти — была одна такая, да нынче сына от тебя растит. По тебе убивается зараз. Кубыть, уж вестку получила, что пропал.
— Хуже нет, чем вот так — то ли мертвый уже, то ли где-то еще телепаюсь. Уж лучше б сразу похоронную.
— Должно, и похоронная пришла бы — все одно не поверила бы. — В глухой и ровный голос Леденева просочилась зависть. По крайней мере, так Матвею показалось.
— А нужна тебе, скажем, жена, окромя твоей шашки? — ответил Халзанов. — На войне ить женился, с ней, войною, и любишься, как ни одну бы бабу не любил.
— Ну а ты? — усмехнулся Роман. — Тебе-то, выходит, нужна — Дарья-то. Ты зараз-то казнишься, ну а, положим, возвернешься к ней — тогда как? Никуда уже больше от нее не пойдешь? Так ить нет: дашь ей радость, как голодной собаке мосол, и обратно захочешь на фронт. Вот и выходит, брат: таким, как мы, все нужно — и война, и жена. Столько нужно всего человеку — как подумаешь, страшно становится. До без конца и края каждый жизнью недоволен.
— А вот сюда его пихнуть. Ни о чем уже думать не сможет, кроме воли и хлеба. Человек то и есть, без чего ему жить невозможно.
— Хлеба? Воли? А где ж такое место есть на свете, чтоб каждому и хлеба было вдосталь, и воли через край? Вот уйдем мы отсюда — куда?
— В Россию, домой, чудак-человек.
— Ну а Россия что такое? Такая же тюрьма. Простор — и умом не окинешь, а воля-то где? У кого? Мужицкая есть? Иль рабочая?
«Наслушался Зарубина», — подумал Халзанов с неясной тоской и нажал осторожно:
— Мне воли с краями — куда еще больше? Я жизнью своей правлю сам. Нутро свое слушаю. Да и ты, вижу, тоже попал на свою борозду. Без мала офицер. Служить да водить за собой — чего еще надо? Хлеб есть. Земли — заглонись.
— У вас, казаков, — верно, есть. Три жизни живи — всю не вспашешь, — надавил Леденев на Матвея глазами, ломая встречный взгляд упорным неприятием их прирожденного, мучительно неразрешимого неравенства. — А у нас, мужиков, на Дону? Какая есть, вся ваша? Нам ее дозволяется только пахать, а владеть ею — что ты, ни-ни. Жрать будете, а нам не отдадите. Шуряк твой Гришка, помню, в измальстве меня ею потчевал: наберет горсть с дороги и в рыло — жри, мужик, приговаривал, жри. Вот и по всей России так: у одних — заглонись, а другие с уродским горбом. Чуть кто выткнется, вякнет: за что надрываемся, на заводах, в полях? — тут же вас, казаков, и спускают, как псов. В плети бунтовщиков, вырвать всем языки. Не похоже на этот вот лагерь? По нутру живешь, а? Нагаечная служба по нутру?
«С зарубинского голоса поет», — опять сказал себе Матвей, осознавая, что ничем не может возразить на леденевские слова — ответить может только то, что ему, казаку, в самом деле живется привольно и что сытый голодного не разумеет, потому и готов он, Халзанов, стоять за царя, за свои же казачьи права, от царя, как от Бога, полученные. А понадобится — и давить, разгонять всех голодных по стойлам готов, безраздумно глушить слитный стон всех озлобленных, безземельных, горбатых в работе, слыша только себя самого, одну только свою казачью правду, как цепная собака внимает только собственному брюху, разделяя людей на хозяев и покушающихся на хозяйское добро.
Да и что Леденев? Что Зарубин? Леденев говорил ровно то же и чуть не теми же словами, что и брат Мирон. Вот это-то и было тяжело и даже страшно: Матвей уже давно почуял одиночество, ясно видя, что брат с каждым часом все больше от него отдаляется, что вобранные сызмальства казачьи представления ведут его, Матвея, в ту же сторону, в то время как Мирон давно уже пошел другой дорогой — за какой-то большой человеческой правдой, которая Матвею недоступна. И вот теперь и Леденев, и по-змеиному вывертливый Зарубин как будто бы объединились с братом, невидимо присутствующим здесь, и все трое гвоздили Матвея железными доводами, корчевали из самой середки все прежние понятия о долге, чести, родине, и со страхом он слышал, как трещат эти цепкие корни и на месте их, вырванных, остается сосущая, ничем не заполняемая пустота.
— Да, чудные дела, — уронил Леденев, не дождавшись ответа. — Сидим тут на болоте вроде ссыльных в самой дальней глуши, австрияков за хлеб веселим, а дома у нас в это самое время, должно, и решается все. Народ на дыбы подымается. Такое может быть, чего и не приснится. Я, знаешь ли, видел царя на смотру. И поглядел я на него, помазанника Божьего, и так ясно мне стало, что ничего-то он на самом деле не вершит. Нет в нем веса, пушинка — куда ветер подует, туда и летит. Даже будто и жалко его. Мы перед ним, само собой, навытяжку, даже кони застыли вроде каменных баб на кургане, с обожанием смотрим, ажник слезы в глазах у иных — так это вот то самое и есть. Народ своей верой вознес его и рядом с Богом усадил, чудок пониже. А если нет уж духа верить — что тогда? Если рухнется вера, так и он — до земли. Ну а как? Закон земного притяжения — слыхал про такой? То было благорастворение воздухов, а то, вишь вон, войной завоняло да голод. Вся старая злоба прикинется, и будет она правая, и потому уж только правая, что удержу ей нет. Один он перед нами, государь, а нас десять тысяч там было. И это один только корпус, а армия вся? Вот сила, мы — сила. Мы его вознесли — мы его и притянем к земле. Тут какие уж ваши нагайки.
— Революцию делать намерился? А ежели кто за царя? Вот мы, казаки, да и сколько народа еще? Тоже сила никак? И чего, брат на брата? Так хочешь? — Халзанов почуял, как все в нем скрипит, словно вяз на корню под корчующим натиском ветра, в усилии остановить непредставимое. Созревшее в глазах у Леденева. Берущее засилье в головах под серыми солдатскими папахами, фабричными картузами, казачьими чубами, готовое прорваться, хлынуть дальше, не чувствуя его, Матвеева, упора.
— Да уж куда мне? — отшутился Леденев. — Тут я, видишь? С тобой. То-то мне и обидно — пропустим ить все. С голодухи, положим, не сдохнем либо, скажем, от тифа, а вернемся в Россию — ничего уж вокруг не узнаем. Поспешать надо, а? — И по-волчьи оскалился — отражение в зеркале.
Они уже давно угадали друг в друге потребность бежать, как и во всех своих товарищах — господах офицерах. Нельзя было представить семерых, настолько же далеких друг от друга, различных меж собой по убеждениям, породе, воспитанию, характеру, летам и даже крови, которая, казалось, и бежала с разной скоростью — в остзейском бароне и текинском князьке, в богатом казаке и «голутьве иногородней», в столбовом дворянине, чьи предки служили царю с допотопных времен, и «разносящем большевистскую заразу» инженере из потомственных учителей.
Всего поразительнее было то, что бежать хотел чуть ли не каждый десятый в офицерском бараке. Из этих офицеров составился «Кружок любителей свободы». Пока все надзиратели и часовые безотрывно смотрели за их, Леденева с Матвеем, борьбой, неподалеку делалась преступная и отчасти душевнобольная работа. Офицеры испросили у комендатуры разрешение устроить на плацу площадку для какого-то «футбола», получили лопаты и тачки, ошкуренные бревна и каток, и вот все кочки были срыты, бревна вкопаны, земля перебросана и перетаскана, но ссыпана у проволочного ограждения не в кучу, а четырьмя валами в полсажени высотой. Под прикрытием этих невинных валов заговорщики рыли «могилу», которую под вечер накрывали досками, присыпали землей и притаптывали, чтобы эта заплатка над ямой ничем не отличалась от коричневой ряднины плаца.
В назначенный час, прикрываясь толпой, в «могиле» должны были спрятаться пять человек, товарищи — накрыть их досками и притоптать, после чего вот эти пятеро должны были в ночи восстать из гроба, подрыться, как собаки, под проволочное заграждение и выскрестись на волю.
И Роман, и Халзанов, хотя и помогали, смотрели на эту затею с тем жалостливым снисхождением, с каким старики-ветераны глядят на забаву детей, на боевое возбуждение едва только вышедших из-под цуга мальчишек. Во-первых, пятерых счастливцев предполагалось выбрать жребием, а во-вторых, все это их гробокопательство могло быть раскрыто в любую минуту — случайно павшим взглядом, нечаянным шагом кого-нибудь из надзирателей и стуком досок под ногами.
Тоска бездействия и скука настолько томили людей, что те и впрямь с ума сходили, уже одержимые потребностью делать хоть что-то, вот именно что детским непослушанием судьбе, и превращались в юнкеров, шалящих за спиной у дядьки: с расчетом отвлечь надзирателя катали друг друга в грохочущей тачке, таскали дружка дружку на загорбке, изображая лошадей и всадников, улюлюкая, гикая и хохоча…
И вообще безумия в их лагерном житье было вровень с краями: все вывернуто наизнанку, перепутано. Как будто волей Господа смешались языки — румыны, итальянцы, сербы, русские, французы, — и каждый день вскипает на плацу невообразимая базарная каша, словно тысячи разнопородных, неведомых птиц слетелись и галдят, клекочут, чулюкают, каркают… Меняли все на все: шинели, гимнастерки, подштанники, обувку, вощеную дратву, иголки, часы, посуду, портсигары, зажигалки, ременные бляхи, шкатулки, ножи, которые искусники изготовляли для австрийских офицеров, наборную сбрую, подковки, какие-то слезливые картинки, изображающие голых баб и пухлых ангелочков, дружелюбных собак и румяных детей.
Всех пленных кормят скудно: полфунта плесневого хлеба, кружка «кавы» да полкотелка пустого горячего хлебова с овсяною мякиной, но и солдаты-надзиратели, хозяева их жизней, служат впроголодь, глядят на пленных жалкими глазами приблудившихся собак, наставляют винтовки и приниженно требуют, угрожающе молят: «Эй, рус, давай хлеб», отбирают пайки и посылки, идущие для пленных от Красного Креста и комитета государыни императрицы.
Австрийская комендатура с охотою ходит на зрелища, которые устраивают пленные за курево и хлеб, гогочет, аплодирует, но провинившихся и беглецов наказывает «положением во гроб» — стоящий на плацу цементный саркофаг, — на два деревянных ребра и под крышку с двумя просверленными дырками. От удушья и ужаса погребения заживо каждый третий караемый повреждается разумом и какое-то время никого уже не узнает.
Никто не выгоняет офицеров на торфяные разработки, дозволены карты, гимнастика, балалайка, гитара, но воздух всюду пахнет смертью, с торфяного болота несет кислой ржавчиной, травяной и древесною прелью — этот гнилостный дух, властный запах могилы проникает во все поры кожи, остается точить, отравлять, убивать в людях силы. От нечистой воды и заплесневевшей пищи по лагерю ползет дизентерия, от человечьей скученности — тиф, и офицеры точно так же, как и рядовые, вычесывают из волос перламутровых гнид, мучительно сражаются со вшами, катая по разостланным рубашкам пустые бутылки и консервные банки, страдают ото всех болезней, какие только можно подхватить в бараке.
Что ни день, поутру на поверке недосчитываются одного или нескольких: поваленные тифом, пластаются на нарах, прерывисто дыша и истекая жаром, с благоговейно-отрешенными глазами, устремленными в какие-то предвечные пределы, куда уж будто отлетела истомившаяся в раскаленном гробу человечьего тела душа. Больных не успевают отправлять в ближайший лазарет и даже перетаскивать в тифозный барак, и вот уже находишь больного успокоенным, окостеневшим, с восковым, как капустные листья, лицом, с навек замерзшей на лице полуулыбкой, выражающей сразу и муку, и злобу, и как бы мстительное торжество освобождения, и бесконечно уж знакомое Матвею таинственное ожидание чего-то небывалого, неотмирно отрадного, не могущего сбыться, пока ты живой. На умерших глядят как на самих в ближайшем будущем, вполне предполагая разделить их участь.
Изморщиненное серой облачной рябью осеннее небо с каждым днем опускается ниже и кажется уже не небом, а наваленной свыше землей — все тем же торфяным болотом, изрытым колеями разработок. Все будто бы в тумане. Холощеные мысли топорщатся в мозгу, как перерезанные плугом безнадежно упорные черви.
Идея подкопа смешит Леденева: заточенными черенками ложек ковыряться в земле, подрываясь под стену барака в надежде обогнать ползучие полчища вшей, которые, и глазом моргнуть не успеваешь, покрывают все тело шевелящимся саваном. Тут надобно что-то другое — наверное, настолько же нелепое, как и все их житье, еще нелепее, чем эта вот могила на плацу, забравшись в которую, они надеются воскреснуть.
Незыблемо торчат над лагерем сторожевые вышки, глядят на кисельное скопище пленных раструбами пулеметов Шварцлозе. Как же разом-то высигнуть за двойную колючку высотою в четыре аршина, ажник тридцать саженей покрыть — не иначе как чистой душой, навсегда разлучившейся с телом. Ну а если и впрямь умереть и воскреснуть? Не уйти, а пусть сами австрийцы и вынесут их на свободу, как покойных, ногами вперед?
Леденев возбудился, как легавый кобель, вдруг напавший на заячий след. Произведя поверку поутру, недосчитавшись заболевших и умерших, дежурный офицер обследует барак, затем приходит доктор, заключающий о смерти и переписывающий имена покойников со слов живых в тетрадку, и как бы ни были живые серы, «краше в гроб кладут», за мертвых все равно им не сойти, тем более на ощупь. Но вот усопших сами пленные, пускай и под присмотром австрияков, перетаскивают на шинелях в погребальные дроги, и делается это уже после врачебного осмотра, после чего живых до вечера никто уже по головам не пересчитывает.
Леденев и Халзанов притащились в барак. Лежавшие на нарах Извеков и Зарубин вовсю уже спорили. Матвей каждый день слушал их с неслабеющей жадностью — не только потому, что изнурительно искал какую-то единственную правду, но и как будто из инстинкта сохранения человека в себе. Отвлеченные споры об исходе войны, о царе, о народе, о России-святыне и России-тюрьме будоражили вянущий ум, вытягивали из дремотного оцепенения, не давали Матвею превратиться в животное, в дерево, как будто раздвигая невеликое пространство лагеря до пределов всего неохватно огромного мира, в котором все бурлит, беснуется, меняется.
— Не-на-ви-жу, — вытягивал Извеков из себя, и губы его поводила прогорклая злоба. — Нашу интел-лигенцию — этих рыцарей славного ордена, литераторов русских, аблакатов-заступничков, онанирующих свободолюбцев с их болезненно развитым чувством ответственности за свой темный народ, который-де надобно вывести к свету. А еще пожалеть. Всех пожалеть. Мужик с топором пошел на большую дорогу — так это не он нарушил завет, а его угнетали. Голодный студент залез в чужой дом, зарезал купца с женой и дочушкой двенадцати лет — так тоже не сам, а среда, изволите видеть, заела. Если голоден был, значит, право имел. А купец — ростовщик, сволочь, выжига да еще мракобес из союза Михаила Архангела. То ли дело студентик — пригожий, молоденький, сразу видно, что ужас как мучился, когда резал людей. А то и «тварь ли я дрожащая» — не банальный убийца, а истины жаждал. Так и насильник, обделенный счастьем полового удовольствия, имеет право взять ту милость у любой. А бомбисты, так те меньше всех виноваты — хотели достучаться до совести царя. Как будто та спала, как будто не дала крестьянам волю… Ах, ну да, вам же ма-ало. Что ни дай — мало, мало! Сладкий Горький пророком явился: человек звучит гордо. Нельзя его в окопы. Нельзя на колени пред ликом Господним. Нельзя во фрунт перед царем. Ведь это больно на коленях, унижение. Поднять его надо с колен, распрямить. Так перед Богом же, перед царем? А знаете ли, есть теория, что Бога нет, а человек от обезьяны. Помилуйте, а что же можно делать с человеком? А вот ничего и нельзя — это мне, человеку, все можно. Это как же, простите, все-все? Да, все, согласно моей совести. И широкую, ясную грудью дорогу — куда влечет тебя свободный ум… А тут и вы, большевички, со всею вашей грубой прямотой — все низменное, темное, что есть в природе человека, вы ставите себе на службу, вытаскиваете из настрадавшегося на войне солдата…
— Вот именно: из настрадавшегося, — оборвал со спокойной улыбкой Зарубин. — Из каждого, кому охота знать: а отчего же это он страдает, по чьему произволу? Что до низменных чувств, то, по-вашему, низость и мерзость могут быть только в низших по отношению к вам, дворянам, только в диких, дремучих, тупых мужиках или уж в разночинцах, иноверцах, жидах, которых вы, конечно, и за людей-то не считаете. А не ваши ли деды и прадеды тысячу лет секли мужика на конюшне, продавали людей как скотину и не видели в том ни стыда, ни греха? А дав крестьянству волю, продолжали его грабить, драть с него за аренду земли, нанимать за гроши в услужение, держать его в проголоди, то есть во власти тех самых звериных инстинктов, да еще удивляться, что мужик и рабочий не разделяют ваших идеалов верности и долга? А какого же долга? Хребет на вас гнуть? Вы знаете, в чем ваша, власть имущих классов, роковая ошибка? Вам нужно, чтоб Россия жила на две веры. Одна мораль для всех, кто пашет землю, работает на фабриках, горбатится на вас. Их надо держать в страхе божьем, в понятиях греха и воздаяния за гробом, а когда эти страхи немного ослабнут, то сгодится казачья нагайка.
Матвей краем глаза приметил, что Леденев по-волчьи улыбается, как будто говоря оскалом: да, все так.
— Другая же мораль для вас — продолжал, улыбаясь, Зарубин, — неподсудно владеть всем и пользоваться. Это для вас сто сорок миллионов низших должны возделывать поля, производить предметы роскоши и, разумеется, бояться Бога. Им ничего нельзя, а вам все можно — на основании породы, дедовских заслуг, как будто в ваших жилах и впрямь течет не красная, а голубая кровь. И все по божьим заповедям, все в благодатном свете мировой культуры, носители которой в России только вы. Но вот скажите мне, Евгений Николаич: а сами-то вы Бога боитесь? Какую из заповедей не нарушили? Оставим шашни с горничными и прочие «не возжелай», но разве же вы не крадете? О праве собственности, если я не ошибаюсь, ни у Матфея, ни у Марка ничего не сказано. Зато даже Бог заповедовал людям делиться последней рубашкой. А вы не хотите делиться, вы эти рубашки хотите менять каждый день — и чтоб вам в ножки кланялись за вашу нравственную чистоту. Теперь перейдем к «не убий» — не обожаемый ли самодержец всероссийский и брат его, германский кайзер, толкнули своих подданных на эту мировую бойню, приохотили к крови, превратили в зверей? Не вы ли аплодировали этому? Не вы ли до сих пор стоите за войну до победного?..
— Ну а за что стоите вы?! — вскипел Извеков. — За разрушение всего? Всех основ государства? Смести все и вся: попов, господ, власть, любую власть, любую веру? Само понятие закона и порядка? Границы отменить? Паситесь, мирные народы? Простите, не вижу. В глазах солдатиков не вижу — миролюбия-с. А злобы — через край. По-вашему, всяк, кто озлоблен, вправе выплеснуть злобу? Всякий, кто смотрит с завистью на богатство соседа, вправе дать выход зависти, залезть в чужой амбар, поселиться в чужой избе? Ограбить, зарезать? Такого вы хотите для всех освобождения? Так правда ваша — правда Каина, братоубийцы и отступника от Бога. И хотите, чтоб мы это приняли?.. Эх, поздно мы хватились. Надо было вас раньше…
— По каторгам сгноить и перевешать? — немедля подхватил Зарубин с издевательским сочувствием.
— Да, именно так, — проныл Извеков, словно мучаясь зубною болью. — Как угодно, что угодно, но не заигрывать ни с вами, ни с либеральным направлением всех этих милюковых и гучковых, добропорядочных двурушников, блаженных идиотов, которые и сами не знают, что творят. А мы дали вам волю, типографии, площади, Думу, в демократию с вами играли, столько лет позволяли дерьмом поливать — государство, Россию, царя. Отстранились, молчали, мракобесами друг перед дружкой боялись сказаться. У нас самих, дворян, приличным было чаять очистительной грозы и радоваться ей, как дураки пожару. Декадентствовать, сифилис свой напоказ выставлять. А кто еще здоров, так те по-ребячески верили в русский народ: ну не может поддаться он вам… А знаете, я и сейчас в него верю. Давайте спросим казака… А казак вам не нравится — ну так вот, Леденева. Слышал, братец, о чем мы? Что думаешь?
— Я думаю: лежат два мертвеца в одном гробу и лаются друг с дружкой об том, что на земле без них поделывается, — ответил Леденев. — Уходить отсель надо, чем скорее, тем лучше, а то ить и без нас решат, чего с Россией делать.
Яворский закатился булькающим смехом и хлопнул его по плечу:
— Ты, может, придумал, как нам это устроить?
— Навроде того, — ответил Леденев, и Халзанов увидел, как все пятеро, насторожившись, потянулись к Роману, не сводя с него жадных, вымогающих глаз.
Леденев изложил свою безумную затею.
— Послушайте, вахмистр, вы предлагаете кощунство, — сказал угрюмо-отчужденно Гротгус. — По сути, выбросить покойных из могилы, а перед тем еще сидеть и дожидаться смерти наших товарищей, чтоб на них, как на падаль, накинуться.
— Да ну? — ответил Леденев. — А сколько за эту войну народа поклали, в чужой земле без погребенья бросили, а кого и живьем — издыхать. Хоть и слыхали в спину: «Братцы, не покиньте», а все одно ить замыкали слух и дальше бежали. Должно, нельзя бы иначе? Своя рубашка к телу липнет? А тут живьем гнием — это чего ж, над нами не глумление? Уж коль на то пошло, живых поделать мертвыми — вот это кощунство. А мертвым, кубыть, уж без разницы: хорони либо нет — каждый в землю вернется, от нея же взят есть. А ежели вы душой такой трепетный, сидите тут и пойте Лазаря, пока вам кто-нибудь свободу не подаст либо уж воскрешенье из мертвых. А я полагаю, за жизнь да за волю самому надо цену платить. Коль хочешь жить, так сам себя животвори, равно как и товарищей своих, покуда они еще дышат. За них живот клади, а не над мертвыми обряды соблюдай.
— Послушайте! — воскликнул Бек-Базаров, засмеявшись, как ребенок. — Солдаты мертвых не считают! Считают врач и офицер. А этим все равно, десяток мы в арбу положим или двадцать. Кто мертвый, кто живой, не будут разбирать. Одно надо — смирно лежать. Ну ты и шайтан, — сказал Леденеву, сверкая на него бараньими глазами.
— Да ну конечно же! — рассмеялся Яворский. — Ведь никого не потеснили бы. Возражение ваше, Григорий Максимыч, обращается в прах, простите за невольный каламбур. Оно, конечно, жутковато, да и смрад — не каждому посильна такая героическая небрезгливость. Ну а ты чего скажешь? — спросил он Извекова. — Тебе, может, с большевиком могилу делить неприятно? А вам как, господин социалист? — взглянул на Зарубина. — Может, классовый враг и смердит как-то особенно противно?
— По мне — хоть дубленою шкурой, хоть чучелом, — ответил Извеков.
— Постараюсь избавить благородную кровь от столь противного соседства, — ответил Зарубин.
Глаза его смотрели ровно и будто бы чуть отрешенно. «Как будто верит, что нельзя и смешно умереть в этой яме, что для него и вовсе смерти нет, пока своего не исполнит», — подумал Леденев завистливо.
— Не об том, господа, гутарите, — обрезал он глумливые подначки. — Не худо бы нам у австрийцев бумагу подходимую добыть — навроде увольнительных аль документов по болезни, с какими их солдаты к дому могут правиться. А то ить от могилы и версты не пройдем.
— Ну, за этим дело не станет. Мы все же не у немцев, — сказал на это Гротгус. — Уж те бы и покойников по десять раз пересчитали да каждого пошевелили штыком. А у этих бедняков все можно купить — и паспорт, и мундир. Вот вам мой взнос, — он выложил на стол золотой портсигар и начал, как ржавую гайку на ржавом болте, вертеть на пальце обручальное кольцо, давно уже вросшее в мясо. — А мы ведь вас совсем не знали, вахмистр, — сказал он, поглядев на Леденева с не то завистливым, не то тоскливым отвращением. — Вы, видимо, еще и сами не знаете себя как следует.
— О чем это вы?
— Есть в вас какой-то, что ли, животный магнетизм, который заставляет окружающих с готовностью и даже с радостью вам подчиняться, хотя вы только унтер, извините, да и по возрасту мне в сыновья годитесь. Вы ради своей цели пойдете на многое. Мертвые сраму не имут, и мы их своим обращением пожалуй что и впрямь не обесчестим, да только не в мертвых тут дело, а существует ли для вас хоть что-то, через что не посмеете перешагнуть? Само собой, вы человек военный, убийство человека, я так вижу, для вас уже давно привычное телодвижение, но это ведь опасная привычка. При вашей-то воле и способности к власти. Смотрите, Леденев, не только далеко пойдете, но и зайдете слишком далеко — в такие края, где воскрешение из мертвых вам уж точно будет не положено.
— А что ж, если враг и жизни тебе не дает, так дави, — сказал Леденев.
— Да-да, врага дави, — неясно повторил Гротгус.
Под сизым октябрьским небом, провисшим, словно одеяло под покойником, под тяжестью свинцовых облаков, к бараку подтащились похоронные долгуши. Отощавшие лошади и сами походили на свои ходячие скелеты, неведомо какою силой поднятые на ноги из праха, большеголовые шагающие механизмы из обтянутых шкурами и держащихся на честном слове костей.
В долгушах лежали шесть трупов умерших от тифа солдат, их ноги вразнобой то свешивались, как тряпичные, то торчали корягами, уже окостенев и не сгибаясь, обутые в опорки, в худые сапоги или босые, с оловянного цвета ступнями и жесткими, как конское копыто, растресканными пятками.
И вот из офицерского барака на шинелях вынесли еще четырех человек — с лежащими вдоль тела скрытыми руками и почти по макушку занавешенными головами. Поочередно взбагрили и взгромоздили на долгуши, соорудив невинно-жутковатый в своей обыденности штабель. Шинели и тряпки, скрывавшие лица умерших, конечно, сползли при возне. Австрийцы не хотели возить покойников в приличном, не свальном порядке, по много раз туда-сюда гоняя дроги, и давно уж смотрели на мертвых глазами вот этих двух кляч, способных чувствовать лишь собственную муку и нужду. Такое обращение с покойными давно уж никого не возмущало и не отвращало; привычные и к виду, и к количеству мертвых, офицеры, конечно же, требовали, чтоб им дозволили похоронить товарищей по-человечески, дали гвозди и доски на гробы и кресты — вот и на этот раз угрюмый Гротгус по-немецки потребовал. Ему с Яворским и Зарубиным сказали следовать за дрогами. Один из австрияков ударом кнута стронул с места коней — и те, зашатавшись, пошли, хрипя и раздувая остроребрые бока, влегая в упряжь так, что морды их едва не касались земли.
Происходившее с уложенными в дроги не имело подобия: это была уже та мера противоественности, которая природой не предназначается ни одному живому существу, разве только червям или крысам, да и те ведь шевелятся, порскают, нажираются трупом — живут, а им, беглецам, надо было подражать в неподвижности мертвым, с которыми пришлось соединиться, как дрова в одной поленнице. Но в то же время Леденев был занят как будто уж давно привычным делом, мучительным, противным, но не невозможным, как будто уж внесенным в человеческое бытие и всю природу на правах необсуждаемого, неотменимого закона. Теперь только так и могло быть: и мертвые, и умирающие, и живые — все сваливались в кучу, сбивались, смерзались в единое тело, замешивались, как солома и назем для будущих кизячных кирпичей.
И будто в подтверждение вот этого прямого чувства скрипучая подвода встала, и на них, Леденева с Халзановым, положили еще то ли два, то ли три новых тела — и кости мертвецов впились в живое тело Леденева, налегли и раздавливали клетку ребер, не давая вздохнуть.
Хрипящие клячи взяли напор, долгуши затряслись, подбрасывая всех, и Леденев почуял под собой и на себе движения мертвых костей, как чувствуешь хребтину лошади, когда едешь охлюпкой. Кости терлись о кости, и он уже не понимал, какая из закоченевших рук и ног принадлежит ему, а какая чужая, и если вот эта живая, то чья, Халзанова или его, и если вот эта его, то живая ли.
Деревянные трупы, трясясь, налегая, встречая упором, вытесняли его из него самого, стирали его будто жернова, промеж которых угодил. Сквозь сырые шинели все настойчивей тек трупный дух, небывало густой в своей приторной сладости, такой жирный и липкий, что его можно было не только осязать в своей глотке, но как будто и видеть.
Все вещее в Романе хотело одного — вот именно что всею силой ворохнуться, спихнуть, отвалить с себя смертную тяжесть, в которую он с каждым оборотом колеса и вздрогом на ухабах превращался сам… И вот они, неотделимые от мертвых, друг от друга, Халзанов, Леденев, Извеков, все остановились, и сердце в нем оборвалось, как будто и впрямь провалившись в чужие, соседние ребра, и тотчас же вернулось в тело, и, казалось, одной силы сердца хватило, чтобы сдвинуть с себя пять пудов непродышного смрада и тупого безволия.
Такую почуял он лютую радость, такую голодную силу во всем своем теле, что ни о чем уже не думал и даже будто ничего видел и не чувствовал, кроме света и воздуха. Конвойный солдат-австрияк увидел поднявшегося мертвеца и не мог осознать, что вот это будто самой землей изрыгнутое существо — реальность, ни вскрикнуть, ни вздохнуть, ни тем более уж шевельнуться.
Смотря ему прямо в глаза, Леденев взбросил руку, вклещился в винтовку и толкнул его в грудь — тот упал, будто пьяный или малый ребенок, на задницу.
Яворский и Зарубин в два прыжка повисли на вознице. Слетевший коршуном с подводы Бек-Базаров, визжа и клекоча от наслаждения, рукой взбил штык над головой, поймал австрияка за челюсть, заплел ногой под пятку, нажал в два рычага, обваливая навзничь… забрал винтовку и, крутнув ее, как на учениях, хотел заколоть распростертого, но Гротгус его удержал. Схватка кончилась вмиг: ни трое конвоиров, ни возница не сопротивлялись, парализованные страхом и внезапностью. Их тотчас же обезоружили и, оглушив кулачными свинчатками, столкнули, сволокли в ложбинку.
Вокруг повозки с мертвецами, которым не восстать до Страшного суда, помимо беглецов, оторопело замерли трое русских солдат, пришедших погрести своих товарищей.
— Что встали?! — крикнул им Извеков. — Давайте делайте, зачем пришли!
В ложбинке, заросшей осинником, всего в полуверсте от лагеря, все десять человек хватали трупы за руки и за ноги, спускали их в заранее отрытую траншею, назначенную всем, и будущим, и давним лагерным покойникам, и, словно разъяряясь от омерзения к себе, с лихорадочной спешкой засыпали землей. Разве только солдаты шевелились как будто не собственной волей, отстающие и понукаемые, как две клячи в долгушах.
Надо было скорей уходить, но соблюдение обряда как будто бы давало всем почувствовать себя еще людьми и даже как бы разъясняло каждому, от чего и куда он бежит. С безвольных, оглушенных конвоиров, ворочая, содрали сизые мундиры и штаны, гамаши, портупеи, добротные ботинки с окованными каблуками. Раздетых до исподнего, босых усадили рядком у могилы и связали им руки с ногами. Накинули на них свои шинели, как на огородных чучел. Часа через три всех их хватятся в лагере, и четверых вот этих оглоушенных найдут, не дадут им замерзнуть.
— А нам-то куда? — не то всхлипнул, не то засмеялся один из солдат, обводя всех глазами побитой собаки. — Вы энтих-то порезали, а нас за них австриец?.. Как же это такое?
С тоской запоздалого, беспомощного сожаления Роман стряхнул с себя австрийскую шинель:
— Бери, коль не робеешь, и айда. Да морду хучь портянкой обвяжи — вот эдак, по-бабьи, под бороду, кубыть зубами маешься и слова сказать не могешь. Авось и спасешься… Ну? Живо!
Извеков, мявший себе горло, словно выпихивая что-то не дающее дышать, последовал его примеру.
Из трех безымянных солдат лишь один — вопрошавший — вцепился в голубое австрийское сукно.
XXI
Январь 1920-го, Багаевская, Дон, Кавказский фронт
Сергей увидел Дон впервые. Река подавила его и в то же время сделала огромным, как пространство, на котором господствовала. То не была необозримая пустыня, без берегов, без горизонта, но такая сила, перед которой человек и впрямь, казалось, уже мало что значил. Как будто не она была для человека, а он для нее — видеть, чувствовать, думать, устремляться к чему-то вечно недостижимому и тосковать по невозвратному, уносимому ею за край.
По руслу ее, как кровь по пуповине, из темной утробы земли текли жизнетворные силы всем людям и растениям, рождавшимся и умиравшим на ее берегах, и только зимой — как сейчас — течение ее, выстуживаясь, замирало и только весной — как сейчас — неотвратимо становилось разрушительным, смывало мосты и дома. Все русло казалось заваленным сизыми льдами, и что-то тектонически неудержимое, от времен самого зарождения мира было в этом потоке. Как пойти поперек?
В ночь на 17 января долгожданный, нечаянный, Леденевым загаданный, «божьим произволением» грянул мороз. Студеный ветер завернул с востока, и огромные талые лужины прихватило кристальным ледком, расквашенная в непролазную, засасывающую грязь, плывучая и вязкая земля подстыла, закрутела и вот уж лишь слегка вминалась под копытами. Бугры присолило колючим, хрустящим снежком, и весь мир побелел, построжел, как покойник в гробу.
По обоим донским берегам зеленовато-сизый нарастал и крепнул лед, удлинялись и ширились снежные заеди, как будто ведьмовские руки, клешнятые лапы неведомых миру чудовищ тянулись друг к другу над стременем. Вот время — кинуть корпус на Багаевскую — до света, в ночи переправиться. Врубиться клином в протянувшийся вдоль Дона белый фронт, расчленить его надвое, перетянуть на левый берег красные стрелковые дивизии… Но Леденев, давно воюющий в сотворчестве с природой, с ее метелями, морозами и оттепелями, не то чтобы медлил, а как-то отрешился от всего.
Он даже к реке за четверо суток ни разу не выехал — попробовать берег, ощупать в бинокль станицу, позиции белогвардейских батарей, гнезда их наблюдателей на ветряках и смутно голубеющей церковной колокольне. Выслушивал доклады начштакора, комбригов, комполков и смотрел сквозь любого, вперив взгляд в какую-то бесконечно далекую цель, не то недосягаемую, не то уже несуществующую, словно там, по ту сторону, все враги уж мертвы и ему больше незачем жить.
Полки Партизанской бригады рванулись к призраку разобранного белыми понтонного моста, «попробовали воду» и были немедленно встречены беглым орудийным огнем. Шестидюймовые снаряды взметали к небу сизо-белые столбы, пробивали в еще не окрепшем сером панцире Дона уродливые звездчатые дыры в паучьей паутине разрастающихся трещин. Размолотили вдребезги закраины, изорвали, изрыли весь берег, подсекли, обвалили пласты красной глины. Леденев приказал отойти и не двигаться — ждать.
Поступи так другой — это было бы названо «промедлением, смерти подобным», «нерешительностью» да и «трусостью» или прямо «преступным бездействием». Но то был Леденев. Да, он мог опасаться бесцельных потерь, но Сергей видел именно что равнодушие, сознание никчемности происходящего. Что за этой своей безучастностью Леденев прячет страх, он не мог допустить, потому что не видел причины, предмета боязни — ну не разгрома же вот этот человек впервые в жизни испугался.
Подтянулись полки 21-й стрелковой дивизии, и вот все комбриги, комдив 21-й Овчинников, военкомы и штаб собрались на совет. Явился и Шигонин, придерживаясь за пораненный бок, измученно-угрюмый и злой на нелепость своего положения: ни в строй, ни в санитарную линейку.
— А и точно же бьют, сукины дети, — навис над столом горбоносый Гамза.
Он тоже почувствовал, что Леденевым овладела странная усталость мысли, что тот необъяснимо отстранился от хода операции. Глаза его горели возбуждением и спешкой доказать, что может сам, без Леденева, переметнуть весь корпус через Дон.
— Я мыслю так: в обход идти, по ерику Вагайчик. Ночью переправляться. За берег уцепимся и ударим во фланг.
— Не перейтить нам зараз там ни днем, ни ночью. На тридцать верст не держит лед коней, а пушки и подавно. Визгу будет — какая уж скрытность? Зазря людей в трату дадим, — сказал начальник корпусной разведки Колычев, бывший белый казак, которого допрашивал Монахов на ночлеге: «Где зять твой Халзанов, живой ли?»
Широкий в плечах, с чугунными мускулами, распирающими гимнастерку, с полуседым кудлатым чубом, синеглазый, все время будто бы о чем-то тяжело размышляющий.
— И что ты предлагаешь? Топтаться до весны? — напустился Гамза.
— Сперва их батареи надо сбить, — сказал комбриг Трехсвояков, — а для того просить у штарма еще артиллерию. Подолбим Багаевскую в черепки, а там уж и переправляться наладимся.
— Артиллерийская дуэль затянется на много суток, — ответил Челищев, — а белые за это время еще глубже окопаются, причем не только у Багаевской, но и вверх по течению.
— Получен приказ — форсировать Дон, немедля, вчера, — проныл, как из зубоврачебного кресла, Шигонин. — От этого зависят судьбы армии и фронта. Согласен с комбригом-два. Затребовать у штарма дополнительные средства, тяжелые калибры и припасы. Обрушить мощь, стереть с земли. — Он тщился сделать голос безжалостно-железным, и что-то жалко-несуразное было в решительных словах, произносимых голосом капризного больного. — Ну а вы что молчите, товарищ военком? — всверлился в Сергея.
— Молчу, потому что не я командую корпусом, — ответил Северин и посмотрел на Леденева.
— Пиши, Челищев. Командарму Степину, — двинул челюстью в речи комкор, словно мельничный жернов ворочая и глядя на Сергея опять как на пустое место. — Попытки переправы означают топтание на месте. Бессмысленной крови проливать не хочу, в связи с чем увожу вверенный мне корпус в направлении станицы Раздорской. Точка. Предполагаю переправу на Сусатский для расчленения фронта надвое и выхода противнику во фланг с дальнейшим продвижением на Маныч. Точка.
— Да вы што?! Это срыв наступления! — Шигонин задыхался криком, как во сне, когда зовут на помощь и не слышат себя.
— Зашифровать, телеграфировать. — Леденев даже не посмотрел на него.
— Нет, подожди, комкор! — вскочил Гамза и, кинув руку на эфес, подался к Леденеву, напоказ наливаясь угрожающей силой. — Без приказа штаба армии нельзя! Бригаду я не поведу.
— Харютину принять бригаду у Гамзы, — уронил Леденев.
— Не сметь! — закричали Гамза и Шигонин как один человек.
— Молчать! — не успев поразиться себе, заорал и Сергей. — Отставить истерику! Что вы тут, как базарные бабы?! Подождите, Челищев! Решение такое, я считаю, должно быть согласовано со штармом. А вы — считаете свое решение правильным, товарищ комкор, так дождитесь ответа от штарма, а не шлите ему директивы.
— А я требую объяснений, — взвинтил Шигонин голос. — Немедленно, здесь. Почему это вы, товарищ комкор, проявляете такую осмотрительность? Из тактических соображений? А может, по своим не хотите стрелять? Да-да, по своим землякам. Насколько знаю, вы как раз Багаевской, Багаевского юрта уроженец. Забыли директиву фронта: никакой пощады — все гнезда белых казаков должны быть разрушены?
— Картагинэм дэлендам эссе, — сказал Мерфельд в нос.
— Да, именно так! — услышал Шигонин. — Все, кто хотел взять нашу сторону, давно уже с нами идут, а остальные пусть пеняют на себя. А думать, кто тебе земляк, сват, брат, — это значит связать себя по рукам и ногам. Нет братьев по крови — есть братья только по борьбе, по вере в революцию. А вот от вас, товарищ Леденев, слыхали: не желаете орден носить за убийство своих кровных братьев. Что ж, и теперь, быть может, не желаете? По своим бить устали?
«А ведь и вправду там, за Доном, его родина, — прожгла Сергея мысль. — Каждый дом, каждый кустик знаком… и все люди. Ну не все же ушли воевать и не всех же убило, старики-то остались… и дети. Не оттого ли это омерзение и равнодушие? Ведь родное топтать и корежить, и иначе-то как?..»
— Да ить нету уже у меня свояков, — ответил Леденев, смотря не на Шигонина, а почему-то на Сергея. — Много было — и в красных, и в белых. А зараз один Колычев остался, — неверяще царапнул взглядом своего начальника разведки, казака, который и сам, казалось, не верил, что жив, всей своей смеркшейся матерой силой напоминая зверя за решеткой… да, волосатого Евтихиева, индейца, готтентота в позорном человечьем зоопарке. — Какие с Буденным в Россию ушли, какие в белых до сих пор, а больше уж в земле лежат. Два года я по Манычу ходил, все родные степя истоптал, всюду след положил, в каждом хуторе, сам же их и рубил — и земляков своих, и односумов, и соседей. Ты у нас, начпокор, верно, сын парового котла, в угле тебя нашли либо в олеонафте, ни роду у тебя, ни племени, ни жали к живым человекам, а я б и хотел свою кровь пожалеть, да уж где она? Кричи — не кричи.
«Дурак! — ругнул себя Сергей. — Ох и дурак! Да у него ведь там и вправду никого не осталось. Где теперь его дом? Где семья? Все отдал революции. А ты его коришь за голос крови, который он в себе давил. И каждый дом там, за рекой, каждый старый плетень будут напоминать… Вот же сволочь слепая! Смотрю в человека — и вижу не боль, а измену. Рубец же сплошной».
— К черту, — сказал он. — Прошу передать мое мнение в штарм: решение комкора разделяю и поддерживаю.
В настывшей тишине послышались хлопки — это Мерфельд подчеркнуто медленно и размашисто поаплодировал.
— Пиши приказ по корпусу, Челищев, и давай комиссару на подпись, — сказал Леденев и этим словно поощрил Северина, как потрепал смышленого щенка, и потому Сергей, не дожидаясь одобрений и протестов, повернулся и вышел из горницы: я, мол, сам по себе и сужу независимо.
На крыльце ощутил чью-то хватку на правом плече.
— Смотри, Северин, так совсем потеряешь себя, — крутнул его к себе Шигонин и посмотрел в упор с брезгливым отвращением. — Раздавит он тебя, сожрет. Будешь фук, нуль без палочки.
— А по-моему, это и неплохо — потерять себя ради дела. А вернее, забыть свое предубеждение, обиды, гонор непонятный.
— Ах, гонор… А если он завтра прикажет тебе идти на переправу с белым флагом? В объятия к этим… своим… недобитым, чьей лишней крови он как будто бы не хочет.
— Я тебе про Фому, а ты мне про Ерему.
— Давай про Фому. Как прикажешь его понимать? Вот эту его директиву, которую шлет командарму? Нет бога, кроме Леденева, и Северин его пророк? Зачем ты даешь ему уверовать в свою непогрешимость?
— Послушай, Паша, ты верхом умеешь ездить?
— Что?.. — подавился Шигонин.
— Так почему ж ты, толком не умея ездить, считаешь себя вправе рассуждать, где и когда переправляться кавалерии?
Глядя перед собой, словно голову взяло в тиски, Шигонин как слепец сошел с крыльца и пошагал по девственному снегу к своей хате. Сергею показалось, что если тот взмахнет руками посильнее, то оторвется от земли и полетит, как неприкаянный воздушный шарик…
Согласие штарма настигло их уже на полпути к Раздорской — запенив жеребца, примчался ординарец с телеграммой.
Сергей искал в обозе Зою — Шигонин в ее помощи, похоже, больше не нуждался. Неправдиво легко ведь отделался: пуля разорвала только кожу и musculus obliquus в вершке от подвздошного гребня, где и костей-то нет, и ни одна артерия не повредилась.
Она была верхом на рыжей кобылице — Степан заволновался, влег в поводья, со страстным похрапом набирая на рыжую, и вот уже обнюхивался с ней.
— А и сделайтесь, Зой! — гоготнул проезжающий мимо молодой конопатый боец, проказливо блестя глазами на коней и откровенно намекая на хозяев. — Пустила бы комиссарова жеребца!
— Ты либо дурак, Колтаков. Зима в природе, видишь? Когда еще в охоте будем, — ответила Зоя ему на том же черноземном языке и даже будто бы смеясь, но взгляд ее остался устремленным внутрь себя, отрешенный, неясно тоскующий.
— Да у погоды, видать, зараз не порядок, а бордель по всей форме, — хохоча, обернулся боец на ходу. — Жеребец-то, гляди, дорывается. Ну вот и пусти его, спробуй — хороших кровей добудешь. У людей-то, кубыть, круглый год… — дозвенел его голос, подняв по рядам смачный гогот.
— А у людей сейчас война, — сказала Зоя.
— Ну и что, что война, — отважился Сергей. — Вы сами в госпитале говорили. Одним днем живет человек. Да и комкор наш то же самое, — добавил зачем-то. — Он говорит, что если не любить сейчас, потом уж, может, вообще не доведется.
— Ну конечно, — ответила Зоя с так не идущей ей улыбкой нехорошей опытности. — Зачем теперь вешать замок на себя?.. А близко же вы с ним сошлись.
— Ну вы-то ему в душу заглядывать не захотели.
— Да говорила уж: на него все равно что на камень смотреть. А любопытство-то к нему у всех огромное.
— Как к сильной личности?
— Как к условию всей нашей жизни.
— Ну, это как-то, знаете… Получается, что все бойцы обожествляют его прямо.
— Человеку обязательно надо в кого-то верить, — сказала Зоя, будто удивляясь, что Северин не понимает таких простых вещей. — Тем более когда он каждый день под смертью ходит. Раньше всякое чудо было от Бога. Крестом животворящим, молитвою творилось. Ну а сейчас красноармейцу от кого ждать помощи? На небо он уже не смотрит — пусто там для него. А Леденев и вправду ведь спасает. Не всех, конечно, — где уж всех? — но корпус отводит от смерти. Ну вот как раньше, говорят, солдаты верили, что Суворов колдун.
— И как же он предполагает перенести нас через Дон? — спросил Сергей с усмешкой. — И как же вы переправляться будете?
— А вы? — ответила она с такой улыбкой, как будто ничего пугающего и даже непривычного в подобной переправе для нее давно не было.
— Не знаю, — сознался Сергей. — Я ведь и плавать толком не умею. А вы, я смотрю, будто и не робеете. И с конем управляетесь, будто верхом родились.
— И не хочешь — привыкнешь. С одного только страха упасть приходилось цепляться.
— А раньше коней и не видели? — спросил Сергей, как будто сомневаясь и выражая этим восхищение ее посадкой, ладностью, свободой. — В Саратове-то? Вы ведь там родились?
Вопрос как будто испугал ее, и Северин не понял, отчего.
— Родилась я в Ростове. Потом, перед войной, то есть перед революцией, мы с мамой переехали в Саратов.
Быть может, Зое показалось, что Северин пытается вломиться в ее жизнь, как в комнату, и даже поселиться в ней на правах постояльца, а то и хозяина, — и в инстинктивном страхе захотела вытолкнуть его: кто он такой и кто он ей?
Похабные шутки бойцов ее не задевали — обижаться на них было так же нелепо, как и на ветер, холод, лающих собак или пытающихся укусить тебя коней, а он, Сергей, коснулся Зоиной неповторимой и потому уж неприкосновенной, естественно оберегаемой истории — тех песен, которые пела ей мать, и ласковых прозвищ, которые ей дали в детстве. Для этого, видимо, было не время, а может быть, он — не тем человеком.
— Вы простите меня, Зоя, что лезу в вашу биографию…
— Комиссары имеют право спрашивать, — перебила она.
— Ну скажите еще «до-прашивать». А я не следователь никакой, я другого хочу… — Ее взгляд, ее голос отнимали у Северина все больше силы, такой необходимой, чтобы прямо сказать Зое все. — У меня такое чувство… вы только не смейтесь, пожалуйста… что я уже давно вас знаю, ну даже с детства будто, и у меня просто случилось что-то вроде амнезии, и я уж ничего не помню, только ваше лицо. А может быть, я просто видел вас во сне.
— Ну тогда расскажите о себе, — дозволила она. — Может, и я вас вспомню. Вы-то где родились?
— В Тамбове. С тринадцати лет жил в Москве. Отец мой врач, а мать преподавала в народном училище. Учился в гимназии, готовился в Московский университет на правоведение… — шарил он в своем прошлом, как нищий в кармане.
— И где они сейчас, родители ваши? В Москве? — однако с живостью спросила Зоя, быть может, лишь просто жалея его.
— Да, по-прежнему. А я вот, видите, пошел за революцией.
— И как же это вы… пошли?
— А каждый человек приходит на землю с вопросом, кто он такой и для чего он тут. Мы жили хорошо, большой нужды не знали никогда, да, собственно, весь мир мой первоначально состоял из одних только мамы, отца, их родни и друзей, ну вот и весь мир казался мне тогда таким прекрасным, совершенным, что в нем не надо ничего менять. И все люди казались счастливыми — ведь судил по себе, по родителям. Ну а потом глаза мои открылись, и я увидел, что весь мир лежит в неправде. Вся жизнь, в глубь веков, с тех самых времен, когда первобытные люди поднялись с четверенек и начали как-то устраивать общую жизнь в своем уже не стаде и еще не племени. С каждым годом я узнавал все больше чужих людей. В основном это были пациенты отца — рабочие с мельницы, с кожевенной фабрики и мужики окрестных сел, неграмотные, темные до дикости. Они не понимали, для чего им простукивают грудь, когда у них глотка охрипла. И вот я однажды почувствовал стыд — за то, что где-то в глубине сознания считаю себя выше них. Уж я-то вижу связь меж глоткой и ногами и знаю названия всех позвонков на латыни. В конце концов, я чище их — физически. Как будто они виноваты, что руки их черны от грязи, от земли. Словно это они не желают учиться, а не им не дают. И главное, стало понятно: имей я вдруг несчастье родиться мужиком — был бы точно таким же, с самым нищенским знанием и горбатой спиной. Развитие их было искривлено еще в первооснове, ну как у китаянки, которая ходит в колодках, а разбинтуй ей ноги — упадет, потому что уродовала себе стопы едва ли не с рождения. Конечно, можно помогать, давать им мази на ноги и порошки от горла, но это лишь ослабит проявления болезни, саму же болезнь не убьет, поскольку все болезни труженика идут от одной — социальной неправды. От того, что все люди рабы.
— Это что же, так сами и поняли? — усмехнулась она недоверчиво.
— Да видно же — достаточно иметь глаза, — изумился Сергей. — До философии социализма я, конечно же, дошел не сам. Были книги, я много читал — обычная детская тяга к познанию. И Маркс потом, и Бебель. Но сначала Толстой, «После бала». Слова были простыми, понятными даже ребенку, и слова эти будто бы вытряхнули меня из колыбели, из сладкого детского сна и грубо сбросили на землю… Не только все рабы природы, но миллионы, большинство — рабы малой кучки имущих. Солдата и за человека ведь уже не признают. Мужиков и рабочих даже лечат не так, как господ, как себя. О кровных лошадях хозяева заботятся гораздо лучше, чем о них. А главное, у подавляющего большинства имущих какая-то врожденная, непоколебимая вера, что так все и должно быть и иначе быть не может. Сознательно ли, нет ли, они идут на злое дело — поддерживать между собой и неимущими вот эту дикую, огромную, как пропасть, разницу, во всех материальных благах, в образовании, в культуре, и эта разница и составляет счастье всей их жизни, а отними ее у них — и жизнь утратит всякий смысл. Вот сейчас-то они и воюют с народом за то, чтоб вернуть эту разницу. Так вот, если у человека, у человеческой души отсутствует воображение и она неспособна представить, каково жить другому в нужде, значит, надо заставить такого человека страдать. Да, да, спустить его на землю, грубо сбросить, чтоб ушибся как следует, иначе же, без боли, он так и будет счастлив своей подлой сытой жизнью, существованием, по сути, паразита на чужом горбу.
Зоя слушала его прилежно, терпеливо, отчасти даже так, как дети слушают малопонятные им рассужденья взрослых — из одной только вежливости. Но Сергей вдруг почувствовал, что он уже никем не притворяется, что с нею может быть таким же, как и с матерью. Не то чтобы нужным несмотря ни на что, а именно таким, каков он есть.
— А иначе никак? — спросила она вдруг, печально улыбнувшись наивности вопроса. — Ну на землю-то скинуть? Пускай бы, может, граф Толстой и сбрасывал своими могучими, кровяными словами, а не народ озлобленный — штыками. А то ведь падают и насмерть разбиваются.
— Да где уж и Толстому? Евангелие — справедливая книга? Две тысячи лет наставляет — любить, делиться с бедными, а многих ли расшевелила? Да и Евангелие — оно утверждает, что мир, каким он нам достался, создан Господом, все было в промысле предвечном, и как все есть, так нескончаемо и будет, и ничего переменить нельзя, и не только переменить, но и даже познать.
— А вы в Бога совсем не веруете? — Она вдруг посмотрела на Сергея, как на… не совсем человека и даже будто бы совсем не человека, другое существо с другим предназначением, и Северин на миг непонимающе почуял меж собой и ею упругую, даже и злую, неодолимую полоску воздуха. Нет, то была не злоба, но в памяти его откуда-то всплыло: «А кто нас от Господа хочет отвлечь, того мы ненавидим, ни лютой ненавистью, нет, а как овцы волков».
— Я слепым не хочу быть, — сказал он, распаляясь. — Человек, если он поклоняется Богу, так и останется всю жизнь рабом и даже над судьбой своей не будет волен, не говоря уж о других. Как он может бороться, когда ему внушают, что он раб? Да, божий, но раб? Веками вбивали в народ: смиряйся, терпи, и на небе воздастся тебе. И не смей сомневаться в справедливости мироустройства, иначе ты грешник. Что и Земля-то круглая, веками слышать не хотели. Все равны перед Богом, то есть, в сущности, в смерти одной, а о равенстве здесь, на земле, меж людьми, никто не должен даже думать, а не то что бороться. И под этот елей слепота у народа, а у господ самодовольство, глухота — это Бог их избрал, предназначил для счастья, а другим уготовил несчастье, темноту, нищету, вечный голод и смерть от болезней.
— Ну не все же такие чуткие, как вы, — не то ребячески, не то с ожесточением поддела его Зоя. — К толстовскому-то слову. А зла пока не меньше на земле, а только еще больше стало, как только все прозрели и Бога перестали слушать. Вокруг-то поглядите: на всем Дону и хутора такого не осталось, где никого бы не убили. И даже у комкора нашего… да знаете, наверное. Из этих он мест. Семья тут у него была, жена.
XXII
Февраль 1917-го, Бердичевский полевой госпиталь
В буреломных провалах попадались воронки, давно уже подмытые дождями и налитые ржавой водой. Там и сям — безобразные черные глыбы, разветвленно пронизанные и намертво склещенные корнями вывороченных из земли деревьев. Неоглядное поле травяных корневищ, желтых щепок, песка, ноздреватых, расплющенных, спирально скрученных кусков железа, продырявленных касок, шинельных бугров, скукожившихся в сырости сапог, поломанных винтовок и еще чего-то, не имеющего никакого подобия.
Чем дальше на восток, тем все настырней становился незабвенный, всепобеждающий тошнотно-сладкий запах мертвечины. Ему показалось, что он угодил в один из своих страшных снов, спасеньем от которых было пробуждение, и вот как раз проснуться он не мог… брел и брел, натыкаясь то на сосновые стволы, то на столбы и колья проволочных заграждений с бесформенными комьями колючки, спотыкаясь о трупы не то русских, не то австрияков, пиная кожаные головы с противогазными глазницами, наступая на черные, в патоке тления лица с пустыми орбитами.
Скоро он потерял направление, а затем чувство времени. Или наоборот. Или, может быть, сразу рассудок. Казалось, что мертвые окликают его отовсюду и он уже как будто понимает этот стон немоты и подчиняется ему, идя туда, откуда кличут.
Вдруг осознал, что роща мертвых уже залита фосфорическим светом, не то трепещущим ракетным, не то месячным. Шел уже как лунатик, в хлороформном наркозе, создавшем мир, где все недвижно, безответно, пусто и потому бояться нечего. Сделал шаг в пустоту, оборвался в осклизлую ямину, и железные пальцы сдавили кадык, валуны чьих-то мускулов придавили к откосу.
— Русский!.. — охнул давивший, как только различил придушенную ругань Леденева. — Русский, братцы! Гляди!
— Там… в лесу… по дороге… наших… раненых… много… поспешайте… от смерти… Христом-богом прошу…
Он вдруг почувствовал живящий пресный вкус воды и даже кислый вкус железа, поднесенного к зачерствелым губам, почувствовал прикосновение к своей тяжелой, смутной голове — как будто матери рука притронулась и окропила лоб нечаянной уж лаской.
Сестра ушла, но взгляд вот этих стерегущих черных глаз, казавшихся еще огромнее и глубже от набежавшей на припухлые подглазья синевы, пристыл к зрачкам и отпечатался в мозгу, как остаются красочные пятна, если пристально взглянешь на высокое солнце.
И вот пришла снова — поить и кормить его с ложечки, — и под ее прикосновениями он снова начал различать горячее, холодное, цвет неба, время года, и понимать родную речь, и говорить. Через нее одну все самые простые вещи открылись ему заново, как если бы она была хозяйкой всех вещей, ибо во взгляде каждой женщины есть что-то от тебя самого и без него ты отделен от своего истока, кровь твоя заперта и назначена смерти.
И чем больше он вглядывался в ее всепроникающие, то равнодушные, то горькие глаза, тем меньше понимал. В непроходящую, непроживаемую грусть уводили они, получая какую-то неизъяснимую власть над тобой и понимая о тебе намного больше, чем любой человек или даже ты сам, блестящие и чистые, как смоченный дождем или росою бессарабский виноград, наполненные синей чернотой ночного неба — тем таинственным цветом, какого и нет на земле, и когда поглядишь, то уж трудно не верить, что на небе есть Бог и архангелы.
Так ему захотелось увидеть лицо ее, закрытое повязкой по самые глаза, и оно было явлено — подведенное усталью, острое в скулах, давно уже живущее без солнца, но все же не утратившее юной свежести и чистоты. Неприступно-точеное, злое и вместе с тем по-детски беззащитное, с прямым, чуть привздернутым носом, резко очерченным упорным подбородком и словно только что прорезанными, незажившими губами, мужало твердыми и отрочески пухлыми, окаменело-горестными и растущими, как будто ждущими чего-то от тебя, даже и против воли хозяйки.
— Не надо, милый, не тянись — сама, — говорила она тем участливым и чуть ли не сюсюкающим голосом, каким говорят лишь с больными детьми и который все сестры берут в обращении с ранеными, и смешно подавалась губами за подносимой к его рту железной ложкой, как будто помогая движениями губ и всем лицом, как будто скармливая Леденеву вместе с кашей и частицу себя.
Он понимал, что ровно тем же тоном она говорит и со всеми другими тифозными и что каждый из них с той же легкостью верит, что она вправду знает, ка́к болит у него, что ему одному, как возлюбленному или брату, отцу, достается вся нежность. Он понимал, что этот тон участия и жалости посилен любой теплой бабе, и благородной, и простой, что и эта, диковинная, проигрывает все общеполезные, ласкательные «миленький» и «родненький», как граммофонную пластинку, — в несчитаный раз и уже безо всякого, видимо, чувства, лишь потому, что так положено и нужно — давать больному вместе с пищей и лекарствами какую-то долю своей женской силы, быть может, еще более необходимую, чем перевязка и лекарство.
«Должно, из образованных, а то и какой-нибудь знатной фамилии, — думал он, все смелее засматривая ей в глаза. — Поди, и дерьмо за нами выносит, святой себя мнит, а может, вправду добрая душа. Добрая-то добрая, да только не ровня нам, лыковым».
На всех правах страдальца он беззастенчиво заговорил с ней:
— Как звать-то тебя, сестрица?
— Асей зовут, Настасьей, — ответила она с готовностью и даже улыбнулась, но глаза ее словно пристыли. — А вас я знаю как — Романом. Что вам? Пить? По нужде, может, надо — скажите. Не стесняйтесь — мы к вашему виду привыкли.
«Ну славу богу, вроде из земных, — понял он по ее простоте. — Хотя шут ее знает — может, и гимназистка. Из мещан или дочка купеческая. Попритерлась тут, в госпитале, — с нами ведь по-простому и надо».
— Ругался я страшно, наверное, как в беспамятстве был?
— Не страшней, чем другие в тифу. Как же вам не ругаться, когда муки такие?
— А скажи-ка мне, Ася, кто мне голову выбрил?
— Я и выбрила — кто же.
— Ну а то… по нужде-то?
— Ну а как вы хотели? Чистота — это первое дело, положено, мы и должны.
— Ну спасибо. Вот что, Ася, помоги-ка ты мне подняться.
— Ой, да что вы! Рано вам, обождите, а то вдруг упадете.
— Не могу уже больше лежать. Заколодел.
— Да встанете теперь уж, встанете — куда вы денетесь.
— А ты? Никуда не денешься? — осклабился он, упорно смотря ей в глаза.
— И я никуда, — ответила, все так же ровно глядя на него. — Вы, может быть, письмо хотите написать? Так вы продиктуйте — я все запишу и отправлю.
— Кому письмо?
— Да разве вам некому? Жене, семье, родителям… ну кто у вас есть?
— Нет у меня жены.
— А мать? Отец? — построжела она.
— Отец, брат с сестрой. Давно дома не был. Живу — отрезанный ломоть.
— Ну вот и напишите. Неужто не тревожатся за вас? — Полыньи ее дрогнули — свое горемычное что-то толкнулось на поверхность, как вода под глубинным ключом.
— Напишем и письмо. А пока помоги мне подняться.
Она подчинилась, заученным ловким движением занесла его руку на свою напряженную шею, и Леденев, натужившись и подымаясь вместе с нею, в один миг ощутил ее всю под крахмальной холстинной косынкой и фартуком. Он тут же испугался сделать Асе больно и положился лишь на собственные ноги. В голове помутилось, и, еле удержавшись, он сделал несколько шагов, переставляя ноги, как старик.
В диковинных глазах ее, в лице и даже в поступи он все отчетливее чувствовал и видел что-то сиротливое — отпечаток и голос неладно сложившейся жизни. Раздавая себя по частичке больным, она сама нуждалась в том же, что дарила другим — перекалеченным, измаянным, тифозным мужикам, любой из которых мог бы взять ее замуж, быть ей братом, отцом… «Что ж мне делать-то с ней? — допрашивал себя Роман. — Облюблю и оставлю вот тут? Дальше будет себя раздавать и сиротствовать? А куда же мне с ней? Я служивый. В Гремучем-то старую хату, поди, уж былье заглушило».
Шесть лет миновало с тех пор, как он ушел на службу. Дарью не забывал. Помнил не омертвеньем своего естества, не монашеством, но какой-то сердечной, нутряной глухотою ко всем, кого выпало перелюбить. Красивые жалмерки, стосковавшиеся вдовы, проститутки в Чугуеве и иных городах, порой еще совсем молоденькие, но улыбавшиеся с отвратительной заученностью, с прогорклой опытностью на еще не истаскавшемся лице, черноглазые и белолицые, с горделивым изломом бровей украинки, цыгановатые и тонкие, как хворостинка, молдаванки, разбросанные по местечкам, где приходилось ночевать или стоять его полку.
Он чувствовал телесное желание, и сердце порой билось бешено, но как посторонний предмет, механизм, обеспечивающий ровное, неутомимое движение, пока Леденев не проваливался в пустоту и, дыша, словно выхваченный на сухое судак, не понимал, что всеми этими молодками лишь заслоняется от Дарьи, как в парнях буйной скачкой — от смерти матери и от того, что сам когда-нибудь умрет.
И вот негаданно явившаяся девушка клещами потянула из Романа устоявшуюся горечь и тоску по той, первородной любви, сдавила его сердце жадной тягой, жалостью и страхом. Да, страхом — перед ней и за себя: он привык быть один, ни в ком сердечно не нуждающимся и потому неуязвимым. Тяжело теперь было выбираться из панциря, открываться, впускать в себя боль за единственного человека. Но навстречу вот этому страху подымался другой — перед вечным своим одиночеством. Иногда ни с того ни с сего вдруг пронзало: неужель так и хочет он жить — не нужным в целом свете никому, единственному человеку как единственный?
Отец сладил новую жизнь, женился на вдове, в ветряк свой вожделенный вгрызся кобелем, на повсеместной жажде хлеба богатеет — Роман ему и не судья, и не опора. На брата Степана надежда у бати — что тот возвернется из Польши живым, не вырванный шрапнелью из цепи Черноярского пехотного полка, со всей своей тягой к хозяйству, к земле, в отцовскую породу вылитый характером, не Ромка, а еще один отец, воистину уж продолжатель рода. А Грипке — той самой идти в чужую семью, а перед тем молиться, чтоб всех стоящих, пригожих мужиков на войне не убило…
Пластаясь на койке, он вспомнил все события побега из лагеря. Побег как начался с немыслимого дела, так и продолжился цепочкой происшествий самых диких и нелепых. Им ничего не оставалось, кроме как идти напропалую, и сумасбродства в каждом шаге было через край. То была уже даже не дерзость отчаяния, а будто впрямь в тех похоронных дрогах они умерли и ощущали себя духами или, может быть, бесами, которым ничего не страшно и не стыдно.
В австрийской форме, с госпитальными проштемпелеванными бланками на отпуск по ранению, они подались прямиком в Эстергом — на полосатые шлагбаумы и будки полицейских постов. От них разило васильковым трупным духом и уксусным запахом давно не мытого мужского тела; лица у половины для сходства с мертвецами были вычернены лагерной землей, но таким-то и был вид и запах возвращавшихся с фронта солдат, истощенных, обросших, в изватланных и прожженных шинелях. И Гротгус, и Извеков, и Яворский с Зарубиным имели вид хотя и изможденный, но даже чересчур благообразный для солдат, и им скорее надо было прятать неистребимую самоуверенность в осанке; вдобавок к этому все офицеры хоть немного знали по-немецки, а Гротгус так и вовсе говорил безукоризненно.
Войдя в Эстергом, потусторонний древний город, сделанный из камня и совершенного непредставления, куда идти и где можно скрыться, они направились в общественные бани, где было множество других солдат-отпускников и горожан, и с наслаждением отмылись в каменной купальне, плещась в ней, как огромные сазаны в гирлах Дона, один бледней другого и с проступающими ребрами. Яворский шепнул, что его, Леденева, с Халзановым как будто и впрямь по одной форме лили.
В том же здании, выстроенном на самом берегу зеленого Дуная, в клубах сырого пара, голорукие, трудились мадьярские прачки, стучали вальками и жамкали в корытах белье — запруда под навесом и облицованная плитняками набережная напоминали выгребную яму и вместе с тем дубильню под открытым небом: там, в ржавой воде, бычиными шкурами мокли, пластались, расквашенные вдоль по набережной, сохли австрийские шинели, мундиры и штаны. То было обмундирование с убитых на фронте, его замывали от крови, чинили и передавали идущим на фронт новобранцам. Яворский с Романом стянули из кучи штаны, пехотный мундир, две шинели — и обмундировали нечаянно прибившегося к ним Улитина.
Хотели идти в Будапешт, но, двигаясь к центральной площади под великанским, прокупорошенным веками куполом собора, различили пожарные крики и рассыпа́вшийся по улочкам тревожный конский топот, — должно быть, их уже хватились и искали, — и Яворский повел всех в солдатский бардак, рассудив, что искать беглых русских в борделе не станет никто. У них было сколько-то крон, полученных в лагере за драгоценные фамильные перстни, и вот они пили и ели в «рублевом» заведении, насилу отбиваясь от расфуфыренных девиц и каждый на свой лад борясь с самим собой в плотоядной трясине тяжелых грудей, голых рук, блудливо извивающихся лиц, потасканных и свежих, — одни, понятно, брезгуя, другие же просто боясь, поскольку даже в этом грешном деле не обойтись без пары слов, которых ни Улитин, ни Халзанов, ни Роман не знали. Все кончилось тем, что эти проститутки и заподозрили в них русских, чересчур уж противным природе было их запирательство, и еле удалось, торгуясь, втолковать, что, дескать, не хватает денег заплатить…
Наутро были пристань на Дунае и пароход на Будапешт, документы же их, оказалось, не могли служить пропуском. Беглецы угодили в затор гомонящих мадьяр, и поворачивать назад уж было поздно, и тут Леденев украдкой толкнул какую-то бабу с корзинами — заскакав, раскатились румяные яблоки, и Яворский с Извековым кинулись их подбирать, и под это-то бабье квохтанье жандарм не то что не остановил их для проверки, а, напротив, загнал на сходни, как баранов.
По шляхам, по шоссе безостановочно, несчетно гнали новобранцев — замшелых, сивоусых стариков и зеленых кужат, в островерхих мерлушковых шапках, в соломенных шляпах, в лаптях. Шли маршевые роты — в австрийских сизых кепи, в немецких острошипых касках, в красных фесках. Щетинились колонны несметными штыками, как серые осенние поля подсолнечными острыми будыльями.
Вокзалы, поезда, шоссе, проселки… разнообразные течения военного народа, сталкиваясь, затягивали их в свою медлительную коловерть, могли их раздавить, расправиться, как сильная река с ослабшими на стремени пловцами, но вот отторгнуть, изловить — уже едва ли.
Без малого два месяца они пробирались к трансильванской границе и за время пути настолько друг с другом сжились, соединенные невидимыми струнами настороженности, что делали все как один механизм. Табунное чувство угрозы вело их, и общим своим зрением и слухом, всеми чувствами они уже мгновенно запечатлевали все вокруг: сдвиг стрелки вокзальных часов, ножевой выблеск взгляда случайного путевого обходчика, дымок перегоревшего костра в осиннике за пашней…
Наутро никуда не делась Ася, объявилась.
— Офицеров со мной привезли — может, видела?
— Да разве всех упомнишь — кого с кем и когда?
— Халзанов, казак. Чернявый такой, горбоносый, красивый из себя… словом, должен вам нравится, девкам.
— Да не брат ли он ваш?
— Ишо чего удумала. Да он мне такой брат, что до смерти зацеловал бы.
— А похож ведь на вас. Тут он, рядом, через одну от вас палату.
— Да чем же похож? Ить истованный черкесюка.
— А мы его тоже побрили. Если нашей сестре должен нравиться, то уж вижу, какой он и похож на кого.
— Ах, побрили. Покойники в братской могиле, скажи ишо, — уж те-то впрямь похожи, тоже как и дрова.
Он вспомнил то чувство тревоги и страха, которое вдруг жигануло его, как только увидел Халзанова на скачках в Гремучем. Какое-то таинственное, не разъяснимое умом сродство вот с этим казаком. Так два чистокровных верховых жеребца никак не связанных пород и даже с разных концов света, для глаза знатока не схожие между собой ни в чем, кроме предназначения, немедля признают друг в друге свое подобие по сути, едва лишь поставишь их рядом. И не примирятся они, а долго будут биться в кровь, гвоздить передними ногами, грызть друг друга, пока один не одолеет и не займет как победитель оба косяка.
— Вам, может, зеркало подать? — спросила Ася.
— Да ну его к черту. — Он будто и впрямь испугался. — А вот ишо со мною были офицеры…
Кто жив из них, кто нет, Роман еще не знал. И снова у него перед глазами встали леса в буреломных проплешинах от разорвавшихся снарядов, изрытые воронками нагие серые поля. Разбитые халупы пасмурно темнеют опаленными внутренностями. Вдоль шляха — холмики могил, кое-где с жердяными крестами. Обыкновенная прифронтовая полоса. Безумолчное чавканье тысяч сапог и копыт. Острошипые каски в промокших чехлах, грязно-серые кепи, штыки… Навстречу — санитарные обозы: ободранные до костей кнутами клячи приседают в оглоблях, вылезают из кожи, раздувая ввалившиеся до последних пределов бока. За обозами — однообразный томительный скрип, бесконечно — подводы, сундуки, птичьи клетки, узлы, дети беженцев. Месят жидкую глину обугленные погорельцы с тем же точно слепым, исступленным упорством и смиренной тоскою в глазах, что у мучимых кляч.
Со своими тремя лошадьми, без винтовок, ни пехота, ни конники, они, беглецы, теперь могли быть приняты за дезертиров, потому пробирались ложбинками, балками, не отваживаясь приближаться к селеньям и вливаться в обозы пехотных полков, по целым дням порою хоронясь в лесах и идя на восток только ночью, отыскивая в небе путеводный ковш Большой Медведицы.
На выходе из ельника наткнулись на разъезд. На рослых серых лошадях, в черных форменных шапках с султанами, в гусарских серых куртках со шнурами, они возникли из морозного тумана воплощением казни Господней, неминуемой участи всех смертных тварей, и безгрешных, и самых свирепых, потому что и сами, казалось, уж были мертвы и обращали в свою веру всех, кто встретится им на пути.
— Бегите! — хрипнул пешим Леденев. — Балкой! Ну! Либо стопчут!..
Все пешие, напружившись в последнем колебании, как псы у раздвоившегося следа, стреканули в балку. Роман с Халзановым и Гротгусом, сидевшие верхом, переглянулись, в неизмеримо краткий миг сказав друг другу все.
— Хей! Штеет, мистштюке! — Гусары пустили коней размашистой рысью, рассыпались по пашне веером, со страшной быстротою поглощая последние сажени.
— Хальтен дер цунге, вахтмайстер! Зонст верде их эс кюрцен! — немедля выкрикнул им Гротгус и, тронув коня, сипато скомандовал: — Шагом!.. Их бин дер хауптман фон Брудерманн! Их бин ферлецт. Хильф мир.
С величественной дерзостью он поехал навстречу гусарам, потащив за собой Леденева с Матвеем, и германцы опешили, придержали коней, и вот так церемонно, как будто исполняя парадно-караульный ритуал и уже хорошо различая адамовы головы на киверах, и усатые лица гусар, и их настороженные глаза, и пар, валящий из ноздрей их лошадей, они втроем подъехали к разъезду. Меж ними и германцами осталось три сажени, меж Гротгусом и сивоусым вахмистром — и вовсе ничего, и все на миг застыли — германцы с неотступными настороженными глазами и они — составив вместе со своими лошадями как бы церемониальную, пронизанную напряжением фигуру, где неподвижность каждого зависела от каждого и никто не мог дрогнуть хоть живчиком без того, чтоб рассыпалось все построение.
И вот передний, сивоусый, что-то выкрикнул, и Гротгус выстрелил в него из пистолета едва ли не промеж встопорщенных ушей своего полохнувшегося жеребца. Офицер, широко раскрывая глаза, словно впрямь наконец прозревая, схватился за грудь… и в тот же миг рука Халзанова, как искра от кресала, зацепила курок револьвера, и еще двое немцев схватились словно за места укусов и начали сползать с коней.
У Романа была лишь жандармская сабля, и послав своего жеребца шенкелями, на выносе клинка из ножен полохнул германца наискось, прорубая какие-то прутья под черным поречьем его форменной шапки, и в тот же миг заворотил коня, швыряя себя влево, скрываясь за живым заплотом его мускулов от тотчас же грянувших выстрелов.
Распрямившись, увидел, что из шеи у Гротгуса кровь забила ключом и, поймав рукой рану, тот начал валиться с коня. Звероватое чувство родства и тоска сожаления замочной дужкой засмыкнули горло, но тотчас лопнули, как только выпустил коня в намет…
Халзанов уходил саженях в десяти правее… из восьмерых гусар в седле осталось только пятеро, к тому же один из них уже занянчил раненую руку. Халзанов, обернувшись, саданул из револьвера — и набиравший следом серый жеребец врылся мордой, как лемехом, в землю.
Сбившись с маха, гусары осаживали лошадей и старательно целились из карабинов, давая им с Матвеем оторвать десятка два саженей… И вдруг гнедой венгерец под Халзановым с вибрирующим визгом взнялся на дыбы и, усмиренный, стал с неумолимостью заваливаться на бок. В глазах Леденева ослепительно вспыхнуло: накаленное синее небо на скачках в Гремучем, рубаха синего сатина на Матвее и ненаедный синий взгляд обмершей Дарьи, что уже начала разрываться меж ними двоими.
На этот раз Халзанов все-таки упал — должно, нога застряла в стремени — и выдирался из-под павшего коня, извиваясь, как червь, и оглядываясь на гусара, поскакавшего прямо к нему.
Роман, поворотив коня, рванул с гусаром взапуски. Как две борзых к одной поживе — к гнедой издыхающей глыбе и не желающему умирать под нею человеку. Матвей лущил себя из кожи, и Леденев на каждом махе слышал ползучую жильную тягу его, и скрип зубов, и треск суставов.
Немец сбился на куцый намет и уже перевесился набок, чтоб рубануть Халзанова по голове. Леденев взнял коня, перемахивая через трепет и судороги умирающей лошади, и, едва лишь коснувшись копытами тверди, снизу вверх полоснул по немецкой руке. Невредимой рукой немец рвал левый повод, спасаясь, — кабачной плетью свисла правая, волоча приплетенную саблю. Леденев повернул вслед за ним, угрожая, но доставать подранка означало подставлять себя под пули двух его товарищей, да и Халзанова немедля надо было выручать…
В придавленном Матвее распустилась бешеная сила — гнедой над ним все дергал задними ногами, и казалось, что буйная дрожь передалась венгерцу от хозяина, как электричество гальванизированному трупу. Не забыть Леденеву халзановских глаз и лица.
— На конь! Ну!
— Не могу! — На бегу ухватившись за стремя, Халзанов споткнулся, оступился как в яму, повис.
Леденев вырвал ногу из левого стремени, дал Матвею вступить, ухватиться за луки, зацепил за подмышку, хватил на себя, налегая всем телом на правое стремя и молясь, чтоб подпруга не лопнула, — и тяжелый, как все мировые грехи, тот взметнулся на круп, заклещил Леденева за пояс.
Гусары, устрашенные потерями, в угон уже не шли, но били по ним из винтовок. Леденев нажимал шенкелями, драл шпорами — тормошится, как старый осел!.. «Вью-у-у-уть!» — настигал и пронизывал свист. «Не в меня! Не в меня!» — ликовали они с каждым просвистом, и одно сердце брало кровь из общих жил и тотчас возвращало ее жилам.
Запененный венгерец шел толчками, подламываясь в ослабевших передних ногах, и вот уже круто согнул их и начал валиться на землю. Леденев соскочил, подхватил оползавшего набок Матвея. Оглянулся на легшего, подгибавшего задние ноги коня, его мучительно оскаленные зубы с розовыми деснами, кроваво-зеркальный тоскующий глаз…
Халзанов тяжело хромал. Едва ввалившись в чахлый ельник, рухнули. Отдыхиваясь, колотились сердцем в землю. Потом поднялись и пошли, запинаясь о корни, все глубже забираясь в бересклетовую непролазь. От макушки до пят исхлестало, исцарапало их, и, вконец обессилев, сорвались, закатились в промоину…
Привалившись спиною к откосу, Халзанов кривился от боли. Стянул сапог и, опрокинув, вылил из него с косушку крови. Выжимал из себя, наступая, на каждом шагу. Сверкнул на Романа приниженным и ненавидящим взглядом.
— Смерть от меня отвел, — сказал хрипато.
— А ты, стало быть, не берешь?
— Отчего же? Спасибо.
— А чего же так смотришь, будто я тебя выхолостил?
— А жизнь твою украл — чьи слова? За Дарью меня не простил.
— На что оно тебе, мое прощение? Как-то жил без него столько лет — так и дальше живи. Кубыть, душой не надорвешься.
— Это в долг, получается — жить-то? Ить крепко твой подарок помнить буду.
— Не горюй — может, зараз же и посчитаемся.
До поздней ночи все в лесу трещало и шуршало — неведомо откуда взявшиеся и какие люди ломились сквозь чащобу, окликали друг друга на чужом языке, едва не наступали на Халзанова с Романом, которые и шевельнуться не могли.
Когда сквозь тяжелую черную сень зацедился рассвет, они аж передернулись, увидев вкруг себя сидящих и лежащих под деревьями людей — свалявшиеся колтунами волосы, лохмотья, покорного отчаяния полные глаза. В первый миг показалось, что то какие-то неведомые звери, окружившие их и связанные до поры лишь одноночным перемирием усталости…
— Родимые! — На полусогнутых ногах, как зверь, которому приходится передвигаться несвойственным образом, спотыкаясь о корни, цепляясь за ветки, угадавшей хозяев собакой подбежал и упал рядом с ними Яворский. — А мы думали, все, потоптали вас.
— Вы-то, вы?..
— Тут мы, тут… — подавился Яворский несдержанным всхлипом. По грязному лицу зигзагом проскочила судорога, задергала углы бескровных губ, не стряхивая с них замерзшей радостной улыбки. — А Гротгус… где?
— Убили Гротгуса. За шею пуля кусанула — кровь из жилы.
— Живы лишь потому, что был он!.. Нет, как хотите, а я отсюда не уйду, пока его по-человечески не похороним.
— Вы-то, вы?
— Бек-Базарова в бок… Но он как репей!.. Я, собственно, доктора тут… хоть коновала, бабку-повитуху, колдуна… Вас, вас нашел…
Под кривыми березами на косогоре, в заваленном палой листвою логу пластались Бек-Базаров и Извеков, который, прыгая с откоса, подвернул себе ногу. Зарубин и Улитин ворошили чадящий костерок.
— Вперед идти кому-то надо, — понажимал глазами Леденев на невредимых. — Даст бог, доберется до нашей разведки. А с Гротгусом придется как с собакой. Потом будем век поминать — было б только кому.
— А вот и ступай, — толкнул его Халзанов взглядом. — А мы поползем. Вон вроде дорога наезженная через лес — ее держаться будем.
— Ну так и быть, — поднялся Леденев. — Прощевайте покуда. — Обшарил всех глазами напоследок и с волчьим чувством одиночества пошагал не оглядываясь.
«Ну вот и с казаком, кубыть, сроднился, — повеселил себя, глуша тревогу. — По Дарье так не сохнул, как зараз по нему. Прав Гротгус: все у человека отбери, оставь лишь то, с чем он пришел на землю, в пасть немцу пихни — тогда и будет промеж нами братство, а больше никакого не дано. Да и в плену брат брату рознь, тоже как и в бою. “Умри ты нынче, а я завтра” — и таких видали. Под смертью разное наружу вылезает — вот и угадывай, кем каждый обернется. Когда б не смерть, никто б и не узнал, каков кто есть на самом деле… А вот Халзанова угадывать не надо. Сперва себя понять попробуй, а его — не трудней, чем себя. Да только, видно, и не легче…»
Кто жив из семерых, кто нет, он все еще не знал, и лишь касаемо Халзанова была такая же определенность, как и насчет себя же самого.
И тут случилось так, что разом узнал обо всех: в палату вошел бритый доктор и, ласково расспрашивая Леденева о здоровье, велел препроводить его куда-то. Всех беглецов, за исключением Зарубина и Игната Улитина, которого уж отпустили домой (всех здоровее оказался), собрали в чисто вымытой палате. Какие-то гражданские хлыщи в английских клетчатых костюмах и незнакомые Роману офицеры рассадили их возле дивана, на котором пластался совсем еще слабый Темир, приставили к каждому по милосердной сестре, установили против них краснодеревные, с гармошками, фотографические аппараты на треногах и, умоляя улыбнуться, начали снимать.
Искрящиеся фосфорические вспышки вмуровали их лица в черно-белую вечность, прямо в руки мальчишек — разносчиков свежих газет. Приподнявшегося на диване Темира, Яворского, Извекова, Халзанова и Леденева с Асей, положившей ему руку на плечо — не то боясь, не то обрадованно веря, что этот вот волшебный аппарат и магниевая молния соединят их навсегда.
Побег пятерых из австрийского плена решили сделать подвигом — поднять моральный дух в тылу и на фронтах. Воспеть их верность долгу, государю, сыновнюю любовь к отчизне, прошедшую мучительные испытания. Впрочем, о государе никто уже не говорил ни слова. Газетную статью как будто бы хотели озаглавить «Сыны твои, Свободная Россия».
Услышав об этом, Извеков взбесился. Нездоровую изжелта-серую кожу на обезжиренном лице часто-часто задергали живчики. С бескровных губ, сведенных судорогой, слетала матерная ругань:
— Я не хочу быть сыном свободной России! России — да, свободной — не желаю! Блядь ваша свобода! Свинья! Свобода рождает ублюдков, а я, извините, законнорожденный в девятом колене! Напудрили Россию, как уличную девку. Сестру свою, дочь, мать торгуете: а вот кому, берите за полушку. Она ведь только рада, господа хорошие, она у нас была закабаленная, в цепях, а теперь уж свободна! Со всяким пойдет! Под немца? Бери!.. Да господи, лучше под немцев — у тех хоть в клозетах порядок! В кровину, в душу, в бога, куда же мы бежали?! В Россию, домой! Не верили большевичку. Надо было тевтонов пустить в Петроград — и это гадючье гнездо только чавкнуло бы под сапогом приученной к порядку нации. Так нет же, дождемся — подложат под большевичков, уж тогда-то напьемся свободой, напоим мать родную до совершенного бесчувствия и дадим обглодать до костей…
— Чего это он? — спросил Роман Яворского.
— Да видишь ли, братец, нет больше царя. Государь император отрекся. Свои же генералы подтолкнули. Был хозяин земли русской, а стал гражданином Романовым. А ты гражданин Леденев и, может статься, никакой уже не прапорщик, равно как и я не сотник и не дворянин. Никто нас, гордых, не смирит и слабых не убережет. Теперь мы уж сами будем все выбирать. Солдаты — командиров, да непременно уж таких, которые их сразу по домам распустят. Голодные выберут хлеб, усопшие — немедленное воскрешение из мертвых.
Леденев был еще слишком слаб головой, чтоб осознать известие о революции как безотменную, свершившуюся явь. Под ногами его проломилось, но он с каким-то деревянным безразличием отдался течению. На миг перед глазами всплыло усталое лицо с холеной рыжеватой бородой и выражением тоскливой, терпеливой покорности — самодержец российский на устроенном корпусу высочайшем смотру. Леденев и тогда уже видел, что этот человек лишь думает, что чем-то управляет. Просто тогда еще никто не прокричал над всеми головами в солдатских папахах и фабричных картузах: «Нам нужна ваша правда, мы хотим вашей воли. Жизнь ваша может стать такой, какой вы захотите». А теперь это сделалось — вскипевший в людях гнев сломал плотину векового послушания, и все почуяли: ломается легко, уже сломалось то, что нас давило, заедало и гнало на смерть — сломали мы, а значит, будет так, как мы хотим.
Вот только весь порядок рухнул, и нет ни старой армии, ни какой бы то ни было власти, и сам он, Леденев, наверное, уже и вправду никакой не прапорщик. А как промеж собою сговорятся богатые и бедные, казаки и голодные, безземельные иногородние? Халзанов с Леденевым как? Извеков с Зарубиным? А он, Роман, с собственным забогатевшим отцом?
Вот это-то пока и не давалось его придавленному сонной одурью рассудку, и даже понимание, чего он хочет сам, пока еще варилось где-то в глубине, клубясь таким густым туманом, что ничего не разглядеть. Но как он шел из плена по чужой земле, понимая и чувствуя, что судьба его, жизнь не вполне в его воле, но и сам выручая себя, сам себе создавая сужденное, так и теперь он чувствовал, что в нем самом есть все, чем он может стать в этом мире, что этот зашатавшийся и распадающийся мир как будто уже стал той первородной глиной, из которой он сам, Леденев, может вылепить все, что захочет и сможет, хотя он ничего и не умеет делать хорошо, кроме как воевать.
И тут случилось то, чего никто не ждал. Бек-Базаров, совсем еще слабый, пожелал сказать речь:
— Братья, послушайте! Мы все живые только потому, что были как одно. И народ будет жив и силен, если все будут жить по закону от Бога. Я присягал на верность русскому царю. У нас, текинцев, так: кто нарушает клятву, тот теряет свою честь, а кто утратил честь, теряет все. Ни в чем ему не будет счастья и удачи. И я пойду за тем, кто скажет: России нужен царь. Но я клянусь вам перед Богом, клянусь отцом и матерью: когда бы мы ни повстречались, мой дом будет ваш дом, и шашка моя — ваша шашка, и матери ваши мне будут родными, и ваши жены будут мне как сестры. Ни на кого из вас не подниму руки. Будет в силах моих — никого не покину в беде, ни родителей ваших, ни жен, ни детей. Будет так!
На этих словах он всем корпусом потянулся к Халзанову, вцепился в его руку дрожливым, но цепким пожатием и, весь бледнея от усилий, приподнялся.
Халзанов посмотрел на Леденева, и каждый поглядел на каждого, как будто говоря глазами: «Ну а ты?» Бесхитростная прямота и искренность текинца смутили одинаково их всех, заставив каждого тревожно замереть и вслушаться в себя.
— Ты хочешь, чтобы все мы поклялись в невыполнимом? — спросил успокоившийся, построжевший Извеков.
— Я сказал за себя, — улыбнулся Темир. — И кто сказал, что я не пожалею о своих словах? Я ведь тоже не пробовал. Слаб человек. Но если ему никого не любить, зачем тогда жить?
— Клянусь, — как будто не собственной волей, сказал Леденев, с необъяснимой жадностью заглядывая в заостренное болезнью, как будто постаревшее лицо Халзанова.
Бритье обнажило их лбы, кости черепа, и обе головы и впрямь казались вылитыми по одной железной форме. То ли это болезнь так диковинно преобразила их лица (единая доля, лишения, проголодь кладут на все лица один отпечаток, и лица стариков, изрытые морщинами, становятся похожи друг на друга, как скоробленные холодом, пожухшие листья), то ли линии рта, подбородка, пластины черепов и плиты скул — все изначально было схожим, а потом одинаково крепло, грубело, изрезалось морщинами под действием одних же чувств, условий и поступков и вот уже почти совпало, совместилось, как на амальгаме.
Через миг морок дрогнул. То ли это клювастый халзановский нос уничтожил его, то ли мысль о том, как же Дарья целует вот это лицо и кого она, собственно, выбрала, с кем живет столько лет и кому родила, впервые принесла Роману не тоску, а облегчение, и он почувствовал свою отдельность и единственность.
Спустя пару дней беглецы начали разъезжаться. Уехал Яворский, показав Леденеву на Асю глазами: хватай, мол. Забрал Извекова приехавший на дрожках старший брат — такой же большеглазый, длинноносый, благообразный протоиерей, должно быть, настоятель военного собора, в лиловой камилавке и с позолоченным крестом. По душу Зарубина, пропавшего неведомо куда, явился пожилой штабс-капитан, ничем не выделявшийся, за исключением протеза в черной лайковой перчатке, расспрашивал Романа, не слыхал ли тот, куда собирался податься Зарубин за линией фронта. Расспрашивал подробно, но с внутренней вялостью, уж будто бы и сам не понимая для чего, и Леденев лишь усмехался: а оно тебе надо — вычесывать блох, когда собака уже сдохла?
Он учился ходить. Доподлинно живой и настоящей для него была только Ася. Через ее щемяще осязаемое одиночество он впервые так остро почуял одиночество собственное, почувствовал, что с этим надо что-то делать — и с ее сиротливостью, и со своею никому ненужностью.
Однажды вытащился в коридор — услышал звон и Асин вскрик. Рванулся на шум, вломился в палату — какой-то бесноватый тифозный армянин размахивал бутылкой сулемы, и Ася висела на нем, как собака на медвежьем горбу. Кружа и мотаясь, безумный стряхнул ее на пол. Распяленная лапа коршуном упала на растрепанную голову. Роман подскочил, ударил армянина по затылку, сковал в напруженных плечах. Вбежали сестры, санитары… Захлестнутый горячечной рубашкой дикий человек с проказливым оскалом озирался, не узнавая никого вокруг, и, вдруг обмякнув, посмотрел на Асю с продирающимся сквозь животное недоумение страхом:
— Прости меня, сестрица! Себя не помнил, Бог свидетель! Да если б я в памяти был, не сделал бы такого, крест кладу! Пусть Бог тебя хранит, даст жениха хорошего…
— Зачем же ты кинулась на него? — спросил Леденев, выйдя с Асей на лестницу.
— Он бутылку схватил с умывальника и Фомина хотел ударить… Да мне не привыкать.
— Худо, коли так. Барышня к такому привыкать не должна.
— Да какая я барышня?
— Ну а кто же ты есть-то? Откуда? — Он наконец решился расспросить об Асиной жизни.
— Слобода Крутояровка, это с Юзовкой рядом, слыхали? Папа мой в шахте работал, их под землю на тридцать саженей спускали — в такую уж темь, черней и подумать нельзя. Там его раздавило, убило обвалом. Детям как говорят об умерших — что Господь их к себе взял. А я в толк не могла взять — знаю ведь, что отец под землей был, и как же он оттуда на небо попадет. Остались мы с мамой вдвоем. Я в церковную школу ходила, в Спасо-Преображенскую церковь — и читать, и писать научилась. Потом и мама умерла болезнью легких. Дух там у нас тяжелый от угля. Мне тогда уж семнадцать сравнялось. Пошла я тогда к тетке, папиной сестре, — она у инженера горничной служила, в Английской колонии. Пришла я по адресу, а она уж не служит. Как будто с инженером спуталась — прогнали. Нашла я ее, а она… — запнулась и упрятала глаза. — Ну, ходила на улицу — «не хочете ли разделить компанию?». Мужчины ее брали в номера. И что мне было — вместе с ней ходить? Устроилась я горничной в гостиницу «Британия», но там ко мне тоже приставать стали разные — и постояльцы, и приказчик. Пошла я в церковь, где училась, при церкви устроиться как-то хотела, а там объявление — в общину сестер милосердия. Ну я и подумала: и кров тебе, и стол, и жалованье даже. Стараться только надо. Направили нас к фронту.
— Тяжко с тифозными? — спросил он, чтоб сказать хоть что-то.
— Да тифозные что? Жутко тоже, конечно, умершим глаза закрывать. А раньше я на ампутациях стояла — вот где тяжко. Держишь руку его или ногу и чувствуешь вдруг: мертвая. Саму себя через нее не чувствуешь совсем. А доктор пилит, пилит, как по дереву, а то и так вот, как собака кость грызет, как будто прямо по тебе самой и шуркает. Но и к этому тоже наконец привыкаешь. А к чему вот привыкнуть нельзя — это когда солдатик молодой или казак от хлороформа отойдет и говорит тебе: «Сестрица, а ногу-то мне не отрезали. Ей-богу, при мне — пятка чешется». И вот как ему скажешь?.. Ну а так — можно жить. Ну не саму же режут, правда? Нам если и больно, то только от того, что вам помочь не можем. Это можно терпеть. Не стреляют опять же. Это там, в санитарных командах, на фронте. А у нас чисто, сухо, тепло.
— Так что же, получается, пригрела тебя война?
— А вот и выходит.
— Ну а дальше как будешь? — спросил с затяжелевшим сердцем, выпытывающе вглядываясь в черноту ее глаз. — Когда войну прикончат?
— Ну и что, что прикончат? — Ася так посмотрела, что он почувствовал себя ребенком рядом с ней, несоизмеримо наивнее и даже слабее ее. — Уж в чем в чем, а в больных недостатка не будет. У меня уж теперь ремесло.
— А ежели кто замуж позовет? Из тех, кто отсюда своими ногами выходит?
— Позовет — так спасибо за честь. — Спеченные мужалой горечью припухлые губы ее шевельнулись в невольной улыбке, но глаза не потупились, не полыхнули, не дрогнули.
— Со мною поедешь? — сумел пропихнуть застрявшие в горле слова и, уже не владея собою, схватил ее за руку, совсем как сумасшедший армянин, и сердце в груди его остановилось и так и осталось стоять.
— Куда же это? — Она взглянула на него, как будто сонно удивляясь и не веря, что ей может быть суждена какая-то другая жизнь.
— К Дону, на Маныч. В хутор Гремучий. Там есть чем дыхнуть. Кони вольные ходят по пузо в траве. Хата там у меня от отца. Как-нибудь сможем жить.
— Это как же? А сам на войну? — усмехнулась, впервые назвав его «ты». — Или хватит, устал?
— Люблю воевать, — сказал он всю правду, которую Ася давно уже знала и так. — Отец у меня там, сестра. Брат Степан, может, тоже вернется. Мельник отец, крепко живет, хозяйство большое, и тебя в дом возьмет, ему лишние руки только кстати придутся. Приживалкой не будешь. У меня офицерское жалованье да крестовые, присылать тебе буду. — Тут искрой проскочила мысль, что скоро его жалованью, может, и конец, да и деньги почти ничего уж не стоят, но это ощущение ничтожности всего, что может Асе дать (не больше, чем Дарье когда-то), тотчас было задавлено нерассуждающей тягою к ней и ожиданием ее ответа.
Стиснул Асины плечи, прислонил к своему зарешеченному, вновь пошедшему сердцу, и она посмотрела на него снизу вверх, как разбуженная, своими черными, глубокими, как полыньи, глазами: наконец в них забил, прорываясь наружу, незамерзший глубинный ключ жизни.
— Ну? Да? — хрипнул он.
XXIII
Январь 1920-го, Сусатский, Дон, Кавказский фронт
У левого берега Дона, на льду, под ногами Степана вдруг хрупнуло, и Сергей вместе с ним обломился в огневую купель, не успев испугаться, а сразу ослепнув и оглохнув всем телом. Вместе с визгом Степана миллионы иголок впились во все поры и фибры, и легкие Сергея мгновенно задохнулись, как будто забитые льдом. Его уже не было, а вот Степан, по холку окунувшийся, забился всею силой, задрав ощеренную морду к небу, вытягивая шею до предела, сопротивляясь глубине, течению, неодолимой тяге полыньи. Во всех его мускулах, даже в хребте с неуловимой быстротой воскресло что-то от саламандры, от тех древнейших земноводных, что жили в мире, залитом водой: да, он умел плавать! Только нехорошо.
Он ломал грудью лед, пытаясь вырваться на сушу, вокруг него кипела черная вода, а Сергей, его друг и хозяин, рвал ему губы трензелем и, судорожно дергаясь, напротив, не пускал, утягивал на дно с собою вместе.
Монахов и случившиеся рядом горцы выручили — кинули аркан, слетели с коней, вцепились в поводья и выволокли их обоих на поверхность. Сергей упал на берегу, но тотчас же вскочил, облепленный палящим холодом, как тестом из печи. Степан вонзил в него упорный, безукорный, горящий накалом последнего ужаса взгляд. Он будто поседел от страха, неуемная дрожь плескалась из него в Сергея и обратно.
Монахов вмиг переметнулся на Степана и погнал его наметом, чтоб согреть. Сергея же раздели до исподнего, закутали в тулуп и уложили на тачанку. Он так обессилел, издрог, что уже ничего не хотелось — только чтоб эти добрые руки унесли, утянули, с головой погрузили его, как ребенка, в живительную теплоту, в домовитую горечь кизячного дыма, в кисловатую вонь и шершавую ласку овчин на печи.
Много позже, когда отогрелся, подступили досада и злость на себя: по собственной дурости не был в бою, лежит себе в круто натопленной хате, подслепый и блаженный, как младенец. Прискакавший Монахов рассказал, что они сбили белых с позиций и налетом забрали Сусатский и Карповку и вся донская конница и пластуны поспешно отходят на Маныч.
Всю ночь Сергей не спал, возился на печи — переполняло, жгло упущенное и предстоящее назавтра, без него. В кармане гимнастерки, в жестяной коробке с корпусными печатями лежал совсем новый партийный билет — его предстояло вручить Леденеву, говоря: приняла тебя, окончательно, бесповоротно признала своим абсолютная сила.
Еще в Раздорской штаб настигла телеграмма, что в корпус направляется ревизионная комиссия от Реввоенсовета фронта. Должно быть, в Саратове стало известно о новочеркасском разгуле, обо всех грабежах и присвоенных ценностях. Предвиделся строжайший спрос со всех. Телеграмма, однако, внушила Сергею не боязнь за комкора, а скорее тревогу за самих ревизоров: корпус снова вступил в полосу непрерывных боев, развивал наступление — и угнаться за ним представлялось и трудным, и рискованным делом. Ничего необычного не было в том, что кто-то из верховного командования Красной армии выезжал на позиции. Но все же двигаться бескрайней зимней степью, на авто, конной тягой, а не бронепоездом, в условиях слоеного, разорванного фронта, по территориям, неведомо кем занимаемым…
В комиссию входили трое: уже Северину знакомый старый большевик и первый леденевский командир Зарубин, член политического управления фронта Круминьш и Халзанов… да, тот самый Халзанов, комиссар леденевского 1-го крестьянского кавалерийского полка, который, как снежный комок, обрушил за собой лавину Первой Конной.
Когда Челищев зачитал шифровку с именами, Леденев изменился в лице, чего с ним при Сергее не происходило, разве только в бою. На то было похоже, как оживляется собака, почуяв приближение давно пропавшего хозяина, которому хранит по-человечески необъяснимую, бессмысленную верность, не принимая ласки и еды из рук чужих.
Приезжали его старые товарищи, с которыми он вышел в снежную пустыню восемнадцатого года, огромного, настороженно затаившегося и выжидающего мира, считая своей миссией поднять над ним красное знамя, такое же чужое дремучему казачеству, как и завет подняться над естественным отбором кроманьонцам и волкам. Приезжали его старые товарищи — и ждать от них чего-либо худого Леденеву, должно быть, и в голову не приходило. Сергею даже показалось, что по приезде этих вот двоих и вырешится все: Леденев перестанет быть непроницаемым, наконец-таки выпустит душу…
Поднялся ни свет ни заря. Степан бил копытом, кусал удила. Сергей, ощущая голодную силу и в нем, и в себе, задохнулся морозом и ветром.
По безоглядной снежной целине — до самой бритвы горизонта, вперехлест, за край — зубчатой кромкой океанского прибоя катились гривастые черные волны. Словно самой степной землей сквозь трещины коры исторгнутая магма, безудержно текучая, как миллионы лет назад, но уже не слепая, не движимая темным промыслом природы — сотворить, а подчиненная единой человеческой воле — пересоздать весь этот мир, смывая, расплавляя всю неправду, что залегала в нем веками.
Леденева нагнал аж у самого Процикова. По круговинам талой крови, по извилистым стежкам шинельных, полушубковых трупов, по несметным копытным следам, уводившим на крепкий, заснеженный манычский лед, изрытвленный зияющими полыньями от снарядов, усеянный обломками саней и перевернутыми передками. На разрубленных лицах перестал таять снег.
Под комкором была Аномалия — огневая красавица с будто бы мертвой, костяной головой, но с трепещущим розовым храпом и живыми глазами, удивительно женственными и словно в самом деле презирающими всех, кроме хозяина. Рядом Мерфельд и Трехсвояков, вестовые, штабной эскадрон. Вернувшийся к комкору Жегаленок, едва Северина увидел, приветно просиял.
Леденев никуда не смотрел и все видел. Он знал эту мертвую снежную степь, как хозяин свои десятины земли, сад и пасеку, и выдвигал вперед полки, как приглашал на двор гостей, почтительно застывших у ворот, словно сам приказал проточить все извилистые суходолы и балки, когда тут еще не было ни людей, ни коней, чтоб ходить по ним.
Над степью стлались гулкие раскаты, в интервалах меж беглыми выстрелами различалась отчаянная трескотня пулеметов. Сергей приник к биноклю. Верстах в двух от него в широкой падине разливом темнели нагие сады; похожие на воткнутые черенками в землю веники, шеренгами тянулись тополя, в обрамлении их разметались беленые хаты, богатые казачьи курени под железными крышами. С косогора за хутором шрапнелью крыла сильная белоказачья батарея, обсаживая еле различимыми хлопчатыми дымками бурлящие небесные пространства над черными волнами четырех леденевских полков, в два потока катившихся к хутору, смыкая стрелы концентрической атаки.
Едва Сергей подумал, что удерживающим хутор пластунам конец, как волнистую линию горизонта на юго-востоке оброила подвижная черная зернь: то взводными колоннами шла конница — скатиться в низину и, рассыпавшись в лаву, ударить правым флангом в сочетании с охватом, сломить, опрокинуть и хлынуть нам в тыл.
— Комбригу-один двумя полками на Крутую, пять верст в обход и правым плечом в тыл, — пустил Леденев во весь мах вестового.
— Да как же это, Рома? — возмутился Мерфельд. — А кто ж Лысенку справа подпрет? На три версты по фронту голо.
— Полку Родионова делать, как я, — сказал Леденев.
Из балки, казалось пустой и глухой, немедля ударил живой черный ключ — косматых бурок, грив, папах.
Сергей толкнул Степана за комкором, и полк с мягким гулом потек вслед за ними на голый восток. Повернули на юг и тотчас же единым существом низверглись в котловину, и в белом кипеве обвала Сергей уж ничего почти не видел и не понимал, куда они идут. Не то продолжали скакать во всю силу на юг, не то, захваченный потоком лошадей, он не поймал мгновенья поворота, когда все сотни конских морд обратились на запад за одной Аномалией, как за стрелкой магнитного компаса…
Леденев обернулся и крикнул:
— Хоругвь перед строй!
Над строем горцев сине-желто-красно вспыхнуло языкастое знамя, темный, страшный, зареял лик Спаса, и Сергей не вместил это перерождение сотен на полном скаку, потому что его никогда еще не обманывали так открыто и так безнаказанно. «Левый фланг оголил!» — резануло по мозгу.
Захлестнутый лавой, несущей его, не мог ни закричать, ни пробудиться, как во сне, напрасно стирая глаза о непроницаемого Леденева, творившего из этой лавы что захочет.
Тот словно бы и впрямь повел весь полк обратным путем эволюции, на ходу одевая в косматые шкуры, выворачивая наизнанку… и вот, перебившись на рысь, звериное воинство вынесло Северина куда-то наверх, и он увидел справа, к юго-западу еще одну массу людей и коней — ту самую белую конницу, идущую на Проциков в охват.
Леденев тащил полк вперерез, но теперь уж и впрямь, выходило, не в схлест — на слияние… и вот уже поток казачьих сотен как будто натолкнулся на невидимую дамбу и начал плавно поворачивать леденевцам навстречу — лицом к своему отражению, к такому же знамени, Спасу! Нетронутый копытами лоскут щетинистой бурьяном снежной целины неотвратимо поглощался двумя разновеликими сходящимися конными громадами, и Северин, уж было скобленувший ногтями крышку кобуры, увидел, что казачья масса надвигается все медленней, как будто выдыхаясь, слабея в нерешимости, и тут уж понял наконец, что казаки и впрямь не понимают, на кого идут: врубиться или слиться воедино.
— Ну ты смотри, — сказал вдруг Леденев, осаживая кобылицу и все сотни коней у себя за спиной. — Кубыть, и впрямь еще не разгляделись. Тачанки, товсь. Расход поэскадронно. Рысью марш.
Переводя его команды в музыку, хрипатыми обрывистыми трелями запела труба, и весь родионовский полк опять потек навстречу казакам гипнотизирующим дьявольским подобием их лавы и воплощением надежды на родство. И вот когда меж леденевцами и привстающими на стременах передними рядами казаков осталось лишь двести саженей, Леденев на ходу поднял руку, эскадроны расхлынулись диким наметом, и в прорехи меж ними рванулись тачанки — буревыми плугами, грохоча, подымая жгуты снежной пыли, развернулись на полном скаку и ударили из десяти пулеметных стволов, валками скошенного прошлогоднего бурьяна укладывая наземь первые ряды казачьих сотен быстрее, чем те осознали, что эти адские химеры — неотстранимая реальность. Казачья масса заметалась, как табун в грозу, на каждом рывке теряя подкошенных, редея, сбиваясь в косматые кучи кувыркающихся через голову лошадей и людей, и вот уж вроссыпь ринулась на юг — туда, где ей навстречу уже поворачивали полки Партизанской, переброшенные Леденевым по балке Крутой.
По знаку Леденева горцы встали — в трех сотнях саженей от них, как будто взятая в невидимый котел, бурлила, выкипала, шарахалась от собственных теней казачья безголовщина.
— Ну что, комиссар, — сказал Сергею Леденев. — Езжай к ним, если не робеешь. Во избежание бессмысленных потоков крови и так далее.
С Сергеем выехали Жегаленок и Монахов. Все было как во сне, когда уже не страх тебя толкает, а острое ребяческое любопытство, восторг погружения в какой-то изнаночный мир, в котором все волшебно встает на изначальные места. Он никогда еще не видел беляков в упор… да, видел в бою, но что же можно там увидеть и понять, кроме гримас физического напряжения и последнего ужаса? Он даже говорил с Извековым-Аболиным, но со взятыми в клещи, обреченными смерти — еще никогда.
Что за люди они? Что сильней в них окажется прямо сейчас — потребность жить, руководясь инстинктом самосохранения, или глухая, жертвенная ненависть, остервенелое, нерассуждающее мужество людей, потерявших уж все, кроме жизни? Чего стоит их правда, их вера?..
Навстречу выехали трое офицеров. Передний, сухощавый и седой, с генеральским зигзагом на защитных погонах, посмотрел на Сергея угасшими, словно подернутыми пеплом узкими глазами.
— Генерал Ивановский, командующий Сводной дивизией Второго Донского корпуса. С кем имею честь?
— Военный комиссар Конно-сводного корпуса Северин, — отчеканил Сергей, вновь почуяв себя самозванцем. — Ввиду бессмысленности всякого дальнейшего сопротивления предлагаем вам сдаться. Всем, кто сложит оружие, гарантируем жизнь.
— Это и к офицерам относится? — уточнил Ивановский, гадливо поморщась, как будто и сам понимая нелепость вопроса, и было только непонятно: не то не ждет пощады для себя, не то не хочет принимать ее от красных.
— Всем будет дана возможность искупить свою вину перед народом. За исключением карателей и палачей.
— Да ведь среди нас, милсдарь, нету таких, — тоскливо усмехнулся генерал, — которые ничем себя не запятнали. Равно как, смею утверждать, и среди вас… А впрочем, к черту. — Расстегнул портупею на ощупь и протянул Сергею шашку, простую, казачью, с начищенной медной головкой.
Незвучно хлопнул револьверный выстрел, все тотчас вскинулись, готовые стрелять… заржали и прянули лошади, один лишь Ивановский стоял как конный памятник себе же. В раздавшемся первом ряду казаков, на островке истоптанного снега остался лежать человек. Защитный полушубок, белые погоны. Еще один, считающий себя уже убитым за Россию, жить не захотел. Рука с револьвером откинута в сторону, под головой — кроваво-студенистая печать, в оскале молодых зубов застыла злоба, но потускневшие глаза остановились будто в запоздалом недоуменно-грустном вопрошании: неужель теперь всё — навсегда себя предал неудобному, нудному делу совершенной бездвижности?..
— Поздравляю вас, Леденев, блестящая партия, — сказал Ивановский, подъехав к комкору. — Как вы нынче управились со своим эшелоном развития — выше всяких похвал. Да только вы и сами теперь уже в мешке. Если к утру по фронту не поддержат, этот самый плацдарм для вас станет могилой.
— В Гремучем доскажете, ваше превосходительство, — сказал, не ворохнувшись, Леденев, и столько властительного равнодушия было в этих словах и посадке его, что и сам генерал, показалось, признал: прошли времена вековых, наследных хозяев войны.
Леденев провожал свои сотни угрюмым, взвешивающим взглядом. Встряхнувшись, повел головой:
— Телеграмму в штаб армии. Полсуток жду Буденного на Мало-Западенский. Где Конная? В чем дело? Нахожусь на скрещении трех угрожаемых направлений противника. За спиной же имею могилу, сотворенную мудрой природой. Прикажете стоять и умирать?
На западе, за синим лезвием оснеженного горизонта вполнеба засиял закат — снеговые поля, перевалы, холмы ярко вспыхнули, затопленные половодьем кровяного солнечного света, как будто бы напитанные им до снегириной красноты. И по этим кровавым снегам стлали тысячи всадников ровный, подавлявший сознание гул.
Небо выгорело уж до пепельной сизи, лиловело, темнело, но от легшего снега всюду было светло, когда Сергей увидел тополя и крыши хутора Гремучего. На взгорье, выше хутора, косым распятием застыли крылья ветряка. На выгоне безликим серым стадом табунились пленные — похоже, пластуны, повыбитые из окопов на околице.
Северину давно уже казалось, что, катясь и кружа по степи, их корпус раз за разом забирает один и тот же хутор. Он понимал, что в множестве казачьих хуторов и уж тем более беленых куреней нет и не может быть и двух совершенно похожих; что каждый дом неповторим, но это ведь для глаз хозяина или хотя бы человека, имеющего время присмотреться, обжиться на одном клочке земли. Когда же знаешь, что назавтра покинешь одноночное пристанище, как будто уже и не хочется и не можется вглядываться, вкореняться каким-либо чувством в чужое жилье — тем более уж запустелое и захирелое.
Он отыскал глазами Леденева. Тот ехал к ветряку — как будто для того, чтоб совершить там неведомый обряд. Сергей послал коня за ним. Поравнялся со свитой, остановившейся у взгорка.
Комкор сошел с седла и, склонив обнаженную голову, шаркнул ногой, как будто разгребая снег, откапывая что-то.
— Его ветряк и есть. Батяни, Семена Григорьича, — шепнул Сергею Жегаленок. — А тута курень их стоял. Спалили казаки — два года уж тому… Эх, добрый был курень, под тесом, и хозяйство справное.
— А где ж семья? — спросил Сергей, выталкивая запирающий дыхание комок.
— Да рази вы не знаете? — царапнул его Жегаленок неверяще-жалостным, осуждающим взглядом.
— Ну а отец-то, брат?..
— Кубыть в Великокняжескую подались — и батяня, и брат, и сестра его Грипка. За нашими в отступ ушли ишо в восемнадцатом годе. А где они зараз и живы ли, как уж было прознать. Мы вон какой сделали крюк — за Хопер. Вот так она, родная кровь, через войну-то и теряется. Ить тут и у меня маманя, товарищ комиссар, — не шли у старой ноги, на печи держали… — Жегаленок вертелся чертом на сковородке, неуловимый взгляд прозрачно-голубых, обыкновенно озорных и хищных глаз куда-то уплывал, что-то жадно-пугливое, дико-восторженное проступило на розовом в скулах лице. — Зараз и поскачу, — дрогнул голос. — Так-таки попроведаю. А ежли не найду да не сама маманька померла, тады и Монахов наш ягненком покажется — из кажного душу вынать со всем потрохом буду, несмотря что соседи.
Леденев сел в седло и поехал к ближайшей леваде. Сидел, как и прежде, несгибаемо прямо. На месте, где он только что стоял, Сергей увидел что-то черное, приметное средь снеговой белизны. Подъехав, склонился — зола. На три сажени вглубь промерзшая, обугленная мертвая земля. И черное рогатое полукольцо домашнего ухвата на полусгнившем держаке.
«Да ведь у него никого, — как будто лишь теперь и понял Северин, уже не умом — животом. — Впереди никого — так же, как у Монахова. Да, отец, брат, сестра, может, живы еще, но любовь… Если некого больше любить… ну, единственного человека, тогда остается любить всех своих, бойцов этих вот, чтоб с ума не сойти. Не давать их убить — растоптать революцию. А чем же еще вот эту дыру зарастить? Еще большей, чем есть у него, высшей властью? Возвышением в Наполеоны? Да ведь этого мало, смешно, жалко мало — все сожрет ненасытная эта дыра и только еще больше станет, много больше тебя самого. Не предаст он, не может, потому что предать революцию для него означает себя и предать, — будто впрямь уже бесповоротно поверил Сергей. — Или я вообще ничего в жизни не понимаю».
XXIV
Март 1917-го, Багаевская, Область Войска Донского
Халзанов ничего вокруг не узнавал. Проломилось под ним, только вышел из госпиталя, с головой ухнул в эту студеную воду, и как будто уж не было воли и силы, чтобы правиться к берегу, самому предрешая дальнейшее, и не страшно от этого сделалось, а напротив, блаженно легко, как младенцу в качаемой люльке.
После того как всех их шестерых, перераненных и перемаянных, подобрали разведчики неведомо какого стрелкового полка, повалил его тиф. Завшивев в бараке, несли в волосах, в складках кожи стеклянных, переливающихся перламутром гнид — заразу, переползшую с собрата на собрата. Бороли болезнь, пока шли, а только оказались у своих, взяла она верх, расплавила внутренним жаром дотоле железное тело.
Палила нещадная, неутолимая жажда. Серебряный звон полнил голову. Кровь крутым кипятком уносила в другой, небывалый и сказочный мир. Бредовое воображение творило невероятные картины. То он видел рогатых, шестилапых прозрачных чудовищ, переполненных кровью, которую пьют. То, вернувшись домой и войдя в свой курень, застигал Дарью спящей на руке Леденева. На спинке стула — в завеси крестов, с золотыми погонами, генеральский мундир. Железная рука приехавшего на побывку генерала-мужика владетельно лежала на Дарьином плече, и жена, пробудившись и ничуть не пугаясь, не сводила с Матвея сияющих глаз, как будто и его по-прежнему ждала и теперь-то ее бабье счастье наконец стало полным. И оба они жили с Дарьей как мужья, уезжали на фронт, возвращались поврозь или вместе, и никуда не девшийся Максимка признавал за отца то того, то другого, то называл чужими казаками их обоих, — и это продолжалось, продолжалось, с какими-то и вовсе уж неописуемыми мерзостями, пока у Дарьи не рождалась двойня, и долго вглядывался он в сварливо сморщенные личики близнят, напрасно силясь угадать, чья кровь течет их в жилах — его, Матвея, или Леденева.
Почти два месяца он провалялся в госпитале, и вот, отпущенный домой на излечение, повсюду наблюдал обыкновенное и в то же время невозможно-небывалое. Точно так же ползли из глубинной России на фронт нескончаемые эшелоны с еще не нюхавшими пороху и переформированными, отдохнувшими частями, только вот на солдатских шинелях пунцовые банты. Кипяток общей крови уносил всех и каждого в запредельно иной, непонятный и пока еще даже не вполне осязаемый мир.
Свобода? А что с нею делать? Какая она для солдат? Для нас, казаков? Мужиков? Чего мне дает? Уж коли волею народа скинули царя, так, стал быть, и войну пора прикончить, затем что народ войны не желает — опять же, воля наша быть должна. А то что же, братушки, свобода свободой, а коснись до войны — так и гибнуть в грязи да во вшах? Нас ить режь — кровь уже не течет. За кого погибать? От врагов, от германцев защищать свою родину, командиры гутарят… А вы послухайте, чего она сама, Россия, говорит. Хлеба нет — весь идет на казенные нужды и вот так, по дороге на фронт, весь куда-то девается. В Петрограде, слыхать, отпускают по фунту на рыло. Куда же мука? Раньше будто царица хлеб немцам гнала, оттого и взыграло в Петрограде восстание — в животах у людей забурчало вовсе невыносимо, фабричный люд на улицы повывалил, витрины булочные палками крушил, железные ворота с петель рвал… Ну а зараз где хлеб? Прижимают купцы-фабриканты муку, хоронят по лабазам пухлое зерно, бакалею, консервы, машины, мазут, сукна, кожи — ждут, когда станет можно прихватывать втридорога, уж не шкуру, а мясо с мужика да рабочего рвать. По хуторам — ни серников, ни гасу, ни гвоздей. Коням овса не стало. Чем быков добрить в пахоту? Нешто хлеб сам родится — вроде сорной травы? Третий год, как в окопы загнали. Почитай, каждый гожий казак и мужик на войне, да и негожий тута же, в шинельке. Бабы брошенные — на хозяйстве. А купец с барышом, фабрикант на авто, булки белые жрут и к цыганам катаются. Так и будут на нашей хребтине жиреть? Воля будто и наша, народная, а прижим, видать, старый? Свободу дали, а питанию когда наладят? На хозяйство когда смогем встать? Ить ни слова о том, а обратно война до победного.
Хошь не хошь, а с германцем сперва расхлебай, говорили другие. Что же, фронт теперь кинуть? Три года воевали — и немцу все отдать? Обломать его надо, а не то ить до самого Петрограда дойдет. Сколько нашей земли заглонет — пол-России? От того разве хлеба прибудет? Своего царя скинули — к немцу в ярмо?
Замириться, на том и весь сказ! Немцы тоже давно воевать не хотят, руки к нам через проволоку тянут. У них ить тоже жизнь не слаще нашей — так же смерть принимают от своих дурноедов. Мы Николашку скинули — и они своего Вильхешку спихнут, тогда и всей войне конец. Любого возьми, кто сам пашет, — чего ему надо? Земли и воли, во! И мира! Чего терпеть? Пока убьют? Скотина, и та в самый зной к высокому солнцу бунтуется. А нас не мошка ест, не оводы кусают. Так и нам повернуть табуном — рази кто-то удержит? Одному хвост задрать — остальные за ним…
Халзанов не чуял ни веса в себе, ни тверди под ногами. Наука говорила, что вся земля шар и вертится вокруг своей оси, и вот земная твердь и впрямь, казалось, завращалась с большей быстротой, и он ощутил ее кривизну под ногами. Обвалившаяся, не успел даже с койки подняться, свобода открепила его от всего, и даже брат Мирон не мог ничего объяснить.
— Ни на черта нам эта война. Бессмысленное истребление народа.
— Это как? Ить державу крепим. Немецкий царь с австрийским первые войну нам объявили или как?
— Вот то-то и оно, брат, что цари. Немецкий царь, австрийский, наш Богом помазанный государь император — все желали прирезать к своим государствам какие-то неведомые нам с тобою земли. Любого вон в сотне спроси: нужны ему Галиция, Карпаты? Или ему своей земли довольно? Так он тебе ответит: маловато земли у него, в аккурат один пай, зато у помещика рядом три тыщи десятин и более. Так, может, дело не в земле, а в том, кому какой кусок принадлежит? Земля у нас богатая — всех может накормить, а кормимся по-разному: один в три глотки жрет, а тысячи народа голодают. Смешно, не находишь? Такая родящая сила у нас под ногами, а мы за чужую деремся, как воробьи за крошку хлеба. Сколько нашего брата легло и поляжет еще? Вот и выходит, брат, что проку нам от этой бойни никакого — одна только смерть, вдовство и сиротство. Богатеет помещик, поставляющий в армию хлеб. Фабриканты свои барыши умножают — с каждой вылитой пули, с каждой пары сапог. И чем нас больше перебьют, тем больше новых сукон и сапог потребуется. И у германцев то же самое: богатые становятся еще богаче, а бедные — бедней. А главное, жизнь отдают за пустое — и бедные, и справные, и даже господа, которые с нами в окопах сидят.
— Ну положим, что так, да только ить воюем уж — хошь не хошь, а дави его, немца, теперь. Или как ты себе полагаешь? Завтра в бой, ты — «вперед», а я тебе на это — «не желаю»?
— А весь народ и довели до эдакого «не желаю». Сначала царь, а нынче фабриканты, которые не делись никуда. Ты говоришь: порядок, строй, держава. Да только не будет порядка в державе, если в ней половина народа живет на положении говядины и от нужды не может продохнуть. Живот с голодухи к хребтине прилип — это ладно еще, можно перетерпеть, а вот жить без просвета, об одном куске хлеба насущного думать всю жизнь, выносить над собою власть сытых да еще умирать за нее — это нет, непременно взбунтуются люди. Хотим мы того или нет, при нас ли, при детях ли наших, все едино захочет народ утвердить свою власть. Навроде станичного схода, где каждый будет голос свой иметь.
— Это как же? — не верил Матвей. — Промеж собой сцепиться, стал быть, — голодным-то с сытыми? Такую войну тебе надо, чтоб эту прикончить? Да если хочешь знать, давить таких надо на месте, кто народ подбивает!
— Что, страшно, брат? — улыбнулся Мирон ему как отражению в зеркале — с той же детской беспомощностью. — Ты думаешь, я не робею? Вот мы с тобой два брата, а уже схлестнулись, как чужие. Ты погоди пока. Живы будем, а там… Может, и попадем на одну борозду, как два быка в одной запряжке…
Одна и радость, что домой он ехал, в Багаевскую, к Дарье, к сыну, и синий Дарьин взгляд просвечивал горячечную мглу, надышанную тысячами взбаламученных солдат и казаков, вымывал из души хлороформную одурь, возвращая Халзанову чувство себя самого, говоря: худо нам без тебя, пусто, голодно, возвращайся скорее. Дай вдохнуть терпкий запах смолистого пота от исподней рубахи, дай обнять похудевшую шею, прикоснуться губами к неловким, очерствевшим на ласку рукам, притяни нас, затисни, а Максимку подбрось к потолку, дай почуять, что ты в самом деле живой, — сам почуй.
Паровоз с неуклонным, мерным бешенством рвался вперед, и блаженная легкость была во всем теле, но вместе с этой легкостью неотвратимо нарастала и тревога. Неминучая встреча, сам халзановский двор — все как будто зависло на самом краю высокого, обрывистого яра, на мыске, размываемом полой водой освобожденного, разлившегося Дона и готовом осесть, накрениться и рухнуть, еле-еле держась в тонкой связи с незыблемым материком.
Он терял не достаток, не землю — хотя и разбегался слух средь казаков, что скоро и до этого дойдет, — он терял свое предназначение. В том и дело, что все неразрывно в казачьем бытье: бык и конь, плуг и шашка. Да первые шаги у казачонка — конскими ногами. Через службу военную достигается все: и земля, и достаток, и почет с привилегиями. Потому и земля от тебя неотрывна, что кровью заслужена. Как своя же рука иль нога, жизнь сама.
Ну и кому ж теперь служить? Царю присягали — отрекся. Неведомому Временному комитету? А время его кончится — тогда кому? Как будто и войну никто там, наверху, приканчивать не думает. На словах все осталось по-прежнему, те же «верность» и «честь» на устах командиров, разве что без «царя» и без «веры», но такая уж сила всеобщей тоски, отрицания, злобы в войсках, что и казак-то в своей массе воевать не желает. Были связи железные — стали нитки гнилые: чуть погромче шумни, взъерепенься — и лопнет весь фронт, как ветхая рубаха на напруженных плечах. И зачем он, Халзанов, будет нужен тогда? Ничего не умеющий и не хотящий, кроме как воевать?.. А в Багаевской как, на Дону, — неужели по-старому будет? Все, что было у них, казаков, чем кормились от века, при них и останется? А с чего это вдруг? Сколько помнит себя, все стоял над Донщиной нескончаемый стон прибывавшего иногороднего множества: «Дайте, дайте земли. Надоело работать на вас, казаков. Ни за что жилы рвем». А уж теперь у всех свои права. В правах-то равные, ага, а где земли-то столько взять, чтобы на всех да поровну? Выходит, у хозяев отымать? Быть может, и погоны, какие кровью выслужены, начнут на узкие полоски нарезать, офицерское звание вовсе отменят, чтобы всем понемногу досталось, чтобы уж никому не обидно?..
Освобожденный, полноводный Дон крушил ледяные закраины. Простиранными на его сизо-зеленом стремени полупрозрачными полотнищами плыли к морю шматы белых льдин. С веселым птичьим клекотом бежала по теклинам мутная, бурливая вода. С шуршанием и гулом оседали, обламывались глыбами на взлобках напитанные влагой синие зернистые сугробы. Курилась паром обнажившаяся по буграм земля, черно лоснящаяся, сытная, как масло. Южный ветер носил ее будоражащий запах, соединенный с пресным ароматом талой сырости. С соломенных крыш стрекотала капель, стучала, будила, звала людей на свежий, пьянящий воздух марта, и стеклянную звень ее дружно подхватывали воробьи, свиристели, чирикали по застрехам сараев и кучам подсыхавшего хвороста. Станичные улицы были безлюдны, бродили, чавкая по ростепельным лужам, измазанные грязью и пометом рыжие коровы.
Весь народ, надо думать, подчиняясь несломленному, испокон заведенному ходу вещей, потянулся к обедне и еще не растекся от церкви по своим куреням.
— Батюшки святы! Никак Матвей Халзанов! С того света! — За красноталовым плетнем Ирохиного база застыла Нюрка Полувалова, вся подавшись к нему и глодая Матвея своими пестрыми зелеными глазами под разметом пушистых бровей. — А мы тебя уж царствием небесным поминали. Брат Мирон написал: ни живого, ни мертвого нету, чисто как заглонула чужая земля.
— Уже и панихиду отмахали?
— А как знать-то, положена она тебе, панихида, аль нет? Мертвый ты аль живой — как считать? Об избавлении молебен, от боя да от плена. Чтоб Господь, стал быть, чудо для тебя сотворил. Отец Виссарион, кубыть, твоим гутарил: упорствуйте в вере. А Дарья твоя, как письмо от Мирона пришло, ну чисто каменная сделалась. Сынка бы не было — тады, кубыть, и вовсе себя бы уморила. Подкосил ты ее.
— В монастырь не пошла, слава богу.
— Ах ты, ирод, анчибел проклятый! Нет бы сгибнуть, как все, по-людски, чтоб бумага была: так и так, убитой смертью храбрых, не гадайте и сердцу не рвите. Горе горем, а лишней тоски чтобы, значит, не приняли. Так ить нет, провалился, как копейка скрозь дырку в кармане, — ни следа, ни креста, а ты, любушка, верь во что хочешь и гулять от меня, даже мертвого, так же как от живого, не смей, а то вдруг возвернусь — проучу. Нешто можно жену подводить под такое?.. Ну скажи ишо, срок шибко малый, — так ить ей, Дарье, день шел за год — все гадать, по земле ты блукаешь али ворон давно твою шкуру дубит. Так и сердца не хватит — упорствовать-то.
— Так что ж, мои не знают про меня? — захолонуло у Халзанова в груди. — Письмо-то я ишо когда пустил — неужели досель не дошло? Обогнал?
— Об том не слыхала. Твои лишний раз с базу носа не кажут. Могет быть, не дошло. Времена-то какие. Царя спихнули — мало? Иде ж порядок будет? Вот и почтмейстеры, кубыть, все распоясались…
— Народ-то весь где? В церкви, что ли?
— В церкви-то в церкви, да, кубыть, не у Бога уже, а на митинхе. Как слух-то про царя до нас дошел, так и галдят на площади все дни, какая власть теперича заступит. Гутарят, войну прикончить должны — правда аль нет? У вас там, на фронте, чего говорят? Как жить-то будем без царя?
— А тебе-то чего? Корову теперь по-другому доить? За соски раньше дергала, а теперь — за рога?
— А вот увидала бы зараз такое — не шибко бы и подивилась. Ты мне скажи, какая будет жизня? У всех казаков? Мне желательно знать для начала, до каких пор мужьев наших горьких да братов будут переводить. А то не всем такое счастье припадает, как тебе. Все больше мертвые в чужой земле лежат — без воскрешения. А ишо слух имеем, что казакам концы приходят, — это как?
— Не знаю, Нюрка. Я нынче, может, и воскресший, да все как дух хожу, земли не чую под собой. Живы будем — посмотрим. Здорова бывай.
Теперь он думал только о письме, отправленном из госпиталя больше месяца назад, и о том, что и вправду, быть может, предстанет перед Дарьей пришельцем с того света.
«Здравствуйте, дорогие отец Нестрат Игнатович, бабуня Авдотья Лукинична и милый друг Дарья Игнатовна. Сообщаю вам, что по милости Господа жив и здоров, чего и вам желаю от Господа Бога, здравия и благополучия на многие лета.
Хочу повиниться, что долгие месяцы не подавал известий о себе и заставлял вас этим мучиться, как никакому человеку терзаться не след.
О моем положении вам, надо думать, отписал Мирон. В бою под Вулькой-Галузийской попал я к австриякам в плен. В окопах своей первой линии они меня взяли без чувств и утащили в тыл своих позиций. Дальше целое лето пребывал я в плену, работал на венгерских панов и сидел, как скотина, в их лагере пленных, откуда Божьей помощью бежал с другими офицерами, а также с рожаком Гремучего, Романом Леденевым, которого под Будапештом встретил, тоже пленного. Теперь же нахожусь на излечении в Бердичеве, пошел на поправку и, считай, в добром здравии.
Затем, дорогие батяня Нестрат Игнатович и бабаня Авдотья Лукинична, посылаю вам свое нижайшее почтение и по низкому поклону. Посылаю тебе, дорогой, милый друг Дарья Игнатовна, супружеский низкий поклон, и знай, пожалуйста, что память о тебе хранить буду свято по гроб своей жизни, вовек нерушимую. Дорогому сынку Максиму Матвеевичу посылаю от всего родительского сердца свое благословение. Надеюсь скоро повидать, как он растет и какой собой стал. Должно, совсем уже большой и не узнать.
Остаюсь жив-здоров, сын ваш, внук и супруг Матвей Нестратов Халзанов».
Жал, цедил из себя эти строчки, щемяще чувствуя, как много хочет и как мало может передать с холодными лиловыми чернилами, ощущая бессилие приходящих на ум ему слов, замусоленных, вытертых в общем употреблении, но казалось ему, что и в этих чернилах ожила, побежала их с Дарьей единая кровь — в оповещение, что он, Матвей, живой. Теперь же было вероятно, что кровный этот благовест еще не прозвенел в их курене и придется ударить прямо в Дарьино сердце.
XXV
Январь 1920-го, Гремучий — Веселый, Приманычье
Сергей проснулся от удара, сотрясшего все: оконные стекла и стены хатенки, весь воздух неба и земные недра, из которых взяли глину, чтоб сложить в хате печь. Скатился с печи, ушибаясь подряд обо все и не чувствуя боли, сграбастал ремни с револьвером и шашкой, схватил полушубок и выломился на крыльцо, благо спал нераздетым и не снявши сапог.
Из куреней выметывались горцы, кидали себя махом на нерасседланных коней, ручьями хлестали по улочкам, сшибались, спирали заторы, закупорив самим себе прорыв в степное беспределье. Все небо дрожало, как студень. По околице сине-оранжевые трепетали зарницы разрывов, и яростные всплески света достигали какой-то уж ткацкомашинной, паровой частоты.
Сергею на миг показалось, что с запада, с востока, с юга и даже будто свыше на них идет конец, что нет уж такой силы, которая могла бы сплавить вот это ошалелое, мятущееся безголовье в единый разумный поток, утянуть за собой на простор для маневра, построить из коней и всадников плотину… Но он до сих пор не знал Леденева и стайной, роевой, какой-то оркестровой слаженности всех его людей, давно уже дошедших до того предела, когда тысячи делают все, как один человек, а товарищи-кони сами все понимают.
С Монаховым прорвался на околицу Гремучего. На зыбкой границе оснеженной степи и тьмы во весь горизонт колыхался расплывчатый фриз со множеством всадников, которые сливались в одну неотвратимо наползающую черноту, и туда, в закишевшую конными лавами тьму, хлестали пулеметы леденевской тачаночной дуги, прокалывали темень скачущими огненными иглами, пока не закипела в кожухах вода, и вот уже залускали развернутые загодя орудия красноармейских батарей. За этим огневым заслоном слились на хуторской толоке, построились во взводные колонны три полка. Трубачи заиграли отход.
Бросая забранные накануне хутора: родной леденевский Гремучий, Позднеев и Проциков, — переменным аллюром уходили к Веселому, к Манычу. Северин понимал, что противник навалился на них с трех сторон, что, по данным разведки, на юге сосредоточены полки двух конных корпусов, 2-го и 4-го Донских, а на юго-востоке — еще и кубанцы Шкуро и что надо, конечно, собраться в кулак и немедля уходить из мешка, но что-то жалкое, постыдное было в этом прямом уже бегстве, в особенно тревожном похрапе лошадей, в непрестанных оглядках и в каких-то собачьих, затравленных взглядах бойцов, в паскудно-властном холодке вдоль позвоночного столба, в сосущей пустоте внутри, в зверином чувстве гона и облавы.
Казалось, каждый взглядом ищет Леденева — что-то от выражения брошенного на ветру и юру, потерявшегося на военном вокзале ребенка было в каждом обветренном, задубелом лице. Томителен был самый темный час перед рассветом. А когда посветлело фиолетово-черное небо над степью, в полынной сизи горизонта стало видно все: казачьи сотни слитно шли в охват, выгибаясь огромной дугой, вытягивая фланговые щупальца к реке — заклещить и отрезать. А корпус уходил летучим вагенбургом, как Горская бригада от Персияновских высот, — каким-то межеумком румянцевской кареи и тевтонской свиньи, одной, двумя, тремя колониями перекати-поля с колючками тачанок и жерлами всех конных батарей. Вот только заманивать белых теперь уж было некуда и не на кого — на всем левобережье Маныча, помимо леденевцев, не было ни единого красноармейца. Отставшая пехота лишь наладилась переправляться напротив Веселого, Буденный не пришел — а как бы вся громада Первой Конной прокатилась по этому казачьему прибою, ударив в левый фланг. И вот они были прижаты к Веселому — и как переправляться? по частям?
— Посекут нас шрапнелью на этой равнине, — кивнул вперед Мерфельд. — А побежим — так перетопят.
Все доступное голому взгляду пространство представилось Сергею каким-то Анненгофским садом: подстриженными по линейке черными куртинами застыли взводные колонны горцев и донцов — а на эту обманно незыблемую, словно впрямь вкоренившуюся в чистый снег красоту медлительно, неотвратимо, все густея, накатывалась долгая пирокластическая масса казаков, словно даже ленивая в своей мощи и неудержимости.
— Буденный где, Буденный? Почему не идет?
— Ну если к нам Буденный не идет, — сказал Леденев, — самим Буденным надо стать.
— О чем ты это, Рома?
— А из каждого своего бойца трех сделать.
— Это как? Почкованием? — расхохотался Мерфельд. — У нас как будто еще люди — не грибы. Или ты, может, бог?
— Даст Бог — буду бог, — ответил Леденев. — Как только растяну их фронт, комбригу-один бить в середку, где тонко. Штабному, первому, второму, третьему калмыцким делать, как я. Мишатка, кумача пред строй побольше, живо.
Нет, не отчаяние безнадежности было в этих глазах, а будто бы опять, как и тогда, за Доном, у Багаевской, как и вчера в Гремучем, безразличие к сужденному, сознание никчемности всего происходящего. «Да он и сам себе как будто уж не нужен, — подумал Северин с недоуменным страхом и обидой за себя, за свою зачарованность, веру в него, Леденева. — Но он сейчас нам всем необходим. Так что ж, ему не нужно быть нам нужным? Устал убивать?..»
— Пошли, комиссар, — сказал Леденев. — Вот это самое — расти как на дрожжах. — Повернул Аномалию и пустил ее вскачь.
«Куда ж он опять нас уводит? — не понял Сергей. — Как будто бежим, всех бросаем». Вдоль Маныча на запад — по гулкой теклине, скрывающей их. Леденев направлял конский бег по ее разветвлениям с такой уверенностью, словно сам их и прокладывал, перед ним расступалась земля, и вот сотни выхлынули к трем древним курганам, окрест которых простиралась белая необитаемая пустота.
— Взводными колоннами, — сипато крикнул Леденев, — на пять коней дистанции! Рысью марш!
Эскадроны, распущенные на дистанции, поднялись на макушку кургана, потекли под уклон, разлились рукавами, закручивая вкруг высотки хоровод… На юго-востоке, под хутором — тихо, но то было страшное безмолвие рубки, а они, эскадроны, так нужные там, с багряными знаменами, кричащими среди снегов об проливаемой там братской крови, как будто выполняли некий безумный ритуал, парадом проходя пред зраком единственного зрителя — высокого белого солнца… кружили и кружили вокруг этих курганов, подымаясь-сходя, подымаясь-сходя, как если бы им надо было проходить одни и те же точки на земле в одной и той же строго установленной последовательности, чтоб снять с себя какое-то заклятие. Это было похоже на танец невиданных конных шаманов, на самоистязание неведомых сектантов, моливших небо о спасении их братьев, на детскую игру, в которой совершившего ошибку ждала кара смертью — и все до единого играли всерьез.
На третьем кругу Сергей наконец-то увидел: они и вправду подымали из земли несметную армию призраков — размножались вот этим кружением, оставаясь собой, неделимыми. По-прежнему ничтожные числом, четыре эскадрона, они для стороннего взгляда, оттуда, от хутора, казались непрерывно низвергающейся вот с этих курганов ордой. Приникшие к биноклям казачьи вожаки какую уж минуту наблюдали бесконечное течение огромных масс конницы на северо-западе, в то время как четыре эскадрона пропадали в низине и опять подымались наверх — пред окуляры никогда не врущих цейсовских биноклей. У страха глаза велики. И вот уж левый фланг казачьей конницы, вместо того чтобы идти в охват — отрезать наших от реки, — развернулся на северо-запад, и белые зримо растянули свой фронт.
— Буденный! — закричал он Леденеву, засмеявшись, как детстве. — Буденный пришел!
— Ну что ж, пойдем и мы, — ответил Леденев, не улыбнувшись.
И вот в последний раз освобожденно схлынули с кургана и, захватив в намет, помчались наискось к Веселому, и то, что с кургана казалось бесмысленной, неупорядоченной толчеею насекомых множеств, превратилось в гудящую горную реку под ливнем, в неоглядное кипево на столкновении двух сумасшедших течений, и Северин почуял себя выплеснутым, влитым в эту коловерть. Завидев Леденева, все сотни Партизанской исторгли трясучий ликующий крик, остервеняя себя верою в того, за кем столько раз скакали сквозь смерть.
Сергей потянул в себя жгучий, раскаляющий воздух и глубоко протиснул ноги в стремена. Знакомое, незабываемое чувство нечеловеческого возбуждения и страха оледенило спину над ремнем, остановило в нем всю кровь и вновь толкнуло — вперед, вскачь, в поток, в огромную, лютую радость полнейшего самозабвения, сроднения с каждым, со всеми. Копыто в копыто, храп в храп. И вот уж с частотою дрожи, быстрее птичьего крыла, секущего воздух на взлете, сжимались в ком и распрямлялись ноги дончаков, пластавшихся над снежной целиной, — в степной пожар хватили сотни, переняв леденевский размах.
Мигал, рвался, вспыхивал алый язык летящего знамени, и рыжие кони летели краснее знамен, словно с себя содрали кожу. И вот уж стало видно мохнатые папахи и серые английские шинели чужаков, усатые их лица с безумными лупастыми глазами — и уши Степана прижались к голове так плотно, что не оторвешь, и шея, вся пронизанная дрожью, вытянулась до предела, как будто в жертвенном порыве положил ее Степан на плаху.
И вот уж Леденев, ушедший на три корпуса вперед, неуловимо взбросил шашку от бедра, не поворачиваясь и не уклоняясь, — порхнул клинком под локоть офицера, который уже рушил на него, казалось, сокрушительный удар.
Сергей едва не упустил секунду, когда надо уклоняться и рубить самому. Летящий на него казак с грубовато-смазливым лицом, не юнец, а матерый, кинул неуловимый замах и, изменяя направление удара переводом через голову, рубанул поперек, как будто уж срезая Сергею крышку черепа по самые глаза, но Северин успел закрыться, выворачивая кисть. «Ж-ж-жиг!» — сверкнули в глазах синеватые искорки. Смазливый проскочил и канул за спиной в грохочущем потоке.
С проникающим все тело визгом, хрястом, лязгом стальных мундштуков сшиблись лавы, и казачья расхлынулась, обнажая широкую белую просеку там, куда клином вошел Леденев. Вокруг синеватые всполохи молний, квадратные дыры разинутых ртов, исступленно-упорные, огневые глаза лошадей и людей, в оскале задранные к небу морды, конские бока и казачьи папахи с кокардами. И будто бы тот же смазливый казак, прибившись к нему правым траверсом, кидает удар из-за уха, Северина глазами разрывая, и отпрядывает, наломившись клинком на клинок. Неведомо каким наитием Сергей заходит к нему слева, и обоим теперь неудобно рубить через конские головы — казак на миг теряется, и Северин вполоборота колет, толкая Степана вперед шенкелями. Ткнувшись в серую щеку, клинок туго вздрагивает — жалко вскрикнув от боли, казак хватается за челюсть, как ужаленный.
Распаляясь его беззащитностью, Северин поворачивает, как будто штопором вворачиваясь в землю, настигает, обходит клинком непослушную руку с дрожащей, как стрелка барометра, шашкой и рушит на толстую шею уже безотбойный удар. Впервые чувствует, как лезвие идет в такое вязкое и вместе с тем податливое человеческое тело — во что-то самое необходимое и жалкое живое.
Смазливый выгнулся дугой и, словно расшибая лоб в поклоне, повалился на луку, слег на конскую шею, свесив руки к земле. Сергея сожгли быстрота и бесповоротность свершенного — он видел, что все, и не верил, что все. Это был всего миг, но он вдруг страшно ощутил себя отторгнутым ото всего вот этого огромного, сияющего под холодным солнцем мира, с его ослепительным снегом, конями, деревьями, воздухом, и то, что все вокруг в предельном натяжении всех жил творили то же самое, что он, как будто уже не могло разрушить его одиночества. Его и самого могли достать вот в этот миг, но выручил Монахов — налетающий сзади на Сергея казак повалился с разрубленным черепом.
Идущая за Леденевым лава вырвалась на чистое, оставив за собою что-то наподобие буреломной проплешины в неистово несущемся навстречу Бирнамском лесу, но только и сама заметно разжидилась, поредела. Оставшиеся в седлах будто сами, каким-то роевым, табунным чувством повернули лошадей… Сергей отыскал Леденева — огневая его кобылица стлалась в ровном намете, как будто и впрямь не касаясь копытами снега, а за ним, вожаком, вроссыпь шли эскадроны, уходили обратно к Веселому. Лишь теперь Северин осознал, словно обратным зрением увидел, что Леденев хотя и многих повалил, но будто никого и не убил, не убивал: клинок смерчевым буравом проворачивался в его правой (или левой?) ладони и падал на казачьи головы и плечи уже не лезвием, а тупяком, парализуя руки, оглушая, ломая ключицы, но не рассекая — до легких, до сердца, до «души со всем потрохом»… ловил налетающий косный клинок и на отводе, резким выворотом кисти заплетал, выдергивал чужую шашку из руки… «Неужто жалеет? А может, как раз потому и жалеет, что может убить как никто? Устал убивать?..»
Он опять ощутил тот же властный, обессиливающий холодок вдоль хребта, неуемную дрожь совершенно животного страха и ни о чем уже не думал. На плечах у полка шла грохочущая, сотрясавшая землю лавина — рассеченные надвое, отброшенные было казаки, отхлынув, перестроились и, увидев, что красноармейцы бегут по всему уже фронту, покатились в преследование.
С конских спин — хлопья мыла и кровь. Со страшной быстротой летели встречь костлявые черные купы садов и низкие плетни окраинной левады. Леденев вскинул шашку, отмахнул ею влево и вправо и, возвышая голос до звенящей силы, вытянул:
— Дели-и-ись!
Сергей увидел черный, безучастный глазок орудийного дула, глядящий прямо на него, и в тот же миг рванул за Леденевым влево, едва удержавшись в седле. Словно рваные крылья летучего занавеса разошлись, обнажая леваду и трехдюймовые орудия красноармейской батареи, спрятанные в ней. Идущая вдогон казачья лава налетела на лопнувшую пустоту, оказалась распяленной на картечных струях — подломило на полном скаку, сорвало, опрокинуло наземь коней и людей…
Сергей ворвался вслед за Леденевым в хуторскую улочку и, выскакав на площадь, повернул к реке. Надсадившийся в рубке, окровавленный корпус уходил на ту сторону Маныча под прикрытием загрохотавших своих батарей.
— Пошел на ту сторону! — Северину в глаза ударил пустой и ровный леденевский взгляд. — Пулеметы на броды и шпарь по ушам. Да пешке, пешке не давай бежать, иначе до самого Дона укатятся.
Перед Сергеем залпом разлилась ледовая равнина Маныча. И как вода из полного ведра на половицы, бегущие полки ручьями выплеснулись на оловянно-сизый лед. Пространство шириною в три версты — в летучих россыпях подпрыгивающей гречневой крупы, в переносах зернистой поземки. Лед держал, но с прибрежных бугров, без дороги, съезжали на задах запененные кони, и задние врезались в них с наскока, сбивали камнепадом в реку и сами с визгом вламывались в лед, пробивая в нем черные звездчатые полыньи, ставя дыбом и переворачивая мокро-скользкие плиты, бились в дымной воде, уходили по шею, тонули.
Кипящим ознобом Сергей вспомнил Дон, купанье со Степаном в полынье… Монахов глазами толкнул его в реку: не бойся, слежу за тобой. И Северин уж было выпустил Степана на этот жутковатый скользкий блеск, но тут… Саженях в сорока правее, на самой кромке берега, захлопали винтовочные выстрелы. Десятка два конных — конечно, свои — рубили разбегающихся… пленных. Вчерашних, прошлым днем отправленных из Процикова в тыл. Высокий черноусый есаул, воздев над головою руки, закрывался от косо падающих шашек, хватался за лезвия, резался… и вот уж упал со всего роста навзничь, топыря красную на срезе серошинельную культю.
— Не сме-е-еть! Стой! Не сметь! — во всю силу горла и легких закричал на скаку Северин, но все уж было кончено, кончалось на глазах: просверленные криками черные рты, растущие в последнем ужасе глаза, разрубленные головы, располосованные лица, елозящие в судорогах ноги, прорывающие каблуками глубокие ямы в снегу… обрубки чьих-то пальцев с желтым блеском обручального кольца. Будто вчера еще, в ту самую минуту, когда он только ехал к этим казакам с предложением сдаться, судьбу их уже предрешило что-то надчеловеческое.
Сергей не слышал собственного голоса, кричал как во сне, как ребенок, которого забыли, отшвырнули, захлебывался визгом, как щенок в налитом водою тазу:
— Ответите!.. Судом Ревтрибунала!..
— Да все уж, кончено. Чего теперь шуметь? — ответил, вкидывая шашку в ножны, Чернобров, комэск из Третьего Калмыцкого полка, посмотрев на Сергея с каким-то вялым безразличием привычки. — Могет быть, зараз головы складём, а они, золотые погоны, будут землю топтать? Пущай их свои отобьют? Да я лучше сам лягу тут, а его, генерала, не выпущу. Революция и приказала, а ты думал — как?
Сергей онемел, мазнул помутившимся взглядом по трупам — и тотчас будто кто-то навел его глаза на резкость, как бинокль: шагах в четырех, повалившийся навзничь, лежал генерал Ивановский, которому он, Северин, вчера гарантировал жизнь. По крайней мере, суд. Одна рука была прижата к простреленной груди, другая откинута в сторону, протянутая, как за подаянием, будто показывая, что она чиста, по крайней уж мере, честна, гола, безоружна — что он, генерал, со своей стороны соблюл все условия. Во всей его позе было освобождение, как если бы он кончил мучительно-бесплодный труд. На известково-сером, высохшем лице с еще хранящими животный теплый блеск глазами застыла успокоенная, словно снисходительная, печально-ироничная улыбка, как если бы он знал, что этим все и кончится, и Северину не завидовал.
Близкий грохот разрыва сотряс воздух над головой, заставил Степана присесть, осыпал Сергея ошлепками снега. Он еле совладал с завившимся в дыбки конем, не сам стряхнув с себя оцепенение, а вырванный из морока вот этим потрясающим ударом.
Монахов, подскакав, рванул Сергея за руку, вонзил ему в глаза кричащий взгляд. Машистой рысью вымелись на слюдянистую полоску между прорубей, по которым еще клокотало колючее черное пламя.
Снаряды с клекотом и скрежетом просверливали воздух над Веселым, перелетали через головы бегущих, вламывались в лед, выметывали из воронок серые фонтаны, охлестывали всадников и лошадей ледяными осколками, брызгами, подрубали, купали, топили — крушили и крошили оловянный панцирь Маныча, ненадежную скользкую твердь, разверзавшуюся под копытами.
Шипастые подковы мало помогали, лошадиные ноги разъезжались на гладком, оплесканном льду, и страшными кругами расходилась под копытами темнеющая сквозь полупрозрачный лед вода…
На правом берегу увидел Леденева. Без папахи, с казавшейся мертвой, костяной головой и живыми глазами, он подымал в дыбы свою чудовищную кобылицу, обрушивал копыта на головы бегущих — и рубил!
— Стой, в бога мать, смитьё, огрызки! — Нет, шашка его лишь плашмя, тупыми ударами падала на плечи-спины-головы готовых хлынуть дальше, обтечь, стоптать его — имеющего наглость в одиночку удерживать поток, крестя обратно в веру, причащая, вбивая в невозможность выбирать, разве что между смертью животной и за революцию, как будто за последнюю дается человеку что-то, сравнимое по силе с воскрешением из мертвых. — Стоять! Как бляди продаете?! Братов своих мертвых, какие вам в спину глядят?! Своей шкурой глаза застелили? Ну уж нет, все по берегу ляжете! Либо мертвыми, либо живыми! Нашатать из вас мяса, осметки? Ну?! Кто?! Ты?! Давай! Зараз тут страшный суд, и другого не будет! Зараз в каждом из вас буду совесть искать и вынать вместе с потрохом!
Слетали с коней — своих исходивших дымящейся дрожью спасителей, — передавали коноводам и укладывались в цепь… Комбриги, полковые политкомы, Шигонин, Северин овчарками, борзыми рыскали вдоль берега, перехватывали, пресекали ручейки убегающих, шершавили наждачным криком глотки, размахивая револьверами и угрожая пристрелить.
Своих остановили быстро — из сотни бежал лишь десяток, остальных, вырывавшихся из подледного плена, в тот же миг и стреноживало, прибивало к земле вездесущее, привычное природное явление «Леденев», — но вся снежная степь, сколько глаз хватал, пестрела черной зернью бегущих пехотинцев.
«Под пулеметы», — вспоминает Северин… Шигонин идет от тачанок навстречу прибойному валу шинелей, винтовок, распяленных на издыхании ртов, стреляет из нагана в воздух, кричит во всю силу нутра: «Стой! Назад! Приказываю именем республики! Кто сделает шаг, пристрелю!» — слепой, безголовый табун кидает его наземь как тряпичного…
Сергей, мертвея от решимости, выкрикивает пулеметчикам прицел. Вкруг рыльца «максима» клокочет бледно-желтый ореол, чечетку стучат пулеметы, стеля над головами секучий повизг пуль, и человеческий прибой сникает, выдыхается…
— А ну назад! — кричит Сергей в трезвом, как ключевая вода, опьянении силой и властью. — Вот ты! Куда бежишь?! — хватает за ворот молоденького курносого парнишку с растущими от ужаса глазами и жалким кадыком на тонкой шее.
— Белые!.. Смерть в глазах!.. — верещит тот, как чибис. — Зараз всех порубают!
— Ты их видел?! — раздельно выкрикивает Северин, почувствовав, что голос его лязгает, как замок трехдюймовки. — Своими глазами видел, как меня сейчас? Отвечай! На каком берегу? На том или на этом? Отвечай!
— Слыхал! Небо падает! Ить пушками ужасть как лускают!
— Ах, слы-ышал… Сюда смотри — видишь? — Сергей на цепочке подносит к глазам паренька свои жилетные часы. — Держи! — протягивает рукояткой свой наган. — Даю пять минут, отмеряй. Увидишь казаков на этом берегу — стреляй мне вот сюда, — бьет пальцем себя в лоб.
Вырастая, стальнея, вдруг ощущает на себе чей-то осадистый, изучающий взгляд — саженях в двух застыл верхом как врытый и глядит на него Леденев, без одобрения и без пренебрежения, давно уж о Сергее зная все, подняв глаза, заваленные смерзшимися трупами — и теми, что остались позади, и теми, по которым предстоит пройти.
Казаки не пошли на изгрызенный и перемолотый лед, ища переправы на много верст выше и ниже, и замерзавшие лежмя вдоль берега красноармейские полки побатальонно и поэскадронно отступили в глубь степей и уже в синих сумерках откатились к Сусатскому и Воробьевке.
Это было поражение. Обширный плацдарм отдан белым с такой же быстротой, с какой был забран накануне, вся корпусная артиллерия — восемнадцать орудий! — либо брошена на берегу под Веселым, либо канула в воду. Людские потери страшны: под тысячу убитыми и утонувшими, почти две с половиной сотни ранеными. Но корпус был жив, сохранен — и Мерфельд уверял, что Павлов, командующий конной группой белых, довольствовался пирровой победой, имея превосходство в сотнях больше, чем двукратное.
Сергей нечеловечески устал и уже замерзал, но все не уходил в тепло натопленного куреня, ища среди красноармейцев Зою, лишь теперь и вернувшись к себе самому, одному, тому, кто расплавился в лаве, и вот с оборвавшимся сердцем увидел ее: невредима, не видит Сергея, как собака мослом, а вернее как кошка своей же занозой, увлеченная раненым, у которого стесаны ухо, щека, нет на правой руке косо срубленных пальцев…
В тот же миг показалось, что все это он уже видел: ее сосредоточенное, какое-то обыденно-безумное лицо с глазами, придающими прозрачность пустоты всему и всем, кто пытается втиснуться между нею и раненым… да, конечно, тогда над Шигониным… и тотчас понял, что еще не раз увидит ее вот такой, на коленях, с бинтами, и будет требовать, молиться, досаждать несуществующему Богу, чтоб увидеть ее невредимой.
Наконец он покинул седло и вошел в облюбованный штабом курень. Исподняя рубаха скоробилась от пота, пристала к телу и отламывалась, как кора от дерева. К Леденеву никто не входил — тот грелся кипятком и безутишно кашлял, на плечи его был накинут пуховый платок, а в вырезе свежей нательной рубахи мореным дубом отливали мускулистые шея и грудь.
Сергей сел перед ним, усильно поднял взгляд:
— Ивановского с офицерами… всех порубили… Я жизнь им гарантировал, я лично! — зашипел он, увидев, что Леденев не собирается на это отвечать и смотрит на него с усталой безнадежностью, с таким же вялым безразличием привычки, как и Чернобров. — Они мне поверили! Мне, красному комиссару! Хотя бы суд, а мы их как скотов… Да, это враги, но пленные же, пленные, которые нам с вами — мне! — поверили.
— Ну по суду-то, уж конечно, не так обидно умирать.
— Они нам поверили! Сдались, чтобы не было бессмысленной крови — чьи это слова? И что же, ее не было?! Еще и подлее пролили ее — из злобы бессильной, из мести… за то, что нас с Маныча сбили. А мы нашли еще слабей себя — хоть над кем-то мы сила!
— Ты смотри, понимаешь, — одобрил Леденев.
— Да что я понимаю?! Что с ними так и надо, а Извекова твоего — отпустить?
— А вот то самое, про слабых. Ты знаешь, за что их убили? За что вообще мужики и рядовые казаки офицеров кончают? Как революция взыграла, так и начали их по окопам давить — своих же братьев офицеров. К буржуям было больше снисхождения, несмотря что в енотовых шубах и обедают сладко. А офицеров не жалели, хотя у иных из имущества — тьфу.
— Ну так за что же?
— А за то же, за что и меня каждый третий боец революции с великим наслажденьем приберет, — сказал Леденев. — Тоже как и тебя, комиссар. Сегодня ты их удержал, назад на смерть погнал. У другого кого, может, и не пошли бы, а вот у тебя… За это-то, брат. За то, что мы с тобою можем их послать на смерть, а они нас — нет. Богатство чужое, хоромы, нужду свою батрацкую — все можно стерпеть. А власть простить нельзя. Отобрать невозможно, тоже и поделить, потому как всегда будет кто-то один, кто ведет. Убивать может даже животное, корова травоядная, и та возьмет да и попорет тебя рогом, тем более в стаде, а вот заставить человека умирать — на этом поле, брат, есть место лишь для одного. Какое уж тут равенство — меж рядовым и командиром? Ну убьет меня слабый, приведет приговор в исполнение или так, без суда, ради собственного удовольствия, — разве он у меня переймет мою силу? Нет, парень, сила так не достигается. Она как бабья красота. Твоя-то вон какая уродилась, — показал он глазами куда-то в пространство — на Зою, — а другая косая аль дурненькая, никудышная, словом. Никто с такой по доброй воле, разве что с голодухи. Как же их поравнять? Отрезать-то голову можно, а к шее своей приживить?
Сергей, не веря, слушал потрясенно.
XXVI
Декабрь 1917-го, станция Дебальцево, Екатерининская железная дорога
Ликующе, освобожденно ревут паровозы. Эшелоны с германского фронта, с Галицийских полей, из Полесских болот — на восток. В вагонах зеленых и синих, в теплушках — солдатские бороды, спанье друг на друге, давиловка, недели и годы окопов. Площадки, крыши, тамбуры вглухую забурьянели шинелями.
По железным путям взбушевавшейся, одичало-свободной России побежала солдатская кровь — своевольно, домой, к матерям, к детям, к бабам, изнемогшим без мужниной ласки, и к земле, стосковавшейся по хозяйским рукам. Прибывающей полой водой разбивают пакгаузы, лавки, склады винных заводов, выгребают табак, керосин, сукна, сахар, опиваются, тонут, горят в реках спирта. Уже на каждой станции кумачное полотнище взывает: «ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ Р., С. и К. Депутатов!!!»
Вокзал дебальцевский в ночи обложен рдяными кострами, захлестнут, запружен солдатским живьем. Махорочный туман висит под потолками слоистым серым сводом. Пол, как мякиной на гумне, засыпан окурками, черной лузгой. «Семечки жа-ареные!», «Подходи, господин-гражданин! Диагональный шевиот, трико в английском стиле!», «Асмоловские! Асмоловские!», «Подкладка чистый шелк — да ты пощупай. Дворянка носила, судьи мирового супружница…»
В базарном гомоне и давке, ловя мальчишек-папиросников, с налету ударяющихся в ноги, толкается высокий офицер. Да, офицер, которому бы лучше сжаться, как палый лист по осени, в комок, в смирение протянутой за подаянием старушечьей ладони. Но его видно издали, сразу — в курпейчатой папахе набекрень, в защитном полушубке с венгерскими шнурами, в гусарских краповых чакчирах с позументами. Да и если бы был в порыжелой шинели, в опорках — все равно бы магнитил косые, сторожкие взгляды, заостряя их злобой и потребностью выместить все былые обиды: офицер ведь угадывается по тому, как глядит человек, по тому, как идет, а уж потом — по остальному.
Погон на нем нет, но он чувствует их, словно выжгли таврами на нем. Через них-то, погоны, он и был пришит к миру. Чувство было такое: затрещат на плечах — и весь мир разойдется, слезет с плеч, словно ветхий зипун. Перепрыгнул в другую «среду», да, выходит, вот так и застрял на границе двух «классов», став чужим для солдат и не сделавшись равным, своим в офицерском сообществе. А теперь и подавно — кто он, чей, для чего?..
И как будто в издевку над ним, Леденевым, рванул хрипящие мехи трехрядки инвалид и завел нарочито надсадным, откуда-то из самого нутра идущим голосом, как будто злобно растравляя незаживающую кровяную боль, со сладострастием вмещая в песню-стон всю безысходную тоску по сломленной своей, пропащей жизни:
— Буду жить один на свете, всем ненужный, всем ничей…
Леденев протолкнулся под черное небо, глотнул живительный морозный воздух и услышал:
— Шомполов ему, мать его так! Как они нас гоняли…
У темной махины пакгауза, подсвеченной пламенем многих костров, с полдюжины солдат валтузили кого-то одного, от них неотличимого.
— Братцы! Вы же русские люди! — крикнул вдруг, хохоча, избиваемый, и моля, и, казалось, уже издеваясь над собою самим, и голос этот, интонация показались Роману знакомыми.
«Не ходи», — пробежал по хребту холодок, но он сделал шаг и другой: не то на показавшийся знакомым голос, не то уж злобная решимость подтолкнула — сродни тому изгальству над собой, что было в песне инвалида: пришибут — так туда и дорога, пропадай, раз ничей.
— А ну стой! — крикнул в спины, засовывая руку под полу раздернутого полушубка и сжимая шершавую рукоятку нагана.
— Гляди-ка, братцы, еще один вылез! — гоготнул коренастый солдат, с блудливо извивавшейся улыбкой выдергивая шомпол из-под черного винтовочного дула. — Иди-иди сюда, вашбродь, сейчас мы и тебе пропишем за компанию.
— Ты, братец, погодил бы акафист мне читать, — ответил Роман, идя на солдата. — Очень мне интересно, за что вы его? — и кивнул на упавшего в снег офицера, не разглядев его лица. — Растолковал бы мне, такому непонятливому.
— За что?! — Сипатый голос взвился в злобе. — На спину мою хочешь поглядеть, твое благородие? До сей поры не заплыла. До души просекли, на последнем суде гореть будет! Вот через это я и буду с вас, офицерьев, последнюю шкуру спущать.
— Я, что ль, велел тебя пороть? Иль, может, он?
— А ты будто добренький был? Голосок-то вон, слышу, прорезался — «смирна!». «Как глядишь, хам такой-растакой?!» А вот так я теперь и гляжу на вас всех — через нашу солдатскую жизнь, через шкуру свою. Ты на голос меня не бери — ты теперь убирай его, голос, а не то с горлом вырвем.
— Да что ты с ним, как поп на проповеди?! Станови его рядом, и вся недолга! — крикнул рыжещетинистый лопоухий солдатишка.
— А ну стоять! Сюда смотри, — тряхнул Леденев черным дулом нагана, наставленным от живота. — Из кого одного сделать двух? Вякнет кто до своих — зараз всех окрещу! Ты сначала послушай меня. Я офицером не родился, и пороли меня в батраках, надо думать, не меньше тебя. Боевые отличия — слышал такое? — кровью выслужил чин. Они ить, офицеры, тоже разные бывают. Ротный твой тебе шкуру дубил — так его и ищи поквитаться, а этого за что?
— Все вы, офицерья… — стравил сквозь стиснутые зубы коренастый.
— Ну, заладила сорока про Якова. Всех офицеров на последний суд? А ты кто? Господь Бог?
— Народ нынче судит! — вякнул плюгавый.
— Так и я вроде тоже из тех же ворот. Тоже, стало быть, право имею судить. Для чего революция-то? Я мыслю так, чтоб никого уж под горячие не клали. Виноватый — ответь, а ни при чем — иди своей дорогой. Если с властью Советов, конечно, согласный. А вы чего творите? Выходит, время ваше — так сами дурноедами заделались? Так чем же вы их лучше, тех офицерьев?
— Ты б наган-то убрал от греха, а, вашбродь? — попросил коренастый, впрыснув в голос угрозу. — А не то ить пальнешь — так и сам никуда не уйдешь. Вон нас сколько. Сдается мне по разговору, ты и вправду из нашего брата, да только больно круто заворачиваешь. Ну как тебя такого по маковке не приголубить? Ты б нынче, господин мужик, держал себя поаккуратнее.
— А что ж, и уберу, — ответил Леденев, — охота нам друг дружку гробить, когда до дома тьфу осталось. Только вы мне сперва офицера отдайте. Считайте, беру я его на поруки.
— А это ж по какому праву?
— Так я ить председатель полкового комитета, считай, солдатский депутат. Мандат показать?
— Чудной ты однако. Ить он к Каледину, как пить дать, пробирается. А может, и ты с ним туда же под энтот мандат?
— Ну а куда ж — на Дон и правлюсь. Рожак я тамошний, с-под Маныча. А что энтот к Каледину едет, — кивнул на сжавшегося сидя офицера и обомлел от неожиданности: точно! Яворский собственной персоной!.. — так ить ложкою моря не вычерпать. Казачьих эшелонов сколько пропустили? Да сколько офицеров с ними? Вот то-то и ба, что все уже там, кто на Советы зубы точит. Охота вам осметки подбирать?
— А ить и правда. Черт с тобой, проваливайте. Нынче уж все одно вашей воли, офицерской, не будет. Да уж смотри, не попадайся больше никому, а не то ить сведут в штаб Духонина, и на мандат не поглядят… — Солдаты сгорбленно, несыто, волчьей цепкой потянулись к костру.
А Леденев вцепился взглядом в Виктора.
— Рома… — выдохнул тот, растягивая рот в болезненной улыбке, словно стыдясь, что Леденев увидел его жалким и запомнит таким навсегда. — Скажи мне, пожалуйста, ты человек? — Со лба кривым, ветвящимся на переносице ручьем стекала кровь, тоскливо-изнуренные миндалевидные глаза смеялись.
— А то кто же? На снега чистого, утрись. — Леденев опустился на порожки пакгауза, взял пригоршню колючей снежной пыли.
— Не знаю. Божий зверь, Господень волк. Когда нужен, являешься, загрызаешь врагов… А ты чего полез-то? Клятву вспомнил? А может быть, из офицерской солидарности?
— Да шут его знает. Слышу, голос как будто знакомый.
— Ты смерти совсем не боишься?
— Почувствовать себя хотел. Я нынче будто недобитый. Был георгиевский кавалер, офицер, а зараз кто, и не пойму. Вон Ленин всю Россию требухой наружу вывернул: кто был ничем, тот зараз, вишь, свою волю диктует, а я, как мертвый, ни при чем.
— Да ты мою жизнь сейчас уберег — разве мало? Есть, есть в тебе сила — прав был Гротгус покойный. И время сейчас, Рома, тоже твое.
— Это какое ж время?
— Эшелон мы с тобой пропустили на Зверево — вот, брат, какое, — усмехнулся Яворский, отирая лицо и отшвыривая покрасневшую пригоршню снега. — Веришь, нет — трижды с поезда спихивали: а ну пшел, не возьмем, топай ножками. Ха-а-мы, — произнес он излюбленное офицерски-дворянское слово с наигранным остервенением, как бы тоном насмешки над собою самим, произносящим «хамы» с неподдельной ненавистью. — Тебя-то попробуй спихни. Да и свой ты им, свой, хоть какие погоны на тебя нацепи. И говоришь уже как Цицерон — тебе б на митингах…
— Так весь последний год только и делали, что языками чесали. «Слушали», «постановили». Пулеметных патронов столько не израсходовали, сколько слов понасыпали.
— Ах да, ты ж теперь председатель. И скольких же вы офицеров в своем комитете приговорили к справедливой каре, так сказать?
— А вот ни единого, — усмехнулся Роман. — Офицеров у нас до конца почитали. Полк такой — старой закваски. В царя-то, конечно, давно уж не верит никто, а их за что давить? Ить спины же друг дружке берегли. Не забывается такое.
— Никогда? — покривился Яворский.
— До сей поры помнили крепко. У нас в председатели Барбовича выбрали, самого командира полка, да тот отказался: я, мол, не Керенский, мое дело — рубить. А дальше, как временных скинули, — стена между нами, навроде могильной плиты. На том и распустились — офицеры своими путями и мы по домам.
— А ты-то куда?
— И я домой, как видишь. Пойдем уже — холодно, — сказал Леденев, подымаясь.
Протолкались в вокзал и уселись в свободном углу.
— Ты заметил одну удивительную особенность? — сказал Яворский, закурив. — Как только совершилась социалистическая революция, везде завоняло дерьмом. В парадных, на вокзалах, в поездах, из всех щелей. Столько было провозглашено человеческих прав, а человек прежде всего воспользовался лишь одним — повсюду навалить, где только сможет.
— Ну а в окопах, что ж, не так воняло?
— Ну и из этого, конечно, следует, что надо было то, окопное, дерьмо сюда натащить — в свой собственный дом? — усмехнулся Яворский.
— А по-твоему, что же, в себе надо было держать? По мне, так чем народ кормили, то нынче из него и полезло. В том самом и держали господа нас по самую ноздрю — чего ж теперь дивиться, что каждый говном норовит заплатить?
— А-а, это получается по-твоему, народ из праведного гнева нынче гадит? И пачкая говном господские ворота, тем самым воскуряет фимиам своей свободе? Не пойму я тебя, Рома. Ты что же, и впрямь в большевистскую веру крестился?
— А тут уж крестись не крестись, а все одно теперь по-старому не будет. Любого возьми, кто сытым отродясь себя не помнит да собственной земли не видел ни куска, — он нынче равенства потребует. Земли, а чего же? Со всякого, стало быть, у кого ее много. Не отдадите — сами заберут.
— Загадка ты, Рома. Сам для себя загадка. С одной стороны, ты будто за равенство, с другой же — упорно цепляешься за все, что возвышает тебя над остальными. За силу, за власть. Ты хочешь других подчинять — потому-то сейчас и пошел на толпу в одиночку. Почувствовать себя, как ты удачно выразился, потому что без власти ты и вовсе не ты. И что самое главное, ты имеешь естественное, прирожденное право на власть. Есть люди, рожденные повелевать, но это по крови не передается, верней передается не всегда, неважно, кто ты — дворянин или мужик. А есть, наоборот, такие, которые самой природой предназначены повиноваться, ходить в ярме… да-да, в ярме или в строю, что несколько облагораживает человека. И этого-то, брат, неравенства никто и никогда не выправит, как землю ни крои и барские усадьбы ни загаживай.
— А уж себя-то ты, конечно, господином полагаешь. Не хочешь отдавать ни власть, ни землю. Потому и на Дон пробираешься?
— Припозднился я на Дон. Видишь, как провожают меня. Надо было мне раньше решаться — целее бы был. А все почему? Все потому, что много думаю, как наш Извеков говорил. Уж он-то не колебался. С Корниловым был с первых дней. Корнилов как узнал про наше героическое бегство, так сразу всех к себе и вытребовал — и Женю, и меня, и Темира со всеми текинцами.
— Так, стал быть, вы вместе…
— Физически вместе, а вот душою, брат… Мы в Быхове сидели под арестом вместе с Лавром Георгиевичем, а Темир сторожил нас: когда бы не он, то есть не его Текинский полк — солдатня бы нас там на штыки подняла. Для них, текинцев, так все просто, что аж завидно мне. Корнилов — повелитель, князь, улла бояр, и все они пойдут за ним в огонь и в воду. Помнишь, как говорил Бек-Базаров? Кто кинет клич за воскрешение царя из мертвых, за тем и пойду. А я, брат, все думал. За что воевать? Есть у меня такое право, а главное, смысл — цепляться за власть, за имущество, за отцовскую библиотеку? Ты ведь тоже хотел почитать наши книжки. И тоже, разумеется, имеешь право — к свету знаний тянуться. А голодные — требовать хлеба. Мужики — передела земли. Рабочие — заводы. А раз мы собственный народ не слышали так долго, то, пожалуй, и вправду теперь по заслугам в дерьме.
— Так зачем же ты едешь? — перестал понимать Леденев.
— Я, Рома, не приемлю равенства. Да и не я — меня никто не спрашивал, устраивает ли меня Господнее творение. Сама природа не приемлет, создав людей вот именно неравными и обрекши овец на закланье волкам. А я всего лишь исполняю ее волю, я жить хочу так, как дано мне. Царем — так царем, коль рожден таковым, а рабом — так рабом. Ты пойми, все равно же придется кому-то рабом жить. Это несправедливо, но у природы нет для человека справедливости. У нее есть как есть. А большевики хотят идеала. Они всю жизнь, какая есть, не любят. Не принимают Божий дар. Хотят Создателя подправить. «Весь мир насилья мы разрушим…» Изнасилуем жизнь. Мы, дворяне, конечно, секли народ розгами, да только разве тою розгою достанешь до хребта, переломишь его, хворостиной-то? А они с ваших спин розги сняли, а наложат уж молот железный. Перековывать будут, пока кости не треснут.
— Нас зачем, мужиков? — засмеялся Роман. — Они, большевики, неужто сами власть забрали? Да кто они такие, чтоб самим? Народ и вознес, потому как увидел: вот-де кто понимает нужду и рабочего, и мужика.
— Ты, Рома, прав, но ты и ошибаешься. Вот как раз мужика-то и надобно перековать. Ну вот смотри: вы, мужики, сильнее нас, дворян, к природе вы ближе, а если вы ближе к природе, то и к неравенству вы ближе тоже. Вы, брат, на самом деле много больше, чем мы, эгоисты. Мы ведь последние сто лет искали идеал, всё думали о том, как жизнь переустроить, для всех лучше сделать. Прогресс избавил нас, аристократию, от дела выживания, от каждодневной драки за свои естественные интересы, которые у нас такие же, как и у вас. Мы оказались в положении волков в зверинце — разучились охотиться, попали в полную зависимость от вас, мужиков, которые все это время прокормляли нас, даром что наша клетка была золотой, а вы недоедали. Вы нас освободили от борьбы за жизнь, а человек, свободный от нужды, начинает витать в эмпиреях, ну то есть думать слишком много, что он такое и зачем пришел на землю. А кто много думает, тот уже мало держится за жизнь. А вашим, Рома, смыслом как было, так и остается выжить, бороться за хлеб, а там и за лучший кусок. Мужик ведь жизнь руками щупает, своим животом понимает ее, через хвост своего же быка, и он этот хвост так просто не выпустит. Он, может, и не против, чтобы у соседа-бедняка коровенка имелась, но только своей-то коровы ему не отдаст. Коль корова одна — как ее поделить? По Соломонову решению — шашкой напополам? Коровы нет ни у кого — обоим не обидно. Равенство! Так много ли ты знаешь мужиков, согласных на такое равенство? Свое отдать и пользоваться общим… ну, вот как-то по очереди? Так что это не нас, а вас, мужиков, переделывать надо. А уж тебя, мой милый, и подавно. Любого, кто хотя бы на единый волосок возвышается над средним уровнем, над слабейшими, над заурядными, надо всеми обиженными. Ну а кто не обижен — вокруг погляди. Ведь каждый на свой лад несчастен: я вот в дикой природе, пожалуй, и дня бы не выдюжил и до России бы из плена никогда не дошел, когда бы не было тебя. Ты, брат, мне можешь голову срубить, а я тебе нет, так, стало быть, я уже оскорблен твоей силой, а ты, в свою очередь, обижен моей образованностью. Ну вот и будут нас большевики равнять — через такую, может, кровь, какую мы, смешная горстка паразитов, и за тысячу лет из народа не высосали. Крови ты не боишься, кровь — твое ремесло, е-сте-ство, а себя потерять, со своим естеством — насчет этого как? Ты согласен, чтоб каждый себя потерял, такого, каким его создал Господь? Пойми, что ненавистное тебе неравенство необходимо для существования всего и вся. Мужик пашет землю и тем и хорош, что он на своем месте. Мы — ваши захребетники, но именно наша в шести поколениях сытость и дала нам возможность понимать красоту.
— А ежли бы все были сытые, тогда бы все и понимали.
— Слыхал ты, в Петрограде толпа громила булочные — так все пирожные Трамбле, и сливки-шашечки, и ромовые кексы растоптала. Они ведь хлеб искали, черный хлеб. Спрос на возвышенное возникает лишь тогда, когда все сласти в булочной уже перепробованы, когда ты, и попробовав, и обожравшись, можешь их презирать. А для народа вся культура — это граммофон и чай с лимоном на балконе. Для вас культура — это чтобы как у нас. А у нас, брат, не это, не кисейные зонтики и не пожарские котлеты в кружевах, не одно только это. У нас «В небе ли меркнет звезда…» и все прочие тихие песни. И мы бы и хотели с вами всем этим поделиться, но это так быстро не передается — легче воду носить в решете. Не будет нас — никто не понесет и никому не передаст. Ты знаешь, почему нет рая на земле? Потому что в раю никакая уж жизнь не была бы возможна. Жизнь, Рома, была, есть и будет тяжела и страшна. Для всех, для голодных, для сытых, потому что и сытым приходится умирать. Иначе бы не было смысла — ни боли, ни счастья. Никто бы уже ни к чему не тянулся. Не рос. А этого не надо. Природе, Богу не надо, ведь не расти, брат, — это смерть…
Яворский наконец-то выдохся и, заглядывая Леденеву в глаза, как смотрит зверь на человека сквозь решетку, показалось, уже безнадежно спросил:
— Поедешь со мною на Дон?
— Так вроде уж едем.
— Ты понял, о чем я.
— Что, без меня уже не войско?
— Да как тебе сказать… За кем мужик пойдет, того и будет верх. А мужик пойдет за такими, как ты. Куда ты поведешь — к нам, офицерам, иль к большевикам. Сказал же: твое сейчас время. Не понимаешь? Да все ты понимаешь, как собака, сказать только не можешь, извини. Ты еще не решил, за кого ты, а все уже делаешь правильно — ты мне это сейчас показал. Сейчас, братец, время народных вождей. Людей сильной воли, которым инстинктивно подчиняется толпа. Кто был ничем…
— Так это у большевиков, — засмеялся Роман. — У них берутся люди бог знает откуда — кого рабочие, солдаты выбирают. Стал быть, мне, если так рассудить, надо к ним прибиваться.
— Не сегодня, так завтра и мы осознаем потребность в вождях из народа. Ты что же, думаешь, Корнилов привлечет к себе кого-то, кроме горстки офицеров? Ты думаешь, сорок казачьих полков устремились на Дон воевать за царя или, может, за старый порядок? Да домой побежали они, к бабам, к детям, к земле, о чем всю войну и мечтали. Да половина казаков, а то и большинство сейчас за Ленина. Большевики им обещали мир, немедленный и окончательный, а Корнилов за старое — за войну до победного. Казакам это вот где.
— На что же вы надеетесь?
— Надеяться нам, Рома, не на что. Разве только на ваше прозрение. Погляди: нынче все вон вокруг обнимаются — казаки с мужиками, крестьяне с рабочими, — только нас отовсюду и гонят, как бешеных собак. А вот начнут большевики свои порядки устанавливать, протянут к казачьим владениям руки — тогда и начнется. Встрепенется казак, встрепенется хозяин зажиточный: дорогие, родимые большевички, что ж вы делаете? Мы вроде так не договаривались, чтобы землю у нас отбирать. Очнутся, да, может, уж поздно. И наша беда — что мы вам ничего не можем объяснить. Не нам, изнеженным салонным мастурбаторам, заклясть народное восстание. Вот и выходит, что какой-нибудь неглупый есаул из простых казаков или выбившийся в офицеры мужик может больше, чем все генералы. Ты, Рома, можешь говорить с народом на его языке — о земле, о мозолях, о хлебе. Ты сила, магнит, за тобою пойдут. Ну, скажи что-нибудь.
— Да вот думаю, зря тебя выручил. Не знал, что агитацию такую разведешь. Одно знаю твердо: за казачье имущество убиваться не буду — изо всей их земли ни куска моей нет. Они мне родня — что волку собака. Свое добро пришли стеречь, а мне бы свой кусок, наоборот, урвать, уж коли на то пошло. Да и не пойму я тебя. Вот ты вроде винишься, что мужика за человека не считал, нос от нас воротил, а тут же и обратно выворачиваешь, что мужик для тебя все же не человек. Страшный, темный, глупо́й, вроде дикого зверя, который за тобой погнаться может да задрать. Дать такому права, а тем более власть — и он собой, как сорная трава, всю землю заплетет. А кто ж ее пашет? Не мы, мужики? На чем вся ваша красота стоит? А ты как рассуждаешь? Ты, мол, и рад бы с нами поравняться, да уж где нам понять всю твою красоту?
— Ну вот и ты обижен, брат, и требуешь равенства там, где его быть не может. Ты уж прости меня, но по сравнению со мной ты и вправду невежественен. Ты кончил церковную школу и с грехом пополам знаешь русскую грамоту, а хочешь понимать стихи… да и на что тебе стихи — тебе давай стратегию, фон Шлиффена и Мольтке-старшего. Хочешь, дам тебе книжки? Да я бы рад, только боюсь, что всю мою библиотеку в Петрограде давно уже на самокрутки извели. Все, Рома, нету книжек. Вы не стихи хотите понимать, а чтобы их никто не знал и не читал. Чтобы не было нас, понимающих.
— Ну вот, — сказал Роман уже со злобой, — опять мы не люди, а ты человек. Об чем разговаривать далее? Погоны-то я выслужил, а своим вам не стал. Вроде и с уважением, да все кубыть испачкаться боитесь, за ручку со мною здороваясь. Кажись, и на равных, а все как с уродом на ярмарке. Смотрите, мужик, раскоряка вонючая, а вот ить тоже офицер, порядочно служит и даже разговаривать умеет, один раз высказал неглупое суждение — примерно того же порядка, что и мы в юнкерах. Э, господа, да он почти как мы. А я не хочу быть «почти», и кончим на этом.
— Нет, ты послушай. Ты человек самолюбивый, ты хочешь развиваться, постигать и достигать. Но ты хочешь все и немедленно. А так не бывает. Командовать взводом и даже эскадроном, думаю, ты можешь, разворачивать строй и равнять по уступу, но можешь ли ты карту начертить — в двухверстном масштабе и радиусом двести километров, считая центром круга и так далее? И ты хочешь быть равным? Кому? Барбовичу своему? Брусилову? Пускай отдадут тебе полк, дивизию, армию, фронт? И ты покажешь миру невиданную красоту? Нет, милый мой, на этом уровне ты слеп, как народившийся щенок.
— Это я у вас щенок, а попаду к большевикам, так у них буду зверь пострашнее волка, — сказал Леденев не шутя, не то чтобы бесповоротно убежденно, а как бы сам вникая в смысл сказанного, в путеводящий голос своей темной крови.
— К Тулону, значит, своему идешь, — сказал с какой-то жалостной покорностью Яворский. — Так что же, конец клятве, Рома? Распался наш союз, неразделим и вечен? Еще раз встретимся — так все уже, врагами?
— Поглядим, когда встретимся.
Спустя два часа оба влезли в вагон эшелона, идущего на Миллерово.
— Ты сказал: к бабе едешь. Это была фигура речи или правда к жене? — полюбопытствовал Яворский, притиснутый к Роману носом к носу.
— Правда. Сам удивляюсь.
— На ком же женился? Не на той ли сестре милосердия? Ася, кажется, да?
— Опять угадал, — ответил Леденев, и сердце у него сдвоило.
XXVII
Февраль 1920-го, Нижний Соленый — Маныч-Балабинский, Кавказский фронт
Слепящей, как полярная пустыня, снежной степью, глубокой балкой пробирались к югу пятеро понурых верховых. Измученные кони по колено проваливались в снег, но эти седые от инея, как будто потерявшие рассудок, давно уже забывшие о цели своих странствий пилигримы все ехали и ехали по балке, не поднимаясь на поверхность и минуя разбросанные по степи хутора.
От левого берега Дона до самого Маныча господствовали красные, и на папахах этих пятерых, само собою, были алые приколки и эмалевые звездочки.
— К черту все! Уйду на тот берег, — не вытерпел один с красивыми печальными глазами, казавшимися непомерно большими на длинном и худом лице. — Спасайте без меня свою царевну, таскайтесь за ее хрустальным гробом, пока не околеете. — Лицо его неживо отливало синевой щетины, зубы мелко выстукивали. — Ну сколько еще можно в казаков-разбойников играть? Бегать рысью по стрелкам, которые нам этот Ангел на снегу изволит начертать?
— Вольному воля, — ответил ехавший с ним наравне. — Один черт к Манычу идем.
— Но ты что-нибудь понимаешь? — спросил Яворского Извеков. — Почему он погнал нас на Маныч? На какого же зверя? Да и какая, к черту, может быть засада? Ни времени, ни даже места, в сущности, не знаем. Ждать сутки — не дождавшись, уходить — это что за приказ?
— Ну, видимо, наш Ангел тоже пессимист и полагает, что скорее красные заберут Егорлыкскую, чем мы потечем вспять на Дон.
Смерклось неуловимо, словно все на минуту заснули в седле, а открыли глаза — небо трупно темнеет. Балка вывела к берегу, в непролазный матерый камыш. Лазутчики спешились, повели лошадей в поводу, пробиваясь сквозь бронзово-желтые, бахромчато обыневшие заросли с как будто обугленными меховыми метелками и свалявшимся в паклю коричневым пухом. Камышовые стебли были жестки, бодливы и ломки — мертвы, будто впрямь понимающие про себя что-то главное, чего никакой, кроме смерти, ценой понять было нельзя.
В полуверсте правее, слезясь, замигали разрозненные огоньки куреней — хутор Маныч-Балабинский. Сторожа каждый звук — только северный ветер тянул свою волчью заунывную песню да камыши звенели жестяно, — они подобрались к стоящей на отшибе рубленой громадине.
Общественный амбар давно уж пустовал — катавшиеся через Маныч красные и белые опорожнили все лари до зернышка. Замок на воротах был сбит. Завели под тесовую крышу коней. Яворский чиркнул зажигалкой и склонился над закромом:
— Поглядите, Ретивцев, вот тут.
Угрюмый подхорунжий с горилльими бровями и отросшей бородой погрузил руки в трепетно освещенные недра, откинул мешковину и начал подавать наружу: керосиновый фонарь, туго набитый вещевой мешок, распухшие патронами подсумки, торбы с ячменем. Затем он вытащил тяжелый длинный сверток и в грязно-желтом свете фонаря, зажженного Яворским, распеленал лоснящуюся вороненую трубу с похожими на козьи ноги сошками. Огладил льюисовский пулемет, снял крышку со ствольной коробки, поклацал затвором, проверил подающий механизм. Друг за дружкою взвесил три похожих на торты черных рубчатых диска.
— Еще пару таких игрушек, — усмехнулся Извеков, — и можно целый полк остановить. Может, твой Ангел хочет, чтобы мы тут весь корпус удерживали, как Леонид под Фермопилами?
— И, кажется, не на пустой желудок, — ответил Яворский, усевшись спиною к ларю и доставая из мешка консервные банки. — Чувствую себя не то именинником, не то приговоренным к эпическому подвигу. Налетайте, господа.
— Сдается мне, наутро из Соленых сюда прибудет лично Леденев — его и встретим на протоке, — сказал молчавший всю дорогу Нирод.
— У вас, барон, с Ангелом как будто спиритическая связь, — усмехнулся Яворский.
— Но подождите, господа, а как же девочка? — вмешался сотник Беленький, распотрошив коробку папирос и с жадностью закуривая. — Само собой, не худо было и красным карамболя загнать, но лично я тут не за этим.
— А вы, значит, ради червонцев? — сцедил сквозь зубы Нирод, даже не посмотрев на него. — Что ж, так и быть, напомню вам: за Леденева двести тыщ дают, и за живого, и за мертвого.
— Все купите, Беленький, кроме родины, — заверил Яворский.
Ретивцев навьючился торбами и пошел накормить лошадей.
— Нет, вы подумайте, какая прозорливость, — перескочила мысль Беленького. — Леденев в страшной панике отступает на Дон, а этот Ангел оставляет нам вот тут свои подарки. И почему же здесь, в Балабинском, а не, допустим, в Спорном? Либо он полагается лишь на удачу, на этого бога безумцев, либо он большой чин в штабе красных и не только все знает, но и может приказывать касательно маршрутов, размещения частей и подобного прочего. А вообще, вы только вообразите: каким же самообладанием должен быть наделен человек, чтоб вот так, день за днем, наяву и во сне притворяться для красных своим. Каждый миг видеть эти поганые хари, беспрестанно смотреть им в глаза, гоготать вместе с ними. А главное — стрелять в нас, господа. Не обязательно в бою, уж коли он штабной, но есть же и пленные. Да в каждом хуторе они творят расправы. Над казаками, стариками… Так что же, и ему участвовать? Ну хорошо, не самому стрелять, хотя это у них проходит по разряду полового удовольствия и настоящий комиссар без этого не может обходиться. Так что, по крайней мере, держать себя в руках, глаз не сметь отвести, смотря на эдакую мерзость.
— А он, вполне возможно, и не притворяется, — сказал Яворский. — Проникся духом революции до самого мозга костей. Насыщенный раствор — и он проспиртовался в нем, хлороформировался.
— Ну это, знаете ли, уж душевная болезнь.
— А что ж, и болезнь. Слыхал я об одном австрийском шпионе, не то двойном, не то тройном агенте. В горячечной рубашке кончил — материалом для Фройда. Расщепление личности. Был то швейцарским коммерсантом, то французским офицером, и при том многоженцем, счастливым отцом и под каждой личиной свято верил, что он в самом деле есть тот, за кого приходилось себя выдавать. Верил так, что и имя свое настоящее, мать родную забыл. Оно и понятно: первым делом себя убеди — тогда и вокруг все поверят.
— Зачем? — спросил Извеков, не отрывая от Яворского какого-то уж ненавидящего взгляда. — Да, нация больна, мы-то сами и предали своего государя, генералы, лейб-гвардия — первыми!.. и кровь его на нас. Но тут другое, Витя. Тут кровь уж даже не монаршья, а своя, родная. Это уж, получается, волку от своей же породы отречься да зажить по-собачьи, продавшись за кость. От братьев своих — казаков, от мертвых всех отречься. От родного отца, от всего неотрывного, что с материнским молоком, с самим дыханьем жизни всосано… вот именно от рода, от фамилии, даже от собственного имени, от себя самого целиком — это может твой Фройд объяснить?
— Мало цельных людей нынче, Женя, осталось. Человек целен лишь до поры — когда не одинок, подперт со всех сторон единоверцами, громадой их веры во что бы то ни было, а главное, до той поры, пока его к стенке не поставят. У стенки ведь каждый остается один. И хочет жить — ну хоть еще минуту, и еще один час, и еще — и ради этого любую веру примет.
— И что же, так каждый, кого ни возьми? Животный страх, смертельный ужас, а больше и нет ничего? — спросил Извеков с отвращением.
— Ну почему же? Есть душа. Ты, верно, склонен полагать, что каждый человек всю жизнь живет с одной душой — с одним в ней Богом или дьяволом. Что веру свою можно только предать, прожрать, обменять на паек — или уж сохранить в первоначальной чистоте. Меж тем практически в любом из нас одно написано поверх другого. Как там у твоего разнелюбимого Некрасова: «Что ему книга последняя скажет…» И это не значит, что в руках сатаны мы более податливая глина, чем в руках у Бога. Бывает и наоборот. Дремучие-то наши предки деревянным болванам молились и даже человеческие жертвы им, по некоторым слухам, приносили. Ну и чем же не строгие принципы были у них? Тоже вера. Но просиял с горы Фавор иной, бессмертный свет, дошел до них спустя столетия — и приняли Христа.
— Ты хочешь сказать?.. — задохнулся Извеков.
— Не хочу, но придется. Большевики несут народу новую религию — безумную, нелепую, но все-таки религию, да и какую: поверь не в Христа, а в себя… в себя, как в Христа, вернее как в Бога-Творца, пересоздай Господнее творение, да так, чтоб вышло лучше, чем получилось у Него. И многие уверовали — не в хамскую потребность заграбастать чужое, а именно в возможность иного бытия. Кому же, как не русскому народу, уверовать в такое? Нам же вечно потребно, чтобы было еще как-нибудь, лишь бы только не так, как дано. Все бы нам взять Царьград или Китеж сыскать. Все знают: невозможно — но мы невозможностей не признаем. Да весь казачий Дон был порожден вот этой русской тягой к невозможному. Опять ты скажешь — наваждение бесовское, безумие, да и сам я безумен. Ну да. Да только какой уж с безумного спрос? Мы нынче уж все невменяемые. Нас бы, конечно, под холодный душ, да только где же его взять, когда вся Россия в крови по ноздрю?
— Так что же, по-твоему, — кончено? Как варварам Рим, так и мы отдадим — Россию, Христа? И эти наши Фермопилы завтрашние лишь отодвинут срок, ну, так?! Осталось только умереть, чтоб не видеть, во что превратится Россия? Ах да, я забыл, ты у нас развлекаешься.
— Да, Женя, я развлекаюсь. Ты знаешь, порою мне кажется, эта война — всего лишь продолжение наших детских игр в краснокожих и бледнолицых. Просто мальчики, читавшие Майн Рида и Купера, немного подросли.
— Мужики этих книг не читали. Половина из них вообще не умеют читать.
— Тем не менее, Женя, они-то и есть краснокожие. А мы с тобою белые колонизаторы, принесшие им своего Христа в обмен на все их золото — то есть на вечную покорность в услужении у нас. Индейцев этих много больше нас, и у них больше веры. Ты все еще не понял, почему? Я тоже долго не понимал. Леденев объяснил — на станции Дебальцево, в семнадцатом году, после того, как спас меня от своих разъяренных сородичей, ирокезов с германского фронта. Давно было сказано, да я не сразу понял. Он мне тогда сказал: для вас, господ, я не человек, для вас я почти человек, а я не хочу быть «почти». Понимаешь? В чем наша главная ошибка? Всей нашей литературы русской, которую ты ненавидишь? Писатели наши, все как один аристократы, жалели народ свысока. Вот именно что не отказывая индейцам в благородстве. Все эти Матрены Корчагины, Герасимы немые и прочие Платоны Каратаевы — она, литература, им жалость подавала, как копеечку. Взгляните, как красива эта девка, да только навозом воняет и луком изо рта. Взгляните, как храбр вот этот солдат, но, боже, какая же тупость в глазах — быть может, потому-то он и храбр, что дурак, животное, не понимающее, что такое «я» и что меня, ме-ня сейчас убьют. Мы даже крепостное право отменили с нюхательной солью и закрываясь от освобождаемых надушенным платком. Не знали запаха земли, которую они пахали, и презирали ее вонь. И вот пришли большевики и объявили, что народ-то и есть царь всего. Это он, Леденев, — человек, и один только он, а мы с тобой не люди, истреблять нас — такое же естественное дело, как истребление солдатских вшей, амбарных крыс. Народу было сказано, что он — единственный доподлинный творец истории, что он может построить на русской земле что захочет. Останутся их имена. И мы хотим, чтобы народ не верил в это, чтоб он пошел за нами — назад в наше непризнавание его человеком, таким же, как мы сами, человеком?
— Но этого же мужика и уж тем паче казака, объявленного человеком, сейчас по всей России, как баранов, режут!
— Ну а мы ему что предложили? Народ, что за нами пошел, давно желает знать: а как с землей? От коммунистов разорение и смерть — это мы теперь поняли, — а от вас, генералов, нам что? Землицы бы, батюшки. А батюшки суют им тот же кукиш, вдобавок перемазанный в крови. Все будет по-старому. С Богом. Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали. А мужики как братья — даром — больше не хотят. Что их потом большевики обманут, так это ведь потом. А нынче, брат, вера. Дошли до Москвы, оглянулись, а за спиной-то снова никого. Опять одни триста спартанцев — дроздовцы-алексеевцы-корниловцы. Разбрелись мужики, почесавши в затылке, — кто к Махно, кто под красное знамя — за землицей и волей. Вот тебе объяснение шкурное.
Фляжка водки была уже выпита, мясные консервы и хлеб подъедены наполовину. Нирод окаменел, провалившись в себя, и уснул, Ретивцев и Беленький тоже, а Извеков с Яворским все сидели во мраке, курили, мигая рдяными зрачками папирос, подолгу молчали и редко перебрасывались фразами.
— Ты хочешь убить его? — спросил Извеков таким тоном, как будто лишь с ответом старого товарища мог осознать, чего он хочет сам.
— Один раз уже пробовал. Дюже было на душе погано. Нравится он мне. Совсем как Халзанов, — подавился Яворский смешком.
XXVIII
Январь 1918-го, Багаевская, Область Войска Донского
Глубокой осенью 17-го года в богатые станицы низовских округов стали возвращаться с фронта казаки. Эшелоны 16-го Донского полка с гадючьей скоростью тянулись через Украину и подолгу стояли на станциях, сопротивляясь всем попыткам красной гвардии разоружить их и не выдавая своих офицеров.
Произведенный в подхорунжие Матвей Халзанов смотрел на все происходящее с тоской стыда и собственной потерянности. Весь год на глазах его рушилось все, что любил, — красота войскового порядка и железная слитность под единым началом. Испарился тот страх, что в казаке сильнее страха смерти, — страх ослушания, неисполнения приказа. Бояться стало некого, стыдиться стало не перед кем. Царской власти уж не было, а воля «временных», ничем не освященная, была так уступчива всем настояниям солдат и казаков, что и волей ее не назвать.
Бросали посты, караулы, коней, стекались на митинги пьяными и под гармошку. Стеснившись рог к рогу, внимали ораторам: с давящим каменным молчанием, с загонным, как на зверя, свистом — заезжим комиссарам Временного, холеным, гладколицым; с одобрительным гомоном, ревом — обтрепанным солдатским депутатам, говорившим нескладно, но истово, хватающими за живое словами:
— Братья казаки! Которые вам командиры говорят, что нужно идти в наступление, так вы их не слухайте! Солдатский комитет печатает, чтоб не было нигде по фронту наступления. У немцев против нас наставлено до десяти рядов рогаток и ток по проволоке пущен. Пулемет к пулемету через каждые десять шагов. Только выйдем до их заграждениев — тут-то нас и побьют.
— Верна-а-а!
— Довольно наступали! Теперь наступать только до дому!
— Обрыдло в окопах! Пущай сами идут вшей покормят!
— Каптера сменить! Одежу сносили до дыр! Все тело видать, как скрозь сткло! Босые ходим, казаки! Срам нечем прикрыть!
— Шинель из грязи сделанная! Она и новая-то ровно из назьма — аж пар идет, дыхнуть противно. Не иначе с покойников сняли али делают так хвабриканты.
— Айда к цейхгаузу, браты! Разбирай себе новую справу!
— Верна-а! Сами возьмем!..
— Пусти, зятек, добром прошу. А то айда с нами — и ты себе обновки зараз справишь! — Оскалив зубы, Гришка рвал рукав из Матвеевых пальцев. — Или что, благородием стал — на братов своих будешь кидаться, чисто кобель за генеральское добро?
— У себе же самих и крадете! Свиньи, хуже свиней! Вразнос пошли — ни в чем уже тверды не будем! Не офицеры вас, а комитеты под расход подведут.
— Ты б такое потише гутарил, зятек. Это мы тебя знаем, а чужие-то не поглядят, кто ты есть, стопчут враз, потому как слова твои дюже обидные.
— Ты казак или нет? Присягал?
— А то кто же? Казак. Вот и воля теперь, стал быть, наша, казачья — не дадим над собой измываться. Ты-то только с побывки, зятек, — заслужил, спору нет, — а другого спроси, когда он дома был последний раз. Кровью ить изойдешь — баб своих не ласкать и детишков не видеть. Я ить, брат, и забыл, какая она, баба. Маныч свой разродимый забыл. Эдак можно с живым человеком? А ты нам — «свинья»!
Сбивали замки, срывали шинели пластами, швыряли наружу грохочущие, дегтярно пахучие гроздья сапог. Рубахи бязевые, сподники, как бабы на ярмарке, щупали. Все в новое оделись, и бантами кумачными казачья толпа зацвела.
К концу ноября солдаты бросали позиции целыми ротами и даже полками, расхватывали полковое имущество, глумились над своими командирами, постреливали офицеров и валками катились на родину.
Халзанов задумался о силе единоначалия — откуда берется она, как рождается, в ком? Всегда же находится такой человек, которого слушают все, который одним своим голосом, взглядом, словами — по сути, никем не подпертый, один! — всех понуждает замолчать, остановиться и даже прямо посылает тысячи на смерть, и все покоряются, молча идут, со страхом перед этим вот одним, необъяснимо властным человеком. Каким же надо быть, чтоб превратить взбесившийся табун в чеканный строй? Что должно быть внутри? Может, главное — это никого не жалеть? Не слышать жалоб, стонов, требований отпуска, не слышать ничьего отдельного «хочу»? Быть может, надо самому стать страхом смерти? Не улещать, не уговаривать, не совестить, а сразу убивать? Что, если только страхом смерти и можно погнать человека на смерть? «Самому страх забыть, что убьют, непременно убьют. На пулеметы ить ходил и не робел. А тут чего бояться? Что — свои? Да этих же своих и загребут с навозом немцы — не построй эту росхлябь сейчас…»
И живо представлял себе, как встает на пути у толпы, садит в воздух, тычет ствол револьвера в прозревшие лица с еще не стертыми блудливыми улыбками, все продолжающими извиваться, как раздавленные черви: «А ну стой! Кому первому?! В черепки поколю!»… Нет, немыслимо. И не в том даже дело, что в землю втолочат.
Смотря на собственную сотню и весь полк, он вспомнил Дон, каким его увидел в последний раз, когда приехал в отпуск. Весной семнадцатого года был такой разлив, какого он, Матвей, не видел в жизни, а бабка Авдотья поминала далекую молодость — год, когда и отец не родился. Ох уж и накупало Багаевскую, и выше, и ниже по Дону станицы. Напитанный влагою снег разом ссунулся с яров — потоки нагорной коричнево-мутной воды с чугунным гулом низвергались в Дон. Все речки, все притоки отворились. Дон выхлестнул взломной водой, смывая плетни, огороды, амбары, заглатывая целыми гуртами ослепшую от ужаса скотину, унося к морю целые гумна и хаты, валя мостовые опоры и выкорчевывая телеграфные столбы — во всем своем могуществе не видя человека, нисколько не считаясь с его нуждами, со всем его жалким порядком, достатком, имуществом.
«Сказать бы всем, что немец не на западе стоит, — раздумывал Матвей, — а у нас за спиной и к родным куреням не пускает. Враз бы кончился весь наш разброд, вмиг бы усталь забыли, навалились бы так — никакие рогатки не сдержат, кишки бы из себя мотали, но ползли. К родным-то семействам? К земле своей — любушке? К миру? Да за то никакой уже крови не жалко. Вот и выходит: кара смертью, может, и нужна, но главное — не страх, а правда, за какую в бой идешь. Дай людям эту правду — тогда и всякую жестокость примут над собой. А в чем она, правда, за которую все можно вытерпеть? Выходит, что в жизни самой. В делянке земли, в курене, в родных своих людях. Не трожь ни меня, ни земли моей, а ежли хочешь тронуть — меня и спроси для начала. Вот это и есть народная воля… Э, нет, опять калмыцкий узелок! Если каждый в добро свое вцепится, в жизнь — как будет армию построить, как казаков от бабьих юбок оторвать? А голытьба — земли ей? хлеба? По всей России стон стоит: “Отнять!” Так и резать друг дружку начнем. Как ни крути, нельзя народу без верховной воли…»
В теплушке свистал сквозной ветер, в дверной щели рябила косая пурга, нудящиеся кони стояли над кормушками, накрытые попонами, как благоверные евреи в синагоге. Матвей сидел у костерка, который развели среди вагона на насыпанной земле, и все свои вопросы обращал к Мирону:
— И что ж теперь будет? Пущай большевики, как бляди, Россию продадут? А потом и до нас, казаков, доберутся, станут зéмли у нас отрезать, чтоб раздать мужикам?
— Если сил нет стоять, надорвался народ, то приходится, братец, идти на уступки и немцу. А что касаемо земли, вообще имущества, я тебе уж давно говорил: через это мы и докатились до того, что имеем сейчас. Не будет, брат, ни армии, ни государства вообще, пока половина народа в кровавом поту на имущих горбатится. Не встанет брат за брата даже против немца, а вот брат на брата пойдет. Никто задарма отдавать труд не хочет, а тем более жизнь. Царя-то свергли, а ярмо на шее старое. Это что ж за порядок такой, когда люди за труд ровно в ад попадают? Вот и выходит, брат: коль хочешь мира, надо всем по запросам воздать. Да, имущим в ущерб, а иначе никак.
— По запросам? — беленился Матвей. — А ежли у кого такой запрос возникнет, чтоб от нашего клина отрезать себе? Али наших коней под собой заиметь — Ночку, Грома, Алтына? А ить знаешь, их батя из соски, как детей малых, вынянчил. Да они и в седло, кроме нас, никого не допустят. Это мы — захребетники? Кубыть, наши деды сами землю пахали, да и мы вроде не прохлаждались. Запросы, брат, ого какие могут быть. Сегодня на землю позарятся, на дом, на коней, а завтра на что? На баб, может, наших? А что? Мы ить все теперь равные. Так и бабами надо сменяться, для полного-то равенства: он тебе свою рябую да кривую, завалящую, словом, а ты ему свою красивую. А то и вовсе баб общественными сделать: посадим их рядком на площади у церкви — и выбирай, кто хочет и какую хочет. Ты Ромку Леденева помнишь, мужика гремучинского, — из плена с ним бежал я? Так он Дарью обхаживал, пока я не посватался. Ну и что, не обидно ему — что моя она? Не равны мы с ним тут и теперь уж до гроба не будем равны. А был бы не мужик он, а казак иль чудок побогаче — так, может, и его была бы Дарья. Ну вот и прикинет обиду — на нас-то, Халзановых, да и всех казаков. И каждый вот так — на соседа. Брат на брата и выйдет.
— А лучше тебе будет, — спросил Мирон с почти страдальческой улыбкой, — сидеть в своем дому и ждать каждый день, что кто-нибудь из этих бедняков петуха тебе красного пустит? С ножом в курень к тебе полезет? А ведь полезет, если не поделишься. Не Дарьей, брат, не бойся, а землей, конями, быками, машинами. И не один придет, как тать в нощи, а валом все обиженные, как в Петрограде на царя.
— Пущай приходят — встречу, — ощерился Матвей.
Говорил, но щемяще отчетливо чуял: если хлынет голодный народ, разольется, как Дон этой яростной, небывалой весной, разоряя, смывая дома, — где уж тут одному удержать? Шашкой Дон не изрубишь, не вычерпаешь. Разве только не меньшая сила навстречу подымется — вот тогда поглядим.
Но пока поглядели на родные свои курени. Багаевскую и Раздорскую, Старочеркасскую и Константиновскую, Мечетинскую и Егорлыкскую как поднявшейся полой водой подтопило, взбаламутило, перетрясло сложным, неразделимым чувством счастья и горя. Казаки растекались живительными ручейками и каплями, огибая и не орошая немые, будто вымершие курени, где давно уж царила безысходно-глухая тоска по погибшим или все еще ждали пропавших без вести мужей и сыновей, безнадежно упорствуя в вере. А дома́, где встречали хозяев, кормильцев и любушек, полнились радостью, и, выхлестывая с база в улицу, радость эта безжалостно заостряла остывшую, притупившуюся боль соседей. Кричала паровозом Нюрка Полувалова, билась простоволосой головою о землю, дождавшись наконец вестей о муже и наглядевшись, как Матвей ласкает Дарью и подымает сына к небу на руках.
Но еще не затихли овдовевшие бабы и несчастные матери, не замыли слезами тоску, как уже потекли, забурлили разговоры о жизни, о насущном, о будущем — и промежду живых, осчастливленных, и промежду бедующих, остающихся жить без сынов и мужей, как без солнца.
Большевики в своем Декрете, если верить слухам, обещали казачьи наделы не трогать, а что касается помещичьих великих тысяч десятин, то казаки и сами были бы не прочь отрезать от них хороший кусок.
Войсковой атаман Каледин, призвавший всех донцов к борьбе с Советами, не мог удержать от разброда вернувшиеся боевые полки, и по всему Багаевскому юрту уж было разлилась долгожданная радость покоя, приготовлений к пахоте, к весне. Но из близкого Новочеркасска доходили тревожные слухи о заварившейся там каше, о прибывшем Корнилове, о бывших царских офицерах, юнкерах, студентиках, объединенных в Добровольческую армию. Не в Галиции клятой, не в Полесских болотах зацвикали пули, а под самым под боком. Как будто только горстки жалкие сошлись — на германской за сутки клали больше народу на пространстве с версту в поперечнике, чем сейчас офицеров и рабочих воюет, — но все одно чегой-то муторно на казачьей душе. В драке как: коль захватит тебя — хошь не хошь, а в чью-то стенку становись, иначе затопчут не те, так другие.
По Черкасскому округу, по приманычским, сальским станицам широко загуляло красивое иностранное слово, коверкаемое на разные лады: «нейтралитет». Наше дело, казацкое, мол, сторона. Да уж где там — не в царство небесное, с фронта уйдя, вознеслись, облака боронить, целину подымать голубую, не в райские наделы, где всего довольно всем. Тут они еще, тут, на земле, — каждый рот куска просит. Иногородние-то, вон, не делись никуда — заодно с казаками потянулись домой из Галиции, Пруссии, Польши, из пехотных частей, из драгунских, гусарских полков… вон их сколько вокруг, прихвативших винтовки, патронный запас, крепких той жильной силой, какая обретается в надсаде сохранить свою жизнь.
Другие люди возвращались с фронта. Как будто заново родившиеся и вдосталь видевшие смерть. Наравне с казаками наломавшие руку на убийстве подобных себе. Прокипевшие во множестве митинговых котлов. Словно губка водой, натекшие идеями большевиков о равенстве. Идущие домой, томясь по обещанному преображению всей жизни. И что же им — обратно в батраки? Чужие, казачьи, наделы пахать, как и встарь? Ведь сроду зарились на тучную, сияющую чернотой донскую землю. А теперь и подавно — потребуют. Ведь отменен наемный труд большевиками — долой угнетение, нет батраков! И чем же им жить? Своей, поди, землицей, не иначе. И ясно уже: одних помещичьих угодий недостанет, чтоб всех подушно оделить.
Исконная власть атаманов, станичного схода как будто никуда и не девалась, но рядом выросли советы и ревкомы, объявившие властью себя и сплошь составленные из иногородней и казачьей бедноты, из путейских рабочих и мастеровых. Заговорили о разделе. И уже не к заутрене каждодневно стекался багаевский люд на церковную площадь — на один нескончаемый митинг. Уж не плац — паровозный котел: того и гляди избыточным давлением встряхнет, подбросит каждого, толкнет навстречь сжимающему кулаки, оскалившему зубы супротивнику: «Опять к вам, дурноедам, в батраки?! В энтот год ты опять будешь барин? Для чего же Советская власть? Хватит! Отнанимались! Казачьими холопами не будем!» — «Землю вам? Три аршина получишь — помрешь, и не раньше!»
А ввечеру под каждой крышей — спор. В халзановском счастливом курене: Мирон на порог — и пошло. Братья не примирятся, сын с отцом не сойдутся.
— Ты царев офицер, есаул! Всем казакам казак — и все туда же! — распалялся отец, выкатывая на Мирона по-детски посветлевшие к седьмому десятку глаза. — Генералы с тобою гутарили — погляжу, втолковали не больше, чем дубовой колоде. Царя спихнули — что ж, и у нас, казаков, все старые порядки рухнуться должны? Пущай вся вонючая Русь к нам приходит, кому надо земли? Из роду в род хозяевами были, а зараз по миру пойдем? Казак — он как был казак, так казаком остаться и должон. Слыхал, чего иногородние гутарят? Дождались — наступило их времечко. Раньше слово боялись сказать поперек нашей воли, а теперь примеряются. Все правов захотели. А через чего они силу почуяли? А вот через таких, как ты, которые попятились, как так и надо, Советы ихние признали над собой. Да коли так, в тебе от казака — на ведро поганая капля. Сердцем жидкие стали. Когда такое было видано, чтоб на своей земле прижали хвост, как битые собаки. Каледин-атаман чего гутарит: концы нам, казакам, коль Русь к себе допустим. То и будет, что в Библии сказано: саранчой наши земли обсядут, доведут до последнего голода. Аль он меньше твово понимает? Говорит вам: послухайте, дурни, своих стариков. А вы кого слухаете? Кочегаров с чугунки, какие окромя угля отродясь ничего и не нюхали? Жидов, какие хочут казаков искоренить, чтобы фабрик своих по степу понастроить?
— А рабочие что же, не люди? — отвечал наконец-то Мирон. — Те же иногородние? Свою нужду имеют.
— То-то и именно — свою! Против нашей, казачьей, нужду.
— По-твоему, лучше будет, коль казаки с иногородними схлестнутся? Да и не казаки с мужиками, а богатые с бедными? Казаки-то ведь тоже по-разному живут. Вот у тебя пять пар быков, а у Борщева, предположим, ни одной — у тебя каждый год арендует. Ты сеешь сотню десятин десятком рук, а он — дай бог десятка два да одними своими руками обходится.
— Я у него своих быков не крал.
— А что он с каждым годом в долги залезает все больше — это ты его не грабишь? А была б у него своя пара быков…
— Так что ж, своих ему отдать — за так, по доброте?
— Так точно, господин урядник, по доброте. Социализм тому и учит, равно как и Христос велел делиться с ближним. Никто с тебя последнюю рубаху не дерет, но и полушкою у церкви теперь уж не отделаешься. Ты поступись на благо ближнего излишком, и пусть каждый казак точно так же отдаст свой излишек — и будет лад, согласие меж всеми. А иначе война. От германской войны убежали — промеж собой затеем новую? Не мир пожнем, а брань, куда как горшую, чем пережили на чужбине? Ну вот и подумай: стоит наше добро того?
— Да как не стоит-то? — уже и смеялся отец. — Ежли волк к тебе лезет аль вор — как его не убить? Хотят мужики оттягать нашу землю — плетей им всем всыпать, а то и в шашки, ежли за оружию возьмутся.
— Хлеба потопчем, курени пожгем, а главное, людей побьем без счета — пахать станет некому. И останешься хозяевать на ветру и юру. Ни твоя, ни мужицкая, а ничья земля будет — пепелище, пустыня.
— Вот и надо их зараз давить, мужиков, а то ить рыпнемся, да поздно будет — кубыть, и вправду примем разорение.
— А по мне, так вернее всего послать атамана Каледина к черту. Без генералов меж собой договориться.
Матвей же все больше отмалчивался — знал, что Мирон способен даже черта переспорить, не только размолоть твои укорененные понятия о жизни, о собственных казачьих нуждах-выгодах, но и зажечь словами целый полк, какую-то такую зацепить струну, что единое тело толпы обомрет или, наоборот, заволнуется. Если выйдет Мирон на майдан, уж как пить дать соберет вкруг себя всех голодных до земли мужиков, да и свои, какие победнее, казаки прибьются.
Громче всех остальных шумели по станице старики и кужата зеленые. Те, кто не воевал. Учителя, конторские, суцкие, путейские рабочие с Великокняжеской, прибивавшиеся агитаторами до Багаевской и ее хуторов. Фронтовики же так измучились, что ничего пока что не хотели, кроме как отогреться душой возле жен и детей.
Совсем неподалеку, под Ростовом, рвалась шрапнель, стучали пулеметы, подымались в атаку жидковатые цепи калединцев и оравы шахтеров, а фронтовые казаки в Багаевской даже не презирали дерущихся. «Воевать не хотим, но и нашего не трогайте», — таков был всеобщий настрой казаков. «Еле ноги домой притащили, а как сил наберемся — потребуем», — говорили им иногородние исподлобными взглядами. Так голодные кони, с боков которых долго не снимали плетки, уже не в силах биться за матку-кобылицу — она их не волнует, не будит инстинкт продолжения рода. Вот когда очунеют, отъедятся, тогда…
Матвей, казалось, был как «все». Скипелся с Дарьей в ненасытно-долгой близости, в которой каждый был подобен и голой руке без перчатки, и липкому железу на морозе, и ничего не оставалось, кроме солнечного пала всего ее звонкого, ливкого тела, кроме ее обезображенного жадностью лица с какими-то уж ведьмовскими, почти потусторонними глазами, кроме злых, по-звериному цепких зубов, прихватывающих на Матвее кожу, кроме солонцеватых, распухающих губ, кроме судорожных задыханий и выпрямительного вздоха, когда она вся от макушки до пяток вытягивалась, как будто вырастала от переполнения халзановской силой, и ни он, ни она не боялись, что прямо сейчас и умрут.
С каждым тесным движением он сердцем обрывался как бы в глубь трясущейся земли, и сердце возвращалось в клетку ребер, как дар самой жизни, и это продолжалось, продолжалось, пока сердце не падало так глубоко, что назад не пробиться. Уступая ему и все глубже впуская в себя, Дарья завладевала им всем, как могила, как всевластная сила конца и начала всего. Становился он слеп, как грудное дите, умалялся, сжимался в кровяной, раскаленный комочек плода, не то, напротив, будто усыхал в беспомощного старика, которому и шевельнуться — непосильный труд, в пожухлый древесный листок, слишком легкий и ветхий, чтоб в нем еще была какая-то нужда, и не было уж разницы меж смертным травным тленом и мягкой вечностью утробы, обволокшей его.
— Мой, мой, — наполненно торжествовала Дарья. — Никуда не пущу. Сама уморю хучь до смерти — лишь бы не уходил никуда. Германской конец, а за что там, в России, воюют, это нас не касается. Никто вас, казаков, туда не гонит — вот и слава богу.
— А землю казачью делить начнут?
— Пущай без тебя ее делят.
— Ну, баба, сдурела от счастья. Пущай без меня меня женят? Аль тебя выдают — под венцом и увидишь, с кем жить?
— Так уж выдали раз, — засмеялась она. — Кубыть, за другого хотела — забыл?
— Ну вот и подумай — передадут тебя за дурачка аль за кривого. По бабьему делу совсем никудышного — хочешь? А то большевики, был слух, всех баб хотят общественными сделать. Ну и что же ты, стерпишь — придут покрывать тебя в очередь? И с землей то же самое — твоя была любушка, а тут отдавай. Да через это, милая моя, такое может быть, чего и на германской не было. Там за чужое на чужой земле дрались, а тут — за свое.
— Мирон-то гутарит: у каждой семьи будет столько земли, сколько она сама осилить сможет, своими руками.
— Ну а богатый — отдавай? По слову Христову?
— А ты по божьему не хочешь? Не всё ж отбирают.
— А не всё — по какому же праву? Да и откуда же мне знать, всё иль не всё? Хороших слов насыпать можно много, а как там на поверку обернется. Кубыть, только палец им сунь — всю руку оттяпают. С помещичьих земель начнут, а там и до нас доберутся. Куда-то не туда большевики народ заворачивают. Христовы слуги ишо те — не видали таких и не надо бы. Ты на фронте не была — псалмов их новых не слыхала: «Кто был ничем, тот станет всем». А кто был всем, кто силой пользовался, тот, стало быть, — наоборот, ничем? Мы, казаки, — ничем? Мир хижинам, война дворцам — это чего такое? Они это так понимают, что пожили они в саманных хатах, а зараз подавай им курени, богатые, как наш. Одно и слышно: оттягать. Не построить, не выслужить — взять. И кто же так делал? Христос? Или Каин?
— Да это по первой народ как оглашенный, — покрепче вцепилась в Матвея жена. — Которые после царя были, временные, те тоже поначалу круто заворачивали, а мы как жили, казаки, так и до сей поры живем. Так же и при Советах — кубыть, без земли не останемся.
— А я ее всю жизнь пахать не собирался, — вырвалось у Матвея.
— Так что ж, воевать, может, лучше? — спросила она ненавидяще.
— Это уж кому как. По мне, так и лучше. Должно, рожден таким — другим уже не буду.
— Да что там тебе, что? — зашипела она.
— Да говорил уж. Красота, какая только на войне и есть.
— Из плена приполз чуть живой! То ты убиваешь, то тебя убивают — такая красота? Там немцев рубил, а здесь кого будешь? Зачем?
— Да никого не буду. Вот он я, весь тут, — отделался он. — Бери меня — пользуйся…
А поутру Максимка приставал:
— А ты на войну поедешь ишо?
— Нет, не поеду, — отвечал Матвей под Дарьиным взглядом. — Прикончили мы с немцами войну.
— А ты немцев убивал?
— Ну а как, коль война? Приходилось рубить. Казаки мы. И что нам прикажут отцы-командиры, мы туда идем — режем, колем, бьем… — затягивал он песню, подбрасывая сына на колене, и тотчас умолкал от необъяснимого чувства стыда и как бы страха повторения себя в Максимке, которого война влекла сильней всего на свете.
— А кровь из них идет, как рубишь?
— Там, брат, глазеть некогда, — уклонялся Матвей, — там живей поворачиваться надо, глядеть, чтоб самого тебя не секанули. Они ить не крапива на базу — свои у них ружья и шашки имеются. Рубить их, опять же, умеючи надо, а не куда попало как придется. На них ить шапки дюже толстые и медью окованы, и подбородень тоже медный, а то и целиком железного товару каска, так что и не разрубишь.
— Так как же их убить-то? Силу надоть?
— Рубить, брат, — это целая наука, такая ж, как и музыку играть: у одних-то скрипит, как несмазанное колесо, — слухать больно, а у других, напротив, музыка и есть. Вот тут должна быть сила, — прихватывал Максимкину ручонку за запястье, поражаясь ее белизне, чистоте, и снова натыкался на казнящие глаза жены, которая смотрела на Халзанова с брезгливой жалостью и страхом, как будто вырывая у него Максимку взглядом.
В своем дому, обласканный, закормленный, обнимающий сына, Матвей был так необсуждаемо, придавленно счастлив, что это счастье превращалось в нем уже и в яд, как могут стать ядом и хлеб, и вода, если их переесть, перепить. Вдыхая чистый, пресный запах снега, морозного зимнего дня и горечь кизячного дыма, бродил он по базу, заглядывал в конюшню и сараи, осматривал плуги, косилку, хомуты, оглаживал чищеных, сытых коней — все было бесконечно, до трещинки знакомо, но почему-то не могло им завладеть.
Во сне ли, наяву ли бродил по станичным проулкам, здоровался со всеми стариками, бабами, ощущая какую-то ноющую пустоту во всем теле и исходящий ото всех почтительный, настороженный холодок, возвращался на собственный двор, входил с отцом в сарай, возился с боронами, с хомутами, пытался впрячь быков в запашник, как будто уже наступила весна, но все валилось у него из рук, ременная упряжь утекала сквозь пальцы. «Что же ты, позабыл или вовсе не знаешь?» — с ехидцей спрашивал отец, смотря на него неугадывающе и осудительно. «И забыл, и не знаю, и знать не желаю!» — огрызался он злобно… Просыпался от выстрелов, топота, криков и, опаленный возбуждением: «ну наконец-то!», вырывался из Дарьиных рук, ощупкой схватывал ремни с револьвером и шашкой, выметался из дома на двор и взлетал на коня.
В полутьме, перед светом проносились какие-то всадники, созывали своих на подмогу какие-то пешие, а он еще не понимал, кто ворвался в станицу и кто ему свой, — в то время как руки зудели потребностью действия. И вот уже осознавал, что с двух сторон в станицу вхлынули красногвардейцы и кадеты и что багаевцы немедля разобрались по сторонам, — лишь он все колебался. Не потому, что в сумерках все серы, — по каким-то неосознаваемым признакам различал, кто есть кто, и даже узнавал иных в лицо, — а потому что ни к кому не чуял ненависти, ни теми, ни другими пока еще ни в чем не ущемленный. И это-то естественное нежелание смерти никому из дерущихся и душило его: он был не нужен никому и всем ничей.
Все вокруг него жили во всю свою силу, и только он, верхом и при оружии, стоял, как каменная баба на кургане. Всеобщее дикое возбуждение боя заражало его, и что-то лютое, слепое, заточенное в мясе и коже, в самой что ни на есть сердцевине, самовластно рвалось из Матвея, говоря: да руби хоть кого — кого первого срубишь, тот будет тебе истый враг. И уже с облегчением, с подымающей радостью доверяясь вот этому бессловесному зову, возникшему будто за тысячи лет до его появленья на свет, кидал он руку на головку шашки, но только стискивал эфес, как электрический разряд проходил по всему его телу, и вся кисть покрывалась мелкой сеткою трещин, как зачерствевшая от зноя и бездождья земля. По трещинам сбегала кровь, и, вскрикивая, просыпался уже по-настоящему, и Дарьина ладонь немедля накрывала его сердце:
— Опять война приснилась? Красота-то?
XXIX
Февраль 1920-го, Сусатский, Дон, Кавказский фронт
Сергей заболел. Не прошло все же даром купание в той донской полынье. Сознание предельно истончилось, приблизилось к тому сомнамбулическому самоощущению, которое помнил по детским, самым ранним годам, по тогдашнему опыту вязких сражений с простудой, с болезнями, не бывшими и не казавшимися смертью.
Тогда рядом с ним была мать, одним прикосновением изгоняющая жар из тела и унимающая нудную ломоту, — теперь не то в бреду, не то в реальности ему являлась Зоя и делала с Сергеем будто то же самое, что и мать в незапамятные времена. В каком-то сумрачно-багряном, доисторически-костровом свете над ним склонялось ее строгое, тревожное лицо, и неотступные ее глаза немедля становились для Сергея единственным источником сознания — терпеливые, именно что стерегущие. И заговаривала с ним, прося приподняться, когда давала ему горькие лекарства и поила чаем, произносила те ласкательные, жалкие слова, которые обыкновенно говорят больным, и тем невольно ласковым, чуть не сюсюкающим тоном, которым они должны говориться, — и Северину было радостно и стыдно оттого, что он верит вот этому голосу как обещанию и даже будто бы уже началу того, что он хочет, чтоб было между ними. А еще было совестно, что — вольно иль невольно — пользуется своим состоянием, счастливый обманываться и заставляя Зою не только возиться с ним, но и служить его бездарному самообману.
Спустя три дня, по его, северинскому, счету, жар спал, и все тело его будто высветлилось до костей. Лежал в опрятной горнице с дощатыми полами, при сияющем свете морозного дня. Увидел Зою у окна, за какою-то книгой, в белом козьем платке, накинутом на плечи, в золотом ореоле просолнеченных непокрытых волос. Дрожа от усилий подняться, позвал.
Она подошла и подсела, устремив на него все такие же строгие, бдительные, намученные бессонницей глаза.
— Почему за мной ходите? — спросил он зачужавшим, слабым голосом.
— А как же, если вы больной? — ответила она, дивясь нелепости вопроса.
— Но почему только за мной, такое чувство? Других больных нет? Вам как будто в штабном эскадроне положено быть.
— Да Носов позвал — беда, захворал комиссар. Боялись, тиф у вас. Но, слава богу, обошлось.
— А что у меня?
— Ну вы же будто из семьи врача — могли бы и сами понять.
— Что же, полный покой? Нельзя мне покоя сейчас.
— Воля ваша, — ответила Зоя с привычной покорностью. — Достукаетесь, как у нас говорят.
— Ну, значит, достукаюсь, — хотел сказать он с твердой простотой, но вышло вызывающе-капризно. — А где же мы? В Сусатском? Корпус где?
— В Сусатском, да. Тут штаб и Горская бригада. А остальной весь корпус по ближайшим хуторам. Ремонтируется.
— А фронт? Наступление?
— Как будто не сегодня-завтра выступать. Половину бригад бы закрыть в карантине. Ведь тиф же косит, тиф — страшней, чем пулеметы. Да оспа еще… Вы что же это? Стойте! Подождите. Хоть ординарца вашего покличу — упадете же.
При помощи Монахова Сергей встал с кровати. Ноги слушались как деревянные, чисто вымытый пол рвался из-под ступней, и что-то обессиливающе приливало к голове, лишая равновесия и чувства собственного тела, но у него проснулся аппетит — и полную тарелку пшенной каши съел. Одевшись, вышел на крыльцо, ослеп от белого сияния оплеснутых солнцем сугробов, сумел пересечь заснеженный двор и вшатался в соседний курень.
В штабе, кроме связистов, были только Челищев и подземно-белесый Шигонин.
— Вот, Сергей Серафимыч, — повернулся Челищев с расшифровкой в руках, — ревизионная комиссия к нам едет, как и обещали.
— А что же наступление? Когда?
— В том и дело, что нынче же. Предполагаем закрепиться на рубеже Балабинского — Спорного и форсировать Маныч напротив Веселого, где веселья как не было, так и не предвещается.
— И что же комиссии — за корпусом гнаться? Не имея понятия, где пройдет фронт? Чепуха получается.
— Да, чепуха. Слоеный пирог, и кто в чьих тылах, непонятно. Да только ведь товарищи уже на полпути к Раздорской.
— Не меньше полуэскадрона выделить в охрану, — тревожно и напористо сказал Шигонин.
— В условиях фронта, увы, — ответил Челищев, — никакая охрана не бывает достаточной. Товарищи едут с бригадой блиновской дивизии, которая пойдет за нами. А нам необходимо первым делом избежать неразберихи.
Скрипнула половица — в дверях стоял начальник особого отдела Сажин с побагровевшим от мороза невзрачным лицом, на котором глаза словно впрямь не важнее бровей и усов, и будто бы стоял уже давно и никто его просто не слышал и не замечал.
— Здорово живете, товарищи. А я к вам насчет Кравченки, начснаба.
— О комиссии слышали? — сказал ему Шигонин.
— Не было печали, — удрученно вздохнул тот, присаживаясь.
— Это как же вас понимать? — настрожил Шигонин глаза.
— Высокого значения фигуры, товарищи для революции наиценнейшие. В лепешку расшибись, а их убереги. А во-вторых, это такие самолюбия столкнуться могут лбами — комкор-то наш тоже фигура ого. Уж вы-то, Павел Николаич, его характер знаете.
— Ну, это мы гадать не будем, какие там характеры, — сказал Челищев. — А знаете что, Сергей Серафимыч: в строю от вас пока большого толка нет, простите, а комиссию встретить…
— Оранжерейные условия мне предлагаете? — усмехнулся Сергей и закашлялся.
«А почему это Шигонин не рвется встречать? — подумал он тотчас. — Вот уж где расстараться бы — живописать им Леденева в мрачных красках. Да, верно, просто знает, что Зарубин с Леденевым старые товарищи и верят друг другу как себе самому».
Шигонин отправлялся вместе с Горской — похоже, в нем взыграло отчаянно-ребяческое, глупое желание во что бы то ни стало доказать, что способен не только на громкие речи и неуклюжие «безбожные» стихи («И ревет, как зверь голодный, над разбуженным селом Бог кулацкого восстанья колокольным языком…»).
Вернулся в свою хату и увидел Зою у печи: вооружившись кочергой, та ловко выдвинула из горнила огромный чугун, ткнула пальцем в него и отдернула руку ко рту, прихватила обваренный палец губами — так естественно-просто, по-детски смешно, что Сергей улыбнулся. Монахов кинулся помочь ей, прихватил полотенцем чугун, слил в цебарку горячую мутную воду. Поставил картошку на стол и, смущенно-неловко покашливая, объявил, что пойдет попроведать коней.
«Неужели у меня и вправду все на лбу написано? — подумал Сергей. — И Мишка тогда, и Монахов теперь сразу поняли, что тут к чему. Не говоря уже о Леденеве. Ведь я привык считать — да так оно и есть, — что невозможно точно знать, что́ думает и чувствует другой человек. Поди его выведи на чистую воду. Про влюбленных же сразу понятно, что они влюблены. Ведь даже видеть, слышать ее голос — это радость, и человек от этой радости становится прозрачным, с него как будто бы слезает непроницаемая оболочка, и все движения души, и вправду немудреные, становятся видны. Не знаю, как насчет долготерпеть и милосердствовать, но вот врать о своих тайных чувствах уж точно не хочется, а верней, просто не получается. А главное, сам уже веришь всему как ребенок. Ничего не боишься… Но это было б хорошо, когда бы все на свете были влюблены. А так — ты слеп, доверчив, даже глуп, совсем не чувствуешь опасности, всех любишь… А что она сама? Ведь если б она ко мне что-то чувствовала, это было бы видно».
— Спасибо вам, Зоя, — сказал он.
— За что же?
— Ну за то, что пришлось вам возиться со мной. Полуживого забавлять.
— Ну скажете тоже, — возмутилась она, как будто испугавшись, что Сергей накличет на себя беду: порой в ней будто вправду просыпался детски-суеверный страх перед нечаянно уроненным недобрым словом. — Какой же вы полу?.. Вы целый. Так что, остаетесь? Послушались меня?
— Жалею ваш труд. Хоть сутки да побуду тут, в Сусатском. Товарищей надо из Раздорской дождаться… Зоя, — спросил он, когда, разлив по чашкам чай из самовара, уселась напротив него, — а что вы делать будете, когда война закончится?
— Да разве уж скоро? — ответила буднично, как говорят о долгой засухе и затянувшейся зиме, о том, что властно надо всеми и что приходится принять с покорностью травы, полегшей под тяжестью снега.
— А отчего ж не скоро? Собьем белых с Маныча и сбросим их в Черное море. Земли-то под ними осталось — всего ничего: за что ж им держаться?
— Россия большая. В газетах пишут, с Польшей воевать. А кончится — лечить вас буду, тогда уж не отвертитесь.
— Кого это «нас»?
— Да всех вас, героев, которые сейчас лечиться не хотят. Того же Леденева. Ему с его легкими надобно к морю — в Геленджик или в Ялту, там воздух целебный.
— И вы тоже к морю? — спросил Сергей как слабоумный. — Простите, опять дознаюсь — о родине вашей, о доме. Ведь я о вас толком ничего и не знаю еще, — со страхом начал он, как будто уж предвидя, что тотчас натолкнется на холод отчуждения.
— Да что ж вам еще надо знать? — усмехнулась она с застарелой, словно давно уже смирившейся тоской. — Некуда мне идти. Да только разве я одна такая? Кого ни возьми — и дома, и родных лишился, семью растерял. Придется начинать сначала, устраиваться как-то в одиночку — кому на родном пепелище, кому на новом месте.
— Да почему же непременно в одиночку? — сорвалось у Сергея.
— Мать умерла в Саратове чахоткой. — Она будто не слышала его, не то сделала вид, что не слышит. — От этого и в старые-то времена нечасто вылечивали, а теперь и подавно. С отцом мы давно потеряли друг друга, еще в семнадцатом году. До революции он адвокатом был — я ведь, можно сказать, из имущего класса, — посмотрела с бесхитростным вызовом. — Жили мы не нуждаясь. В Екатерининской гимназии училась. Как давно это было — я иногда себя старухой чувствую. Почти уже не помню всей той жизни, не узнаю, не понимаю — я ли это была? Помните, вы мне рассказывали о своем стыде перед темными мужиками, которых ваш отец лечил? Так вот и у меня было что-то подобное. Нет-нет, и в мыслях не было, конечно, что надо бороться за них. Уж мы-то Северянина читали, а не Маркса. «Умом ребенок, душою женщина, всегда капризна, всегда изменчива…» Так что не стыд я чувствовала, а скорее страх, как чувствует угрозу всякое животное, хоть курица. Вот как посмотрит на тебя какой-нибудь рабочий или грузчик на пристани, так и почуешь этот страх… ну, холодок какой-то. Так в детстве вдруг пугаешься, когда подумаешь, что ведь и ты когда-нибудь умрешь. К подушке прижмешься, с головой одеялом накроешься — и ничего. У нас какие беды были — что клякс-папир в тетрадях розовый, а должен быть морской волны, и из-за этого рыдали, из-за глупых промокашек, а люди рядом думали о хлебе, о спичках, о дровах. И этот взгляд с той стороны на эту, нашу, — столько в нем было злобы, да и не злобы, нет, а вот как зверь глядит через решетку на тебя, не понимая, почему он взаперти. И раз мы его держим в клетке, то и нечего жаловаться, что он набросится на нас, как только вырвется, — ведь никто не хотел обходиться с ним по-человечески.
— Но ведь теперь вы с этими людьми, — сказал Северин, — и, верно, видите, что не такие уж они и звери. Вы им нужны и будете нужны, как и каждый, кто хочет помочь. И насчет своего будто бы нехорошего происхождения не опасайтесь. Ульянов-Ленин, знаете ли, тоже дворянин и учит нас, большевиков, смотреть не на класс, а на самого человека.
— Да уж поздно бояться, — ответила Зоя с какой-то лунатической улыбкой. — Я нынче вроде утопающей: сначала страшно было, а теперь легко, даже будто блаженно — тонуть-то.
— Да почему же тонуть? — У Сергея защемило сердце.
— Ну, может быть, и не тонуть, а нет у меня своей воли, и все тут: не то тону, не то плыву куда-то. Не знаю, как вы, а я уж точно не вижу судьбы своей в завтрашнем дне.
— Страшно вам рядом с боем? — Он вдруг почувствовал ее, всю Зою, как собственную руку или ногу, которую могут отрезать, — настолько твою, неотъемную, что и когда отнимут, продолжаешь ее ощущать, так же хочешь согнуть, шевельнуть, дотянуть до лица.
Такое чувство общей с Зоей уязвимости поразило его, словно у них уже все было — совершенно иначе, конечно, чем с той, одноночной, Марылей: тогда-то было лишь брезгливое недоумение перед собой и именно неутолимое, глухое одиночество.
— Да нет уж времени пугаться, когда бой. Только и успевай понимать, что к чему. Уж если попадет в тебя, ничего и понять не успеешь. Никому и не страшно, если сразу, конечно, убьет. А если мимо, то опять-таки бояться нечего… — Она смотрела внутрь себя, будто по-детски удивляясь тому, как легко исчезнуть из мира, и вдруг взглянула на Сергея так, словно тот был иным, нечеловеческой природы существом: — А вы боитесь смерти?
— Боюсь. Как животное. Боюсь: убьют, а я еще не сделал ничего. И пользы не принес, и сгинул один… Любви и той не испытал… — Тут он осекся, замолчал, поняв, что заводит пошлейшую песню «героя»: мол, может статься, говорим в последний раз, и об одном только жалею — что никогда вас не увижу. Давайте выпьем жизнь до дна, надо брать ее жадно, пока оба живые… тьфу, гадость!
— А вы успейте. — Она вдруг поглядела на Сергея как будто с жертвенной решимостью, не отличимой от покорности, и под действием этого взгляда северинскому сердцу стало тесно в груди, в голове… Только в Зое спасение было, только в ней теперь мог поместиться он весь.
Рука его сама собой, с растительным упорством, словно к солнцу, силой запертой крови поползла по столешнице и накрыла бесстрашную, ждущую Зоину руку. И как будто не стало на его пальцах кожи, и почуял все цыпки, все жилки и даже каждую невидимую глазом светлую пушинку на ее огрубевшей от стирки руке. И оба замерли, как будто спрашивая «ну и что теперь?» и даже «кто ты?»… по крайней мере, Зоя — точно уж не понимая, зачем позволила и почему не отнимает руку, а он — прося глазами об одном: чтоб это продолжалось…
Но вот на крыльце и в сенях загремели шаги, и руки расцепились, как обваренные, — втолкнулся вестовой из штаба: едут! товарищи из Реввоенсовета фронта!
Комиссия приехала уж в сумерках — на сорокасильном «паккарде», в сопровождении броневика и конного конвоя из блиновцев. В штабную горницу вошел Зарубин, в защитной бекеше, без ремней и без шашки, распутал верблюжий башлык, открыв гладко выбритое, иконописно заостренное лицо с бессонной синевою подведенными глазами. За ним — в коричневой бекеше дородный, высокий латыш с тяжелым, кременным лицом и глубоко посаженными серыми глазами-сверлами, Ивар Янович Круминьш. Последним — высокий крючконосый казак в шинели с синими кавалерийскими петлицами, с полуседой старообразной бородой, и это-то и был Мирон Халзанов. Комиссар того, первого, леденевского корпуса, дивизии, полка, отряда, горстки, зернышка.
Сергей удивленно вперился в него: что-то неотразимо и вместе с этим неопределимо общее и даже родственное с Леденевым было в этом лице — не столько даже лепка, сколько скорее выражение. У Халзанова были глаза человека, душевно состарившегося на войне, человека, которому долго было нельзя, а может быть, давно уж некого любить, и осталось одно лишь служение общему делу, в котором он не разуверится до последнего вздоха, но он слишком многое — всё — узнал о цене, которую придется заплатить. Быть может, это выражение — печать — и сделало вот этого Халзанова и Леденева столь похожими. Одинаковые их потери, вернее жертвы их для революции — судьба. Ну не общая кровь же. Разве только вся та, и своя, и чужая, которую пролили вместе.
— Ну здравствуйте, Сергей Серафимыч, — сказал Зарубин, протянув настуженную руку. — Вы будто нездоровы?
— Пустяки.
Уселись за стол, к самовару.
— Ну, товарищи, доложите обстановку, — с усмешкой попросил Зарубин, грея руки на стакане чая. — Где в настоящую минуту наш красный Чингисхан?
— Да карта эта что — как прошлогодняя газета, — ответил Челищев. — Где будет комкор завтра утром, по ней можно только гадать. Обстановка тревожная, меняется быстро.
— А мы не на смотр высочайший приехали, — усмехнулся Зарубин глазами. — Вот поглядим на корпус в деле, хотя бы и с высокого холма, и сразу же поймем, насколько глубоко он поражен моральным разложением и сифилисом партизанщины, о коих так красноречиво докладывал нам товарищ Шигонин. Предлагаю, товарищи, ехать немедля — на Спорный.
— А может, стоит обождать, пока установится фронт? Не исключаю и прорыва казаков к нам в тыл, — предупредил Челищев.
— Какая у вас связь с бригадами и полештабом? — двинул каменной челюстью Круминьш.
— Самая первобытная — из уст в уста и с лошади на лошадь. В условиях кавалерийского прорыва иную обеспечить невозможно.
— Ну что же, предлагаю подождать хоть какой-нибудь определенности. Риск риском, а таскаться по степи вслепую — только напрасно потеряем время. Ну а пока… Как считаешь, комиссар, — начальственно тыкнул Сергею латыш, смотря на него, показалось, с презрительной жалостью, — почему понесли поражение три дня назад?
— Корпус не был поддержан по фронту, — ответил Северин. — Фронт прорвали, плацдарм захватили, а пехота отстала, и Конная как провалилась. Пришлось свести полки в один кулак и к реке отходить. Там дали бой, оторвались…
— А сообщают, что панически бежал ваш корпус. Все пушки свои бросил на левом берегу.
— Товарищ Круминьш, артиллерией пришлось пожертвовать, чтоб увести людей за Маныч под ее прикрытием, иначе бы не только пушки — весь корпус ушел под лед. Да если б нас на левом берегу одних не бросили, как волка в загоне…
— Буденный виноват, что не пришел? Командование армии? — угрожающе выцедил Круминьш.
— Не мне судить. Я вам говорю только то, что видел из гущи, с коня, — отчеканил Сергей, распаляясь. — Мы больше суток слали шифрограммы в штарм, гонцов к Буденному.
— А спустя двое суток уже сам Буденный попал под фланговый удар, потому что ваш корпус его не прикрыл, а топтался у Дона. Почему не поддержали Конную по фронту? Это что же, в отместку? Разругались герои — каждый сам свою славу кует, а чужой беде радуется?
— А чем нам Буденного поддерживать было? Бойцами бессильными после трехдневных боев? Тифозными, ранеными? Измученными лошадьми? Дали нас растрепать — так чего удивляться, что и мы к вам на помощь сей же час не пришли?
— А что было с корпусом в Новочеркасске? — спросил Зарубин, слушавший Сергея с насмешливо-печальным одобрением.
— Гулял в Новочеркасске корпус трое суток, — признал Северин. — Об этом я докладывал.
— И товарищ Шигонин был ранен двумя неизвестными.
Сергей промолчал, почувствовав, что Круминьш толкнул его не к яме, а к сурчиной норе, оступившись в которую, можно вывихнуть ногу.
— А еще говорят, Леденев держит корпус железной рукой, — хмыкнул Круминьш. — Так может, это он позволил — погулять?
— Мы позволили, мы, комиссары! — прошипел Северин. — Тот же самый Шигонин, комиссары полков, лично я. Это наша прямая работа — чтоб красные бойцы не опускались до свинячьего хрюканья. А на комкора все валить, как это делает Шигонин, — это значит самим расписаться в никчемности, это значит признать: не владеем мы массой, наше слово и слабо — рожа, рожа крива, а пеняем на зеркало. Леденев, получается, не удержал, распустил, ну а мы, комиссары, на что?
— Ну а что же случилось с Шигониным? Не нашли, кто стрелял? А о начальнике особого отдела Сажине что скажете?
— Дело он свое знает, — с осторожностью начал Сергей, — но, по-моему, слишком зависит от желаний начальства, от любого, за кем чует силу и власть.
— То есть от Леденева? — тотчас вклинился Круминьш.
— За неименьем большей власти, высшей, — да, от Леденева. Поймет, что вы настроены к комкору недоверчиво, — заговорит о грабежах, а если, напротив, хотите увидеть героя — первый станет доказывать, как тот же самый Леденев необходим и ценен. Черта царедворца какого-то, а не чекиста.
В дверь постучался вестовой — привез известия из Спорного, который был занят Партизанской бригадой.
— Пора, товарищи, — постукал Круминьш по часам. — Давно мы отвыкли от теплых постелей, так что нечего и привыкать. Ты с нами, комиссар?
Все встали, одергивая на себе гимнастерки и френчи. Сергей посмотрел на Халзанова — тот за все время разговора не сказал ни слова, как будто заранее зная, что́ каждый спросит и ответит, как будто ничего из сказанного не имело отношения к леденевской душе.
По темному ночному небу, как по аспидной доске, чертил несметные штрихи косой, колючий снег.
— Дозвольте обратиться, товарищ комиссар, — дожидавшийся у лошадей, подступил вдруг Монахов к Халзанову. — Вы ить с Багаевской рожак.
— Да, верно, — ответил Халзанов, остановившись у воротец.
— А сотник Халзанов Матвей не родственником вам приходится?
На дворе было полутемно, все лица серы и размыты, но Сергей не увидел — почувствовал, как что-то жалкое, похожее на волчью муку одиночества блеснуло у Халзанова в глазах, как вечная частица кровного родства прошла сквозь этого непроницаемого внешне человека.
— Да, брат мой, — ответил тот глухо. — Ты что-нибудь знаешь о нем?
— Знаю. Что в слободе Большой Орловке мужиков живьем закапывал, чьи братья с красными ушли.
— Что ж, будем судить, если так. Живой ли, не знаешь?
— Так ить у вас, совсем наоборот, хотел спросить. Может, слухом каким о нем пользуетесь?
— У Мамантова в корпусе был. В бинокль я его последний раз видел, когда прицел указывал своим — стрелял по нему.
— Так что же, могет, и убили? — настаивал Монахов, как машина, которой управляет чья-то воля.
— Быть может, и так. Не видел наверное.
XXX
Декабрь 1917-го, хутор Гремучий Багаевского юрта, Область Войска Донского
Сщемило Леденеву сердце, едва завидел хуторские тополя, оголенно черневшие средь слюдянистых, отшлифованных ветром сугробов. Год назад привез Асю домой и венчался с ней в церкви, в которой некогда хотел венчаться с Дарьей — освятить и срастись в одного человека.
Под ажурным крестом ветряка, на отшибе от хутора — новый двор Леденевых: невеликий, но крепкий, ошелеванный тесом курень, сараи, амбар — все дышит добротностью, зажиточной силой.
Смешно Леденеву: отец за шесть лет поставил новое хозяйство и забогател, а он, г�
