Приключения Оффенбаха в Америке бесплатное чтение
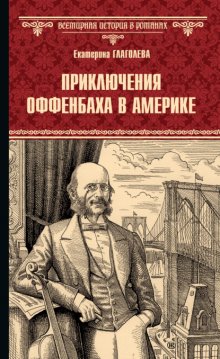
© Глаголева Е., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Екатерина Глаголева
Об авторе
Дипломированный переводчик Екатерина Владимировна Глаголева (р. в 1971 г.) начала свой литературный путь в 1993 году с перевода французских романов Александра Дюма, Эрве Базена, Франсуа Нурисье, Фелисьена Марсо, Кристины де Ривуар, а также других авторов, претендующих на звание современных классиков. На сегодняшний день на ее счету более 50 переводных книг (в том числе под фамилией Колодочкина) – художественных произведений, исторических исследований. Переводческую деятельность она сочетала с преподаванием в вузе и работой над кандидатской диссертацией, которую защитила в 1997 году. Перейдя в 2000 году на работу в агентство ИТАР-ТАСС, дважды выезжала в длительные командировки во Францию, используя их, чтобы собрать материал для своих будущих произведений. В тот же период публиковалась в журналах «Эхо планеты», «History Illustrated», «Дилетант», «Весь мир» и других. В 2007 году в издательстве «Вече» вышел первый исторический роман автора – «Дьявол против кардинала» об эпохе Людовика XIII и кардинала Ришелье. За ним последовали публикации в издательстве «Молодая гвардия»: пять книг в серии «Повседневная жизнь» и семь биографий в серии «ЖЗЛ». Книга «Андрей Каприн» в серии «ЖЗЛ: биография продолжается» (изданная под фамилией Колодочкина) получила в 2020 году диплом премии «Александр Невский».
Книги автора, вышедшие в издательстве «ВЕЧЕ»:
Дьявол против кардинала. Серия «Исторические приключения». 2007 г., переиздан в 2020 г.
Путь Долгоруковых. Серия «Россия державная». 2019 г.
Польский бунт. Серия «Всемирная история в романах». 2021 г.
Лишенные родины. Серия «Всемирная история в романах». 2021 г.
Любовь Лафайета. Серия «Всемирная история в романах». 2021 г.
Пока смерть не разлучит… Серия «Всемирная история в романах». 2021 г.
Битвы орлов. Серия «Всемирная история в романах». 2022 г.
Огонь под пеплом. Серия «Всемирная история в романах». 2022 г.
Нашествие 1812. Серия «Всемирная история в романах». 2022 г.
Пришедшие с мечом. Серия «Всемирная история в романах». 2023 г.
Маятник судьбы. Серия «Всемирная история в романах». 2023 г.
Последний полет орла. Серия «Всемирная история в романах». 2023 г.
Пролог
Случалось ли вам давать слово в надежде, что сдержать его не придется? Наверняка случалось. Ведь вы же обещали часто писать своим родителям, лишь бы они отпустили вас в столицу из вашего сонного, провинциального городка? А приветы, которые вы непременно передадите родным и знакомым? А старый дядюшка, способный дать хороший совет, которого вы обязательно навестите? Или, наоборот, игорные дома и развратные женщины, которых вы ни за что не станете посещать, употребляя всё свое время на работу и учебу? С годами так к этому привыкаешь, что, произнося: «Да-да, разумеется» или: «Нет-нет, ни в коем случае», уже не думаешь, что тебя это к чему-нибудь обязывает. Однако в то утро ко мне ворвался человек, у которого слово не расходится с делом; один из тех людей, которыми принято восхищаться, поскольку они двигают прогресс, но при этом держаться от них подальше, чтобы они не заставили вас двигать прогресс вместе с ними. Так вот, он прорвался прямо в сад, где я беседовал с несравненной Гортензией Шнайдер – Прекрасной Еленой и великой герцогиней Герольштейнской (хотя я просил слугу не пускать ко мне никого, не состоящего со мной в кровном родстве), извинился за вторжение и сказал себе в оправдание, что не злоупотребит моим временем, поскольку у него ко мне лишь один вопрос, на который можно ответить «да» или «нет», и он уйдет сразу, как только получит один из этих ответов. Всегда приятно, когда у тебя есть выбор, не так ли? Я согласился его выслушать, и он спросил:
– Господин Оффенбах, желаете ли вы поехать в Америку?
Я рассмеялся. А почему не полететь на Луну? Забыв, что он ждет от меня одно короткое слово, я ответил, что в настоящий момент не выйду из этого сада даже за все сокровища мира. Он возразил, что речь не о текущем моменте, а о будущей весне, когда в Филадельфии откроется Всемирная выставка. И повторил:
– Желаете ли вы поехать в Америку?
На самом деле между «да» и «нет» существует множество полустанков, на которых мы стараемся сойти, чтобы не ехать до конечной. Я сказал, что не то чтобы желаю поехать в Америку (когда тебе глубоко за пятьдесят, ты завален работой и замучен подагрой, груз забот и обязанностей превращает тебя из легкой на подъем перелетной птицы в пугливую курицу), – так вот, я не то чтобы желаю, но эта мысль не внушает мне отвращения, особенно если ему известны весомые и звонкие аргументы в пользу этой поездки. Он удовлетворился моим ответом и пообещал, что аргументы вскоре будут представлены на мое рассмотрение.
Господин удалился, а я впал в задумчивость и уже не мог поддерживать беседу: когда голова пуста, говорить легко, но когда в ней роятся сотни мыслей, попробуй-ка сосредоточиться!
За обедом я рассказал об утреннем визите жене и детям, представив всё в юмористическом ключе, однако мой рассказ был встречен единодушным воплем: «С ума ты сошел!» Дочери даже расплакались – нет ничего лучше женских слёз, чтобы показать мужчине, какой он глупец.
Моя жена тоже не была в восторге. Америка! Что за дикий каприз для европейца, которому вполне довольно его континента? Я утону во время переезда через Атлантику – с пароходом или без, меня сдует с палубы ветром или смоет волной, а если я всё же доберусь до суши, на меня нападут разбойники и оставят без гроша, а если я всё же сохраню пару монет за подкладкой на обратный путь, то заболею желтой лихорадкой. Я попытался её успокоить: впереди еще почти год, чего только ни случится за это время. В Америке может снова начаться война: это весьма вероятно, в газетах так и пишут. Филадельфию разрушит землетрясением. Туда придет моровое поветрие. Наконец, выставку просто отменят, такое бывает сплошь и рядом. Только эти соображения и побудили меня после нескольких бессонных ночей согласиться на контракт, подготовленный мистером Бакеро, который представлял в Париже американского антрепренера Мориса Грау.
Мне предстояло дать тридцать концертов в Нью-Йорке и Филадельфии, дирижируя оркестром в сто человек и получая по тысяче долларов за вечер, с оплатой всех расходов.
Тысяча долларов… Это же пять тысяч франков! Вся труппа театра «Гэте» вместе с оркестром обходилась мне дешевле! Правда, Берлиозу в России платили двенадцать тысяч франков за концерт… Вот куда бы поехать! Но в России страшный холод, сами русские его не выдерживают и приезжают на зиму в Париж, а я и так всё время мерзну.
Теперь у нас оставалась только одна надежда. По условиям контракта, в банк моего друга Бишофсхайма должны были перевести крупную сумму на мое имя – задаток, и я убеждал домашних, что этого ни за что не случится, а значит, и ехать мне никуда не придется. Небывалое дело: я мысленно призывал банкротство моего дельца! Я входил в банк с замирающим сердцем и расцветал при словах «деньги не пришли», вызывая всеобщее удивление.
Как странно! Двадцать один год назад я собирался уехать в Америку на несколько лет, а может быть, и навсегда, даже писал сестре Нетте в Кёльн, что всё уже решено, отъезд назначен на сентябрь 1854 года, жена с девочками отправится к родным в Марсель и поживет там, пока я не устроюсь на новом месте. Я тосковал при мысли о многолетней разлуке с семьей, ведь в Новом Свете мне придется начинать всё с нуля – мне, салонному виртуозу, дирижеру из «Комеди-Франсез», развлекавшему публику музыкой в антрактах, автору одноактных опереток, которые ставили только на любительской сцене, отвергнутому претенденту на должность директора «Театр-Лирик»…
В Америку тогда уезжало много евреев и немцев (правда, я уже не причислял себя ни к тем, ни к другим). Судовладелец Самуил Маас, который в сорок четвертом году женился на моей старшей сестре Изабелле, увез ее в Техас, в Галвестон. Там как раз бушевала эпидемия желтой лихорадки, и Изабелла тотчас заболела, но выздоровела и выписала к себе нашу сестру Генриетту, которая вышла там замуж за ирландца Джона Джонса – единственного местного ювелира и часовщика, построившего первый в городе двухэтажный дом. У Джонса была также собственность в Нью-Йорке и Бруклине – вот туда-то я и намеревался ехать. Что мне было делать в Галвестоне, где всего две с половиной тысячи жителей и ни одного театра! Конечно, Изабелла продолжала петь, устраивая домашние концерты (Маас познакомился с ней, когда услышал ее пение в кёльнском соборе), но те времена, когда мы с братом Жюлем аккомпанировали ей на скрипке и виолончели, давно прошли. Нет, только Нью-Йорк! Большой город, где у меня не было ни связей, ни друзей – почти как в Париже, когда я явился туда четырнадцатилетним… А Париж собирался принимать в 1855 году Всемирную выставку. Было бы глупо уехать, не воспользовавшись этой возможностью. И я в кои-то веки не сделал глупость! Я остался во Франции, открыл свой маленький театрик в Париже, познал первый громкий успех, даже купил земельный участок под будущий дом в Этрета, дал два концерта в Дьеппе и просадил остаток денег в казино. И вот теперь Америка сама пришла ко мне на поклон, чтобы я отправился в Новый Свет вслед за собственной славой. Воистину: всё сбудется, но не тогда, когда этого ждешь.
В «Менестреле» написали, что американцы посулили Оффенбаху золотые горы, однако маэстро всё еще колеблется. Честно признаюсь: я не хотел ехать в Америку. То есть я был бы не прочь оказаться в этой стране, но я не хотел туда ехать. В юности мы готовы идти за мечтой пешком, неся на палке единственные башмаки, а в пожилые годы нас пугает мысль о часовой поездке на извозчике. Благодаря деловым господам, двигающим прогресс, у нас теперь есть железные дороги, пароходы, телеграф, а тридцать с лишним лет назад мы с отцом и братом неделю добирались дилижансом из Кёльна в Париж через Брюссель, глотая дорожную пыль и кормя клопов на станциях. Это была моя первая большая поездка, но я ее совершенно не помню, настолько все мои мысли были заняты главной целью нашего путешествия. Зато этой зимой, чтобы вернуться в Париж из Вены (два дня пути поездом с ночевкой в Страсбурге), мне пришлось собираться с силами целую неделю, хотя купе железнодорожного вагона первого класса не сравнить с дилижансом: у меня там даже установлен пюпитр, чтобы я мог работать дорогой…
И вот роковой день настал: деньги оказались выплачены, надежда умерла, ни один светлый луч уже не проникал сквозь густые тучи печали. Мне предстояло покинуть радость и уют привычного мира, отдавшись на волю коварной стихии. К счастью, свежие новости меня подбодрили: директором «Опера-Комик» вновь стал мой давний враг Эмиль Перрен, а это значит, что на планах отдать туда «Сказки Гофмана», которые я непременно напишу, придется поставить крест; с негодяем Бертраном из «Варьете», снявшим с репертуара «Фантазио» после десяти представлений, я больше не разговариваю, и если он хочет вернуть на сцену «Парижскую жизнь», чтобы спасти свой театр, пусть выкручивается сам, я ему не помощник. Ехать так ехать!
Итак, дамы и господа, мы представляем вашему вниманию «Оффенбах в Америке»!
Действующие лица
Жак Оффенбах, композитор. Высокий мужчина пятидесяти семи лет, утверждающий, что ему пятьдесят пять, с фигурой жука-палочника, опирающийся на трость; одет эксцентрично, но со вкусом, что не всегда заметно, поскольку он вечно кутается в меховую шубу до пят. Высокий лоб стремится к затылку вслед за отступающей линией льняных волос, в которых блестят серебряные нити. Немецки голубые глаза за стеклами французского пенсне, оседлавшего семитский нос меж длинных австрийских бакенбард; гаванская сигара торчит из-под коротких усов, которым еще не придумали национальности. Тонкие губы искривлены сардонической усмешкой. (Многие журналисты находят во мне сходство с Мефистофелем. Им виднее; я не встречал его лично.)
Эрминия Оффенбах, урожденная Алькайне, его жена. Пятидесятилетняя дама со следами былой красоты…
Терпеть не могу эту пошлую фразу! Что значит «следы красоты»? Мне сразу представляется потекший грим у плохой актрисы. Красота либо есть, либо нет, как и невинность. А Эрминия была и осталась испанской красавицей, и так считаю не только я. Обмолвлюсь сразу: на этих страницах моя жена ни разу не появится собственной персоной, но это не имеет никакого значения, потому что в мыслях она всегда со мной. Я не могу прожить и дня, не вспомнив о ней, не написав ей, не рассказав ей обо всём, что меня занимает, и не хочу упустить ни единой возможности заявить всему свету, как много значит для меня лучшая из женщин и добрейшая из матерей.
Далее:
дети и прочие родственники, друзья, враги и завистники Оффенбаха;
артисты, либреттисты, журналисты, музыканты, моряки;
официанты, политики, банкиры, антрепренеры и другие – их я буду называть и представлять по ходу действия.
Итак…
Ах да, как же это я позабыл! Рихард Вагнер, директор недостроенного театра, шестидесяти трех лет, немец до мозга костей, создатель новой музыки, которую кроме него понимают и ценят еще восемь человек (включая баварского короля Людвига, сошедшего на этой почве с ума и уплачивающего его долги), гонитель евреев, способных, на его взгляд, издавать только скрип, писк и жужжание, а не песни или мелодии. Новатор во всём, он выпячивает подбородок дальше носа и обзавелся детьми прежде, чем женился на их матери. О нём сейчас столько говорят, что я, пожалуй, уделю ему небольшую роль. Он не просто мой оппонент – он моя полная противоположность. Ну вот, у нас есть герой и антигерой – можно начинать.
Картина первая: Бушующий океан
Я выехал из Парижа 21 апреля 1876 года. Меня сопровождали исключительно мужчины: два зятя – Шарль Конт и Ахилл Турналь, два шурина – Роберт и Гастон Митчеллы, несколько друзей и мой сын Огюст – услада моей старости, бальзам для измученной души. Я запретил жене и дочерям ехать с нами в Гавр, думая, что от этого прощание выйдет менее душераздирающим, но как же я об этом пожалел! Теперь я отдал бы всё на свете, чтобы еще раз прижать Эрминию к моей груди!
Отправление парохода было назначено на восемь утра. Поднявшись по сходням, я сразу встал у ограждения палубы, вглядываясь в толпу провожающих на пристани. Пока пароход шел вдоль мола, я старался не терять из виду небольшую группу, махавшую платками, хотя и не мог разглядеть ни лиц, ни фигур: у меня уже давно неважное зрение, да еще и слезы застили глаза. Но солнце, сиявшее в девственно чистом небе, отражалось в пуговицах форменного мундира моего сына (он учится в коллеже Станислава, в классе риторики), словно подавая мне знак.
Dolce, cantando
Рефрен (на мотив «Карильона» из «Великой герцогини Герольштейнской»):
- Отцы хотят достать до неба,
- Поставив на́ плечи детей,
- Но тяжело Атлантов бремя
- Для сыновей, для сыновей.
Мой сын Огюст появился на свет в шестьдесят втором году, почти одновременно с моими «Болтунами», но удался мне гораздо лучше. Это совершенно оригинальное произведение (после четырех дочерей я просто обязан был произвести переворот в нашем совместном творчестве с Эрминией), и на нём лежит не подлежащая сомнению печать автора (физическое сходство поразительное). Его рождение доставило мне невероятную радость, я чувствовал себя счастливым и спокойным за будущее Франции, но пару месяцев спустя, летом в Эмсе, меня обуяли совсем иные мысли: я поневоле оставлю сына сиротой слишком рано. Мне было тогда сорок три года (мой отец подарил мне жизнь в сорок, сохранив силы для еще троих детей), и я был уверен, что не доживу до шестидесяти. (Я и сейчас в этом уверен, почему и составил завещание год назад.) Поэтому я принял меры и заготовил впрок письма к сыну, чтобы оставить их у нотариуса. После моей смерти их будут посылать ему в назначенные дни. Таким образом, он сможет получать отцовские советы – единственное наследство, на какое ему приходится рассчитывать. Помимо партитур, разумеется. Это, конечно, не банковские билеты и не акции железнодорожных компаний, на такое наследство будет трудно прожить, зато его невозможно промотать.
Пока же я сам каждый день получаю письма от Огюста. Ему не было бы нужды тратиться на почтовые марки, если бы мы жили вместе, но он бывает дома лишь на каникулах, а я – еще реже. В этом секрет нашей счастливой семейной жизни с Эрминией (когда я вернусь, мы отпразднуем тридцать вторую годовщину свадьбы): она живет зимой в Париже и летом в Этрета, я же уезжаю на зиму в Ниццу, а всё остальное время разрываюсь между Веной, Пештом, Прагой, Брюсселем, Сен-Жерменом, тремя театрами в Париже, выбираясь летом на недельку в Баден. Понятно, что, если нам удается случайно встретиться на пару дней в этой бешеной гонке, наша радость не знает границ (а стоит нам пожить подольше вместе, как я из невероятного становлюсь невозможным). Дети тоже довольны: когда блудный папа приезжает в Этрета, на нашей вилле «Орфей» начинается буйное, шумное веселье, гости, праздники, маскарады, прогулки под луной, танцы до утра, шутки, песни, всяческие дурачества, взрослые дяди квакают, лают, мяукают, кричат петухами, ходят на голове… Потом папа снова уезжает, и можно вздохнуть спокойно.
При этом лучше всего мне работается именно в Этрета. Я привожу туда своих либреттистов – Анри Мельяка и Людовика Галеви, потому что нам нужно быть вместе, чтобы работа подвигалась. Принявшись за новую пьесу, ты словно женишься на своих либреттистах и всё время таскаешь их за собой. (А вот Вагнер выдаивает из себя либретто своих опер собственноручно.) Мельяк вечно влюблен и отлынивает от работы, Людо хнычет в письмах к своей матери, что я не отпускаю его домой, а я приписываю в конце, что и не отпущу, пока эти лентяи не выдадут мне достаточное количество стихов. Наконец, когда из наших споров рождаются несколько готовых кусков, я играю их Эрминии, чтобы узнать ее мнение, рассердиться, сказать ей, что она ничего не понимает в музыке, а потом признать, что она права. Огюст – второй человек, которого я допускаю на такие прослушивания. Он довольно прилично играет на пианино и пытается сочинять. Не так давно он прислал мне в постскриптуме к своему письму доминантсептаккорд ми бемоль и такие слова: «Когда я стану совсем-совсем стареньким, я буду дребезжащим голосом напевать твои мелодии моим внукам, а они будут гордиться тем, что я помогал великому Жаку в его работе!» В самом деле, у меня не вытанцовывалась модуляция в одной из сцен «Сказок Гофмана», и аккорд ми бемоль был именно тем, что нужно! Ах, милый мой мальчик! Надеюсь, музыка не мешает его учебе, а то еще завалит экзамены на бакалавра, балбес этакий!
Можно любить музыку и быть при этом врачом, инженером, промышленником, коммерсантом или политиком – не повредит. Мой благодетель граф де Морни, крестный отец Огюста (кстати, через месяц после крестин его повысили до герцога), был главой Законодательного собрания и удачливым дельцом, что не мешало ему сочинять водевили под псевдонимом «виконт де Сен-Реми». Я слегка помог ему с партитурой «Мужа по незнанию» (так, самую малость: оркестровал увертюру, куплеты, финал), а уж к «Месье Шуфлери останется дома» все музыкальные номера написал сам, чем обрадовал его, а не обидел. Но если музыка становится твоей единственной страстью, это беда: нужно либо иметь большой талант, либо умереть.
Мое первое сочинение – «Дивертисмент на швейцарские мелодии» – напечатали в Кёльне, когда мне было двенадцать лет. Отец этим очень гордился. Он тоже писал музыку, но больше религиозную, например, кантату «Эсфирь, царица Персии» для праздника Пурим. Отец верил в мой талант, им же выпестованный (Исаак родил Иакова…), потому и отвез меня в Париж. Он мечтал о том, что я окончу Консерваторию, но я бросил ее через два года. Что мне там было делать? Мрачное здание, похожее на тюрьму, с отдельными входами для юношей и девушек и казарменной дисциплиной. Консерватория закладывает основы, преподает правила искусства, но не будит вдохновения – за вдохновением надо идти в театр, в свет, на танцы в Мабиль! Впитывать его из парижского воздуха! За три года в оркестре «Опера-Комик», вытвердив почти наизусть полтора десятка партитур Обера[1], я научился гораздо большему в области композиции и оркестровки, чем мог бы узнать в классе Фроманталя Галеви или даже самого директора Керубини, а выступления в аристократических салонах и на бенефисах сделали меня артистом. (Я отпустил волосы до плеч, подражая Ференцу Листу, и научился энергично ими встряхивать во время игры; однажды я упал в «обморок» рядом с истомленной негой виолончелью, дамы бросились воскрешать меня нюхательными солями, от которых я в самом деле чуть не лишился чувств, зато моя репутация виртуоза заметно окрепла.) Чего я мог добиться в Консерватории? Меня как иностранца даже не допустили бы к конкурсу на Римскую премию. Велика важность! Альфонс Тис, Ксавье Буассело, Жорж Буске – вам что-нибудь говорят эти имена? Все они получили Римскую премию. А еще шесть лауреатов почли за честь отдать свои произведения в мой театр «Буфф-Паризьен»! При этом маэстро Жак не загордился, а продолжал учиться у других (надеюсь, Берлиоз не узнал, что я пользовался его трактатом об инструментовке, когда писал партии валторны и трубы для «Рейнских русалок») и своим каноном из «Разбойников» вполне убедительно доказал, что прекрасно владеет контрапунктом. Господа критики могут сколько угодно называть меня недоучкой, их плевки до меня не долетают – уж очень высоко они задирают нос.
Я разочаровал отца не только тем, что ушел из Консерватории: я отрекся от веры, в которой был рожден. Но не потому что «культурный сын еврейства», пользуясь словами Вагнера, просто обязан так поступить, чтобы «избавиться от проклятия Агасфера». Если бы я этого не сделал, то не смог бы жениться на Эрминии. Гуно заставили пойти под венец с дочкой коллеги Циммермана, Бизе посватался к дочке своего учителя Галеви, я же мечтал о девушке совершенно иного круга, и мне не навязали ее, а заставили заслужить. Переход в католичество был лишь одним из условий, выставленных ее родителями, причем не самым главным: прежде я должен был иметь успех за границей. Я поехал в Лондон, выступил там перед королевой Викторией, принцем Альбертом и прочей венценосной публикой, вернулся и получил руку королевы моего сердца. Отец в конце концов простил мое вероотступничество. Он понял, как ему повезло, что у него непослушный сын. Уж если на то пошло, то в детстве он запрещал мне играть на виолончели – слишком громоздком инструменте для моего хилого телосложения, так что поначалу я учился тайно, а потом въехал на виолончели в парижский бомонд, точно на боевом коне! Меня и в Консерваторию-то приняли только потому, что желающих играть на виолончели было мало: наибольшим спросом пользовались рояль и скрипка. (Ференца Листа, например, не взяли.) Да здравствует непослушание! Отец Адана, преподававший игру на рояле в Парижской Консерватории, не желал, чтобы сын пошел по его стопам, но Адольф тайно и усердно занимался музыкой, и когда ему исполнилось четырнадцать, отец с удивлением увидел его среди студентов Консерватории – но не своих, а Франсуа-Адриена Буальдьё, в классе композиции. Отец Берлиоза, напротив, хотел, чтобы сын избрал себе его стезю, то есть стал врачом. Позволив Гектору научиться играть на дудочке, флейте и гитаре, он строго-настрого запретил ему и близко подходить к роялю, а в семнадцать лет отправил в Париж изучать медицину, но вместо анатомического театра Берлиоз часами просиживал в библиотеке при Консерватории над партитурами Глюка, а случайно оказавшиеся у него деньги тратил на походы в Оперу. Да что там, если бы Вольфганг Амадей Моцарт во всём слушался своего отца, он так и остался бы придворным музыкантом взбалмошного архиепископа.
У меня всего один сын, а у отца нас было трое: Юлиус (во Франции он стал Жюлем), я и Михель. Любил ли отец нас всех одинаково? Мне кажется, он всё же предпочитал меня, отводя Юлиусу, хоть он и старше, роль моей опоры. Жюль это чувствовал и, конечно же, ревновал[2]… А Михель, самый младший в семье, был не менее талантлив, чем я (по крайней мере, как виолончелист), но внезапно умер, не дожив до пятнадцати лет. Это было огромное горе для всех нас, матушка так от него и не оправилась и угасла сама – ровно через девять месяцев… Лишь бы мой Огюст был здоров; у меня ведь нет трех сыновей. Как я перепугался шесть лет назад, когда он упал с пони и расшибся! К тому же лошадь разбила копытом ему лицо, раскроив его миленький носик пополам! Ударь она чуть повыше – и мальчика было бы не спасти. К счастью, в Этрета отдыхал тогда знаменитый хирург; он зашивал раны целых полтора часа – я совершенно извелся за это время. Как раз тогда Франция объявила Пруссии войну; я не обратил на это никакого внимания, поглощенный куда более важными заботами.
Мой отец верил в меня с теми же простодушием и добросовестностью, с какими ходил в синагогу. Когда я узнал, что он сложил с себя обязанности кантора, то немедленно послал Жюля в Кёльн: что-то не так. Отцу перевалило за семьдесят, но двумя годами раньше, когда я привез к нему свою повинную голову, Эрминию и нашу маленькую Берту, он был бодр и крепок, Эрминию полюбил, как собственную дочь, а мне вернул свое благорасположение. Даже после провала моей комической оперы в Кёльнском театре (парижские любители исполняли ее куда лучше, чем профессиональные кёльнские актеры) он не отчаялся и не утратил своей веры. Моя тревога оказалась ненапрасной: отец тяжело заболел – язва кишечника… Той весной 1850 года я купался в любви интеллигентной публики, аристократическое население парижских салонов следовало за мной по пятам, оглушая криками «браво!», на один из моих концертов пришел великий поэт Виктор Гюго, недавно ставший депутатом, и тут я узнаю из газет, что мой отец скончался! Сестра Нетта и Жюль молчали как могила – они, видите ли, не хотели мешать моему триумфу! Только один старый знакомый в конце концов написал мне о его кончине, и то лишь через несколько дней после похорон. Как я был на них зол тогда! Каким мишурным показался мне мой успех, который я не мог разделить со своим отцом! Его портрет висит в моем рабочем кабинете, поэтому отец всегда первым слышит мою музыку и видит, что я не бездельничаю. Я не уверен насчет возможности вечной жизни – об этом никто не может знать наверное, – но пока я помню об отце и рассказываю о нём другим, он всё ещё жив. Ах, Огюст, боюсь, что и мне суждена та же участь – следить за твоими успехами из портретной рамки…
Но вернемся к моему путешествию.
«Канада» – красивый пароход, сияющий новизной. Как и я, он совершает своё первое путешествие в Америку. Я много раз бывал на премьерах и уже не испытываю особого волнения. Что ж, посмотрим, каким выйдет его дебют.
Поскольку мне предстояло провести здесь почти две недели, имело смысл познакомиться с местным обществом.
Капитан Франжёль – настоящий моряк, превосходный человек и очаровательный собеседник, делающий всё возможное, чтобы скрасить пассажирам однообразие длительного переезда. Старший стюард Бетселер уже «имел счастье», как он выразился, потерпеть кораблекрушение: он находился на «Жиронде», когда та столкнулась с «Луизианой» и затонула. Он чудесным образом спасся, а потому больше ничего не боится. Судовой врач Фламан тоже едет через океан впервые. Бедный доктор! Медицинское образование – не защита от морской болезни. Через сутки он перестал выходить к столу, и я доставлял себе удовольствие справляться каждое утро о его здоровье. Что касается пассажиров, то среди них были две хорошенькие девушки из Филадельфии, несколько коммерсантов, следующих на выставку, и несколько участников выставки, преследующих коммерческие цели, а также еще с десяток человек, о которых мне ровно нечего сказать. Моя свита состояла из Лино Бакеро, заманившего меня на этот пароход длинным долларом, его секретаря Ариготти – бывшего тенора, воспитанника Парижской Консерватории, который потерял голос, но нашел хорошее место (он легко заводит связи и непринужденно играет на пианино), Булара, которого я взял себе в помощь на случай, если ревматизм помешает мне дирижировать, а он потащил с собой молодую жену, и мадемуазель Эме, уже бывавшую в Америке.
Она вернулась оттуда, осыпанная бриллиантами (скорее всего, фальшивыми), и вышла в них на сцену в роли Марго – «Состоятельной булочницы», которую мы с Мельяком и Галеви писали для Шнайдер. У Гортензии бриллиантов не меньше, и чистой воды (она привезла их из России), но она отказалась от роли, решив, что будет не так ярко сиять, деля сцену с Паолой Марье, игравшей Туанон. Ах, эти женские склоки! Сколько хороших пьес они погубили! Гортензия была бы великолепна и в рубище, ведь у нее и сильный голос, и стать, и актерский талант, а все павлиньи перья мадемуазель Эме критики повыщипали уже после премьеры, посмеявшись над ее «вороньим карканьем», от которого перекашивает ее «унылое невыразительное лицо». (Есть критики, которые считают, что в газетах можно печатать что угодно; попробовали бы они высказать то же самое вслух! Их перестали бы принимать в приличном обществе.) «Булочница» сошла со сцены после сорок седьмого представления, в начале декабря прошлого года. Людовик ныл о том, что иначе и быть не могло: наша троица исписалась, сколько можно сочинять эти куплеты, хоры, марши, рондо, финалы, нам уже не двадцать и даже не сорок лет, с опытом приходит осторожность и опасливость, а для нашего жанра нужны дерзость, фантазия и бесстрашие, побеждают те, кто способен спрыгнуть с кручи, а мы ищем лестницу… Пусть говорит за себя! Я убедил Бертрана возобновить «Булочницу» в мае – ах, как жаль, что меня не будет в это время в Париже! На роль Марго возьмут Терезу – жемчужное зерно, которое я отыскал в навозной куче кафе-шантанов. Какая стать, какой задор, какая четкая дикция и что за голос! Когда сборы от «Путешествия на Луну» пошли на спад, я специально для нее написал целую роль – четыре музыкальных номера! – и Тереза совершенно покорила публику «Гэте». Многочасовую феерию теперь давали дважды в день! Ну и кому, как не ей, сыграть булочницу, выбившуюся в люди?..
Первые два дня путешествия прошли очень хорошо, погода стояла прекрасная. Я замечательно выспался в субботу во время стоянки в Плимуте. К покачиванию корабля даже привыкаешь, так что в ночь на воскресенье, когда пароход вдруг остановился, я проснулся, как от толчка. Испугавшись, не случилось ли какой беды, я спрыгнул с койки, натянул одежду и поднялся на палубу. Тревога оказалась ложной, корабль продолжил плавание, но сон мой улетучился, и покой тоже. Я снова лег одетым, опасаясь несчастья, поскольку пароход останавливался каждые четверть часа, винт работал нерегулярно. Словно этого было мало, разразился шторм.
Жуткая болтанка не прекращалась; всё, что не было как следует прикреплено, упало и разбилось; невозможно было ни стоять, ни сидеть. Желудок прыгал то вверх, то вниз, и никак нельзя было остановить этот гадкий танец, от которого выворачивало нутро. Я уже думал, что больше не увижу своих близких; «Эрминия была права» – эти слова давно вошли в пословицу среди моих родных и друзей…
Оставаться один в каюте я не мог; уже в понедельник мне устроили постель в салоне. Капитан и весь экипаж были чрезвычайно добры ко мне и проводили со мной часть ночи, всеми средствами стараясь меня успокоить.
– Вы бы только взглянули, как наш корабль погружается в волны и через минуту появляется из них во всем великолепии! – взывал к моему артистическому чувству Франжёль.
– Mein lieber Kapitän[3], – отвечал ему я, – для зрителя видеть шторм со стороны, должно быть, чертовски интересно, aber как актер, получивший роль в этой пьесе, я нахожу ее вовсе несмешной.
В комической опере «Робинзон Крузо» есть сцена кораблекрушения. Конечно, я видел и море, и корабли, причем очень близко: летом в Этрета, а зимой в Ницце, но чаще с берега, поэтому, чтобы передать шторм, я шел путем всех композиторов: вот струнные резкими спиккато создают тревожное настроение, затем вступают духовые, изображая взбухающие валы, а литавры и барабаны – гром и брызги… Мог ли я знать, что своими ушами услышу музыку океана в самой его сердцевине и она отнюдь не поразит меня своей красотой! Этот монотонный шум ветра, натужное гудение машины, шипение волн, перекатывающихся через палубу – публика в театре не стала бы слушать такое и десяти минут, а мне приходилось выдерживать ее несколько суток! И они ещё смели критиковать мою партитуру!
В этом январе мы просмотрели ее с капельмейстером Венской Оперы – mein Gott, что за музыка, какая оркестровка! Я и забыл, какой шедевр написал! За день до этого я восторгался «Кармен» и жалел беднягу Бизе, не дожившего до своего триумфа, для которого всего-то нужны были приличные музыканты и хористы. Но что такое «Кармен» по сравнению с «Робинзоном» – так, мелочь, почти оперетта рядом с оперой, Яунер мне так и сказал. Он трижды сыграл финал второго акта на пианино – я не просил его, он сам захотел. Вот почему люди ходят в театр: им хочется красоты, которую они сами не способны отыскать без помощи искусства.
В самый разгар бури, когда почти все молились шепотом, предавая свою душу в руки Господа (и я не был исключением), молоденькая американка сказала своей младшей сестре: «Будь добра, попытайся сойти вниз и принеси мою хорошенькую шляпку: я хочу умереть во всей красе!» «А перчатки принести?» – уточнила младшая.
Самуил Маас, женившийся на моей сестре Изабелле, рассказывал, что его первая попытка попасть в Техас из Южной Каролины, где он жил прежде, окончилась неудачей: он зафрахтовал шхуну, нагрузив ее древесиной для постройки дома, и отправился в Галвестон, но судно разбило штормом о коралловые рифы, и ему пришлось добираться до берега вплавь. Несмотря на такие рассказы, Изабелла всё же уехала с ним в те гиблые места. Теперь у нее четверо детей и внуки, а с мужем она больше не живет – переехала в дом через улицу. Но меня-то, счастливого мужа, отца и деда, меня-то что погнало туда, в самом деле?..
Путешествовать для собственного удовольствия! Обман, красивая фраза. Удовольствия в этом мало, а сдвинуться с насиженного места человека заставит только пинок судьбы. Или алчность. Все великие географические открытия совершили пираты, разорившиеся купцы и работорговцы, а населяли новые земли висельники, каторжники, проститутки, диссиденты, гонимые на родине, и прочий люд, решивший сыграть с судьбой в рулетку, поставив на кон всё, что осталось, то есть свою жизнь. Вот и я еду за океан обирать аборигенов, но я же не собираюсь приставлять им нож к горлу, зачем же и мне платить по той же ставке?
Как хорошо, что у всего на свете есть конец! (Хотя применительно к жизни нас это и не радует.) Шторм продолжался целых три дня и четыре ночи, но затем выдохся и утих. Пятого мая мы подошли к Нью-Йорку, успев повеселеть и привести себя в порядок.
Наш пароход ожидали гораздо раньше и даже устроили морскую прогулку для нашей встречи. У Санди-Хука (узкой песчаной косы с маяком, преграждающей вход в гавань) стояли разукрашенные кораблики с венецианскими фонарями, на которые погрузились журналисты, зеваки и военный оркестр из семидесяти музыкантов. Конечно, американцы нам многим обязаны: это же французы помогли им выиграть войну за Независимость и продали им Луизиану по сходной цене. Правда, никто из находившихся на «Канаде» не имел к этому никакого отношения, но всё же мы могли рассчитывать на теплый прием. Поскольку мы всё не ехали, встречавшее нас судно всё дальше отдалялось от берега; на борту пели, смеялись, оркестр играл попурри из моих мелодий, но постепенно морская болезнь брала свое, не щадя и музыкантов. Получилось, как в прощальной симфонии Гайдна, когда музыканты один за другим прекращают играть, гасят свет на пюпитрах и уходят. Этим уйти было некуда, и теперь они исторгали из себя… отнюдь не гармоничные звуки.
Вслед за музыкантами к нам причалило другое судёнышко – с главными репортерами нью-йоркских газет. Оказалось, что встречали одного меня! Если бы я не был таким скромным, я бы возгордился. Пока продолжались манёвры в порту и разные таможенные формальности, я два часа отвечал на вопросы журналистов, стараясь не ударить лицом в грязь. К прибытию в Нью-Йорк мы уже были добрыми друзьями. К тому же мне рассказали замечательную историю.
В конце прошлого века главным врагом нью-йоркцев была желтая лихорадка: от нее умирали тысячами. В 1799 году, по решению городского совета, на краю острова Статен построили Морской госпиталь, или Карантин, который со временем всё расширялся, взбираясь на холм, и через сорок лет насчитывал с дюжину больничных корпусов, способных вместить тысячу больных одновременно. Желтая лихорадка внушала такой страх, что суда, имевшие на борту заболевших, должны были вывешивать желтый флаг и становиться на якорь в Нижней бухте, ближе к океану. Если санитарный инспектор обнаруживал хотя бы одного больного на борту какого-либо судна в доках Манхэттена или Бруклина, корабль со всей командой отправляли в Карантин. Туда же свозили эмигрантов, заболевших по дороге холерой, оспой, желтой лихорадкой или тифом – подцепить на нижней палубе какую-нибудь дрянь было легче легкого, особенно для бедных ирландцев, едва таскавших ноги от голода. Умерших хоронили прямо на территории Карантина в безымянных могилах, закапывая по трое-четверо в одну яму. А выжившие потом селились в Нижнем Ист-Сайде на Манхэттене, довольно далеко от Карантина. Зато до городка Каслтон от него было рукой подать, и местные жители считали морской госпиталь рассадником заразы.
В самом деле, трехметровый забор вокруг Карантина не был преградой для москитов, переносивших желтую лихорадку, а санитары и прочая обслуга часто бегали через дорогу в паб «Наутилус», где всегда было не протолкнуться. В итоге на Статене то и дело возникали очаги «черной рвоты», а недвижимость падала в цене из-за опасного соседства. В 1856 году Санитарное управление Каслтона строжайше запретило выходить из Карантина в город, а местные жители для надежности построили баррикады. Нью-йоркские власти попытались было перенесли Карантин на другой конец острова, но едва построенные корпуса сразу спалили. Через два года, летом, желтая лихорадка вернулась, и граждане решили истребить Карантин, точно Содом и Гоморру.
С наступлением темноты к нему ринулись толпы, вооруженные топорами и спичками: одна толпа вынесла ворота, другая сломала стену. Больных вытаскивали на улицу, а их соломенные матрасы поджигали; служителям не давали тушить огонь. Багровое зарево над Статеном было видно издалека. На следующий день, отпраздновав победу в «Наутилусе», поджигатели захватили с собой таран и снесли кирпичную женскую больницу, спалив заодно пирс и дома для врачей. Бездействовать далее власти уже не могли: из Нью-Йорка явилась сотня полицейских с пушкой, за ними следовала армия. Зачинщиков погрома арестовали; на суде они утверждали, что защищали свою жизнь и имущество, и судья с ними согласился: он сам владел недвижимостью в миле от Карантина.
Властям предстояло решить задачку не из легких: Карантин необходим, но устроить его нужно так, чтобы его нигде не было. Правительство оказалось в замешательстве, однако в Америке, в отличие от Европы, это состояние никогда не длится долго. Больных стали направлять в плавучий госпиталь, а тем временем землекопы уже взялись за дело. Раз обитаемый остров не хочет принимать больных, решили власти, надо построить два необитаемых, чтобы некому было возражать.
Так появились два островка с конторами, больничными корпусами и крематорием, куда направляют всех приезжих с подозрительными симптомами. Мне это не грозило: у меня настолько слабое здоровье, что нет сил болеть, поэтому я отправился прямиком на Манхэттен.
Картина вторая: Нью-Йорк
Нью-Йорк расчерчен, как по линейке, прямыми улицами и авеню – префект Парижа барон Осман пришел бы в восторг. Американцы не имеют привычки, как мы, называть улицы в честь людей, находящихся у власти, чтобы потом переименовывать всякий раз, как власть переменится. К примеру, я живу в Париже на улице Лаффита, которая до революции (самой первой) называлась улицей Артуа в честь брата короля, после казни короля получила имя революционера Черутти, с новым воцарением Бурбонов опять стала улицей Артуа, а после новой революции (1830 года) была переименована в улицу Лаффита, потому что на ней жил банкир Жак Лаффит – премьер-министр и министр финансов Луи-Филиппа. Как хорошо, что барон Ротшильд, мой сосед, довольствовался титулом короля банкиров и не искал для себя никакой должности в правительстве, иначе улицу переименовали бы снова. В Америке же, где каждые четыре года избирают нового президента, наш обычай вызвал бы большие неудобства: за двадцать лет одна и та же улочка получила бы побольше имен, чем самый знатный кастильский идальго. Поэтому американцы присваивают улицам и авеню порядковые номера. Никакой политики и ничего не надо менять.
Здесь есть, впрочем, одна улица, не подчиняющаяся правилам и пересекающая Манхэттен наискосок, но и она носит нейтральное название – Бродвей, «широкая дорога». Это самый оживленный район города, поэтому на Бродвее находятся театры и редакции главных газет. Если вам нужно поместить объявление в газету, оглядитесь вокруг, найдите самый высокий дом и смело заходите: там и будет редакция. Например, в здании «Нью-Йорк трибюн» десять этажей и еще башенка с часами. Ночью такой дом освещает своими огнями весь квартал. Во Франции газету называют светочем в переносном смысле слова, а здесь – в прямом.
Храм американской печати – лишь второе по высоте здание в Нью-Йорке; первенство за обычным храмом – церковью Троицы. Американские журналисты рассказали мне, что это уже третье здание, выстроенное на том же месте – лицом к Уолл-стрит. Первое погибло от огня во время войны за Независимость, второе развалилось под тяжестью снега, и тогда за семь лет построили эту церковь в готическом стиле – такую высокую, что ее сияющий золотом крест служит маяком для кораблей, заходящих в нью-йоркскую гавань. Семь лет! Кёльнский собор строят уже больше шести веков, и он до сих пор не завершен.
Нашу компанию доставили на трех извозчиках в отель на Пятой авеню, где нас дожидался Морис Грау. Это молодой человек, ему лет двадцать семь, но выглядит он на все сорок: работа без отдыха, заботы и неприятности состарили его до срока и убавили волос на голове. Он ведет самую лихорадочную и всепоглощающую жизнь во всей Америке, ведь ему случалось руководить пятью театрами сразу: итальянской оперой в Нью-Йорке, французским театром в Чикаго, опереттой в Сан-Франциско, английской драмой в Гаване и испанской комической оперой в Мексике. Теперь он переключился на организацию гастролей знаменитостей и начал с того, что привез в Америку Антона Рубинштейна, который дал двести концертов меньше чем за полгода – иногда по два концерта в день. Жаль, что мы с ним не встретились, интересно было бы взглянуть на него сейчас. Я знал Рубинштейна, когда ему было лет двенадцать, а мне двадцать два. Тоже еврей-выкрест, говоривший по-немецки, только из России. Он приехал в Париж поступать в Консерваторию по классу рояля, а его туда не приняли, поэтому через несколько лет он основал свою собственную Консерваторию – в Санкт-Петербурге. Мы с ним дали всего один салонный концерт: сыграли две части бетховенской сонаты для виолончели и фортепиано, а затем я исполнил соло «Большую фантазию на русские темы». Через два месяца, когда закончится контракт со мной, в Нью-Йорк приедет знаменитый итальянский трагик Росси, и Грау будет возить его по Америке целый год. Могу лишь посочувствовать обоим.
Мне, конечно же, не терпелось посетить театр. Грау рекомендовал театр Бута, но затруднился сказать, что именно там дают нынче вечером. В этом зале могут играть трагедию, комедию или оперу – смотря какая фантазия придет директору, снявшему помещение на год, на месяц или даже на неделю. Я немедленно отправился туда в сопровождении любезного мистера Бакеро; давали «Генриха V» Шекспира. Постановка была очень красивой; парочку идей можно будет занять для «Мадам Фавар»… Для того я и хожу по разным залам – восхищаясь как артист, но и прицениваясь, точно барышник на ярмарке. Сколько молодых дарований я привез в Париж из-за пыльных кулис провинциальных театров! А из Лондона мне доставили стадо овечек – почти как настоящих, не катившихся на колесиках, а топотавших по сцене с громким «бе-е». Я собирался использовать их для «Дон Кихота».
Люди совершенно утратили воображение; им подавай, чтоб на сцене было всё как в жизни. Во второй картине «Путешествия на Луну» декораторы в точности воспроизвели купол парижской Обсерватории, а в шестой царь Космос едет на настоящем белом верблюде в хрустальный дворец (какой переполох поднялся на бульварах, когда это животное вели в «Гэте» из Булонского леса!). Мы сами приучили к этому публику; директора театров вынуждены тратить огромные деньги на декорации, чтобы зритель, заплатив за билет, смог увидеть на сцене то, что каких-нибудь двести лет назад ему показали бы на улице бесплатно.
Когда Берлиоз ставил в Опере веберовского «Волшебного стрелка» (кажется, в сорок первом году), он со всеми переругался, потому что ему был нужен настоящий скелет для мрачного явления в третьем акте, а бутафорский, деревянный, его не устраивал. Директор заявил ему без экивоков, что больше не выделит ни франка на покупку реквизита, добывайте ваш скелет, где хотите, хоть собственный используйте. И Берлиоз в самом деле отрыл на каком-то чердаке самый натуральный скелет, так что публика чуть не поседела, а нескольким дамам сделалось дурно. А вот немцам было бы достаточно показать картинку с черепом и костями: музыка Вебера дорисовала бы остальное.
Мы покинули театр после второго акта, и Бакеро отвел меня в другой. Нью-йоркские театры не так велики, как здания газет, и все построены по одному образцу: обширный амфитеатр с большим количеством рядов; всего восемь лож: по четыре справа и слева у авансцены, галерка… Ложи, кстати, пустовали, хотя зал был полон: лучшее общество предпочитает партер и балкон первого яруса. Давали комедию, но я был не способен ее оценить, поскольку не настолько хорошо владею английским. Мы потихоньку ушли; в вестибюле мой спутник указал мне на господина средних лет, стоявшего у кассы, и сказал, что это директор. Он уже разорился раз семь, но в этом сезоне, кажется, собрал превосходную труппу.
– Где же он взял деньги? – удивился я.
– Ему одолжили люди, которым он должен, в надежде вернуть себе всё за счет хороших сборов.
Ах, если бы в Париже рассуждали так же!..
Вернувшись из театра в отель, я увидел толпу, собравшуюся под балконом, поверх которого было написано большими буквами: Welcome Offenbach! Везде сияло электричество, было светло как днем. Оркестр из шестидесяти музыкантов устроил мне серенаду: играли из «Орфея» и «Великой герцогини». А уж аплодисментов-то, виватов! Мне пришлось выйти на балкон, точно Гамбетта[4], и громко крикнуть: «Thank you, sir!»[5] – фразу, в которой даже французские цензоры не нашли бы ничего фривольного или подрывающего устои власти. Американцы, похоже, остались разочарованы: надо полагать, они ожидали, что я спляшу на балконе канкан или сделаю что-то в этом роде. Их привлекла сюда заметка в «Нью-Йорк таймс», где говорилось, что «г. Оффенбах уже давно открыл беспроигрышный способ нажить богатство – поставить свой музыкальный дар на службу безнравственности». Они явились строго осудить безнравственность, предварительно насладившись ею, а я оставил их голодными.
В Европе понятия не имеют, что такое американский отель. Всё под рукой. При каждом номере, состоящем из спальни и гостиной, – туалетная комната, ванная и таинственное помещение, помеченное буквами WC, – никаких умывальных тазов и ночных горшков! Первый этаж гостиницы представляет собой огромный базар, торговый город, где представлены все ремесленные цеха. Есть свой парикмахер, свой шляпник, свой портной, свой аптекарь, свой книготорговец, даже свой чистильщик обуви. Можно войти в отель голым, как Адам, и заросшим, как Авессалом, а выйти этаким графом д’Орсе, законодателем мод. Нет только полиглотов. Среди двухсот коридорных не найдется ни одного, говорящего по-французски. Это очень досадно, когда сам не говоришь по-английски, хотя и немного понимаешь этот язык.
Платя за номер двадцать долларов в сутки, вы получаете право есть весь день. С восьми до одиннадцати завтрак, с полудня до трех часов ланч, с пяти до семи вечера – обед и с восьми до одиннадцати – чай. На следующее утро, едва я вошел в огромную галерею обеденного зала, где выстроились в ряд полсотни столов, ко мне подскочил метрдотель и отвел на свободное место. (Со временем я узнал, что сопротивляться его воле бесполезно: не пытайтесь возражать, что вы предпочли бы сесть там или сям, надо делать, как велено. Метрдотель тут хозяин, он подсадит к вам за столик, кого захочет, и точка.) Гарсон сразу принес мне большой стакан воды со льдом, хотя я и не просил его об этом. Затем другой гарсон принес меню, где были перечислены восемьдесят блюд дня (я не шучу). Я выбрал три, но позабыл указать, какие именно овощи хочу для гарнира, и мне принесли все пятнадцать видов. Таким образом, я враз оказался перед тремя десятками тарелок: с супом, рыбой, мясом, гарнирами, вареньями, плюс десерты, каких нашлось не меньше десяти. При виде этого изобилия у меня закружилась голова и пропал аппетит.
В Париже я обычно обедал у Петерса на бульваре Итальянцев, в кафе Биньона или в «Золотом доме» на углу улицы Лаффита, где я живу, но с недавних пор полюбил кафе «Риш» рядом с Оперой. Там уже усвоили мои вкусы и всегда подают мне одно и то же: три ложечки яйца всмятку с половинкой корочки хлеба, кусочек котлетки из ягненка размером с орех, ложечку картофельного пюре и дольку яблока или груши. Я не люблю подолгу просиживать над тарелкой и тороплюсь поесть, чтобы закурить сигару. О, сигара! Само это слово исполнено volupté – сладострастной неги. Сначала предварительные ласки: отрезание кончика, раскуривание, и, наконец, этот горячий, сладкий вкус дыма, обволакивающий нёбо! (У меня есть drei Passionen, три страсти: сигара, женщины dann noch игра. Все три возбуждают, заставляя кровь быстрей бежать по жилам, дарят ни с чем не сравнимые моменты наслаждения и неизменно рождают в моей голове новые, чудесные мелодии.) В «Риш» я всегда сижу за круглым столиком недалеко от входа, за который подсаживаются мои друзья – либреттисты, журналисты; мы говорим о чём угодно, кроме работы. Для деловых обедов я снимаю там же или у Петерса cabineto particolioso. Если же я не могу выйти на улицу, обед из «Риш» присылают мне на дом, пока кухарка гремит кастрюлями, стряпая для Эрминии и детей. Я всю жизнь был худым и вряд ли когда-нибудь растолстею, какие бы усилия ни прилагали для этого в Америке, разве что лопну. Но последнее не входит в мои планы.
Итак, я очень быстро позавтракал, поскольку меня занимала лишь одна мысль: поскорее увидеть крытый сад Гилмора, где мне предстояло выступать.
Мне рассказали, что это бывший вокзал или что-то в этом роде, где знаменитый мистер Барнум, забавляющий публику показом уродов и всяких диковинок, устраивал цирковые представления, гонки на велосипедах и сражения между ковбоями и индейцами. Год назад его снял Патрик Гилмор – главный дирижер военных оркестров, участник Гражданской войны и организатор двух музыкальных фестивалей в Бостоне, для которых построили Колизей, вмещавший сначала шестьдесят, а затем и сто двадцать тысяч человек; на один из этих фестивалей он смог залучить Иоганна Штрауса из Вены. И вот теперь мне предстояло увидеть, во что капельмейстер 22-го пехотного полка, совершавший концертные туры по Европе, превратил бывший цирк.
Посреди зарослей тропических растений сооружена эстрада для оркестра на сто – сто двадцать музыкантов. Кругом фонтаны, лужайки, цветы, клумбы, по которым свободно гуляет публика. Прямо напротив входа – большой водопад, чтобы развлекать зрителей в антрактах имитацией Ниагары. Цветные фонарики образуют эффектную радугу, везде сияют тысячи огней. По обе стороны от эстрады – небольшие шале на семь-восемь человек: удачная замена театральным ложам. Любители слушать музыку с высоты могут занять места в амфитеатре или на большой галерее с обычными ложами, в общей сложности в зале могут разместиться восемь-девять тысяч человек. Всё вместе отдаленно напоминает Зимний сад в Париже, на Елисейских Полях, который когда-то пользовался бешеной популярностью, но просуществовал всего четыре года и был снесен, кажется, в пятьдесят первом, потому что управлявшее им общество разорилось. А какие веселые там закатывали балы! Зал Гилмора же еще этой зимой служил местом для молитвенных собраний, поэтому я был рад убедиться, что ни одна пальма не завяла от скуки.
В восторге от зала, я стал расспрашивать директора об оркестре; он заверил меня, что нанятые им сто десять музыкантов – лучшие в Нью-Йорке.
Директор Теодор Томас – немец из Нижней Саксонии; это мужчина лет сорока, усами и выражением лица напоминающий портреты Бисмарка. Мне рассказали, что он с шести лет выступал в концертах – отец обучил его игре на скрипке. Меня это не удивляет: с тех пор как Леопольд Моцарт с триумфом провез своего юного сына по королевским дворам Европы, каждый немецкий музыкантишка мечтает о том, что у него родится сын-виртуоз. И как только у него рождается сын, отец пытается сделать его виртуозом. (Мой отец тоже заставлял нас с Юлиусом играть в пивных и намеренно скостил мне два года, чтобы мое дарование выглядело моложе.) К десяти годам Теодор практически кормил всю семью, играя на свадьбах и танцах. Потом Томас-старший увез своих домашних в Америку в погоне за лучшей долей, и там Томас-младший играл в оркестрах, объехал все Штаты с сольными концертами, сам продавая билеты и публикуя в газетах рекламные объявления о себе. Скрипачом он был весьма посредственным и уже собирался вернуться в Германию, чтобы наконец-то обучиться своему ремеслу, как вдруг в Америку явился наш великий Жюльен, мир его праху, – дирижер от Бога, витавший по этой причине в облаках и не умевший считать деньги. Совершенно разоренный провалом в Лондоне своей оперы «Петр Великий», он сбежал от кредиторов, прихватив с собой два десятка музыкантов, а остальных набирал уже на месте. Семнадцатилетнему Томасу посчастливилось оказаться в их числе. Научившись у Жюльена управлять оркестром, он сменил смычок на дирижерскую палочку и с шестьдесят четвертого года, когда ему не исполнилось и тридцати, уже давал летние концерты в Нью-Йорке, Филадельфии, Цинциннати, Сент-Луисе… В октябре семьдесят первого он вместе с оркестром своего имени явился в Чикаго, но оказалось, что накануне ночью большая часть города сгорела, включая Оперу Кросби, где они должны были выступать. Выгодный ангажемент сорвался. Эта неприятность ударила его по карману, однако Томас быстро нашел выход из положения. Чтобы отличаться от других, он сделался популяризатором произведений Вагнера, используя свое знание человеческой психологии: каждому хочется почувствовать себя избранным, которому дано то, что недоступно серой массе, поэтому богатый сноб притворится, будто восхищен «музыкой не для всех», лишь бы не прослыть любителем вульгарной пошлости. Надо всё же отдать Томасу должное: он сумел собрать превосходный оркестр, используя самый надежный способ – деньги. Он хорошо платит, а потому всегда может рассчитывать на дюжину первоклассных исполнителей, не отстающих от него ни на шаг, куда бы он ни поехал.
Здешние музыканты входят в большое и могущественное общество, вне которого существовать невозможно. Любой, кто желает играть в оркестре, обязан стать его членом, исключений не делается ни для кого. Меня предупредил об этом Булар, которого в прошлый приезд сюда заставили вступить в общество, чтобы провести пару репетиций.
Общества, общества! Я сам состою в Обществе драматургов и композиторов, пишущих для сцены, и исправно плачу в него взносы. Оно еще ни разу не встало на мою защиту, зато, когда я был директором театра, меня то и дело вызывали «на ковер»: зачем я ставлю в своем театре свои произведения? Да потому что они приносят деньги, черт побери! Я не настолько богат, чтобы позволять себе провалы! Публика штурмовала «Буфф-Паризьен», но сборов всё равно не хватало на покрытие расходов, а они приговорили меня к штрафу в пятьсот франков. Пятьсот франков! Для театра на триста мест, где билет стоит полтора-два франка! Председателем Общества был тогда Огюст Маке – тень Александра Дюма-отца[6]. Тень всегда зла на солнце, хотя без солнца ее и не было бы.
Да, создавая (на ровном месте, заметьте!) «Буфф-Паризьен», я обещал ставить произведения молодых авторов, чтобы дать им возможность заявить о себе, и делал это. Я даже организовал конкурс молодых композиторов, для которых двери Оперы и «Опера-Комик» были закрыты – как, впрочем, и для меня самого: мне было тогда тридцать семь лет, а всем известно, что раньше сорока пяти на улицу Лепелетье не стоит и соваться.
В мире парижских театров есть три музыкальных кита: Опера, «Опера-Комик» и «Комеди-Итальен»; они получают субсидии из казны, как «Комеди-Франсез» и «Одеон». «Театр-Лирик» (бывшая «Опера-Насьональ») присоединился к ним только с 1864 года, после отмены привилегий. Подле них, на почтительном расстоянии, плавали «Водевиль», «Варьете», «Жимназ» и «Пале-Рояль», где разрешалось исполнять музыкальные номера, а «Буфф-Паризьен» бултыхался среди совсем уж мелкой рыбешки. Но я взялся доказать, что, хотя размеры сцены имеют значение – так же, как и количество актов, оркестрантов и актеров, – на качество музыки всё это не влияет. Публика никогда не уходила из «Буфф» неудовлетворенной!
Так вот о конкурсе. Из семидесяти восьми кандидатов отобрали двенадцать; шестерым из них дали либретто «Доктора Миракля», и первый приз (тысячу двести франков и медаль за триста франков, из которой пришлось сделать две) поделили Бизе и Лекок, ученики Фроманталя Галеви. Оба остались недовольны, особенно Лекок, усмотревший в решении жюри искательство и предвзятость и считавший, как все калеки[7], что к нему несправедливы. Золушке необходима фея-крёстная, чтобы попасть на бал во дворец, но охмурить принца, то есть публику, должна она сама, разве нет? Именно. Оперетты каждого из победителей сыграли по одиннадцать раз – всего одиннадцать! А на моего «Крокефера, или Последнего паладина» ломились целые толпы; в последний день карнавала пятьсот человек ушли ни с чем, не достав билетов! Бизе потом обратился к опере (Берлиоз ядовито писал в своей рецензии на «Ловцов жемчуга», что мы потеряли великого пианиста, читавшего с листа произведения любой сложности, – намекал, что композитора мы не приобрели), и после «Кармен» я готов простить Жоржу всё, тем более что бедняга уже умер. Зато Лекок вознамерился всем доказать, что он лучше меня, и после нескольких провалов всё-таки имел успех с «Дочерью мадам Анго» и «Жирофле-Жирофля» – «приличными» опереттами. Я слышал, что их собираются ставить даже здесь, в Америке. Ну ничего, мы еще посмотрим, надолго ли хватит у него пороху. Я-то могу писать, как он, а сможет ли он перещеголять меня?
Но я отвлекся. Я здесь гость, не стоит лезть со своим уставом в чужой монастырь. Когда началась репетиция, я дал музыкантам сыграть полтора десятка тактов и остановил их.
– Простите, господа. Мы только начали, а вы уже позабыли о вашем долге!
Мои слова привели их в недоумение.
– Как! – продолжал я. – Вы знаете, что я не состою в вашем обществе, и позволяете мне дирижировать?
Это всех развеселило. Подождав, пока стихнет смех, я добавил наисерьезнейшим тоном:
– Поскольку вы не удосужились сказать мне об этом, я сам прошу вас принять меня в ваше общество.
Мне стали возражать, я настаивал, говоря, что для меня большая честь – вступить в их союз, и в итоге сорвал продолжительные аплодисменты. Теперь мы стали одной семьей, и уже ничто не могло нарушить совершенной гармонии – в прямом и переносном смысле.
Оркестр в самом деле подобрался отличный: нам потребовалось только две репетиции на каждое произведение, составлявшее программу концерта. Одиннадцатого мая, в четверть девятого вечера, я занял свое место у пульта, встреченный фанфарами и аплодисментами довольно многочисленной публики. Мы сыграли увертюру к «Вер-Веру», романс из «Прекрасной Елены», танец дикарей из «Робинзона Крузо», увертюру «Прогулка вокруг Орфея», увертюру к «Острову Тюлипатан» (в Америке эту оперетту еще не ставили), «Скажите ему» из «Великой герцогини Герольштейнской» (скрипка пыталась заменить собой голос божественной Шнайдер… как голос Антонии в «Сказках Гофмана»!), марш монахов из «Ненависти», увертюру к «Хорошенькой парфюмерше», марш из «Короля-Моркови», наконец, новый вальс, который я сочинил специально для Выставки, и попурри «Оффенбахиана», которое даже пришлось бисировать. Несмотря на успех, я всё же чувствовал, что публика слегка разочарована: никто не пел и не плясал, а слушать несколько часов кряду симфоническую музыку, пусть и отменную, этим господам помогала лишь мысль о деньгах, потраченных на билеты.
Не утомил ли я и вас? Тогда скорее вон из этой духоты на свежий воздух!
Антракт!
Картина третья: Нью-йоркцы
Я недолго пробыл в отеле, где много едят и мало говорят по-французски. Через три-четыре дня я перебрался в частный дом на Мэдисон-сквер. Здесь я тоже дивился тому, как американцы умеют сделать свою жизнь комфортной. Мало того, что во всех квартирах обогреватели, во всех комнатах – газ, в любое время – горячая и холодная вода, так плюс ко всему в прихожей на первом этаже есть ещё три очень важные кнопки. Нажмите на первую – и явится поверенный, чтобы получить ваши распоряжения. Нажмите на вторую – к вашим услугам полицейский. Наконец, нажав на третью кнопку, вы поднимете тревогу в случае пожара, и к вашему дому тотчас примчится пожарная команда.
Пожарный инспектор мистер Кинг оказался моим поклонником. Он предложил мне составить ему компанию и устроить проверку огнеборцам после одного из концертов. Разумеется, я согласился.
Выйдя из сада Гилмора, мы направились к ближайшей пожарной части, находившейся на 18-й улице. Там стояла великолепная, блестящая, роскошная пожарная машина, в стойлах – три лошади под сбруей; пожарные спали наверху. «Встаньте в сторонке, чтобы лошади вас не задели, и засекайте время», – скомандовал мистер Кинг и трижды ударил в гонг, висевший на стене.
Дюжина мужчин, которые только что крепко спали, тотчас проснулись, вскочили, впрыгнули в комбинезоны, соединенные с сапогами, лямки на плечи, каску на голову, вниз по шесту – и вот уже лошади впряжены, люди сидят у насоса, возница спрашивает: «Ready?»[8] Мистер Кинг кивает мне: «Сколько времени?» Я смотрю на часы и не верю своим глазам: шесть с половиной секунд! Пожарным объявили, что проверка прошла успешно, и они, даже не ворча, вернулись досыпать. Я ставил феерии в театре, но в жизни не видал ничего подобного! Мой спутник улыбнулся, пообещав мне второй акт.
Мы пошли на Мэдисон-сквер и остановились у высокого столба с прикрепленным к нему железным ящиком.
– Я открою ящик, а вы, маэстро, нажмете на кнопку, – предупредил меня мистер Кинг. – Эта кнопка сообщается с шестью пожарными частями; ближайшая к нам находится в миле отсюда, самая дальняя – в полутора милях. И приготовьте часы! Готовы? Жмите!
Пробило полночь, но по улицам всё еще разъезжали экипажи. И вдруг на каждой авеню зазвонили колокола на фоне барабанной дроби. Экипажи тотчас прижались к обочинам и остановились, пешеходы замерли: пожар! Пожар! По опустевшим улицам мчались пожарные машины, пылая отсветами горящего в топке угля, отпыхиваясь паром. Через четыре с половиной минуты все шесть машин были возле нас, лошади выпряжены, пожарные рукава раскатаны. «Where?»[9] Им объяснили, что это проверка, и они отправились восвояси.
Сказать, что я был потрясен, – ничего не сказать. Я снова видел, как горит наша вилла «Орфей» в Этрета. Это было в шестьдесят первом году, третьего августа, как сейчас помню – в субботу. Пожар начался вечером, около десяти часов, в туалетной комнате в мансарде. Возможно, кто-то из Митчеллов забыл потушить окурок сигары… Sauve qui peut![10] Вернее, спасай то, что важно! Я вынес из дома детей, виолончель и партитуру «Комического романа», над которой тогда работал (правда, первый акт всё-таки сгорел и его пришлось переписывать заново), после чего уселся в кресло, чтобы любоваться спектаклем из первого ряда: как-никак я дорого заплатил за это развлечение. Из окна выбросили пианино; разумеется, его это не спасло, совсем наоборот. Смышленый слуга вынес несколько картин из гостиной, но всё остальное: мебель, белье, драгоценности, деньги – погибло в огне. На свет слетелись жители Этрета, рабочие и моряки, но не принесли с собой ни багров, ни ведер, ни воды. Некоторые из них пытались броситься в огонь, чтобы спасти какую-нибудь ценную вещь; Эрминия не позволяла им этого сделать: «Пусть всё сгорит, – повторяла она, – не рискуйте собой». Немецкая прислуга плакала навзрыд: столько добра пропадает! Но мадам Оффенбах, подобная античной героине, лишь вздохнула один раз: «Бедный дом!» – и всё.
Пожарная команда тоже прибыла, а как же.
- Карабинеры мы, порядка мы оплот.
- Кто, кроме нас, от бед людей спасёт?
- Но вот беда – случись беда,
- так поздно мы являемся всегда.
Можно подумать, что Мельяк думал о французских пожарных, когда сочинял эту песенку из первого акта «Разбойников», – слышали бы вы хохот, какой она вызвала в вечер премьеры!
Господин де Морни попытался меня утешить, добившись через свои связи, чтобы меня включили в списки кавалеров Ордена Почетного легиона. Меня наградили уже 15 августа, на именины императора. Красная лента рдеет теперь угольком в моей бутоньерке, когда я с невообразимым достоинством несу свой крест.
Через два года после моей виллы в Вене сгорел Театр Тройманна, и партитуры пяти моих успешных оперетт обратились в пепел. А Опера на улице Лепелетье горела целые сутки…
Черт побери, четыре с половиной минуты!
Не только это нам следовало бы перенять во Франции. В Америке каждый может установить в своем рабочем кабинете телеграф – это обычная вещь во всех отелях, кафе, ресторанах, даже в винных и табачных лавках. Неутомимая машинка будет с утра до вечера отстукивать новости со всех концов света, и вы, когда придет охота, сможете выудить из плетеной корзинки с бумажной лентой последние депеши из Парижа, о войне на Востоке[11] или о выборах в Цинциннати. В любой час вы будете знать котировки на бирже во всех странах мира, и новость о том, что вы разбогатели или разорились, настигнет вас в ту же минуту.
Из моего окна видна площадь Мэдисон-сквер, образованная пересечением Пятой авеню, Бродвея и 23-й улицы. Вся ее середина занята парком. К верхушкам деревьев прикрепили небольшие домики, полускрытые листвой: там живут воробышки, привезенные из Европы. Они находятся под защитой закона, трогать их запрещено, их почитают, точно голубей с площади Святого Марка.
На великолепных площадях Нью-Йорка очень мало памятников – ну разве что генералу Вашингтону на пересечении Пятой авеню и 14-й улицы, похожий на статую доброго короля Генриха на Новом мосту в Париже (по меньшей мере, конь точно такой же). Во Франции же чуть не каждый высечен в мраморе или отлит в бронзе! Художник Эдгар Дега любит объяснять иностранным туристам, что лужайки у нас огораживают проволокой, чтобы не пускать людей, желающих установить там статуи. С античными богами я бы еще смирился: они хотя бы отличаются друг от друга по характеру и аксессуарам, но воздвигать на каждом углу одинаковых господ в рединготах! Уж лучше подумать о дамах, вложивших столько фантазии в свои туалеты.
Поверьте старому женолюбу: нет женщин более соблазнительных, чем американки. Хорошеньких среди них куда больше, чем в Париже: на сто проходящих мимо женщин придется девяносто красавиц. К тому же они умеют одеваться – со вкусом, элегантно, тактично. Я покритиковал бы лишь одну деталь – карман на уровне колена, в том месте, где у знатных дам раньше висел кошелек для раздачи милостыни. В этот карман вставляют носовой платок. Издали белый краешек платка выглядит прорехой, в которую просвечивают интимные детали одежды… По крайней мере, для мужчин с плохим зрением и богатой фантазией, как я. А вот кошелек они носят не в кармане, а сжимают в руках: карманников в Нью-Йорке не меньше, чем в Париже.
Метелла в «Парижской жизни» говорит, что лишь парижанки умеют ходить пешком. Просто Мельяк и Галеви, вложившие ей в уста эти слова, не видели американок – как они ходят, семенят, уворачиваются от экипажей, приподнимая юбки кокетливым жестом и с особым искусством показывая изящные ножки. (Огромное спасибо княгине фон Меттерних, которая ввела моду на узкие юбки вместо кринолинов!) Начиная с полудня, молодые девушки, которых никто не сопровождает, смело заходят в элегантные рестораны и спокойно там обедают, будто какой-нибудь европейский холостяк. Иные поджидают на углу Пятой авеню заранее нанятый экипаж, чтобы отправиться на прогулку в Центральный парк. И никто не позволит себе увязаться за хорошенькой янки и уж тем более вступить с ней в разговор – даже чтобы предложить ей свой зонтик в дождь. У развращенного парижанина это в голове не укладывается. Чтобы предложить даме зонтик – вместе с сердцем или без, – нужно быть ей представленным. Если у вас нет общего друга или знакомого, который взял бы на себя эту роль, достаточно поместить объявление в «Нью-Йорк геральд».
Словно по контрасту, мужчины в Америке одеваются весьма небрежно. В театр или на концерт они являются в костюме, какой мы, европейцы, отважились бы надеть только для загородной прогулки или на водах. К костюму полагается круглая шляпа. Даже мужчины из высшего общества могут прийти на званый ужин под руку с элегантной дамой и в нелепой мягкой шляпе вместо цилиндра. Многие из них в любое время дня и ночи носят белый галстук. (Мой, черный, сразу выдает во мне приезжего.) С шести утра янки повязывает на шею полоску батиста, никак не сочетающуюся с его нарядом. Кроме того, иностранцам непривычно видеть странный выступ на поясе, под полой редингота. Именно там господа американцы обычно носят револьвер.
Гулять здесь ездят в Центральный парк, ничуть не похожий на наш Булонский лес с широкими аллеями, извилистыми тропками, искусственными речками и насыпными островками с мостом. Нью-йоркцы совершают моцион на большой каменистой равнине, искусно прикрытой ухоженным газоном, с несколькими купами деревьев, парой прудов и великолепными дорожками. В первый раз я побывал в этом парке в сопровождении Мориса Грау. Он встречал знакомых на каждом шагу. Одним низко кланялся, с другими же здоровался, едва касаясь пальцами края шляпы. Я попросил объяснений, и он растолковал мне, что градация поклонов соответствует количеству нулей после единицы: человек, который стоит миллион долларов, заслуживает наивысшего уважения. Мне вспомнилась давняя рецензия на мой самый первый концерт в зале Герца, в апреле сорок третьего года, когда я пытался покорить Париж как виолончелист-виртуоз: «Музыка бенефицианта идет на повышение, как сказали бы на Бирже; акции Оффенбаха держатся без изменений и прогнозы обнадеживающие». Шелест купюр и звон монет – вот музыка, приятная всем…
Здесь, в Америке, мне тоже кланяются почтительно, хотя завистливый шепот за моей спиной («Ему платят тысячу долларов за вечер!») вызывает у меня неловкое чувство, будто я украл эти деньги. Во Франции я могу сказать господам, желающим залучить меня к себе на праздник для развлечения гостей: «У вас нет столько денег». Это не значит, что, если бы мне заплатили миллион, я стал бы у них тапером. Всему свое время. Когда мы с Жюлем жили на улице Мучеников, рассчитывать приходилось на восемьдесят три франка месячного жалованья, какое платили музыкантам в оркестре «Опера-Комик» (посредственный певец получал вдесятеро больше), да и тех денег на руки не выдавали: однажды у меня вычли целых тридцать франков штрафа. Мы часто питались одной картошкой – если мне удавалось уговорить мамашу Морель в очередной раз отпустить нам товар в долг. Я ходил к ней с футляром из-под скрипки, чтобы не возвращаться с мешком картошки у всех на виду – пфуй! Затем я отправлялся пешком в особняк какой-нибудь графини или баронессы, закрываясь по дороге своей виолончелью от ошметков уличной грязи, и тщательно чистил в вестибюле брюки и башмаки, чтобы казалось, будто я приехал в фиакре. Элегантные дамы принимали меня не менее любезно, чем какого-нибудь успешного литератора или даже иностранного посла: они ценили во мне талант! Правда, вместо гонорара я получал бесплатный ужин, зато приобретал нечто более ценное – известность в свете; издатели платили за романсы до пятисот франков за штуку, если автор с именем. Ах, мои милые дамы…
Каждый день в Центральном парке дефилируют экипажи, да какие! Самые причудливые вариации на две главные темы. Первая – средневековая карета, чудовищная берлина, в которой можно легко разместить довольно много народу, но как же уродливы эти дома на колесах! Вторая – легкая крошечная коляска, максимум на двух человек, с откинутым верхом и поставленная на четыре столь тонких колеса, что напоминает паука. Девушки из лучшего общества часто ездят в багги одни и сами правят крепкими лошадьми.
Я посвятил прекрасным американкам вальс, который исполнили уже на втором концерте, четырнадцатого мая, вместе с вальсом «Американский орел», и здесь его тотчас переименовали в «Оффенбах-вальс».
Все знают, что я работаю быстро. «Г. Оффенбах регулярно сочиняет три вальса до завтрака, мазурку после обеда и четыре галопа между едой. Это юное дарование просит нас сообщить о потере белого носового платка с от руки набросанным вальсом. Нашедшему – вознаграждение», – эта заметка в «Менестреле», в марте тридцать седьмого года, обошлась мне в сумму, весьма существенную для моего бюджета, но как иначе могла заявить о себе «молодая знаменитость, о существовании которой музыкальный мир, к нашей досаде, и не подозревает»? Шутка только тогда вызывает улыбку, когда в ней есть доля правды.
Источники вдохновения порой встречаются в самых неожиданных местах, поэтому я всегда ношу с собой блокнот или либретто, чтобы делать пометки на полях, ведь Муза может и отказаться исполнить свою песню на бис. Но когда я уже ухватил ее напев и он зазвучал у меня в голове, я могу прокручивать его и так, и этак много-много раз, пока не получу то, что нужно, и лишь тогда перенесу на бумагу. Помните арию «Ах, как я люблю военных!» из «Великой герцогини»? Я отмел один за другим дюжину вариантов, пока не нашел нужный ритм – и не вальс, и не полька. Но когда я его нашел, когда он с удобством разместился в моей черепной коробке, мне уже ничего не стоило записать всю пьесу целиком, как я это обычно делаю: в центре страницы – вокальную партию, на двух нижних строчках – аккомпанемент на рояле, вкратце или полностью, а то и наброски оркестровки. Если музыка звучит внутри меня, внешний шум мне уже не мешает – мой друг Людовик Галеви никак не возьмет этого в толк и всегда удивляется, когда я пишу за разговором в веселой компании, покрывая нотный стан быстрыми штрихами, точно телеграфист: точки – тире, точки – тире… Для этого нужно лишь одно условие: душевный покой. К счастью, я всегда могу его обрести среди родных и друзей.
У каждого композитора своя манера работать. Глюк, чтобы мысленно перенестись в Тавриду или Спарту, ставил посреди луга фортепиано и сочинял на вольном воздухе, под палящим солнцем, потягивая шампанское. Сарти, напротив, требовалась большая, пустая, темная комната с единственной лампой под потолком; музыкальные идеи приходили к нему только среди ночи и в полнейшей тишине. Сальери уходил из дому бродить по самым людным улицам, поедая конфеты и держа под рукой нотную бумагу и карандаш, чтобы сразу записать пойманные на лету удачные идеи. Паэр написал «Камиллу», «Агнессу» и «Ахилла», шутя с друзьями, журя своих детей, отдавая приказания слугам, ругаясь с женой, лаская свою собаку и своего переписчика. Чимароза тоже любил шум и приятное общество. Обер сочинял свои оперы верхом, прогуливаясь по Булонскому лесу, Россини – за столиком в римских ресторанах.
Берлиоз однажды взялся писать кантату по стихотворению Беранже и никак не мог найти верную мелодию для рефрена – «Бедный солдат, я вновь увижу Францию!» Он бросил кантату и забыл о ней, но через два года, гуляя в Риме по берегу Тибра, оступился и свалился с кручи. Падая, он уже простился с жизнью, думая, что утонет в бурном потоке, однако бурный поток оказался мелкой речушкой с илистым дном. Воскресший Берлиоз выбрался на берег, распевая: «Бедный солдат, я вновь увижу Францию!» Неуловимый мотив был найден. Если бы мне каждая строчка давалась с таким трудом, я оказался бы в аду прежде «Орфея». Моя неутолимая жажда работать – один из моих неискоренимых пороков; мне искренне жаль людей, которые не любят мою музыку (как господин Золя, например), потому что им просто некуда от нее деться.
На втором нью-йоркском концерте я вставил в программу пьесы других композиторов: Вебера, Штрауса, Гуно, покойного Берлиоза – чтобы дать себе отдых: я дирижировал, только когда играли мои произведения, а потом меня сменял Макс Марецек – его ангажировали на этот вечер, чтобы понизить стоимость билетов для публики.
Макс – замечательная личность; у него умное, открытое, одухотворенное лицо. Он чех и мой ровесник; учился в Вене, работал в Париже и Лондоне, а в сорок восьмом году, когда в Европе разразилась очередная революция, уехал в Америку. Мне рассказывали, что однажды он рассорился со своими музыкантами за день до премьеры «Марии де Роган» Доницетти, всех уволил, за ночь набрал новый оркестр, в семь утра приступил к репетициям и вечером преспокойно сыграл премьеру.
На следующий вечер меня пригласили на обед в мою честь в клубе «Лотос»; там собрались литераторы, артисты, коммерсанты, банкиры, множество журналистов всех мастей. Я произнес тост за Соединенные Штаты, но не просто, а за Штаты, Соединенные с Европой. Мне бурно аплодировали.
Многие журналисты довольно долго жили во Франции и прекрасно говорят по-французски. Мне вспомнился великолепный ужин в парижском «Гранд-Отеле» по случаю сотого представления «Разбойников». Когда начались тосты, я встал и произнес речь по-немецки, Ксавье Обри ответил мне по-английски, Анхель де Миранда – по-испански. Тут слово взял наш весельчак Дезире: «Дамы и господа, я собирался сказать тост по-французски, но боюсь, что меня здесь не поймут, так что не буду». Ах, добрый толстяк Дезире, неподражаемый Юпитер из «Орфея в аду»! Как я сожалею, что его больше нет среди нас! Жизнь – такая дурацкая штука: хочешь не хочешь, а умирай.
Умереть в Америке можно только с разрешения властей. В газетах писали про одного пьяницу, который повесился, но неловко: его вернули к жизни. Затем его потащили к судье, который приговорил его к шести месяцам тюрьмы. Обычно за попытку самоубийства дают три месяца, но этот пьяница уже вешался раньше. Если у него и в третий раз ничего не выйдет, его, наверное, казнят.
Впрочем, для перехода в мир иной есть много законных способов. Например, попасть под лошадь. Но и это не так-то просто, поскольку в самых людных местах переходы через улицы вымостили особыми плитами и поставили там полисмена, который должен следить, чтобы пешеходов не давили. Надо видеть, как он с отеческой заботой переводит через улицу даму с ребенком, остановив все проезжающие экипажи. Некоторые американки специально делают изрядный крюк, чтобы их перевел через улицу страж порядка. Мне объяснили, что, если вам посчастливится попасть под лошадь на пешеходном переходе, вам выплатят солидную компенсацию, но если это случится в другом месте, то вы не только ничего не получите, но и заплатите штраф владельцу экипажа, которого вы задержали.
Гораздо вернее быть задушенным в давке внутри омнибуса, которые ходят каждые две минуты – по всем улицам проложены рельсы. Нью-йоркский car не похож на наши конки, которые парижане называют «американками». Во-первых, количество пассажиров не ограничено. Даже если все сиденья заняты, местечко всегда найдется. Можно стоять, держась за ремни внутри вагона, толпиться на платформе, сесть на закорки к кондуктору, если уж очень нужно ехать. Пока остался хоть один свободный выступ, незанятое колено, пустая подножка, кондуктор не объявит, что мест нет. Поэтому за скромную плату в пять центов в вагоне, рассчитанном на двадцать четыре пассажира, вполне могут проехать втрое больше людей, которым нужно попасть из одного конца города в другой. Эти car’ы очень популярны, ими пользуются даже мужчины и женщины из высшего общества. Судите сами: ехать на извозчике, конечно, удобнее, однако не каждый согласится заплатить полтора доллара за поездку в экипаже, запряженном одной лошадью, и два доллара, если ехать парой. Это же семь с половиной и десять франков! А если вы заранее не договоритесь о цене, чтобы, допустим, прокатиться в Центральный парк, с вас слупят целых семь долларов – тридцать пять франков за двухчасовую прогулку! Билет на поезд Париж – Руан, туда и обратно, стоит всего десять франков!
Между прочим, омнибусы, которые не ездят по рельсам, обходятся без кондукторов: пассажиры оплачивают проезд сами, без посредников, кладя монетку в специальную коробочку. Я спросил одного американца, много ли денег теряет компания при такой системе, и он ответил, что компания потратила бы больше на жалованье кондуктору и контролеру; положиться на честность сограждан обходится ей дешевле. Кстати, по вечерам эта коробочка, в которую кладут монетки, подсвечивается и превращается в фонарь. В таких мелочах и проявляется практичность американцев. На большинстве экипажей установлены гигантские зонты, которые не только защищают возницу от палящего солнца, но и несут на себе рекламные объявления, поэтому их меняют каждую неделю.
Реклама здесь повсюду: на улицах стоят триумфальные арки, воздвигнутые с единственной целью – сообщить о ближайшей распродаже. Стены домов оклеены плакатами неслыханной величины. Продавцы горчицы гравируют свое имя и адрес на булыжниках мостовой. В омнибусах и экипажах полно рекламных проспектов, не говоря уж об афишах. Я до сих пор не знаю, что такое «Созодонт», хотя это слово написано на каждом углу. Американец непременно выяснил бы, что оно значит, но я француз, я не настолько любопытен.
По ночам горят газовые и электрические рекламы; осталось только приспособить к этому делу волшебный фонарь. По улицам прохаживаются люди внутри бумажных кубов, подсвеченных изнутри и с надписями на всех четырех сторонах. Вот пала лошадь, целый день таскавшая конку с полусотней человек, – к ней тотчас бросается мальчишка, чтобы прилепить на морду афишу: «Масло для полоскания. Подходит для людей и животных». Бедная лошадь, ей теперь не поможет даже чудо-масло.
А вот еще один пример практичности: хитрые американцы изготовляют свои экипажи так, чтобы расстояние между колесами в точности совпадало с колеей для конки. Так ехать быстрее и менее утомительно для лошадей. Они съезжают с рельсов, только чтобы обогнать тяжелые сельские телеги.
В Нью-Йорке много ресторанов. Очень хорошо поесть можно у Брунсвика – он француз, чуть похуже – у Дельмонико, он швейцарец, довольно хорошо – у Гофмана, который немец. Есть еще итальянец Морелли, испанец Фраскати, у которого обед всегда стоит доллар с человека. Преимущество Брунсвика перед Дельмонико состоит в том, что у него огромный зал, каких в Париже не найти. Американских же ресторанов попросту не существует, даже в отелях кухня отдана на откуп иностранцам. Есть ли вообще такое понятие, как американская кухня? Чтобы узнать об этом наверное, надо попасть в гости к каким-нибудь простым людям, которые сами готовят себе еду, не нанимая для этого шеф-повара, но мне пока не представилось случая близко с ними познакомиться. Впрочем, наш плодовитый скульптор Бартольди – француз из Эльзаса с итальянской фамилией, изъездивший Соединенные Штаты вдоль и поперек от Нью-Йорка до Сан-Франциско, – находит американскую кухню отвратительной, а города (да и людей) – лишенными вкуса и очарования. Что ж, каждый находит то, что ищет.
Да, я забыл упомянуть о ресторанах, где едят бесплатно. Нашим рестораторам такое и в голову бы не пришло. Ни Биньон, ни Бребан, ни кафе «Риш» не завели бы бесплатный стол, такое возможно только в стране прогресса. В Нью-Йорке можно пообедать даром, если купить какой-нибудь напиток, пусть даже он и стоит десять центов. По воскресеньям, когда запрещено продавать спиртное, посетители в выигрыше, но им всё равно подают ланч. Я сам это видел у Брунсвика. А еще говорят, что в Америке жизнь дорогая! И не подумайте, будто бесплатным обедом не наешься. Вот, я списал меню: ветчина, огромный кусок жареной говядины, фасоль с салом, картофельный салат, оливки, корнишоны и пр., сыры, галеты. Главное блюдо – жареная говядина. Посетители могут сами отрезать себе кусок, какой понравится. (Вагнер, безуспешно старающийся стать вегетарианцем, наверное, окончательно сошел бы с ума.) Рядом с буфетом, где выставлены блюда из бесплатного ланча, стоит гора тарелок и насыпан курган из вилок и ножей, хотя люди обычно предпочитают брать еду прямо руками. Некоторые даже зачерпывают горстью из салатницы! Брр! До сих пор вздрагиваю. Я не мог удержаться от восклицания, и метрдотель счел своим долгом объяснить мне: time is money[12]. Эти господа спешат.
Они вечно спешат: приехать, уехать, заключить сделку или расторгнуть ее; не ходят, а бегают и даже спят впопыхах: сон – напрасная трата драгоценного времени.
Я тоже часто спешу и потому завел себе экипаж, чтобы не ходить пешком; на репетиции являюсь первым и сурово отчитываю опоздавших. Мой друг Вильмессан, главный редактор «Фигаро», называет опоздания на поезда моей «благородной привычкой» – не верьте ему, он шутит; я ненавижу опаздывать. Но мне же не придет в голову, например, разъезжать по улице в домашнем халате или, наоборот, спать во фраке, чтобы сэкономить время на переодевании!
Зато официанты здесь никуда не торопятся. Гарсон, который принес вам стакан воды со льдом, считает, что его миссия выполнена. Вам надо позвать другого, который принесет вам меню. Если вы желаете чего-нибудь выпить, второй гарсон не спеша пойдет и позовет к вам третьего, который и подаст напиток. Вот только гарсон, принесший бутылку, не имеет права ее откупорить, нужен четвертый – штопороносец (по крайней мере, так заведено у Брунсвика). В конце концов мне это надоело, и я заявил, что ноги моей не будет в этом заведении, если там не сменят порядки. На следующий день, когда я пришел завтракать, два или три десятка гарсонов, служивших в ресторане, выстроились в ряд на моем пути и каждый держал штопор.
Они не смогут воспользоваться этим инструментом в воскресенье, когда подавать спиртные напитки запрещено под страхом лишения свободы.
Кстати о свободе: негры – больше не рабы, о чём возвещали с такой помпой, но их не пускают в конки и прочие общественные экипажи, в театр – ни ногой, в ресторан – только прислуживать господам. Не скажу, впрочем, что во Франции дела обстоят совсем иначе. Мой друг Александр Дюма-сын как-то сказал о своем знаменитом отце, что тот готов сам сидеть на козлах своей кареты, лишь бы прохожие думали, будто у него кучер-негр. Между прочим, Дюма-отец негр только на четверть, а Виктор Кошина́, которого он сделал своим секретарем, когда тот только-только приехал с Антильских островов, – наполовину, что не помешало насмешнику Жиллю нарисовать его голым черным дикарем. (Впрочем, острый на карандаш Андре Жилль не щадил никого; меня он изобразил скелетом в пенсне, насилующим виолончель, – меня, которому виолончель отдавалась сама, томно постанывая под нежными прикосновениями моих ловких пальцев и никогда не подводящего смычка!) Кошина был адвокатом и журналистом в «Фигаро», а теперь ведет театральную хронику в «Желтом карлике», но он, скорее, исключение, чем правило. Чистокровные же негры, чего уж скрывать, могут рассчитывать лишь на карьеру клоуна Шоколада, раздающего оплеухи и получающего пинки под зад, или «Мисс Ла-ла», которой стреляют из пушки, – зато стены цирка оклеят аршинными афишами с их портретом.
Здесь мне рассказали о шоу «Менестрелей», в котором выступают негры. Меня это заинтересовало; в свободный вечер я отправился туда. Маленький зал, кругом одни африканцы: артисты, хористы, машинисты, кассир, контролёр, администратор, мужчины, женщины – все черномазые. Придя в театр, я увидел оркестр – негритянский, разумеется, – который наяривал кто во что горазд. Каково же было мое удивление, когда я понял, что привлек внимание музыкантов. Все эти черные господа указывали друг другу на меня. Вот уж никогда не думал, что меня знают столько негров, мне это даже слегка польстило. В Европе я уже привык, что меня узнают: когда я в Эмсе проходил мимо веранды для оркестра, музыканты начинали играть какую-нибудь мою мелодию; во Франкфурте, когда я по пути в Париж забежал в театр на репетицию «Болтунов», меня узнала публика, и мне пришлось выйти на сцену прямо в дорожном костюме. Но в Америке! Да еще негры! Спектакль был довольно смешной – упадок нравов, обманутые мужья, женщины, требующие права голосовать и участвовать в правительстве, и всё это под веселые танцы, напоминающие ирландские, и забавный аккомпанемент из скрипок, цимбал, барабанов и банджо. Я остался на второе отделение. Представьте себе мое удивление по возвращении в зал после антракта, когда та же комедия повторилась, то есть музыканты указывали на меня друг другу. На сей раз они были белые – белым-белешеньки, как мельники в «Булочнице». Мне стало ещё более лестно, но вот что такое слава: я узнал, что это были те же самые музыканты и что все, от директора до последнего машиниста, были ложными неграми, мазавшими и отмывавшими лицо три-четыре раза за вечер по ходу пьесы.
В «Робинзоне Крузо» мадам Галли-Марье, наша будущая Кармен, тоже мазала лицо морилкой, чтобы исполнить песню Пятницы: «Тамайо, брат мой!» Критики сочли эту песню достаточно негритянской, то есть оригинальной, но не странной до неприятного. Я-то рассчитывал познакомиться в Америке с настоящей негритянской музыкой, чтобы потом сочинять ее со знанием дела, но, видно, с этим придется обождать.
В Нью-Йорке есть еще два немецких театра и один французский, который играет время от времени, если сыщется директор. Но самым лучшим в США считается театр Уоллака, не уступающий европейским. Там ставят почти одни комедии, и в труппе нет «звезд», как здесь называют ведущих актеров, потому что все замечательно выучены и следуют одной методе, отличающейся от традиций старого театра: никаких выкриков и завываний, вычурных поз и вытаращенных глаз; актеры и актрисы держатся совершенно естественно, и это порой производит куда больший комический эффект, чем ужимки и гримасы. Я смотрел там пьесу под названием «Могучий доллар» о похождениях богатых американцев, бывавших в Европе. Всегда отрадно, когда люди умеют видеть смешное в самих себе. Эту комедию написал Бенджамин Вульф – в прошлом музыкант, игравший первую скрипку в одном бостонском оркестре, а ныне редактор музыкального отдела в вечерней газете. Главные роли исполняли выдающиеся актеры – мистер и миссис Флоренс. Эта пара играет дуэтом уже больше двадцати лет, в Америке ее просто обожают. Остальные поразили меня своей сыгранностью, и еще я заметил очаровательную инженю, которой самое большее семнадцать лет, – мисс Бейкер. Театром руководит мистер д’Энч, один из самых молодых и ловких нью-йоркских антрепренеров. Представьте себе: он ангажировал чету Флоренс на четыреста вечеров. Он собирается объехать с ними все главные города США от Нью-Йорка до Сан-Франциско и везде играть одну и ту же пьесу! Если бы я потребовал от Зульмы Буффар сыграть Лизхен четыреста раз кряду, не предложив ей других ролей, она бы выцарапала мне глаза!
Разумеется, больше всего мне хотелось увидеть музыкальный спектакль, поэтому через неделю после приезда я вновь побывал в театре Бута, где давали «Северную звезду» с английской певицей мисс Келлог – ей года тридцать два – тридцать четыре, и голос очень хорош. Оперу Мейербера плохо отрепетировали, ей не хватало цельности, особенно в финале второго акта. Хор и оркестр не поспевали друг за другом. Казалось, что слушаешь Вагнера. Меня развеселило, что в партере, среди зрителей, сидели несколько тромбонов и фаготов, время от времени подававших голос. «Кто бы это мог быть, – подумал я, – любители-добровольцы, явившиеся оказать бескорыстную (и непрошеную) помощь оркестру?» Впрочем, одного взгляда оказалось достаточно, чтобы понять причину этой аномалии: в оркестре не хватило места, и духовые отправили за барьер.
Вагнер, строящий собственный театр в Байройте, хочет спрятать оркестр под сценой – наверное, его музыка звучит проникновеннее, если доносится из преисподней. Оказывается, он неоригинален: эту идею уже опробовали в театре «Лицей». Сам я там не был, поскольку театр закрыт на всё лето, но мне рассказывали, что музыканты, загнанные в яму, невыносимо страдали от жары и спасались от нее как могли. В первый же вечер скрипач развязал галстук и расстегнул жилет. На следующий день альты поснимали пиджаки и играли в одних сорочках. Через неделю уже все оркестранты перестали стесняться. И вот однажды вечером публика вдруг увидела, как из-под пола идет дым, началась паника – а это курили музыканты! После этого оркестранты мужественно надели фраки и вернулись на свое место в зале.
