Новое рабство бесплатное чтение
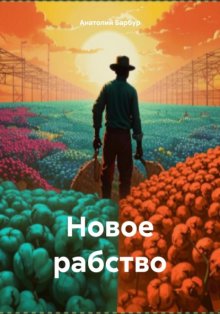
Предисловие
Советский Узбекистан и хлопок – эти слова вызывают в нашем воображении яркие образы. Но что мы знаем о событиях того времени?
Я думаю, что большинство из нас знакомо с официальной стороной, связанной с хлопком, через лозунги: «Хлопок – белое золото», «Больше хлопка – сильней и богаче наша Родина» и другие. Однако мало кто знает, как на самом деле добывалось это «белое золото». И еще меньше людей посвятили себя глубокому изучению этой малоизвестной темы.
Я, как непосредственный участник тех событий, решил более подробно рассказать о работе хлопкоробов. Пожелал показать, что скрывалось за фасадом лозунгов.
Все события, описанные в этой книге, происходили в реальной жизни. Герои не вымышлены, у них только другие имена. Как автор, я хотел донести до читателей, как на самом деле производился хлопок для советской страны. Мне хотелось поделиться историей о трудностях, с которыми сталкивались студенты во время уборки урожая хлопка-сырца. Хочу рассказать о том, как они пытались изменить несправедливое отношение к своему труду и условиям жизни во время хлопковой компании. А также о том, на какие риски они были готовы пойти в то непростое время.
Когда я сказал одному человеку, что собираюсь писать книгу о жизни студентов на «хлопке», как они называли эту сельскохозяйственную работу, он ответил: «Да что можно про это написать? Разве что про бытовые неудобства и только?» Надеюсь, что мне удалось написать и о другом.
Тем, кто был участником хлопковой компании в студенческие годы, я уверен, будет очень интересно вновь пережить те незабываемые моменты юности.
Глава 1. Отправка на сельскохозяйственные работы
Ранним сентябрьским утром в начале восьмидесятых, когда серые облака укрывали небо, а город только начинал просыпаться, трамвай номер двадцать пять, словно старый корабль, неспешно покачивался на рельсах. Его глухие, монотонные колеса то гудели на поворотах, то переходили в размеренное, убаюкивающее стучание, словно настраивая пассажиров на свой ритм. Из района Юнус-Абад он направлялся в центр города, увозя с собой мысли, заботы, мечты и сожаления тех, кто в тот момент находился внутри.
В салоне царила тишина, не напряженная, а уютная. Изредка ее нарушали шорох газет, редкие покашливания или негромкий разговор семейной пары, обсуждавшей покупки на неделю. Люди, одетые в скромную повседневную одежду, были погружены в свои собственные миры, полные планов, тревог или просто размышлений. Кто-то пристально смотрел в окно, за которым проплывали улочки и дома; кто-то, закрыв глаза, на мгновение погружался в дрему. А были и те, кто нервно поглядывал на часы, боясь опоздать.
Но трамвай продолжал свой путь, соединяя своих пассажиров невидимой нитью, словно делая их в этот момент частью чего-то большего, чем просто их индивидуальная жизнь.
В трамвае этого маршрута всегда царила атмосфера радости, когда за рулем был Карим. Его широкая улыбка, добрые глаза и мягкий акцент быстро завоевали сердца пассажиров. Однако не его внешность делала его особенным – его уникальность заключалась в том, как он превращал каждый свой рейс в настоящее представление.
Как только двери трамвая закрывались, в салоне звучал его жизнерадостный и звонкий голос:
– Салам, товарищи! Водитель Карим с очень большая радость говорить вам здравствуй! Ташкентская время сейчаса около вот вот восемь часа утра. Сегодня я хотеть поднять вашу настроения. Погода, днем будет савсема другой. Не нада бояться утренний туман, он скора не будет.
