Беседа с богом странствий бесплатное чтение
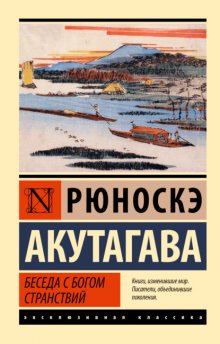
Серия «Эксклюзивная классика»
Перевод с японского
© Перевод. В. Гривнин, наследники, 2022
© Перевод. Т. Редько-Добровольская, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Беседа с богом странствий
Настоятель храма Небесного Владыки преподобный Домё потихоньку покинул ложе и, опустившись на колени перед столиком, развернул восьмой свиток сутры Лотоса.
Огонь в светильнике, поднимаясь над обгоревшим кончиком фитиля, ярко освещает инкрустированную перламутром поверхность столика. Из-за полога доносится сонное дыхание Идзуми-сикибу. Только оно нарушает разлитую в покоях тишину весенней ночи. Не слышно даже мышиного писка.
Преподобный Домё уселся на отороченную белой каймой циновку и, стараясь не потревожить спящую, принялся вполголоса читать сутру.
Такова была его давнишняя привычка. Человек этот происходил из рода Фудзивара. И хотя был он родным сыном дайнагона Митицуны, наставника принца крови, да к тому же учеником епископа Дзиэ, верховного иерарха секты Тэндай, не соблюдал ни Трёх Заповедей, ни Пяти Запретов. Больше того – по образу жизни он скорее походил на тех мужчин, которых англичане именуют «dandy», а мы – «первейшими любострастниками в Поднебесной». Но, как это ни странно, в промежутках между любовными утехами он обязательно читал сутру Лотоса. Судя по всему, сам он не усматривал в этом никакого противоречия.
Вот и сегодня он пришёл к Идзуми-сикибу отнюдь не в роли проповедника. Будучи одним из многочисленных поклонников этой любвеобильной красавицы, он проник в её покои, чтобы в этот весенний вечер не скучать в одиночестве. Хотя до первых петухов было ещё далеко, он украдкой покинул ложе, дабы устами, хранившими запах вина, прочесть благостные слова о стезе, на коей все живые существа обрящут спасение…
Поправив ворот своей накидки, преподобный Домё принялся истово читать сутру.
Сколько времени он провёл за этим занятием – неизвестно. Только вдруг он заметил, что огонь в светильнике убывает. Верхняя часть пламени стала синей, и свет постепенно делался всё более тусклым. Вскоре фитиль начал коптить, и пламя вытянулось в тоненькую ниточку. Преподобный Домё в раздражении несколько раз подкручивал фитиль, но от этого свет не становился ярче.
Однако это ещё не всё – по мере того как свет иссякал, воздух в глубине покоев сгущался, пока, наконец, не принял смутных очертаний человеческой фигуры. Преподобный Домё невольно прекратил чтение.
– Кто здесь?
В ответ тень чуть слышно проговорила:
– Простите, что потревожил вас. Я старец, живущий близ храма на Пятом проспекте.
Преподобный Домё слегка откинулся назад и, напрягая зрение, принялся рассматривать старца. Тот расправил рукава белого суйкана и с многозначительным видом уселся напротив него. Хотя отчётливо разглядеть старца в темноте было невозможно, ниспадающие концы тесьмы от шапки-эбоси, да и весь его вид свидетельствовали о том, что это не лис и не барсук-оборотень. В руке он держал изысканный веер из жёлтой бумаги, который было нетрудно рассмотреть даже в полумраке.
– Какой такой старец?
– В самом деле, назвавшись всего лишь старцем, я выразился не слишком ясно. Я – Саэ, бог странствий с Пятого проспекта.
– Вот как? Чего ради ты сюда пожаловал?
– Я услышал, как вы читаете сутру, и на радостях явился вас поблагодарить.
– Я всякий день читаю эту сутру, не только сегодня.
– Тем более.
Бог Саэ почтительно склонил свою коротко остриженную, изжелта-седую голову и всё тем же едва уловимым шёпотом продолжал:
– Когда вы читаете сутру, чистым звукам вашего голоса внемлют не только Брахма и Индра, но и все будды и бодхисатвы, коих не счесть, как не счесть песчинок на берегах Ганга. Могу ли я, недостойный, равняться с ними? Однако нынче… – В голосе старца неожиданно послышалась язвительная нотка. – Однако нынче, перед тем как читать сутру, вы не только не совершили омовения, но и прикасались к телу женщины. Вот я и подумал, что боги и будды, питающие отвращение ко всякой скверне, вряд ли захотят пожаловать сюда, и, воспользовавшись этим, пришёл вас поблагодарить.
– Что ты хочешь этим сказать? – в сердцах воскликнул преподобный Домё.
Старец же как ни в чём не бывало продолжал:
– Преподобный Эсин говорил, что во время молитв и чтения сутр нельзя нарушать четыре правила. Это великое прегрешение, за которое человек будет ввергнут в ад, и поэтому впредь…
– Замолчи!
Перебирая хрустальные чётки, Домё пронзил непрошеного гостя колючим взглядом.
– За свою жизнь я прочёл немало сутр и толкований священных книг и знаю наперечёт все обеты и заповеди. Уж не принимаешь ли ты меня за глупца, не имеющего понятия о том, о чём берёшься рассуждать ты?
Бог Саэ не произнёс ни слова в ответ. Он сидел с опущенной головой и внимал преподобному Домё.
– Слушай же меня хорошенько! Когда мы говорим: «Круговорот рождений и смертей есть нирвана», – или: «Заблуждения и страдания суть вечное блаженство», – то имеем в виду стремление каждого живого существа прозреть в себе природу Будды. Моё бренное тело не что иное, как единство трёх тел просветлённого Татхагаты. Три стези заблуждений приводят к трём благодатям, под коими разумеются обретение бессмертного духа Будды, приобщение к высшей мудрости и избавление от страданий. Бренный земной мир – то же самое, что озарённая светом истины Чистая Земля. Как монах, воплотивший в себе существо Будды, я вкусил от благости буддийского учения о том, что три истины, открывающиеся благодаря трём прозрениям, суть единая, абсолютная и вечная истина. Посему в моих глазах Идзуми-сикибу – это царица Мая. Любовь между мужчиной и женщиной – высшее из благих деяний. Около нашего ложа незримо присутствуют дхармы всех пребывающих в вечности бодхисатв, всех достигших вечного блаженства будд. Моё жилище столь же благословенно, как священная гора, именуемая Орлиным Пиком. Это не та «страна Будды», куда без спроса суются такие, как ты, вонючие блюстители заповедей Малой Колесницы! – Преподобный Домё расправил плечи и, тряхнув чётками, с отвращением воскликнул: – Грязное животное, убирайся прочь!
Старец раскрыл жёлтый бумажный веер и поднёс к лицу, словно желая спрятаться за ним. На глазах у Домё его фигура начала расплываться, пока не растворилась в воздухе вместе с призрачным, точно сияние светляка, огнём светильника. И в тот же миг вдалеке послышался негромкий, но задорный крик петуха.
Наступил тот час, о котором сказано: «Весною – рассвет. Все белее края гор…»[1]
Юноши и смерть
Декорации на сцене отсутствуют. Выходят два евнуха, беседуя между собой.
– В этом месяце шесть из императорских жён должны родить. А если подсчитать тех, кто в тягости, их, должно быть, наберётся несколько десятков.
– Кто же их брюхатит?
– Понятия не имею. В покои императорских жён не может проникнуть ни один мужчина, кроме нас, и тем не менее каждый месяц кто-нибудь из них рожает. Поразительное дело!
– Выходит, их тайно навещает какой-то мужчина.
– Вначале я и сам так думал. Мы увеличили стражу, но это ничего не дало – они знай себе рожают.
– А вы не пробовали допросить самих женщин?
– Вот тут-то и кроется главная загадка. Если верить тому, что они говорят, к ним действительно тайно наведывается какой-то мужчина. Только он якобы невидим и лишь голосом даёт о себе знать.
– Да, в самом деле удивительно.
– Просто невероятно! Но это всё, что мы знаем о таинственном человеке-невидимке. Нужно спешно принимать какие-то меры. Может быть, вы что-нибудь придумаете?
– Признаться, ничего путного мне в голову не приходит. Итак, их навещает какой-то мужчина. Это точно установленный факт, верно?
– Да.
– Тогда, быть может, следует насыпать всюду песок? Конечно, если этот мужчина летает по воздуху – дело другое, но если он ходит по земле, как все люди, на песке должны остаться следы.
– В самом деле! Замечательная мысль! Если нам удастся его выследить, мы сможем его схватить.
– Во всяком случае, попытаться стоит.
– Так и сделаем, причём незамедлительно.
(Оба уходят.)
Придворные дамы сыплют по сцене песок.
– Ну, кажется, всюду насыпали.
– Вот здесь, в этом углу, ещё осталось.
Продолжают сыпать песок.
– Теперь пойдёмте посыпем галерею.
(Уходят.)
Двое юношей сидят при свете свечи.
В. Вот уже год, как мы ходим во дворец.
А. Быстро летит время. Год назад мы только и знали, что рассуждать о «единственно существующей подлинной реальности», «высшем благе» и прочих подобных вещах.
В. Я уже начинаю забывать, что такое «атман».
А. А я давно уже простился с философией Упанишад.
В. Когда-то мы с тобой всерьёз размышляли над тем, что такое «жизнь» и «смерть».
А. Чепуха! Мы только делали вид, что размышляем. Если уж на то пошло, только теперь мы научились мыслить по-настоящему.
В. Не знаю. С тех пор как это началось, я, например, ни разу не думал о смерти.
А. Хорошо, если тебе это удаётся.
В. Глупо размышлять о том, чего всё равно невозможно постичь.
А. И тем не менее когда-нибудь мы оба умрём.
В. Надеюсь, всё-таки год или два у нас в запасе ещё есть.
А. Как знать…
В. Разумеется, любой из нас может умереть хоть завтра. Но если постоянно думать об этом, жизнь утратит всякий смысл.
А. Ошибаешься. Нет ничего более бессмысленного, чем предаваться удовольствиям, позабыв о смерти.
В. Называй это бессмысленным или как-нибудь ещё, но я не вижу необходимости думать о смерти.
А. Но ведь это же намеренный самообман!
В. Да хоть бы и так!
А. В таком случае ты тратишь свою жизнь даром. Ведь все прельщения мира служат лишь для того, чтобы вырваться из его тенёт. Не так ли?
В. Прости, но сейчас у меня нет ни малейшей охоты заниматься философскими спекуляциями. Говори что тебе угодно, но меня вполне устраивает моя нынешняя жизнь.
А (с сожалением). Ну что ж…
В. Пока мы вели этот нелепый спор, совсем стемнело. Пора идти.
А. Да.
В. Подай-ка мне плащ-невидимку. (А передаёт плащ В. В надевает его и становится невидимым. Слышен только его голос.) Ну пошли.
А (тоже надевает плащ и становится невидимым. Звучит только его голос). Уже выпала вечерняя роса.
Звучат одни голоса. Сцена погружена во мрак.
Голос А. Какая темень!
Голос В. Я чуть не наступил на подол твоего плаща.
Голос А. Слышишь плеск воды в фонтане?
Голос В. Да. Мы уже у балкона.
На сцене множество обнажённых женщин. Они сидят, стоят, лежат. В помещении полумрак.
– Ну где же он?
– Вот уже и луна зашла.
– А его всё нет и нет.
– Скорей бы услышать его голос!
– Обидно, что я не видела его, а только слышала голос.
– Зато я чувствовала его прикосновения.
– Сначала я ужасно испугалась.
– А я вообще дрожала всю ночь.
– И я тоже.
– А он так ласково сказал: «Не нужно дрожать».
– Да, да.
– От этого мне сделалось ещё страшнее.
– Как наша роженица? Уже разрешилась от бремени?
– Да, только что.
– Представляю себе, как она счастлива.
– Малыш прелестный.
– Я тоже хочу стать матерью.
– А я – нет. У меня нет ни малейшего желания стать матерью.
– Неужели?
– Конечно. Что в этом хорошего? Мужские ласки – вот это действительно приятно!
– Пожалуй…
Голос А. Я вижу, у вас всё ещё горит свет. Как прекрасны ваши тела под пологом из голубого шёлкового газа!
– Ах, он уже здесь!
– Ну же, иди ко мне!
– Нет уж, сегодня ночью побудь со мной!
Голос А. О, у тебя на руке золотой браслет.
– Да, а что?
Голос В. Неважно… Твои волосы пахнут жасмином.
– Да.
Голос А. Ты всё ещё дрожишь.
– Это от радости.
– Иди же ко мне!
– Ты всё ещё там?
Голос В. Как нежны твои руки!
– Пусть твои ласки никогда не кончаются.
– Я не хочу, чтобы сегодня ночью ты был с другой.
– Обещай, что останешься со мной. Обещаешь?
– А! А-а!
Голоса женщин смолкают, постепенно переходя в тихие стоны блаженства.
Сцена погружается в тишину. Вбегают стражники, вооружённые копьями. Слышатся голоса стражников.
– Вот здесь следы!
– И здесь тоже!
– Видно, он побежал в том направлении.
– Держите его! Держите его!
Суматоха. Женщины с криком разбегаются. Стражники снуют туда-сюда в поисках следов. Светильники гаснут, и сцена погружается во мрак.
Появляются А и В в плащах. С противоположной стороны выходит мужчина в чёрной маске. На сцене полумрак.
А и В. Кто здесь?
Мужчина. Не думаю, что вы забыли мой голос.
А и В. Кто ты?
Мужчина. Я – смерть.
А и В. Смерть?
Мужчина. Не нужно так пугаться. Я был, я есть, я пребуду вовек. Если о ком-то и можно сказать, что он действительно существует, так это я.
А. Что тебе нужно?
Мужчина. То же, что и всегда.
В. Так вот зачем ты пожаловал. Вот зачем…
А. Ну что ж, я ждал тебя. Сейчас ты откроешь своё лицо. Можешь забирать мою жизнь.
Мужчина (обращаясь к В). А ты ждал моего прихода?
В. Нет, не ждал. Я хочу жить. Дай мне пожить ещё немного! Я ещё молод. Кровь в моих жилах ещё не остыла. Прошу тебя, дай мне ещё немного насладиться жизнью!
Мужчина. Тебе должно быть известно, что меня ещё ни разу не тронули чьи-либо мольбы.
В (в отчаянии). Неужели я должен умереть? О, неужели я вправду должен умереть?
Мужчина. Ты и так давно уже мертвец – с тех пор, как себя помнишь. И если всё это время ты имел возможность видеть солнце, то только по моей милости.
В. Не я один. Рождаясь на свет, каждый человек несёт на себе печать смерти. Такова участь всех людей.
Мужчина. Я не это имел в виду. До сегодняшнего дня ты не вспоминал обо мне. Ты не слышал моего дыхания. Пытаясь вырваться из сети заблуждений, ты предавался наслаждениям и не отдавал себе отчёта в том, что сами эти наслаждения – всего лишь иллюзия, обман. Когда ты забывал обо мне, твоя душа испытывала голод. Голодная же душа всегда взыскует меня. Стараясь избежать встречи со мной, ты лишь приближал её.
В. А-а!
Мужчина. Я не тот, кто всё уничтожает. Я тот, кто рождает жизнь. А ты забыл обо мне, прародителе всего сущего. Забыть меня означает забыть жизнь. Человек, забывший жизнь, должен погибнуть.
В. A-а! (Падает замертво.)
Мужчина (смеётся). Какой глупец! (Обращаясь к А.) Не бойся меня. Подойди поближе.
А. Чего же ты медлишь? Я не трус и не боюсь тебя.
Мужчина. Ты хотел увидеть моё лицо, не правда ли? Уже светает. Посмотри же на меня хорошенько.
А. Неужели это твоё лицо? Я не знал, что оно так прекрасно.
Мужчина. Я пришёл не за тобой.
А. Отчего же? Я ждал тебя. Я не знаю ничего, кроме тебя. Мне незачем жить. Возьми мою жизнь и избавь меня от страданий.
Третий голос. Что за вздор! Хорошенько вглядись в моё лицо. Я оставил тебе жизнь, потому что ты не забывал обо мне. Только не думай, что я одобряю все твои поступки. Посмотри же на меня хорошенько. Ты понял свою ошибку? Отныне, будешь ли ты жить или умрёшь, зависит от тебя самого.
А. Твоё лицо становится всё моложе…
Третий голос (тихо). А вот и рассвет. Войди же вместе со мной в большой мир.
Освещённые лучами утренней зари, мужчина в чёрной маске и А уходят со сцены.
Стражники уносят труп В. На его обнажённом теле видны раны.
Из легенды о бодхисатве Нагарджуне
Верность
Маэдзима Ринъэмон
Едва Итакура Кацутоси, состоящий главою ведомства дворцовых построек, стал оправляться после долгой болезни, как его одолело тяжелейшее нервное расстройство: то у него онемеет плечо, то разболится голова. Даже любимое занятие – чтение – теперь стало ему в тягость. Услышав шаги в коридоре или голоса домочадцев, он тотчас терял нить повествования. Это болезненное состояние постепенно обострялось, и вскоре дело дошло до того, что любая малость могла вывести его из душевного равновесия.
Достаточно было ему увидеть золотую роспись на лаковом подносе для курительных принадлежностей в виде вьющихся стеблей и листьев, как его охватывала тревога. Предметы с заострёнными концами: скажем, костяные палочки для еды или бронзовые щипцы для углей – приводили его в сильное беспокойство. Наконец, даже угол циновки, где сходятся края кромки, или четыре угла на потолке повергали его в такое же мучительное состояние, какое испытывает человек при виде занесённого над ним ножа.
Целыми днями Итакура с мрачным видом сидел в своей комнате. Решительно всё причиняло ему страдание. «Уж лучше бы вовсе не сознавать, что со мной происходит», – не раз думал он, но вконец расшатавшиеся нервы не давали ему погрузиться в забытьё. Точно муравей, оказавшийся в опасном соседстве с прожорливой личинкой, он в растерянности оглядывал своё окружение. Окружение же его состояло из одних «наследственных вассалов», которые совершенно не понимали его состояния и лишь для вида беспокоились о его здоровье. «Я страдаю, и нет никого, кто посочувствовал бы мне», – думал Итакура, и от этого на сердце у него становилось ещё тяжелее.
Равнодушие окружающих усугубляло его недуг. Итакура раздражался по всякому поводу и, случалось, настолько возвышал голос, что было слышно в соседних усадьбах. Иной раз он даже хватался за меч. В такие минуты в нём трудно было узнать прежнего Итакуру. Его жёлтое лицо с впалыми щеками сводила судорога, в глазах пылала ярость. Когда приступ бывал особенно силён, он подносил дрожащие руки к вискам и начинал рвать на себе волосы. Приближённые видели в этом признак безумия и старались держаться от него подальше.
Уж не сходит ли он с ума? – в страхе думал и сам Итакура. Он чувствовал, что окружающие считают именно так, и ненавидел их за это. Но что он мог поделать с собственным страхом? После каждого очередного припадка его охватывала гнетущая тоска, и вот тогда, словно молния, его пронзал страх, к которому примешивалась тревога от осознания того, что сам по себе страх безумия служит предвестником оного. «Что, если я и впрямь сойду с ума?» – спрашивал себя Итакура, и от этой мысли у него темнело в глазах.
Владевший Итакурой страх до известной степени заглушался раздражением, которое он испытывал постоянно, по всякому поводу. Вместе с тем раздражение зачастую заставляло его ещё острее ощущать страх. Образовался некий замкнутый круг, в котором страждущая душа Итакуры металась, подобно кошке, пытающейся поймать собственный хвост.
Состояние Итакуры внушало немалое беспокойство его приближённым, и в первую очередь Маэдзиме Ринъэмону.
Хотя Ринъэмон числился вассалом Итакуры, на деле был представителем главы рода, и Итакуре приходилось с ним считаться. Это был человек богатырского сложения, крепкий, румяный, не ведающий, что такое болезни. При этом мало кто из самураев в доме мог превзойти его по части учёности и владения воинскими искусствами. По этой причине он состоял советником при Итакуре и выполнял эту роль столь искусно, что снискал прозвище Второго Окубо Хикодзы.
С тех пор как сумасбродство Итакуры стало очевидно для всех, Ринъэмон потерял сон, терзаясь душой за судьбу своего господина. Поскольку во дворце считали, что болезнь Итакуры миновала, ему предстояло в скором времени явиться туда. Но кто мог поручиться, что в нынешнем своём состоянии он не допустит какой-нибудь грубой выходки по отношению к присутствующим там даймё и хатамото? А если, чего доброго, дело дойдёт до кровопролития, клан Итакура с его довольствием в семь тысяч коку будет стёрт с лица земли. Разве не поучительный пример – ссора между феодальными домами Хотта и Инаба[2]?
Эти мысли приводили Ринъэмона в ужас. И всё же он не был склонён считать состояние Итакуры безнадёжным: в отличие от «недугов тела» это был всего лишь «недуг души», и, точно так же, как в своё время Ринъэмон увещевал своего господина против своеволия и чрезмерной роскоши, он решил врачевать его нервное расстройство с помощью увещеваний.
При каждом удобном случае Ринъэмон старался преподать своему господину урок здравого смысла, однако от этого раздражение Итакуры не проходило, а напротив: чем больше его увещевали, тем больше он раздражался в ответ и тем сильнее становились приступы безумия. Однажды он чуть не заколол своего советника мечом. «Негодяй, ты забыл о том, что я – твой господин! Лишь из уважения к главному дому я оставляю тебя в живых!» – вскричал Итакура, и в глазах его при этом сверкал не только гнев. Ринъэмон прочёл в них ещё и неприкрытую ненависть.
Так в результате предпринятой Ринъэмоном попытки урезонить Итакуру в и без того сложные и запутанные отношения, существовавшие между вассалом и господином, вкралось нечто новое и зловещее. И дело было не только в том, что Итакура возненавидел Ринъэмона: в душе Ринъэмона тоже поселилась ненависть к Итакуре. Сам он, разумеется, этого не сознавал. По крайней мере, до последнего времени он верил, что его преданность Итакуре осталась неизменной. «Господин есть господин, вассал есть вассал» – таков «путь», указанный Мэн-цзы. Но помимо этого «пути» существует ещё и «путь» естественных человеческих чувств. Однако Ринъэмону не хотелось это признавать…
Он стремился до конца исполнить свой вассальный долг. Убедившись на горьком опыте, что дружеские его увещевания не имеют успеха, он решился прибегнуть к последнему средству, которое до сих пор прятал в сокровенных тайниках души. Средство это состояло в том, чтобы насильственно отправить безумца на покой и найти ему достойного преемника из рода Итакура.
На первом месте должны стоять интересы рода, считал Ринъэмон, и в случае необходимости его господин должен быть принесён в жертву этим интересам. Род Итакура был одним из самых знаменитых и со времён его основателя Итакуры Сиродзаэмона Кацусигэ ни разу не запятнал себя бесчестьем. Старший сын и наследник Кацусигэ – Матадзаэмон Сигэмунэ – пошёл по стопам отца и совершил немало славных дел на поприще наместника сёгуна в столице. Младший брат Сигэмунэ – Мондо Сигэмаса – успешно справился с миссией личного представителя сёгуна на переговорах о перемирии во время осады Осакского замка в девятнадцатом году эры Кэйтё, а затем, в четырнадцатом году эры Канъэй[3], во время Симабарского восстания[4] встал во главе западных войск и, разгромив мятежников, водрузил знамя сёгуна в ставке побеждённого Амакусы[5]. Можно ли допустить, чтобы после всего этого чести столь прославленного рода был нанесён урон? Как посмеет он, Ринъэмон, взглянуть на том свете в глаза основателю рода Итакура?
В поисках преемника Ринъэмон принялся перебирать в уме представителей семейства Итакура. К счастью, у правителя земли Садо Итакуры Кацукиё, входившего в совет старейшин при сёгуне, было три сына. Если одного из них сделать приёмным сыном и наследником безумца, все внешние приличия будут соблюдены. Разумеется, до поры до времени это следует сохранить в тайне от больного Итакуры и его супруги. Как только в голове Ринъэмона созрел этот план, он почувствовал себя так, словно после долгого блуждания во мраке вышел на свет. Но при этом в душе его поселилась непонятная, доселе неведомая ему тоска. «Это необходимо ради спасения чести рода», – убеждал себя Ринъэмон и всякий раз ловил на том, что словно бы оправдывается. Смутное ощущение вины стало так же неотделимо от него, как мерцающая кромка – от лунного диска.
Истерзанный болезнью Итакура ненавидел Ринъэмона – ненавидел за его несокрушимое здоровье; за ту власть, которой он обладал по праву человека, приставленного к нему главным домом; наконец, за верность роду, интересы которого тот ставил превыше всего. «Ты забыл о том, что я – твой господин!» – в этих словах Итакуры тлел чадящий огонь ненависти.
А тут ещё совершенно неожиданно жена сообщила Итакуре, что до неё дошёл слух, будто Ринъэмон замышляет насильно отправить своего господина на покой и на его место посадить сына правителя земли Садо. Неудивительно, что от этого известия Итакура пришёл в бешенство.
Возможно, Ринъэмон в самом деле печётся об интересах рода. Но какова цена верности вассала, если во имя рода он пренебрегает интересами господина, на службе у которого состоит? Да и какие могут быть у него основания опасаться за судьбу рода? Из-за каких-то вздорных опасений он задумал насильно отправить его, Итакуру, на покой! Кто знает, быть может, за этой показной верностью кроется честолюбивый замысел захватить власть над домом Итакура? Да за такое коварство любого наказания будет мало.
Итакура тотчас же вызвал к себе своего старого слугу Танаку Удзаэмона, который ещё в детстве был приставлен к нему дядькой, и приказал:
– Отруби голову негодяю Ринъэмону!
Седовласый слуга печально потупился. Переживания последнего времени прибавили морщин на его старческом лице. Разумеется, затея Ринъэмона не могла прийтись ему по душе. Но, что ни говори, тот был представителем главного дома.
– Ринъэмон не из тех, кому можно исподтишка отрубить голову, – возразил он. – Если бы вы приказали ему совершить сэппуку, как это подобает самураю, – тогда другое дело.
Итакура насмешливо взглянул на старика и решительно покачал головой:
– Нет, подлецу, лишённому совести, бессмысленно приказывать совершить сэппуку. Ты должен отрубить ему голову. Слышишь?
При этих словах по бледным, без кровинки, щекам Итакуры потекли слёзы. Привычным движением он поднёс руки к вискам и принялся выдёргивать волосы из боковых прядей.
От преданных людей Ринъэмону стало известно, что Итакура отдал приказ отрубить ему голову.
– Хорошо, – гордо молвил он. – Раз так, я сумею за себя постоять. Я не намерен сидеть сложа руки и ждать, когда меня убьют.
И в тот же миг он почувствовал, как непонятная тревога, всё это время неотступно преследовавшая его, исчезла без следа. В его душе осталась лишь открытая ненависть к Итакуре. Отныне Итакура ему больше не господин. Почему он должен стыдиться своей ненависти? Стоило ему подчиниться этой логике, как с души у него свалился тяжёлый камень.
Не дожидаясь темноты, Ринъэмон вместе с женой, детьми и вассалами покинул дом Итакуры. Как предписывает этикет, к стене гостиной он прикрепил листок с указанием места, где его можно найти. Ринъэмон вышел первым, захватив с собой копьё. Вся его свита состояла из десяти человек, не больше, включая молодых самураев-слуг, которые должны были нести воинское снаряжение и помогать тем, кто слаб и непривычен к тяготам пути. Без малейшей суеты, спокойно беглецы вышли за ворота усадьбы.
Шёл конец третьей луны четвёртого года Энкё[6]. Тёплый ветер бросал в решётчатое окно ограды лепестки сакуры, перемешанные с пылью и песком. Стоя на ветру, Ринъэмон огляделся по сторонам и копьём подал своим спутникам знак следовать налево.
Танака Удзаэмон
После бегства Ринъэмона место главного вассала занял Танака Удзаэмон. Поскольку Удзаэмон опекал Итакуру с младенчества, его отношение к господину было совершенно иным, нежели других вассалов. Он по-отечески жалел безумца, а тот, в свою очередь, выделял старика среди всех остальных и держался с ним довольно кротко. В силу этих причин между господином и его главным вассалом установились спокойные, ровные отношения, не то что во времена Ринъэмона. Удзаэмон радовался, что с наступлением лета приступы болезни Итакуры стали ослабевать. Разумеется, опасения, как бы его господин не натворил чего-нибудь, явившись во дворец, не были чужды и ему. Однако при этом в отличие от Ринъэмона, который опасался за судьбу рода, Удзаэмон опасался лишь за судьбу своего господина.
Нельзя сказать, чтобы мысль о судьбе рода вовсе не занимала Удзаэмона, однако главным для него было не то, что в результате какой-нибудь безрассудной выходки его господина может погибнуть род Итакура, а то, что его господин навсегда заклеймит себя позором как человек, принёсший гибель своему роду. Каким же образом предотвратить эту беду? На этот вопрос в отличие от Ринъэмона Удзаэмон не знал ответа. Ему оставалось только одно: искать заступничества у богов и от чистого сердца молиться о том, чтобы они избавили Итакуру от безумия.
В тот год в первый день восьмой луны во дворце сёгуна был объявлен праздник по случаю нового урожая, и Итакура впервые после болезни присутствовал на нём. По окончании церемонии, прежде чем отправиться домой, он нанёс визит своему родственнику, правителю земли Садо, чья резиденция находилась к западу от дворца. К счастью, во время пребывания во дворце Итакура вёл себя спокойно, и у старика Удзаэмона впервые за много дней отлегло от сердца.
Однако радость его была преждевременной. В ту же ночь от правителя земли Садо прибыл гонец и передал Удзаэмону приказ незамедлительно явиться к нему. Это был дурной знак: неожиданный вызов среди ночи… Со времён Ринъэмона такого ещё не случалось. К тому же это произошло сразу после возвращения Итакуры из дворца. Томимый недобрыми предчувствиями, Удзаэмон спешно отправился в путь.
Как и следовало ожидать, речь шла о его господине. По словам правителя земли Садо, накануне, сразу же после церемонии, Итакура явился к нему в парадном облачении. Цвет лица у него был нездоровый, и тот подумал, что он ещё не вполне оправился после болезни, однако по ходу разговора впечатление это рассеялось. Правитель земли Садо успокоился, и какое-то время они мирно беседовали. Между прочим он поинтересовался, как поживает Маэдзима Ринъэмон. Итакура неожиданно помрачнел и сказал: «Этот негодяй сбежал от меня». Правитель земли Садо прекрасно знал Ринъэмона: такие, как он, ни с того ни с сего не покидают своего господина. Правитель Садо осведомился, что послужило причиной столь неожиданного вероломства, после чего заметил с укором, что, поскольку Ринъэмон является представителем главного дома, какой бы тяжкий проступок он ни совершил, Итакуре следовало по крайней мере сообщить своим родичам о случившемся. При этих словах Итакура изменился в лице и схватился за меч. «Этот негодяй всегда пользовался вашим особым расположением! – воскликнул он. – Но я, недостойный, вправе сам решить, какому наказанию подвергнуть своего вассала. Пусть вы и входите в совет старейшин, прошу вас не вмешиваться в мои дела!» Понятное дело, правитель Садо был ошеломлён, но, к счастью, его ждали неотложные дела, и он был вынужден прекратить разговор.
– Ну, что ты на это скажешь? – молвил правитель земли Садо Удзаэмону и ещё сильнее нахмурился.
В том, что главный дом не был поставлен в известность о побеге Ринъэмона, отчасти был виноват Удзаэмон. На нём лежала ответственность и за то, что, зная о безумии Итакуры, он тем не менее позволил ему явиться во дворец. Хорошо ещё, что Итакура допустил дерзость по отношению к родственнику: если бы на месте правителя земли Садо оказался кто-то другой, семья Итакура тотчас же лишилась бы своего довольствия в семь тысяч коку.
– Впредь ты должен следить, чтобы твой господин ни под каким видом не отлучался из дома. И уж тем более не являлся во дворец. – Правитель Садо пристально посмотрел на Удзаэмона. – Надеюсь, ты ещё не впал в безумие заодно со своим господином? Имей в виду: это приказ.
Удзаэмон сдвинул брови и с решимостью в голосе ответил:
– Слушаюсь. Обещаю вам впредь проявлять осмотрительность.
– То-то же, – сказал властитель Садо, точно сплюнул. – Самое главное – не повторять ошибок.
– Я исполню вашу волю, чего бы мне это ни стоило.
Удзаэмон устремил к властителю Садо полные слёз глаза. В этих глазах читалось не только смирение, но и непреклонная решимость. Решимость эта происходила вовсе не от уверенности в том, что ему удастся запретить Итакуре отлучаться из дома. Просто старик знал, как поступить в том случае, если это ему не удастся.
Увидев этот взгляд, властитель Садо снова нахмурился и в раздражении отвернулся.
Если повиноваться воле господина, под угрозой оказывается судьба рода. Если же руководствоваться интересами рода, необходимо идти наперекор воле господина. Когда-то перед такой же дилеммой оказался Ринъэмон. Но у него хватило мужества пренебречь господином во имя рода. Вернее сказать, для него господин значил не так уж много. Поэтому он и мог с лёгкостью принести господина в жертву роду.
Удзаэмон же был не в силах так поступить. Он был слишком привязан к господину, чтобы думать лишь об интересах рода. Разве мог он во имя рода, во имя абстракции, именуемой родом, заставить своего господина против воли удалиться на покой? В глазах Удзаэмона Итакура всё ещё оставался ребёнком. Книжки с картинками, которые он читал ему в детстве, песенки, которые с ним разучивал, бумажный змей, к которому прилаживал хвост на потеху маленькому господину, – всё это было живо в его памяти…
И тем не менее, если ничего не предпринять, рухнет не только род. Все это чревато страшной бедой для самого господина. Стоило взвесить все «за» и «против», как сразу же получалось, что выход, предложенный Ринъэмоном, – единственный и наиболее разумный. Рассудком Удзаэмон это понимал, но поступить так, как требовал рассудок, не мог.
Вдалеке сверкнула молния. Скрестив на груди руки, Удзаэмон в унынии возвращался домой, без конца прокручивая в голове одни и те же мысли.
Когда на следующий день Удзаэмон пересказал своему господину разговор с правителем Садо, лицо Итакуры омрачилось. Правда, дальше этого дело не пошло и обычного приступа гнева не последовало. Удзаэмон покинул своего господина с чувством некоторого облегчения.
В последующие десять дней Итакура сидел, затворившись в своих покоях, и что-то напряжённо обдумывал. За всё это время он не перемолвился с Удзаэмоном ни словом. Только однажды, в дождливый день, услышав голос кукушки, прошептал: «Верно, она разоряет соловьиное гнездо». Ухватившись за эту фразу, Удзаэмон попытался было разговорить Итакуру, но тот снова умолк, уставившись на затянутое тёмными облаками небо. После этого он не произнёс ни слова, точно онемел, и застыл, глядя в одну точку. На лице его при этом отсутствовало какое бы то ни было выражение.
Между тем приближалось пятнадцатое число, когда во дворце сёгуна должны были собраться все даймё, несущие службу в Эдо. И вот как-то вечером, когда до этого события оставалось всего два или три дня, Итакура призвал к себе Удзаэмона и, оставшись с ним наедине, с угрюмым видом повёл такую речь:
– Видно, Садо-доно прав: я болен и вряд ли смогу дальше нести службу. Наверное, мне в самом деле пора удалиться на покой.
Удзаэмон не знал, что и думать. Положа руку на сердце, лучшего решения трудно было желать. Но почему Итакура с такой лёгкостью говорит об этом?
– Вы правы, – отозвался Удзаэмон. – Поскольку правитель Садо высказал такое пожелание, иного выбора, как это ни прискорбно, у вас нет. Но прежде вам следовало бы известить о своём решении ваших родственников, иначе…
– Нет-нет. В этом нет надобности. Не то что в случае с Ринъэмоном. Если я уйду на покой, не испросив на то согласия главного дома, вряд ли кто-то из моих родственников станет возражать. – Губы Итакуры тронула горькая усмешка.
– Боюсь, что вы ошибаетесь. – Удзаэмон со скорбным видом заглянул в лицо своему господину, но тот пропустил его слова мимо ушей.
– Однако если я удалюсь на покой, то никогда уже не смогу побывать во дворце. Поэтому… – Итакура бросил пристальный взгляд на Удзаэмона и медленно, взвешивая каждое слово, продолжал: – Поэтому напоследок мне хотелось бы один-единственный раз увидеть сёгуна Ёсимунэ. Что ты на это скажешь? Позволь мне пятнадцатого числа отправиться во дворец.
Удзаэмон нахмурился и не проронил ни слова.
– Всего один только раз.
– Покорнейше прошу меня простить, но именно этого никак нельзя.
– Значит, ты мне отказываешь?
Некоторое время оба молчали, глядя друг другу в глаза. В комнате стояла такая тишина, что было слышно, как потрескивает фитиль в масляном светильнике… Для Удзаэмона эти несколько мгновений тянулись подобно целому году. После данного правителю Садо слова уступить просьбе Итакуры означало бы совершить бесчестный для самурая поступок.
– Я знаю о распоряжении Садо-доно, – после паузы сказал Итакура. – Я понимаю, что, позволив мне явиться во дворец, ты навлечёшь на себя гнев моей родни. Но послушай: я – умалишённый, от которого все отвернулись: и родные, и вассалы. – Голос Итакуры дрожал от волнения, в глазах его стояли слёзы. – Я превратился в жалкое посмешище. Теперь вот и дом мой перейдёт в чужие руки. Свет небесной справедливости не коснётся меня своими лучами. В этой жизни у меня осталось одно-единственное желание: в последний раз предстать перед сёгуном, – и ты не можешь мне в этом отказать. Ты ведь не испытываешь ко мне ненависти. Ты жалеешь меня. Для меня ты всё равно что отец. Или старший брат. Да нет, ты мне ближе отца или брата. В целом свете мне не на кого опереться, кроме тебя. Именно поэтому я обращаюсь к тебе с такой просьбой, хотя и знаю, что исполнить её нелегко. Обещаю, что впредь это никогда не повторится. Помоги мне лишь на сей раз, Удзаэмон, войди в моё положение. Исполни мою просьбу. Умоляю тебя.
С этими словами Итакура упёрся руками в пол и, роняя слёзы, пал перед Удзаэмоном ниц.
Этот жест отчаяния тронул сердце старика.
– Прошу вас, поднимитесь. Пожалуйста. Я недостоин такой чести.
Он схватил руки Итакуры и силой оторвал их от пола. Старик заплакал. И пока он плакал, на душу его снизошло удивительное спокойствие. Он как наяву вспомнил разговор с правителем Садо и данное ему обещание.
– Хорошо, – сказал Удзаэмон. – Мне безразлично, что подумает правитель Садо. На худой конец я вспорю себе живот – и вся недолга. Я возьму всю ответственность на себя, так что можете ехать во дворец.
При этих словах лицо Итакуры просияло и совершенно преобразилось. В произошедшей с ним перемене было нечто нарочитое, как в игре актёра, но вместе с тем совершилась она с той естественностью, какой не бывает на сцене.
Итакура неожиданно переменил тон и смеющимся голосом произнёс:
– Значит, ты меня отпускаешь? Благодарствуй. Вот уж действительно благодарствуй!
Он весело огляделся по сторонам и воскликнул:
– Ну что, все слышали? Удзаэмон отпустил меня во дворец!
В комнате, кроме него и Удзаэмона, не было ни души. «Ну что, все слышали?..» Старик в смятении придвинулся к своему господину и с опаской заглянул ему в глаза.
Кровавая драма
В девятом часу утра пятнадцатого числа восьмой луны четвёртого года Энкё Итакура убил во дворце Хосокаву Мунэнори, владельца замка Кумамото в провинции Хиго, правителя земли Эттю, с которым его не связывала ни дружба, ни вражда. Подробности случившегося были таковы.
Хосокава происходил из знаменитого княжеского рода, прославившего себя многочисленными ратными подвигами. Даже супруга Хосокавы, доводившаяся дочерью самому сёгуну, была сведуща в премудростях бранного дела, о самом же Мунэнори и говорить не приходится – он был воином, каких мало. «Славный потомок Сансая убит был во цвете лет. Вот ведь судьба какая», – сложено о нём. То, что его постиг такой конец, видно, и впрямь было суждено злым роком.
Несчастью предшествовало несколько событий, которые уже задним числом были истолкованы в доме Хосокава как дурные предзнаменования.
Во-первых, в середине третьей луны того самого года, о котором идёт речь, пожар уничтожил загородную усадьбу Хосокавы в Исараго. Это было тем более удивительно, что на территории усадьбы находилось изваяние бодхисатвы Мёкэн, перед которым стоял камень, именуемый подателем влаги. При малейшей опасности пожара из этого камня начинала бить вода, поэтому усадьба никак не должна была загореться.
Во-вторых, в начале пятой луны из обители Айдзэн-ин в Гёране был получен в дар талисман, который принято вывешивать на воротах. Так вот, на этом талисмане, содержащем пожелание «успехов в военных походах и избавления от напастей», было пропущено слово «напастей». Семья Хосокава обратилась к священнику, чтобы талисман переписали.
Наконец, в‑третьих, в начале восьмой луны каждую ночь в гостиной дома Хосокава стал вспыхивать таинственный огонь, который затем перелетал на лужайку.
Но и этим дело не ограничилось. Четырнадцатого числа восьмой луны к чиновнику тайного надзора явился вассал Хосокавы по имени Сайки Моэмон, сведущий в небесных знамениях, и предупредил: «Завтра, пятнадцатого числа, с моим господином может произойти несчастье. Нынешней ночью, наблюдая расположение небесных светил, я заметил, что звезда Полководец того и гляди упадёт. Поэтому князю следует проявить осторожность и не выходить из дому». Чиновник не слишком верил прорицаниям звездочётов, однако, поскольку сам Хосокава всегда прислушивался к предсказаниям этого человека, он незамедлительно довёл слова Моэмона до приближённых князя, с тем чтобы они успели его предупредить. В результате Хосокава отменил намеченное на пятнадцатое число посещение театра Но, а также какой-то визит, но во дворец всё же решил явиться, ибо ставил долг превыше всего.
На следующий день ко всем прочим добавилось ещё одно дурное предзнаменование. Уже собравшись во дворец и облачившись в парадные одежды, Хосокава, следуя давнему обычаю, решил поставить священное вино перед изображением бога Хатимана. Он принял из рук слуги подставку с двумя кувшинчиками и уже приготовился водрузить её на божницу, когда вдруг, непонятно почему, сосуды опрокинулись и священное вино выплеснулось наружу. Тут уж всем в доме стало ясно, что беды не миновать.
Хосокава прибыл во дворец, и монах Тасиро Юэцу сразу же проводил его в парадный зал, однако князь вдруг почувствовал, что ему нужно отлучиться по большой нужде, и теперь уже монах Куроки Кансай проводил его в уборную. Справив нужду, Хосокава вышел в полутёмную умывальню и стал мыть руки. В этот миг кто-то с воплем набросился на него сзади. Хосокава обернулся, и тотчас же перед ним мелькнуло лезвие меча и вонзилось ему в лоб. Кровь застила князю глаза, и он не мог рассмотреть лицо злоумышленника, а тот продолжал наносить ему всё новые раны. Наконец, Хосокава пошатнулся и рухнул на галерею, а убийца, бросив свой меч, скрылся в неизвестном направлении.
Монах Куроки Кансай, сопровождавший Хосокаву, в ужасе сбежал и где-то схоронился, поэтому во дворце не сразу узнали о случившемся. Лишь какое-то время спустя некто Хомма Садагаро из службы дворцовой охраны по пути из караульного помещения в комнату для прислуги обнаружил раненого Хосокаву и, не мешкая, доложил об этом своему начальнику. Тот примчался на место происшествия вместе с начальником отряда телохранителей Кугэ Дзэмбэем и руководителями караульной службы Цутидой Ханъэмоном и Комодой Ниэмоном. И вот уже дворец гудел как потревоженный улей.
Когда раненого подняли, невозможно было установить, кто он такой: и лицо, и тело его превратились в кровавое месиво. Кто-то склонился над несчастным, попросив его назвать себя, – и тогда раненый чуть слышно проговорил: «Князь Хосокава, правитель Эттю». Затем его спросили: «Кто на вас напал?» – но Хосокава прерывающимся голосом сообщил лишь, что это был «мужчина в парадной одежде». Больше он не произнёс ни слова – должно быть, потерял сознание. Осмотр потерпевшего позволил обнаружить на его теле: «рану в области затылка глубиною в семь сунов[7], рану на левом плече глубиною в шесть-семь сунов, рану на правом плече глубиною в пять сунов; многочисленные порезы на руках, на лбу, за ухом и на затылке; рану длиною в один сяку[8] и пять сунов, тянущуюся от позвоночника к правому боку». Присутствовавшие при осмотре высокопоставленные чиновники тайного надзора Цутия Тётаро, правитель земли Ава князь Хасимото, а также правитель земли Будзэн князь Коно распорядились перенести пострадавшего в зал «Такиги-но ма». Его положили за ширмой и приставили к нему пятерых монахов. Находившиеся же в парадном зале даймё должны были по очереди дежурить при нём. В их числе был заместитель главы военного ведомства Мацудайра, который проявил особую заботу о раненом. Сразу видно было, что их с Хосокавой связывает крепкая дружба.
Тем временем весть о случившемся дошла до совета старейшин, и было решено на всякий случай запереть не только вход во дворец, но и парадные ворота. Увидев это и вдобавок прослышав о том, что во дворце случилось несчастье, не на шутку всполошились толпившиеся у ворот княжеские вассалы. Несколько раз к ним выходили чиновники тайного надзора и пытались их успокоить, но толпа снова наваливалась на ворота, точно цунами. Нарастало волнение и во дворце.
Цутия Тётаро вместе с охранниками и пожарными тщательно осмотрели все службы дворца, однако так и не смогли найти «человека в парадной одежде».
Как ни странно, обнаружить злоумышленника удалось монаху по имени Такараи Coгa. Coгa был человеком не робкого десятка и не побоялся в одиночку обследовать те закоулки дворца, мимо которых прошли Цутия и его люди. Заглянув в уборную, находившуюся неподалёку от «Такиги-но ма», он обнаружил там сидящего на корточках человека с всклокоченными волосами. В полумраке его трудно было разглядеть как следует, однако Coгa увидел, как он извлёк из кожаного мешочка ножницы и принялся обрезать ими растрёпанные боковые пряди. Подойдя ближе, Coгa спросил:
– Кто вы?
Незнакомец хриплым голосом отвечал:
– Я убил человека и принимаю постриг.
Никаких сомнений в том, что это и есть преступник, не оставалось. Coгa позвал людей, злоумышленника выволокли из уборной и передали в руки представителя службы охраны.
Тот препроводил его в одно из помещений дворца и в присутствии чиновников тайного надзора учинил ему допрос о причинах совершённого им кровавого преступления. Но злоумышленник безучастно взирал на окружающих и никаких мало-мальски вразумительных объяснений не давал, лишь время от времени открывал рот и бормотал что-то бессвязное про кукушку. А в промежутках между этим бредом подносил испачканные в крови руки к вискам и выдёргивал волосы из боковых прядей. Итакура окончательно впал в безумие.
В тот же день князь Хосокава скончался. Однако в соответствии с распоряжением сёгуна Ёсимунэ это сохранили в тайне, и покойного под видом раненого вынесли в паланкине из дворца через боковые ворота. Официальное сообщение о смерти Хосокавы появилось лишь двадцать первого числа.
Что же до Итакуры, то его препоручили заботам Мидзуно-кэммоцу. Он покинул дворец тем же путём, что и тело Хосокавы, но уже в затянутом зелёной сеткой тюремном паланкине. Паланкин сопровождали пятьдесят пехотинцев, одетых в новые оранжевые накидки и новые белые момохики, с новенькими палками в руках. Вид этой процессии свидетельствовал о необычайной рачительности Мидзуно, умевшего заблаговременно подготовиться к любой неожиданности, что снискало ему похвалу современников.
На седьмой день после смерти Хосокавы, двадцать второго числа, высокопоставленный чиновник тайного надзора, правитель земли Тоса Исикава от имени сёгуна огласил вынесенный Итакуре приговор, в котором, в частности, говорилось:
«Невзирая на то, что данное преступление было совершено в состоянии безумия, и учитывая, что князь Хосокава, правитель земли Эттю, скончался от нанесённых ему ран, виновному предписывается совершить сэппуку в доме Мидзуно-кэммоцу».
В присутствии Исикавы Итакуре был подан короткий меч, однако безумец, вместо того чтобы взять его, продолжал сидеть, сложив на коленях руки. Тогда Ёсида Ясодзаэмон, вассал Мидзуно, был вынужден отрубить Итакуре голову. Сделать это не составило никакого труда, поскольку шея у Итакуры была не толще, чем у ребёнка. Ясодзаэмон поднял отрубленную голову и предъявил её чиновнику, призванному удостоверить факт свершения приговора. Мёртвое лицо Итакуры производило жалкое впечатление: острые скулы, жёлтая кожа. Глаза его были открыты.
Чиновник, вдохнув запах свежей крови, одобрительно произнёс: «Превосходно».
В тот же день был вынесен приговор Танаке Удзаэмону, в соответствии с которым ему отрубили голову. Предъявленное ему обвинение гласило:
«В нарушение приказания, отданного правителем земли Садо и предписывавшего содержать Итакуру Кацутоси ввиду его болезни под домашним арестом, Танака Удзаэмон, проявив вопиющее небрежение долгом, самочинно позволил ему прибыть во дворец, что послужило причиной тяжкого преступления и повлекло за собой лишение семьи Итакура довольствия в семь тысяч коку».
Все представители клана Итакура, а также их родственники: Итакура-сикибу, правитель земли Суо, правитель земли Садо, офицер Левой дворцовой гвардии Сакаи, старший офицер Правой гвардии Мацудайра и другие – были приговорены к домашнему аресту. Монах Куроки Кансай, бросивший истекающего кровью Хосокаву, был лишён содержания и отправлен в изгнание.
Скорее всего Итакура убил Хосокаву по ошибке. Дело в том, что фамильные гербы домов Итакура и Хосокава были похожи. Итакура, конечно же, намеревался убить своего родственника, правителя земли Садо, но по недоразумению напал на Хосокаву. Он попросту обознался, как это случилось в своё время с Мидзуно Хаято, заколовшим мечом Мори Мондо. Если к тому же учесть, что в умывальне было довольно темно, такое объяснение кажется вполне правдоподобным. Во всяком случае, именно так объясняли в то время эту трагедию.
Однако правителя земли Садо эта версия не устраивала. Всякий раз при упоминании об этой истории он напускал на себя страдальческий вид и говорил так: «У Кацутоси не было ни малейшей причины желать моей смерти. Не забывайте, речь идёт о безумце. Скорее всего он напал на князя без всякого повода. Считать, что он обознался, по меньшей мере нелепо. Во время допроса он нёс какую-то околесицу про кукушку – вот вам и доказательство моей правоты. Должно быть, он просто-напросто принял князя за кукушку».
Винные черви
Уже много лет не случалось такой жары. Куда ни глянь, пыльная черепица на крышах домов тускло отсвечивает свинцом, а в гнёздах, свитых ласточками под стрехами, птенцы того и жди сварятся заживо. Побеги конопли и проса в полях поникли, истомлённые зноем, нигде не видно ни единого свежего росточка. В небе, мутном от влажной духоты, плавают мелкие, не сулящие тени облака, точно кусочки рисовых лепёшек на сковороде…
Действие рассказа «Винные черви» происходит в такую вот погоду. Представьте себе палящий зной и ригу, возле которой находятся трое мужчин.
Один из них, совершенно голый, лежит на земле. Ноги и руки у него почему-то связаны верёвками, но он, судя по всему, не испытывает от этого неудобства. Небольшого роста, со здоровым цветом лица, он производит впечатление этакого увальня. Заплыл жиром, словно боров. В головах у него стоит глиняный кувшин, но что в нём – неизвестно.
Второй человек облачён в жёлтую рясу, в ушах у него болтаются небольшие медные кольца, по виду его можно принять за монаха или чародея. Необычайно смуглая кожа, и вьющиеся волосы, и борода заставляют предположить, что он выходец откуда-то с Памира. Он непрерывно размахивает кропилом с пунцовой рукояткой, отгоняя от лежащего на земле обнажённого толстяка мух и слепней. В какой-то момент, притомившись, он подошёл к глиняному кувшину и чинно опустился на корточки, отчего стал похожим на индюка.
Третий мужчина расположился поодаль от других – стоит под соломенным навесом в углу риги. У него имеется бородка, если этим словом позволительно назвать некое подобие крысиного хвоста. Он одет в длинный, до пола, чёрный халат, небрежно подпоясанный тёмно-коричневым кушаком. Судя по тому, с каким важным видом он обмахивается веером из лебединых перьев, перед нами – учёный-конфуцианец.
Все трое, словно сговорившись, хранят молчание. Более того, они почти не двигаются. Создаётся впечатление, что они с затаённым дыханием ожидают чего-то чрезвычайно важного.
Солнце стоит в зените – значит, наступил полдень. Не слышен лай собак – видно, их сморил полуденный сон. Залитые солнцем конопляные и просяные поля вокруг риги объяты тишиной. Изнывающее от зноя небо подёрнуто огненной дымкой, и даже облака, кажется, задыхаются от жары. Пожалуй, во всем мире лишь эти трое подают признаки жизни. Да и они хранят молчание, точно глиняные истуканы в мавзолеях эпохи Троецарствия…
Как вы уже догадались, действие этого рассказа происходит не в Японии. События, о которых пойдёт речь, разворачиваются в китайской провинции Чаншань, около риги, принадлежащей семье Лю.
Итак, человек, лежащий нагишом под палящим солнцем, – хозяин риги. Его фамилия – Лю, имя – Дачэн. Это один из первейших богачей в Чаншани. Всем удовольствиям на свете он предпочитает вино и с самого утра не выпускает чарки из рук. А поскольку о нём сказано: «За один раз может он осушить целый кувшин вина», – ясно, что пьяница он знатный. Если при этом принять во внимание, что поля его простираются на три сотни му[9] и половина их засеяна коноплёй, можно сделать вывод, что от его пьянства богатство семьи никоим образом не страдает.
Если вы спросите, почему он оказался нагишом под палящим солнцем, то предыстория этого такова.
В тот день Лю в обществе своего приятеля и такого же любителя вина, как он сам, учителя Суня (это тот самый конфуцианец, который обмахивается веером) сидел в собственной гостиной на приятном сквознячке. Откинувшись на бамбуковые валики, они играли в шашки. Тут вошла служанка и сообщила:
– К вам пожаловал священник из храма Драгоценного Стяга. Говорит, что должен обязательно вас повидать. Что прикажете ответить?
– Из храма Драгоценного Стяга, говоришь? – переспросил Лю, сощурив свои крошечные глазки, как будто в лицо ему ударил яркий свет. Затем он привёл в вертикальное положение своё тучное, обмякшее от жары тело и приказал: – Ну что ж, проводи его сюда. Судя по всему, это тот самый священник, – добавил он, многозначительно посмотрев на учителя Суня.
Речь шла о чужеземном монахе, прибывшем из Средней Азии. Умея врачевать болезни и являть всевозможные чудеса, он приобрёл широкую известность в здешних краях. Говорили, будто некоему Чану он помог избавиться от катаракты, а у некоего Ли благодаря его врачеванию якобы мгновенно рассосалась опухоль. Слухи об этих чудесах облетели всю округу. Дошли они и до Лю и его приятеля. Интересно, зачем пожаловал к Лю чужеземный монах? Ведь у того и в мыслях не было его приглашать.
Здесь следует отметить, что Лю вообще-то не славился особым гостеприимством. Однако, если у него сидел гость и в это время докладывали о приходе какого-нибудь посетителя, он, как правило, оказывал ему сердечный приём. Дело в том, что из какого-то глупого тщеславия ему было приятно продемонстрировать пришедшему, какой он радушный хозяин. К тому же чужеземный монах был знаменитостью. Такого гостя не приходилось стыдиться. Вот, собственно, почему Лю решил его принять.
– Интересно, зачем он пожаловал?
– Видно, просить о чём-то. Наверняка будет клянчить подаяние.
Пока приятели обменивались этими репликами, служанка ввела в комнату гостя. Это был высокий, причудливой внешности монах с аметистовыми глазами. Длинные курчавые волосы ниспадали ему на плечи. В руках он держал кропило с пунцовой рукояткой. Медленно пройдя на середину комнаты, монах остановился, не здороваясь и не произнося ни слова.
Некоторое время Лю пребывал в нерешительности, затем почувствовал беспокойство и обратился к пришельцу:
– Какая нужда привела вас ко мне?
– Так это вы? – осведомился, в свою очередь, чужестранец. – Вы тот самый человек, который питает пристрастие к вину?
– Ну, в общем, да, – уклончиво ответил застигнутый врасплох Лю и перевёл взгляд на учителя Суня, как бы призывая его на помощь. Сунь между тем с серьёзным видом передвигал кости на доске, словно не замечая взгляда приятеля.
– Знаете ли вы о том, что одержимы редким недугом? – продолжал монах.
Лю с озадаченным видом погладил валик.
– Недугом?
– Именно.
– Как же так? Я с младенчества… – попытался было возразить Лю, но монах оборвал его:
– Вы пьёте вино, но при этом никогда не хмелеете.
Лю уставился на монаха, не в силах что-либо сказать. Он и в самом деле ещё ни разу не захмелел от выпитого вина.
– Это свидетельствует о том, что вы больны, – с едва заметной улыбкой проговорил монах. – У вас во чреве завелись винные черви. Если их не изгнать, вы не исцелитесь. Я пришёл для того, чтобы вылечить вас.
– Возможно ли исцеление? – с недоверием спросил Лю и сразу же устыдился своего вопроса.
– Разумеется. Ради этого я и пришёл к вам.
Тут неожиданно в разговор вступил молчавший всё это время учитель Сунь:
– Вы дадите ему какое-то лекарство?
– Нет, в лекарствах пока что нет необходимости, – сухо ответил монах.
Учитель Сунь с давних пор испытывал непонятное презрение к учениям даосизма и буддизма. Поэтому, оказавшись в обществе даоса или буддийского монаха, он почти никогда не снисходил до беседы с ними. И если сейчас он нарушил это правило, то исключительно потому, что его насторожили слова о винных червях. Сам он отнюдь не чурался возлияний, и мысль о том, что и у него могли завестись винные черви, внушила ему некоторую тревогу. Однако, почувствовав в сдержанном ответе монаха издёвку, он нахмурился и снова принялся молча передвигать кости на доске. Он вспомнил, что всегда в глубине души считал Лю глупцом: кто, как не глупец, станет пускаться в разговоры с этим надменным монахом?
Лю, разумеется, было невдомёк, что думает о нём приятель.
– Тогда, наверное, вы прибегнете к иглоукалыванию? – спросил он.
– Зачем? Существует более простой способ.
– Заклинание?
– Нет, и не заклинание.
После предпринятых Лю нескольких неудачных попыток угадать, в чём состоит лечение его недуга, монах объяснил ему, что дело сводится к следующему. Больному предстоит всего-навсего раздеться донага и спокойно полежать на солнышке. Раз лечение настолько простое, подумал Лю, почему бы не попробовать? К тому же, хоть сам он и не отдавал себе в этом отчёта, ему было любопытно полечиться у чужеземной знаменитости.
В результате Лю чуть ли не сам напросился на лечение.
– Ну что ж, – сказал он, – нижайше прошу вас исцелить меня.
Вот каким образом получилось, что Лю в голом виде очутился на солнцепёке.
Монах предупредил, что лежать нужно без движения, и связал Лю верёвками. Затем он велел слуге принести кувшин с вином и поставить его в головах у Лю. По-видимому, излишне упоминать о том, что учитель Сунь, постоянный участник дружеских попоек, захотел присутствовать при этом необычном сеансе лечения.
Что представляют собой винные черви, что произойдёт после того, как они покинут тело больного, и зачем нужен кувшин с вином – этого не знал никто, кроме монаха. А раз так, то Лю, который, ничего не подозревая, улёгся нагишом на солнцепёке, можно обвинить в беспечности и легкомыслии. Но разве не так же точно поступает каждый из нас, вверяя себя попечению наставника в школе?
Жарко. На лбу выступает пот и тёплыми каплями скатывается к векам. Но руки у Лю связаны, и он не может вытереть пот. Он попробовал было потрясти головой, чтобы смахнуть капли, но у него тут же потемнело в глазах, и от дальнейших попыток такого рода пришлось отказаться. Пот бессовестно заливает веки, по крыльям носа стекает ко рту и дальше – на подбородок. Мерзкое ощущение!
Поначалу Лю развлекался тем, что поглядывал то на раскалённое добела небо, то на поле с поникшей коноплёй, но, после того как на лице у него стал обильно выступать пот, это занятие пришлось оставить. Только теперь Лю узнал, что, попадая в глаза, пот вызывает чувство жжения. Подобно овце, идущей на бойню, Лю покорно закрыл глаза. Постепенно не только лицо, но и всё его тело, выставленное на солнце, сковала боль. Кожа у него нестерпимо зудела, саднила, но он был не в силах пошевелиться. Это была мука, в сравнении с которой страдания, причиняемые потом, казались сущим пустяком. Лю уже начал жалеть, что согласился на лечение.
Однако, как выяснилось потом, настоящее мучение было ещё впереди. Через некоторое время Лю почувствовал страшную жажду. Он знал историю о том, как некогда Цао Цао или кто-то ещё избавил своих воинов от жажды, сказав им, что впереди – сливовая роща. Но сколько ни пытался Лю представить себе кисло-сладкий вкус сочных плодов, в горле у него было по-прежнему сухо. Он пробовал двигать подбородком, даже покусывал себе язык, но во рту горело, как и прежде. Если бы в головах у него не стоял глиняный кувшин, сносить эти муки было бы, без сомнения, легче. А тут ему не давал покоя струящийся из горлышка вожделенный винный аромат. С каждой минутой Лю ощущал его все сильнее. Бедняга открыл глаза, чтобы посмотреть на кувшин. Ему были видны только горлышко и верхняя часть пузатого сосуда. Но воображение подсказывало ему, что в тёмной глубине кувшина находится наполняющая его золотистая влага. Лю машинально провёл сухим языком по запёкшимся губам, но слюна так и не появилась. Даже пот, высыхая на солнце, перестал стекать у него по лицу.
Несколько раз Лю испытывал приступы сильнейшей дурноты, голова раскалывалась от боли. В глубине души он проклинал монаха. Зачем только он поддался на его уговоры и обрёк себя на бессмысленные страдания? Жажда становилась всё более невыносимой. Он почувствовал тошноту. Дольше он терпеть не мог. Тяжело дыша, Лю раскрыл рот с намерением потребовать, чтобы сидящий подле него монах прекратил лечение.
И в этот миг произошло следующее. Лю почувствовал, как вверх по пищеводу у него движутся какие-то комки, что-то мягкое вроде червяков или маленьких ящериц. Не успел он ощутить их шевеление над кадыком, как эти скользкие, точно рыба-вьюн, существа принялись стремительно выскакивать наружу. Из кувшина тотчас же послышался плеск.
Монах, до сих пор неподвижно сидевший около Лю, вдруг поднялся и стал развязывать верёвки.
– Всё в порядке, – сказал он. – Винные черви вышли.
– Неужели? – простонал Лю и, преодолевая дурноту, поднял голову. Потрясённый случившимся, он забыл про жажду и подполз к кувшину. Учитель Сунь, заслоняясь от солнца веером, подошёл к ним. Все трое заглянули в кувшин и увидели, как в вине плещутся какие-то существа терракотового цвета, похожие на рыбок-саламандр, совсем маленькие, в три суна длиной, но у каждого из них были рот и глаза. Они резвились, жадно глотая вино. От этого зрелища Лю чуть не стошнило…
Результат лечения сказался немедленно. С того самого дня Лю Дачэн и близко не подходил к вину. Говорят, теперь даже от запаха вина его начинает мутить. Но – удивительное дело! – с тех пор здоровье Лю стало понемногу сдавать. Прошло уже три года, как он избавился от винных червей, и от его былой дородности не осталось и следа. Бледная, тусклая кожа обтягивает его заострившиеся скулы, волосы сильно поредели и поседели, недуги по нескольку раз в год надолго приковывают его к постели.
Но это ещё не всё: расстроилось не только здоровье Лю, но и его состояние. Богатство семьи стало таять, и со временем большая часть его полей, простиравшихся на три сотни му, перешла к чужим людям. Поневоле пришлось Лю взять в непривычные к работе руки плуг. Жалкую жизнь влачит он теперь.
Почему же, после того как Лю избавился от винных червей, его здоровье пошатнулось? Почему истаяло его богатство? Этот вопрос возникает сам собой, если взглянуть на факты в их причинно-следственной связи. По правде говоря, этим вопросом задавались многие жители Чаншани, люди разных профессий, и отвечали на него по-разному. Ниже приводятся три варианта ответа, выбранные нами как наиболее типичные.
Ответ первый. Винные черви олицетворяют счастье Лю, а вовсе не недуг. Повстречавшись с глупым монахом, он по собственной воле выпустил из рук счастье, дарованное ему Небом.
Ответ второй. Винные черви олицетворяют недуг Лю, а вовсе не счастье. Почему? Да потому, что, с точки зрения нормального человека, осушить за один присест целый кувшин вина – дело немыслимое. Если бы Лю не избавился от винных червей, то долго не протянул бы и давно уже умер. В сравнении с подобным исходом даже бедность и пошатнувшееся здоровье следует воспринимать как благо.
Ответ третий. Винные черви не олицетворяют ни болезнь, ни счастье Лю. С давних пор Лю не ведал иных наслаждений, кроме винопития. Когда его лишили этого наслаждения, жизнь Лю утратила смысл. Стало быть, Лю – это и есть винные черви, а винные черви – это и есть Лю. Избавившись от винных червей, Лю словно бы убил самого себя.
Перестав пить вино, Лю перестал быть самим собой. А если прежний Лю прекратил своё существование, то вполне естественно, что вместе с ним исчезло и его былое здоровье и богатство.
Которое из этих мнений наиболее справедливо – я и сам не знаю. Я всего лишь привёл эти нравоучительные суждения, подражая дидактической манере китайского сочинителя.
Герой
– Что ни говорите, но Сян Юя нельзя назвать героем, – молвил ханьский полководец Люй Матун, поглаживая жидкую бородку. Его и без того длинное лицо ещё больше вытянулось. Горящий посреди шатра огонь отбрасывал красные блики на лица дюжины сидящих вокруг воинов. Они улыбались, как видно, всё ещё чувствуя упоение победы в сегодняшней битве, в которой удалось добыть голову Сян Юя, правителя Западного Чу.
– Правда? – спросил один из сидящих, пристально взглянув на Матуна. Это был человек с орлиным носом и пронзительными глазами. На губах у него играла чуть заметная ироническая улыбка.
Матун слегка растерялся.
– Спору нет, силой он был наделён богатырской, – сказал Матун. – Говорят, ему ничего не стоило сплющить каменный сосуд из мавзолея Великого Юя на горе Тушань. Да взять хотя бы нынешнее сражение. В какое-то мгновение мне показалось, что он уже еле дышит. И тем не менее ему удалось сразить Ли Цзо и Ван Хэна. А ведь силы его были на исходе. Да, в удали ему не откажешь, что правда, то правда.
– Вот оно что… – молвил человек с орлиным носом и снисходительно кивнул всё с тем же ироническим выражением лица.
Бивак был объят тишиной. Вдалеке несколько раз протрубил рог, и снова всё стихло. Не слышно было даже лошадиного ржания. В воздухе стоял запах палой листвы.
– И всё же… – проговорил Матун, лукаво подмигнув, и обвёл глазами сидящих у огня. – И всё же настоящим героем его не назовёшь. Это доказывает опять-таки сегодняшнее сражение. Когда мы оттеснили чуское войско к реке Няоцзян, в нём оставалось всего лишь двадцать восемь всадников. Да и как могло быть иначе после битвы, когда наши воины тучей ринулись на врага! Тут, говорят, к Сян Юю вышел начальник заставы и предложил ему в лодке переправиться на тот берег, в Цзяндун. Если бы Сян Юй был героем, то подавил бы в себе гордыню и воспользовался этим предложением, чтобы пополнить своё войско свежими силами. В таких случаях не пристало думать лишь о собственной чести.
– Значит, герой – это тот, кто действует с расчётом?
Вокруг послышались негромкие смешки. Однако это не смутило Матуна. Оставив в покое бородку, он откинул голову назад и заговорил, то и дело бросая быстрые взгляды на человека с орлиным носом и энергично жестикулируя:
– Нет, я не это имел в виду. Перед началом сражения Сян Юй обратился к своим двадцати восьми воинам с такими словами: «Если я погибну, то лишь потому, что так угодно Небу, а не оттого, что войско наше недостаточно сильно. В доказательство тому я трижды нанесу удар по ханьским войскам». На самом же деле он не трижды, а девять раз ввязывался с нами в бой и неизменно одерживал победу. И тем не менее я считаю его трусом. Храбрый человек не станет перекладывать на Небеса ответственность за собственное поражение. Если бы он переправился в Цзяндун и, пополнив своё войско местными молодцами, снова вступил с нами в борьбу за власть в Поднебесной, тогда другой разговор. Но ведь он этого не сделал. Он предпочёл умереть, когда вполне мог сохранить себе жизнь. Я не признаю Сян Юя героем, и не только потому, что он не проявил должной расчётливости. Приписывать всё воле судьбы непорядочно. Не знаю, что скажут по этому поводу учёные мужи вроде Сяо Чэна, но я считаю, что настоящий герой так не поступает.
Люй Матун умолк и обвёл торжествующим взглядом своих воинов. Все вокруг молча закивали, как видно, согласившись с его доводами. И только лицо человека с орлиным носом выражало волнение. Его чёрные зрачки сверкали, как будто в них пылал огонь.
– Вот оно что? Сян Юй действительно так сказал?
– Насколько мне известно, да. – Матун поднял своё вытянутое лицо и с достоинством кивнул. – Разве это не проявление малодушия? Разве так поступает мужчина? Настоящий герой – это тот, кто бросает вызов Небу.
– Согласен.
– Хотя и знает наперёд, что его ожидает.
– Согласен.
– Стало быть, Сян Юй…
Лю Бан устремил свои пронзительные глаза к мерцающему алыми бликами пламени и медленно, словно говоря с самим собой, произнёс:
– Стало быть, он и есть настоящий герой.
Пока варилось просо
Студенту Лу показалось, что он умирает. Глаза ему застила тёмная пелена, голоса всхлипывающих детей и внуков уносились всё дальше и дальше. К ногам его как будто привязали тяжёлые гири, и они тянули его вниз, вниз…
И тут Лу внезапно оглянулся и широко открыл глаза.
Около его изголовья по-прежнему сидел старец даос Лю. Просо, которое он варил, похоже, ещё не было готово. Лу поднял голову с фарфорового изголовья, протёр глаза и широко зевнул. В Ханьдане стояла осень, и, хотя солнечные лучи освещали голые верхушки деревьев, было прохладно.
– Проснулся? – спросил старец Лю, покусывая ус и пряча улыбку.
– Да.
– Должно быть, тебе приснился сон?
– Приснился.
– Что это был за сон?
– О, это был очень длинный сон. Сперва мне приснилось, будто я женился на дочери господина Цуя из Цинхэ, девушке красивой и скромной. В следующем году я выдержал экзамен и получил должность чиновника в управлении по борьбе с мятежниками провинции Вэйнань. Дальше – больше: я стал инспектором по надзору за должностными лицами, потом получил при дворе должность секретаря, затем стал ответственным за подготовку императорских указов и, наконец, без особого труда достиг положения советника. Однако вскоре судьба отвернулась от меня: пав жертвой навета, я едва избежал гибели и был отправлен в ссылку в Хуаньчжоу. Там я провёл пять или шесть лет, после чего выяснилось, что я ни в чём не повинен, и меня вернули в столицу. Я был назначен главой дворцовой канцелярии и получил во владение провинцию Янь. К тому времени я уже достиг почтенного возраста. У меня было пятеро детей и несколько десятков внуков.
– А потом?
– Потом я умер. Насколько я помню, мне перевалило уже за восьмой десяток.
Старец с торжествующим видом погладил бороду:
– Итак, ты изведал славу и позор, нищету и довольство. Вот и отлично. Жизнь человеческая ничем не отличается от увиденного тобою сна. Должно быть, теперь ты уже не так горячо привязан к жизни. Если задуматься, обретения и потери, жизнь и смерть мало что значат. Ты так не считаешь?
Студент Лу с раздражением слушал старца. Когда же тот задал ему вопрос, он с юношеским пылом вскинул голову и, сверкнув глазами, сказал:
– Пусть жизнь – всего лишь сон. От этого мне ещё больше хочется жить. Придёт время, и точно так же, как кончился тот сон, кончится и этот. Но пока время не пришло, я хочу жить, да так, чтобы потом можно было сказать: я действительно жил! Разве я не прав?
Старец нахмурился и ничего не сказал в ответ.
Одержимый творчеством
Утро одного из дней девятого месяца второго года Тэмпо[10]. В общественной бане «Мацуною» на улице Доботё в Канде с самого утра, как всегда, многолюдно. «Общественная баня… Здесь всё смешалось: песнопения в честь богов и молитвы буддам, любовь и непостоянство…» Эта картина, которую изобразил несколькими годами ранее Сикитэй Самба в одном из своих юмористических произведений, и по сию пору ничуть не переменилась.
Вот посетитель с модной причёской «бабий пучок», погрузившись в воду, распевает утадзаймон. Другой, причёсанный на манер «тёммагэ хонда», уже вылез из воды и отжимает полотенце. Третий, с причёской «ооитё» и выбритым лбом, поливает горячей водой спину с татуировкой. Ещё один, с причёской «ёсибэй якко», давно уже с завидным упорством трёт лицо. Подле чана с холодной водой сидит бритоголовый монах и знай поливает себе голову. Мальчуган, чьи волосы подвязаны так, что напоминают крылышки не то пчелы, не то стрекозы, сосредоточенно играет бамбуковой бадейкой и глиняной миской… Все эти столь несхожие между собой существа, поблёскивая мокрыми, скользкими от воды телами, толпятся в тесной бане, обволакиваемые клубами густого пара и освещённые пробивающимися в окно лучами осеннего солнца.
Шум в бане совершенно особый. Прежде всего – это плеск воды и грохот переставляемых ушатов. Затем – это гомон переговаривающихся между собой или напевающих что-то людей. И наконец – это удары колотушки, время от времени доносящиеся с места, где находится сторож. По обе стороны перегородки, разделяющей баню на фуро и площадку для мытья, стоит шум, точь-в-точь как на поле брани. К тому же сюда нет-нет да и заходят торговцы. Или попрошайки. Ну и, конечно же, без конца снуют посетители. И вот среди всей этой сутолоки…
Среди всей этой сутолоки, скромно примостившись в углу, мылся старик. Судя по всему, ему было далеко за шестьдесят. Седина на висках приобрела неприятный жёлтый оттенок, глаза стали подслеповатыми. Он был худ, но сложения крепкого, пожалуй, даже могучего, и в руках и ногах его с отвислой кожей всё ещё таилась сила, противящаяся старости. То же можно было сказать о лице: мощный подбородок и крупный рот словно бы излучали яростное сверкание силы дикого зверя, как это было и прежде, когда старик находился в расцвете лет.
Старик тщательно вымыл верхнюю половину тела и продолжал мыться, не ополаскиваясь водой из деревянного ушата. Он с усердием тёр себя куском чёрной шёлковой ткани, но с его сухой морщинистой кожи не сходило ничего, что можно было бы назвать грязью. Это вдруг наполнило его ощущением осени и печали. Старик вымыл ногу, обтёр её влажным полотенцем, и тут рука его остановилась, как будто силы внезапно покинули его. В ушате отражалось ослепительно яркое небо, а на его фоне алели плоды хурмы; нависая над углом черепичной крыши, они как бы скрепляли между собой тонкие ветви дерева.
И старику вдруг почудилось, будто на него пала тень Смерти. В этом не было ничего зловещего, ничего такого, что прежде ужасало его, – одно лишь сознание тихого, желанного, безмятежного небытия, подобного небу, отражающемуся в ушате. Как был бы он рад, если бы смог отрешиться от заблуждений и страданий суетного мира и забыться сном под сенью этой Смерти, тем самым сном без сновидений, который посещает невинных людей. Он устал от жизни. Но ещё больше устал он от мук творчества, неотступно преследовавших его уже много десятков лет…
Словно очнувшись, старик разочарованно поднял глаза от ушата. Вокруг по-прежнему раздавались оживлённые, весёлые голоса, в клубах пара с головокружительной быстротой сновали голые люди. К пению утадзаймон, доносящемуся из-за перегородки, присоединились звуки модных песенок «Мэриясу» и «Ёсиконо». Во всём этом, разумеется, не было и намёка на ту Вечность, которая только что осенила его душу.
– О, сэнсэй, вот уж никак не ожидал встретить вас здесь! Мне и во сне не могло привидеться, что Кёкутэй-сэнсэй с самого утра пожалует в баню.
Обернувшись, старик увидел среднего роста мужчину, румяного, с причёской «хосоитё». Тот стоял подле своего ушата с перекинутым через плечо полотенцем и весело улыбался. Похоже, он только что закончил купание и теперь собирался ополоснуться чистой водой.
– Рад, что вы, как обычно, пребываете в прекрасном расположении духа, – с едва заметной иронией произнёс, улыбнувшись в ответ, Бакин Сакити Такидзава.
– Ну что вы, право, стоит ли радоваться такому пустяку? Поистине отрадно то, что в свет выходят все новые главы «Восьми псов», что с каждым разом они всё интереснее. – Собеседник Бакина бросил полотенце в ушат и ещё громче затараторил: – Подумать только! Фунамуси выдаёт себя за слепую уличную певицу и замышляет убить Кобунго. Но в последний момент, когда его хватают и начинают пытать, на выручку ему приходит Соскэ. Здорово закручено! К тому же этот эпизод даёт возможность Соскэ ещё раз встретиться с Кобунго. Я, Омия Хэйкити, – простой торговец галантерейными товарами, однако считаю себя каким-никаким, но всё же знатоком и ценителем «ёмихон»[11]. Так вот, поверите ли, даже мне трудно придраться к чему-либо в ваших «Восьми псах»… О, простите великодушно, что беру на себя смелость судить о вещах, мне недоступных…
Бакин промолчал и принялся мыть вторую ногу. Что и говорить, он с давних пор благоволил к почитателям своего таланта. Однако это благоволение ни в коей мере не мешало ему судить о них здраво и беспристрастно. Для мудрого и проницательного Бакина это было более чем естественно. Но в то же время, как это ни парадоксально, способность трезво судить о людях, в свою очередь, тоже почти не влияла на его благорасположение к почитателям. Поэтому порой он испытывал к одному и тому же человеку и презрение, и дружелюбие одновременно. Омия Хэйкити относился к разряду именно таких людей.
– Во всяком случае, чтобы писать так, как вы, обыкновенного трудолюбия маловато. Что ни говорите, вы – наш японский Ло Гуаньчжун. Ой, простите, я, кажется, опять наболтал лишнего. – Хэйкити снова захохотал. Его громовой хохот привлёк к себе внимание одного из мывшихся неподалёку – кривого на один глаз, плюгавого, смуглого человека с причёской «коитё». Обернувшись к Бакину и Хэйкити, он смерил их взглядом, после чего со странным выражением лица сплюнул в сток.
– А вы по-прежнему увлекаетесь сочинением хокку? – поинтересовался Бакин, ловко переводя разговор на другую тему, но это вовсе не означало, что он заметил злобную гримасу кривого. К счастью, даже при желании он не смог бы её разглядеть, настолько слабым у него было зрение.
– Мне весьма лестно ваше внимание, но должен прямо сказать: я всего-навсего любитель. Без зазрения совести бегаю по разным поэтическим собраниям, а сочинить что-нибудь путное никак не получается. Кстати, сэнсэй, вы, кажется, не питаете особого пристрастия к сложению танка и хокку?
– Просто я не умею делать это как следует. Хотя одно время и сочинял стихи.
– О, вы, разумеется, шутите!
– Нет. Просто занятие это не по мне. Слагая стихи, я до сих пор ощущаю себя слепцом, подглядывающим через забор. – Бакин сделал ударение на словах «не по мне». Он отнюдь не считал себя неспособным сочинять танка, и если понимать его слова именно так, то в них не прозвучало неуверенности в собственных силах. Просто Бакин с давних пор испытывал нечто вроде презрения к подобному искусству. Почему? Да потому, что и танка, и хокку были слишком малы, чтобы целиком вместить в себя его, Бакина. Содержание любого трехстишия или пятистишия, лирического или пейзажного, сколь бы искусно оно ни было сложено, оказывалось соизмеримым лишь с несколькими строчками его прозаического сочинения, не более. Такое искусство он считал искусством второго сорта.
В том, что Бакин сделал ударение на словах «не по мне», как раз и выразилось его презрение. Увы! Омия Хэйкити не понял этого.
– Ах вот в чём дело, – произнёс он извиняющимся тоном, докрасна растирая тело отжатым полотенцем. – А я-то, признаться, думал, что такой выдающийся человек, как вы, может с лёгкостью написать всё, за что ни возьмётся. Верно говорят, что Небо не наделяет человека сразу двумя сокровищами.
Самолюбивый Бакин почувствовал неудовольствие оттого, что слова его были поняты буквально. Не понравился ему и извиняющийся тон Хэйкити. Он бросил полотенце и тряпку для мытья на пол, разогнул спину и, досадливо поморщившись, с горячностью в голосе произнёс:
– Впрочем, я полагаю, что могу сочинять стихи не хуже нынешних маститых поэтов.
Сказав это, он невольно устыдился собственного ребячества. Только что, когда Хэйкити в самых выспренних выражениях хвалил его книгу, он не испытывал особой радости. Теперь же недоволен тем, что его сочли неспособным слагать стихи. Здесь крылось явное противоречие. Мгновенно проанализировав собственную реакцию, Бакин принялся суетливо поливать себя водой из ушата, пытаясь скрыть неловкость.
– Ещё бы! Иначе вы вряд ли смогли бы создавать шедевры, подобные «Восьми псам». Я так и знал, что поэзия вам тоже по плечу. Не сочтите за бахвальство, но на такие вещи у меня глаз намётан!
Хэйкити снова захохотал. Но кривого поблизости уже не было, а его плевок унесла вода, которую выплеснул на себя Бакин. Слова Хэйкити повергли его в ещё большее смущение.
– Однако же я слишком увлёкся беседой с вами. Пожалуй, пойду окунусь в фуро.
Странное ощущение неловкости не покидало Бакина. Досадуя на себя, он медленно поднялся, вынужденный ретироваться перед этим добродушным весельчаком, его почитателем. Что же до Хэйкити, то ему, как видно, слова Бакина придали ещё большую уверенность, столь подобающую истинному почитателю талантов.
– Ну что же, сэнсэй, прошу вас в ближайшее время сочинить какое-нибудь стихотворение. Договорились? Так не забудьте же! А теперь позвольте откланяться. Я знаю, вы ужасно заняты, и всё же, если вам случится проходить мимо, не преминьте заглянуть ко мне. С вашего позволения, и я как-нибудь к вам наведаюсь! – кричал Хэйкити вдогонку Бакину. Он ещё раз выполоскал полотенце и, провожая глазами Бакина, направлявшегося к перегородке, принялся размышлять о том, в каких именно выражениях расскажет жене о встрече с Кёкутэй-сэнсэем.
По ту сторону перегородки царил полумрак, как на исходе дня. От воды поднимался пар, более густой, чем туман. Подслеповатый Бакин неуверенно протискивался между купающимися. Кое-как добрался до фуро, пристроился в углу и погрузил в воду своё морщинистое тело.
На сей раз вода была горячее обычного. Бакина обдало жаром до самых кончиков пальцев ног. Он глубоко вздохнул и принялся медленно обводить глазами фуро. В полумраке едва приметно вырисовывались головы купающихся, их было семь, а может быть, восемь. Они пели, разговаривали, а между ними мерно покачивалась поверхность воды, вобравшей в себя жир человеческих тел. В воде отражался мутный свет, просачивающийся из-за перегородки. В нос бил тошнотворный «запах общественной бани».
Бакин с давних пор любил предаваться романтическим мечтам. Вот и сейчас, разомлев в горячей воде, он невольно вызвал в памяти картину из своей будущей книги.
…Палуба с плотным навесом от солнца. На море ложатся сумерки. Поднимается ветер. Глухой плеск волн о борт корабля напоминает звук переливаемого масла, к их ропоту присоединяется шум колышущегося на ветру навеса, похожий на шорох крыльев гигантской летучей мыши. Почуяв неладное, один из моряков смотрит с опаской за борт. В небе над окутанным туманом морем мрачно и одиноко алеет лунный серп. И вот…
Тут картина, представившаяся мысленному взору Бакина, внезапно оборвалась. Он услышал, как совсем рядом кто-то ругает его произведения, многословно и нарочито громко, так чтобы Бакин слышал. Бакин решил было выйти из фуро, но передумал и весь обратился в слух.
– Бакина нынче пышно величают «мастером Кёкутэем», «жрецом храма литературы», а ведь его книги – переделки чужих произведений, и только. «Восемь псов» – это не что иное, как на скорую руку перекроенные «Речные заводи»[12]. Если не принимать этого в расчёт, то в «Восьми псах», конечно, можно найти кое-что занятное. Но китайское произведение написано значительно раньше. Так что заслуга Бакина в том лишь и состоит, что он удосужился прочесть оригинал. Да и то как сказать, ведь его книга – ещё и перепев Кёдэна. Поневоле станешь возмущаться и негодовать!
Затуманенным взором Бакин взглянул в ту сторону, откуда доносилась хула. За густыми клубами пара было трудно рассмотреть говорящего, но скорее всего это был тот самый кривой с причёской «коитё». Видно, он пришёл в ярость, услышав, как Хэйкити превозносит «Восемь псов», и решил выместить злость на Бакине.
– Всё, что пишет Бакин, – результат усердия, и только. У него ничего нет за душой, а если что и есть, то, пожалуй, только комментарии к Четверокнижию и Пятикнижию[13], куда более уместные в устах учителя приходской школы. Он ничего не смыслит в современной жизни – об этом свидетельствует хотя бы то, что он не написал ни одной книги, в которой бы речь не шла об отдалённых временах. Он не может написать просто и ясно: «Осомэ и Хисамацу»[14], – нет! Ему угодно писать так: «Семь осенних трав, или История любви Хисамацу и Осомэ». И подобных примеров, если выразиться в духе «великого» Бакина, мы можем «узреть» предостаточно.
Сознание собственного превосходства порой не позволяет нам в полной мере ощутить ненависть. Вот и Бакин, притом что слова хулителя больно ранили его, почему-то не почувствовал к нему ненависти. Ему только хотелось как-нибудь выразить обидчику своё презрение, но сделать это, вероятно, мешал возраст.
– Если уж на то пошло, Икку и Самба – вот истинные писатели. В их книгах мы видим живых, узнаваемых людей. Это вам не поделки, где требуются лишь ловкость рук да кое-какая учёность. И этим они разительно отличаются от таких, как Сарюкэн Индзя[15].
По опыту Бакин знал, что хула в адрес его книг не только неприятна, но и в значительной мере опасна. И дело было даже не в том, что он боялся пасть духом, приняв эту хулу. Наоборот: он понимал, что активное её неприятие может привести к тому, что отныне всем его творческим побуждениям станет сопутствовать некое противодействие. И он страшился, что в результате появится уродливое произведение. Любой полный творческих сил писатель, кроме тех, кто стремится лишь угодить вкусам времени, невольно рискует оказаться перед лицом подобной опасности. Вот почему до сих пор Бакин старался ни при каких обстоятельствах не читать критических отзывов на свои произведения, хотя порой у него и возникал такой соблазн. И то, что сейчас он всё-таки решился остаться в фуро и выслушать поношения человека с причёской «коитё», отчасти объяснялось именно тем, что он поддался своему давнему искушению.
Поняв это, Бакин сразу же упрекнул себя в глупости, из-за которой всё ещё медлит и не выходит из воды, и, не обращая внимания на злобные выкрики кривого, решительно направился за перегородку. Там сквозь клубы пара виднелось голубое небо за окном, а на его фоне – облитые тёплыми лучами солнца плоды хурмы. Бакин подошёл к чану и не спеша ополоснулся водой.
– Как бы то ни было, Бакин – ловкий обманщик. Ведь ухитрился же прослыть японским Ло Гуаньчжуном! – продолжал свои яростные филиппики кривой, полагая, что Бакин всё ещё находится поблизости. Он и не заметил, как проклятый им Бакин удалился за перегородку.
Из бани Бакин вышел в подавленном настроении: в этом смысле брань кривого явно достигла цели. Идя по улицам Эдо, освещённым лучами осеннего солнца, Бакин пытался тщательно, критически обдумать всё, что услышал в фуро. Он мог хоть сейчас доказать, что придирки кривого, с какой стороны ни взгляни, – нелепость, не заслуживающая ни малейшего внимания. И всё же ему трудно было вернуть себе душевное спокойствие, столь внезапно нарушенное.
С мрачным видом рассматривал он дома горожан по обеим сторонам улицы. Живущим в них не было никакого дела до него, Бакина. Они были погружены в свои будничные заботы. Оранжевая вывеска «Лучшие табаки из всех провинций», жёлтая табличка в виде гребня с надписью «Настоящий самшит», фонарь с начертанными на нём знаками «Паланкины», флажок с гадательными палочками и надписью «Гадание» – всё это, выстроившись в какой-то бессмысленный ряд, проносилось мимо его взора, не останавливая на себе его внимания.
«Почему же эти поношения, которые я могу только презирать, не дают мне покоя? – спрашивал себя Бакин. – Ну, прежде всего мне неприятно уже то, что кривой питает ко мне злобу, какой бы причиной она ни объяснялась, и тут уж ничего не поделаешь…»
При этой мысли Бакин устыдился собственного малодушия. И правда, мало на свете людей, столь же высокомерных, сколь и легкоранимых, как он. Бакин давно заметил, что эти, казалось бы, исключающие друг друга крайности в его отношении к происходящему, эти диаметрально противоположные следствия на самом деле восходят к одной и той же причине, объясняются одной и той же работой нервов.
«Однако существует ещё одно обстоятельство, которое меня тяготит, – продолжал размышлять Бакин. – Дело в том, что мне следовало дать надлежащий отпор кривому. А я этого не люблю. По той же причине я не люблю азартных игр».
Здесь, однако, в его рассуждениях произошёл неожиданный поворот. Об этом можно было догадаться хотя бы по тому, как вдруг разомкнулись его плотно сведённые челюсти.
«И наконец, вне всякого сомнения, меня огорчает то, что противником моим оказался именно этот кривой. Окажись им человек более достойный, я наверняка поборол бы в себе чувство обиды и дал ему надлежащий отпор. Но с таким противником, как этот кривой, поневоле станешь в тупик».
Горько усмехнувшись, Бакин устремил взор в высокое небо. С неба вместе с солнечными лучами упал на землю, словно внезапный ливень, пронзительный крик коршуна. И старик почувствовал, что у него отлегло от сердца.
«Как бы ни хулил меня кривой, – думал Бакин, – самое большее, на что он способен, – это огорчить меня. Сколько бы ни кричал коршун, солнце не остановит свой бег. Я непременно завершу свои «Восемь псов». Тогда Япония получит роман, равного которому не было и не будет».
Оберегая вновь обретённую веру в себя, Бакин медленно зашагал к дому по извилистой узкой тропе.
Войдя в дом, Бакин увидел в углу полутёмной прихожей знакомые сандалии с плетёными ремешками и живо представил себе круглое, лепешкообразное лицо их владельца. И сразу же с горечью подумал, что непрошеный гость попусту отнимет у него время.
«Вот и потеряно утро», – сказал он себе и шагнул в переднюю, где его поспешила встретить служанка Суги. Она почтительно приветствовала хозяина и, не поднимаясь с коленей, заглянула ему в лицо.
– Господин Идзумия дожидается вашего возвращения.
Кивнув, Бакин отдал Суги мокрое полотенце. Идти в кабинет ему не хотелось, и он спросил:
– А что О-Хяку[16]?
– Хозяйка изволила пойти в храм.
– Вместе с О-Мити[17]?
– Да, и малыша изволили взять с собой.
– А сын где?
– Он изволил отправиться к господину Ямамото.
Никого из близких дома не было. Бакин почувствовал вдруг что-то похожее на отчаяние. Но делать было нечего, и он раздвинул фусума кабинета, находившегося здесь же, рядом с передней.
Посреди комнаты в церемонной позе сидел человек с чванливым выражением на белом лоснящемся лице и покуривал тонкую серебряную трубку. В кабинете не было особых украшений, если не считать ширмы, оклеенной литографиями, да висящих в нише двух парных какэмоно с изображением пурпурных листьев осенних клёнов и жёлтых хризантем. Вдоль стен громоздилось с полсотни старых, видавших виды книжных полок с дверцами из павлонии. Бумагу на сёдзи, видно, не меняли с прошлой зимы. Она была порвана в нескольких местах, и на её светлой поверхности раскачивалась огромная косая тень бананового дерева… Щегольской наряд гостя явно не вязался с убранством кабинета.
– О, вот и вы, сэнсэй, – почтительно склонив голову, ласково произнёс гость, как только раздвинулись фусума. Это был книгоиздатель Идзумия Итибэй, готовивший к печати «Цзинь, Пин, Мэй»[18] – одну из книг Бакина, которой суждено было завоевать почти такую же известность, какую завоевали «Восемь псов».
– Вы, верно, давно меня дожидаетесь. Нынче вопреки обыкновению я отправился в баню с утра, – сказал Бакин, невольно насупившись, но сел перед гостем, как того требовала учтивость.
– О, в баню с утра! Вот оно что! – восторженно воскликнул Итибэй.
Нечасто встречаются люди, способные, подобно ему, приходить в восторг даже по самому, казалось бы, пустячному поводу. Или, точнее, люди, способные изображать восторг.
Бакин не спеша закурил и, как и следовало ожидать, перевёл разговор в деловое русло. Ему очень не нравилась эта восторженность Идзумии.
– Что привело вас сегодня ко мне?
– Пришёл просить вас написать новую книгу, – вкрадчиво, с какой-то женской интонацией, произнёс Итибэй, водя пальцем по трубке.
Любопытный был у этого человека характер: в большинстве случаев его речь и повадки не только не соответствовали его внутренним побуждениям, но, скорее, шли вразрез с ними. Бывая настроенным решительно и непреклонно, он тем не менее говорил мягким, вкрадчивым голосом.
И этот голос заставил Бакина снова нахмуриться.
– Вы напрасно обеспокоили себя приходом, если речь идёт о новой книге.
– Вот как? У вас возникли какие-то особые обстоятельства?
– Дело не в этом. Просто в нынешнем году я хочу завершить уже начатые мною книги, и до новой вряд ли дойдут руки.
– Конечно, конечно. Вы очень заняты, я знаю, – промолвил в ответ Итибэй, выбивая трубку. И вдруг, будто это действие послужило для него своеобразным сигналом, он сделал вид, что начисто забыл всё, о чём они только что толковали, и тотчас же как ни в чём не бывало заговорил о Нэдзуми Кодзо Дзиродаю.
Нэдзуми Кодзо Дзиродаю был знаменитым разбойником, молва о котором распространилась по всей стране. В начале пятого месяца того самого года, о котором идёт речь, его схватили, а уже в середине восьмого месяца голова разбойника была выставлена на всеобщее обозрение у ворот тюрьмы. Преступник грабил только князей, а отобранные у них деньги раздавал беднякам, за что снискал себе прозвище Благородный Разбойник, которое полностью заменило ему имя и которое люди произносили с благоговением.
– Сэнсэй, говорят, он разграбил семьдесят шесть княжеских поместий и присвоил себе богатства, исчисляемые суммой в три тысячи сто восемьдесят три рё[19] и два бу[20]. Это просто невероятно. На то он и грабитель, конечно, но обыкновенному человеку такое явно не по плечу.
Бакин не заметил, как увлёкся разговором. В тоне Итибэя звучало нескрываемое самодовольство: дескать, он опять снабжает писателя материалом. Это, конечно, не могло не раздражать Бакина. И всё же он явно увлёкся разговором. Человека искусства, наделённого истинным талантом, такого, как Бакин, было легко увлечь, особенно подобного рода историями.
– Гм, и впрямь выдающаяся личность. Мне приходилось много о нём слышать, но ничего подобного я не подозревал.
– Ну, как разбойник он был настоящим мастером своего дела. Говорят, в своё время он служил при господине Арао, властителе провинции Тадзима, не то сопровождающим, не то ещё кем-то, поэтому в княжеских поместьях ориентировался как у себя дома. Его провозили по городу перед казнью, и те, кто видел его, рассказывают, какой это был статный, красивый молодец. В тот день на нём было лёгкое синее кимоно из бумажного крепа, а под ним ещё одно, из белого шёлка. Обо всём этом можно было бы написать, ну хотя бы в книге, над которой вы сейчас работаете…
Бакин что-то пробормотал в ответ и снова закурил. Но Итибэй был не из тех, кого способен удовлетворить уклончивый ответ.
– Что вы на это скажете? Может быть, вставить эпизод о Дзиродаю в «Цзинь, Пин, Мэй»? Я понимаю, как вы заняты, и всё же надеюсь на ваше согласие.
Так разговор о Нэдзуми Кодзо постепенно вернул собеседников к исходной теме: Идзумия вновь принялся уговаривать Бакина взяться за новую вещь. Но Бакин хорошо знал Идзумию и не сдавался. У него лишь вконец испортилось настроение. Он досадовал на себя за то, что попался в расставленную Итибэем ловушку, позволив себя увлечь, и, лениво потягивая трубку, принялся обстоятельно излагать свои доводы:
– Если я стану писать через силу, ничего путного из этого не получится. А вам это тоже невыгодно, ведь книгу надо продать. Поверьте мне, так будет лучше для нас обоих.
– Так-то оно так, но всё же осмелюсь просить вас сделать ещё одно, последнее усилие. Согласны?
Говоря это, Идзумия как бы погладил глазами лицо Бакина (словом «гладить» Бакин обозначал один из особых, свойственных лишь Идзумии, взглядов) и порывисто выпустил через нос табачный дым.
– Нет, не могу. При всём желании не могу – у меня сейчас нет для этого времени.
– Вы ставите меня в трудное положение, – ответил Идзумия и совершенно неожиданно заговорил о знакомых им обоим писателях, по-прежнему не вынимая изо рта тонкой серебряной трубки.
– Говорят, скоро должна выйти новая книжка Танэхико. Наверное, это будет, как всегда, нечто утончённое и грустное. Пожалуй, никому иному не под силу создавать подобные вещи.
Итибэй почему-то имел обыкновение называть писателей попросту, без какого бы то ни было выражения учтивости. Всякий раз, слыша это, Бакин представлял себе, как за глаза тот и его именует просто Бакином. В минуты раздражения он нередко приходил от этого в ярость и спрашивал себя: «Как можно иметь дело с этим лицемером, который смотрит на писателей как на своих подмастерьев да ещё смеет выказывать им такое неуважение?» Вот и теперь, услышав имя Танэхико, Бакин нахмурился ещё больше. Но Итибэй, как видно, не обратил на это ни малейшего внимания.
– А мы сейчас подумываем, не издать ли нам Сюнсуя. Вам он не нравится, я знаю, но обывателям такие книжки по душе.
– Что ж, может быть…
В памяти Бакина вдруг, гротескно преувеличенное, всплыло лицо Сюнсуя, с которым ему в своё время довелось повстречаться. Когда-то Бакин слышал, будто Сюнсуй так отозвался о своём творчестве: «Я никакой не писатель. Я всего лишь подёнщик, сочиняющий на потребу публики книжки про любовь». Вполне понятно, что в глубине души Бакин его презирал. И все же фамильярность, допущенная Итибэем по отношению к нему, изрядно покоробила Бакина.
– Что ни говорите, – продолжал между тем Итибэй, – он искусен в сочинении своих любовных вещиц. К тому же он слывёт весьма плодовитым писателем. – С этими словами он на мгновение заглянул Бакину в лицо и сразу же перевёл глаза на свою серебряную трубку. В этот миг на лице его появилось отвратительное выражение. Во всяком случае, так показалось Бакину.
– Впрочем, если всё время писать об одном и том же, со второго или с третьего раза кисть начинает двигаться сама собой, и её, вероятно, уже трудно оторвать от бумаги. Кстати, а вы, сэнсэй, быстро пишете?
Мало сказать, что Бакин почувствовал в этом вопросе нечто для себя оскорбительное, – он уловил в нём ещё и угрозу. Честолюбивому Бакину была неприятна сама мысль о том, что его могут сравнивать с Сюнсуем или Танэхико. К тому же он писал медленно и нередко приходил в уныние, видя в этом свидетельство творческой несостоятельности. С другой стороны, порой он, напротив, был склонён уважать в себе это качество, считая его мерилом своей писательской совести. Но как бы то ни было, вмешиваться в эти вопросы посторонним он ни при каких обстоятельствах не позволил бы. Переведя взгляд на пурпурные листья клёна и жёлтые хризантемы в нише, он, словно выдохнув, произнёс:
– По-разному. Бывает, что быстро, а бывает, что медленно.
– О да, конечно! – Итибэй в третий раз за время их беседы пришёл в совершённый восторг. Было ясно, однако, что и теперь одним восторгом он не ограничится. И действительно, Итибэй снова ринулся в наступление. – Так, может быть, всё-таки согласитесь взяться за новую книгу? Будь Сюнсуй на вашем месте…
– Мы с господином Сюнсуем разные люди.
Когда Бакин сердился, его нижняя губа смещалась влево. Вот и сейчас она сместилась влево.
– Прошу меня извинить… Суги, Суги! Ты уже привела в порядок сандалии господина Идзумии?
Выпроводив Итибэя, Бакин прислонился к столбу веранды и попытался успокоиться, глядя на небольшой садик возле дома. Банановая пальма с пожухлыми, растрескавшимися по краям листьями и начавшая терять листву павлония вместе с зелёными бамбуком и пихтой образовали в глубине залитого солнцем сада тёплый островок осени. Лотосы вблизи таза для умывания уже почти отцвели, зато выглядывающая из-за низкой изгороди душистая маслина всё ещё источала сладковатый аромат. С высокого голубого неба несколько раз донёсся похожий на звуки флейты крик знакомого Бакину коршуна.
Бакин вдруг с особенной остротой ощутил гнусное несовершенство человеческого мира, столь не вяжущееся с этой картиной природы. Злосчастье живущего в этом мире человека состоит в том, что, подпадая под его воздействие, он вынужден произносить гнусные слова и совершать гнусные поступки. Только что Бакин, по существу, выгнал Итибэя Идзумию. Что и говорить, этот поступок не отнесёшь к числу благородных, но на этот низкий поступок его толкнула низость собеседника. И он его совершил. А это означает, что, совершив его, он унизил себя до степени низости Итибэя. Иными словами, он был вынужден совершить нравственное падение.
В этом месте в размышления Бакина вклинилось воспоминание о похожем событии недавнего прошлого. Минувшей весной он получил от некоего Масабэя Нагасимы из безвестной деревушки Камисиндэн в провинции Сагами письмо, в котором тот выражал желание поступить к нему в ученики. Как явствовало из письма, в возрасте двадцати одного года этого человека поразила глухота, и он, желая во что бы то ни стало прославиться на этом свете, задумал посвятить себя литературе, главным образом сочинению «ёмихон», чем и занимался по сию пору, достигнув двадцати четырёх лет. Само собой разумеется, что любимыми его книгами были «Восемь псов» и «Записки о путешествиях по островам»[21]. Далее в письме говорилось, что в деревенской глуши ему трудно совершенствовать своё литературное мастерство и поэтому он просит Бакина взять его нахлебником к себе в дом. Он уже, сообщалось далее, успел сочинить роман в шести частях, и, если Бакин согласится пройтись по нему рукой мастера, с течением времени его можно было бы издать как полагается… Таким в общих чертах было содержание письма. Конечно же, эти притязания показались Бакину весьма дерзкими. Однако глухота молодого человека не могла не вызвать сострадания в слепнущем Бакине. И он ответил ему письмом, где в самых учтивых выражениях, на какие только был способен, сообщил, что, как ему ни жаль, но исполнить его просьбу он затрудняется. Вскоре пришло второе письмо от Нагасимы, которое от начала и до конца состояло из гневных упрёков в его адрес.
«Я, – говорилось в этом письме, – терпеливо прочёл Ваши бездарные и растянутые свыше всякой меры писания, а Вы отказываетесь даже полистать мою рукопись, состоящую из шести небольших частей. Всё это свидетельствует о Вашей низости…» Так начиналось это письмо, а завершала его фраза: «Ваш отказ принять у себя в доме младшего собрата гнусен и постыден».
Разгневавшись, Бакин тотчас же отправил ему ответное письмо, в котором между прочим говорилось: «Я почитаю для себя величайшим оскорблением, что среди читателей моих книг оказались Вы – коварный и двуличный юнец».
С тех пор Нагасима не подавал о себе никаких вестей. Наверное, он всё ещё пишет свой роман. И по-прежнему тешит себя надеждой, что когда-нибудь его творение прочтут люди всей Японии…
Предаваясь этим воспоминаниям, Бакин испытывал двойную муку – от жестокости, которую он проявил к Масабэю Нагасиме, и от жестокости, проявленной к нему самому. Его вдруг захлестнула невыразимая тоска.
А безучастное солнце растворяло в своих лучах аромат душистой маслины. Ни один лист не задрожал на банановом дереве и павлонии. Даже крик коршуна был по-прежнему до прозрачности чист. Жизнь природы и жизнь человеческая…
Неизвестно, сколько ещё простоял бы Бакин вот так, прислонившись к столбу веранды и уйдя в свои думы, если бы спустя минут десять не появилась служанка Суги и не сообщила ему, что обед готов.
Покончив с одинокой трапезой, Бакин наконец прошёл к себе в кабинет. Он всё ещё находился в удручённом состоянии и, чтобы развеяться, впервые за много дней открыл «Речные заводи». Открыл наугад, на том месте, где рассказывалось, как Линь Чун – Барсоголовый, – укрывшись вьюжной ночью в храме Горного Духа, смотрит на горящий склад фуража. Чтение этого драматического эпизода, как всегда, увлекло его, однако через несколько страниц он вдруг ощутил непонятную тревогу.
Домочадцы всё ещё не вернулись с богомолья. В доме царила тишина. Попытавшись согнать с лица унылое выражение, он без удовольствия закурил и, не выпуская из рук открытой книги, принялся размышлять над вопросом, который с давних пор не давал ему покоя.
То был вопрос о сложных, запутанных отношениях между двумя живущими в нём людьми: высоконравственным моралистом и человеком искусства, художником. Бакин никогда не сомневался в истинности «пути прежних правителей»[22]. И его произведения, как сам он заявлял, как раз и являлись выражением в искусстве этого самого «пути прежних правителей». Таким образом, здесь не было никакого противоречия. Однако вопрос состоял в том, что важнее для человека искусства: «путь прежних правителей» или же его собственные чувства. Живущий в Бакине моралист считал, что важнее первое, тогда как художник, естественно, признавал куда более существенным второе. Разумеется, ничего не стоило разрешить это противоречие с помощью дешёвого компромисса. И в самом деле, он нередко пытался скрыть своё двойственное отношение к искусству за туманными рассуждениями о гармонии.
Но если других ещё можно обмануть, себя самого не обманешь. Он не считал литературу «гэсаку»[23] высоким искусством, называл её всего лишь «орудием поощрения добродетели и порицания порока», однако в минуты одержимости творчеством начинал вдруг ощущать беспокойство и неуверенность. Этим и объяснялось совершенно неожиданное воздействие на его настроение «Речных заводей».
Вот и сейчас Бакина охватила непонятная робость. Он закурил и попытался перевести мысль на всё ещё отсутствующих домочадцев. Но перед ним лежали «Речные заводи», источник его тревог, и ни о чём другом он не мог думать.
К счастью, вскоре к Бакину явился Ватанабэ Кадзан Нобору, с которым они давно не виделись. Одетый по всем правилам, в хакама и накидку, он нёс под мышкой что-то завёрнутое в лиловый платок. Должно быть, решил вернуть Бакину книги. Писатель обрадовался дорогому другу и поспешил в переднюю встретить его.
– Я пришёл повидать вас и заодно с благодарностью вернуть книги, – как и следовало ожидать, произнёс Кадзан, проходя в кабинет.
Помимо книг Бакин заметил у него в руке закатанный в бумагу свиток.
– Если вы сейчас свободны, взгляните, пожалуйста.
– О, показывайте скорее!
Стараясь скрыть за улыбкой охватившее его волнение, Кадзан вытащил из бумаги шёлковый свиток и развернул перед Бакином. На картине были изображены несколько унылых голых деревьев и двое мужчин, непринуждённо беседующих между собой, взявшись за руки. Земля под деревьями устлана жёлтыми листьями. На ветках там и сям сидят вороны. От картины веяло осенним холодком.
При взгляде на этот выдержанный в строгих, неярких тонах свиток глаза Бакина увлажнились и засияли.
– Как всегда, превосходно! Мне вспоминаются стихи Ван Моцзе:
Вслед за трапезой звучит каменный гонг. Из гнёзд вылетают вороны. Иду-ступаю по пустому лесу. Шорох падающих листьев…
– Я только вчера закончил этот свиток. Он показался мне удачным, и я решил, с вашего позволения, вам его преподнести, – с довольным видом произнёс Кадзан, поглаживая выбритый до синевы подбородок. – Разумеется, говоря, что он показался мне удачным, я имею в виду только то, что это лучшее из всего до сих пор мной написанного. Ведь мне ещё ни разу не удавалось написать в точности так, как задумано.
– Спасибо большое. Только мне, право, неловко – вы совсем меня задарили, – пробормотал Бакин, не отрывая глаз от свитка. В этот миг он почему-то вдруг вспомнил о всё ещё не завершённом своём труде.
Но Кадзан есть Кадзан: он, казалось, целиком ушёл в мысли о собственных картинах.
– Всякий раз, глядя на творения мастеров древности, я задаюсь вопросом: почему им удавалось так рисовать? Что ни возьми, всё выглядит на их картинах подлинным, совершенным: и деревья, и камни, и люди. Более того: в них живёт душа создавшего их художника. Вот это и есть настоящее искусство. В сравнении с древними мастерами я кажусь себе хуже неумелого ребёнка.
– Недаром древние говорили: «Страшиться нужно грядущих поколений», – необычно для себя пошутил Бакин, с завистью поглядывая на Кадзана, целиком поглощённого своими картинами.
– Но и нам, этим грядущим, тоже страшно. Потому мы и не можем пошевелиться, зажатые между прошлым и будущим, и двигаемся вперёд, лишь когда нас подтолкнут. Впрочем, не одни мы: так было и с древними, так, пожалуй, будет и с теми, кто придёт после нас.
– И всё же, если не идти вперёд, можно упасть. Самое главное – стараться продвинуться вперёд хотя бы на шаг.
– Вы правы, это самое главное.
Некоторое время хозяин и гость хранили молчание. Оба напряжённо вслушивались в тишину осеннего дня.
Первым заговорил Кадзан, меняя тему разговора:
– А что ваша работа над «Восемью псами»? По-прежнему успешно продвигается?
– Какое там! Совсем наоборот. Кажется, в этом смысле и мне далеко до древних.
– Что ж, огорчительно это слышать.
– Поверьте, меня это огорчает больше, чем кого бы то ни было. Но что поделаешь, всё равно надо работать, покуда хватит сил. Так что я решил встретить смерть в бою с «Восемью псами». – Бакин принуждённо усмехнулся, будто стыдясь за самого себя. – Иной раз подумаешь: литература – вещь несерьёзная, и всё же не можешь полностью с этим согласиться.
– То же самое и с моими картинами. Но раз уж я избрал это ремесло, то хотел бы пройти весь путь, до конца.
– Итак, решено: мы вместе погибнем в бою.
Оба громко рассмеялись, но в смехе этом прозвучала лишь им двоим понятная горечь.
– И всё же я завидую вам, художникам. Вы по крайней мере избавлены от гонений, а это великое благо. – Теперь уже Бакин перевёл разговор на другую тему.
– Это верно, но ведь и вам, насколько я понимаю, не приходится опасаться за свои произведения.
– Ещё как приходится! – воскликнул Бакин и в качестве одного из примеров гнусности цензуры рассказал о том, как однажды его заставили переписать целый отрывок из его романа только потому, что в нём говорилось о каком-то чиновнике-лихоимце. К этому Бакин присовокупил следующее замечание:
– Чем больше эти полицейские чиновники придираются, тем явственней вырисовывается их истинный облик. Любопытно, не правда ли? Поскольку они сами падки на подкуп, стоит писателю хотя бы вскользь упомянуть о взяточничестве, как они уже недовольны и велят ему переделать всё заново. Или же, поскольку они сами подвержены грубым, низменным желаниям, стоит автору едва коснуться темы любви, как его произведение попадает в число «развратных». Они мнят себя куда более нравственными, нежели писатель. Со стороны это выглядит смешным и жалким – как обезьяна, созерцая в зеркале своё уродство, скалит зубы, так и они приходят в ярость, когда им приоткрывают глаза на их собственную подлость.
Горячность, прозвучавшая в словах Бакина, заставила Кадзана улыбнуться.
– Да, конечно, такое случается нередко. Однако, даже если вас заставляют всё переделывать заново, для вас это не бесчестье. Как бы ни изощрялись цензоры, безупречное произведение останется безупречным.
– Так-то оно так, но их произвол подчас переходит границы допустимого. Однажды я описал, как в тюрьму приносят одежду и еду. И что же? Все эти пять или шесть строк оказались вымараны. – Произнеся это, Бакин поглядел на Кадзана, и оба усмехнулись.
– Пройдёт пятьдесят, ну сто лет, и цензоров не будет, а ваш роман останется.
– Не знаю, как мой роман, а вот цензоры, мне кажется, никогда не переведутся.
– Я так не думаю.
– Вернее, я хотел сказать, что даже если цензоры и исчезнут, подобные им будут существовать во все века. Ошибочно думать, будто сожжение книг и казнь просвещённых людей – дела давно минувшие.
– Что-то, я смотрю, вы в последнее время настроены на грустный лад.
– Не я, а жизнь, в которой процветают цензоры и им подобные.
– В таком случае нужно искать утешение в работе.
– Да, по-видимому, иного и не остаётся.
– Если не считать гибели в бою.
На сей раз ни один из них не засмеялся. Бакин сурово взглянул на собеседника: шутка в устах Кадзана прозвучала слишком серьёзно.
– Молодым более пристало думать о жизни. Погибнуть всегда успеется, – сказал Бакин после паузы. Ему были хорошо известны политические взгляды Кадзана, и сейчас они внушали ему тревогу. Кадзан лишь улыбнулся в ответ, как видно, не намереваясь возражать.
Проводив Кадзана, Бакин направился к письменному столу. Он чувствовал необходимость продолжить работу над рукописью; оставшееся после беседы с другом возбуждение должно было придать ему силы. У него с давних пор существовала привычка – прежде чем писать дальше, перечитать написанное накануне. Вот и теперь он не торопясь, внимательно прочёл несколько страниц, на которых всё пространство между узкими строчками было испещрено поправками.
Написанное не удовлетворило его. В промежутках между знаками ему чудилось что-то постороннее, ненужное, нарушающее гармонию целого. Поначалу он отнёс это впечатление на счёт собственной раздражённости. «Видимо, у меня сейчас просто не то настроение. Пожалуй, лучше не напишешь», – подумал Бакин и принялся вновь перечитывать весь отрывок, но и на сей раз чувство неудовлетворённости не исчезло. Напротив, Бакин вдруг пришёл в смятение, столь несвойственное пожилым людям.
«Ну-ка, а что там было раньше?» Он пробежал глазами предыдущий кусок – сплошная сумятица, неотделанные фразы, слабо связанные между собой. Бакин стал перечитывать написанное ещё и ещё раньше. По мере чтения перед ним разворачивались какие-то разрозненные эпизоды и хаотично нагромождённые предложения. То были пейзажные зарисовки, не вызывающие зрительных образов. То были восторги, не передающие истинного волнения. То были споры, не подчинённые логике рассуждения. Всё, что он писал на протяжении стольких дней, теперь представилось ему нелепым празднословием. Сердце его охватила невыразимая мука.
«Всё это нужно переделать!» – воскликнул он про себя и, с отвращением отодвинув рукопись, откинулся на циновку. Но взгляд его был по-прежнему прикован к столу. За этим столом он написал «Лунный серп» и «Сон о государстве Нанькэ», за этим же столом он теперь писал «Восемь псов». Расставленные на нём тушечница из настоящего дуаньсийского камня, пресс-папье в виде сидящего дракона, медный ковшик в форме жабы, настольная ширмочка из голубовато-зелёного фарфора с изображением льва и пионов, бамбуковая подставка для кистей с выгравированной на ней орхидеей – все эти предметы были давними свидетелями его творческих мук. Глядя на них сейчас, Бакин не мог избавиться от тяжёлого чувства, как будто нынешнее его поражение бросало зловещую тень на труд всей его жизни, ставило под сомнение его писательские способности.
«Всё это время я думал, что пишу великое произведение, не имеющее себе равных в нашей стране. На деле же мои честолюбивые мечты обернулись заурядной самонадеянностью». Бакина охватила безысходная, гнетущая тоска. Преклоняясь перед великими мастерами Японии и Китая, он всегда помнил, сколь скромно его дарование в сравнении с их могучим талантом, а к своим современникам – писателям, разменивающим себя на мелочи, – относился свысока, чувствуя своё превосходство над ними. О, как нелегко было ему признать, что в конечном счёте он ничем не лучше их, как нелегко было поверить, что он оказался в плену постыдного самомнения, свойственного лишь ограниченным людям!
И все же его властное «эго» было слишком переполнено страстями, чтобы искать убежища в «просветлении» и «забвении». Глядя на свою рукопись тем взором, каким командир потерпевшего крушение корабля провожает уходящее под воду вверенное ему судно, Бакин продолжал тихо бороться с захлестнувшим его отчаянием. Наверное, он так никогда и не вырвался бы из его пут, если бы в следующий миг за его спиной вдруг с шумом не раздвинулись фусума и вместе с возгласом: «Дедуся, а вот и я!» – нежные маленькие руки не обхватили его шею. Не успев вбежать в комнату, внук Таро со смелостью и простодушием, свойственными одним лишь детям, резво взобрался на колени к Бакину.
– Дедуся, а вот и я!
– A-а, как хорошо, что ты вернулся. – При этих словах на морщинистом лице автора «Восьми псов» сверкнула радость, преобразившая его.
Из столовой доносились раздражённый голос жены О-Хяку и застенчивый голос невестки О-Мити: женщины оживлённо переговаривались между собой. Время от времени к ним присоединялся низкий мужской голос – значит, вместе с ними вернулся и сын, Сохаку. Взобравшись на колени к деду, Таро вдруг посерьёзнел и уставился в потолок с таким видом, будто прислушивался к разговору взрослых. От пребывания на свежем воздухе щёки его раскраснелись, крылья крохотного носа подрагивали при каждом вдохе.
– Дедуся, а дедуся!.. – неожиданно произнёс малыш, одетый в красновато-коричневое парадное кимоно. От усилия сосредоточиться и подавить в себе смех на его щеках то и дело появлялись и пропадали ямочки.
Глядя на внука, Бакин невольно улыбнулся.
– Дедуся, ты каждый день…
– Что каждый день?
– …должен работать.
Бакин громко рассмеялся и сквозь смех спросил:
– Ну а что дальше?
– А дальше… ну, как это… тебе велено не терять терпения.
– Та-ак. И это всё?
– Нет, ещё не всё. – Запрокинув голову с подвязанными боковыми прядками, Таро звонко засмеялся.
