Письма молодого врача. Загородные приключения бесплатное чтение
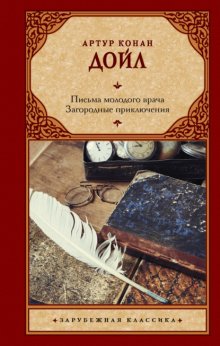
Arthur Conan Doyle
THE STARK MUNRO LETTERS
BEYOND THE CITY
© Перевод. Е. Токарев, 2023
©ООО «Издательство АСТ», 2023
Письма молодого врача
Сборник из двенадцати писем, написанных Дж. Старком Монро, бакалавром медицины, своему другу и бывшему однокурснику Герберту Свонборо из Лоуэлла, штат Массачусетс, в период с 1881 по 1884 годы.
Отредактированы и подготовлены к печати Артуром Конан Дойлом
Письма моего друга мистера Старка Монро представляются мне составляющими столь единое целое и так ярко и доступно описывающими трудности, с которыми приходится сталкиваться молодому человеку в начале его профессиональной карьеры, что я решил передать их джентльмену, намеревающемуся издать их книгой. Два из них, письма пятое и девятое, нуждаются в некоторых сокращениях, однако надеюсь, что в целом их можно воспроизвести в их изначальном виде. Уверен, что ничто не было бы более приятно моему другу, чем знание того, что другой молодой человек, донимаемый заботами и неприятностями этого мира и снедаемый сомнениями касательно мира последующего, обрел бы силу и поддержку, прочтя о том, как его собрат миновал лежавшую перед ним долину теней.
Герберт Свонборо, Лоуэлл, штат Массачусетс
Письмо первое
Дома, 30 марта 1881 года
Мой дорогой Берти, очень по тебе скучаю после твоего возвращения в Америку, поскольку ты единственный человек на земле, с которым я мог бы быть до конца откровенным. Сам не знаю, отчего бы так – ведь если задуматься, то ты никогда не доставлял мне радости быть со мною столь же искренним. Но это, возможно, моя вина. Вероятно, ты не находишь меня сочувствующим, хотя я изо всех сил хочу быть таковым. Могу лишь сказать, что считаю тебя наделенным огромной долей понимания и сопереживания, пусть я и несколько обольщаюсь на этот счет. Но нет, интуиция мне подсказывает, что не наскучу тебе своими откровениями.
Ты помнишь учившегося вместе с нами Каллингворта? Весьма возможно, что нет, поскольку ты не принадлежал к сообществу спортсменов. В любом разе, я изначально приму, что не помнишь, и расскажу все с самого начала. Уверен, что на фотографии ты бы его узнал хотя бы потому, что на нашем курсе он был самым непривлекательным и неприятным на вид студентом.
Физически он был настоящим атлетом, одним из самых быстрых и решительных нападающих регбистов, которых мне доводилось встречать, однако он играл так грубо, что так и не вышел за пределы узкого круга. Роста он был почти метр восемьдесят, широкоплечий, грудь колесом, с быстрой и порывистой походкой. Голова у него была большая и круглая с короткими вьющимися черными волосами. Лицом он обладал на удивление неприятным, но непривлекательность его была того рода, что притягивает так же, как и красота. Его резко очерченные брови и нижняя челюсть выдавались вперед, крупный красноватый нос нависал над губами; маленькие и близко посаженные светло-голубые глаза постоянно меняли свое выражение, становясь то благодушно-веселыми, то чрезвычайно злыми. Над верхней губой красовались тонкие, закрученные кверху усики, а зубы у него были желтые, крупные и длинные. Прибавь к этому, что он редко надевал воротничок или галстук, что шея у него была шероховатой и цвета еловой коры, а голос и особенно смех напоминали рев быка – и ты получишь некоторое представление (если сможешь совместить все описанное воедино) о внешности Джеймса Каллингворта.
Но более всего достоин описания его внутренний мир. Я не претендую на знание того, что есть гений. Определение Томаса Карлейля всегда казалось мне очень ясной и четкой дефиницией того, чем гений НЕ ЯВЛЯЕТСЯ. Насколько я мог заметить, вместо безграничной способности прилагать усилия и старания, что считается главной чертой гения, гениальность состоит в том, что ее обладатель достигает результатов благодаря интуиции и чутью, в то время как остальные добиваются их упорным трудом. В этом смысле Каллингворт – величайший гений, какого я когда-либо знал. Похоже, он никогда особо не работал, однако получил премию по анатомии, опередив занимавшихся по десять часов в день. Возможно, это ничего не доказывает, поскольку он мог напоказ целый день слоняться без дела, а потом до утра сидеть над книгами. Однако стоило с ним заговорить на какую-либо тему, как ты тотчас замечал его оригинальность и силу ума. Заговори о торпедах – он схватит карандаш, вытащит из кармана какой-нибудь старый конверт и нарисует новое устройство для разрушения защиты корабля и его потопления, которое, несомненно, будет технически невозможно, однако, по крайней мере, выглядит вполне правдоподобно и новаторски. Пока он рисовал, его щетинистые брови смыкались, глаза сверкали от волнения, губы сжимались, а закончив, он хлопал по рисунку раскрытой ладонью и торжествующе вскрикивал. Можно было подумать, что цель всей его жизни – изобретать торпеды. Но если в следующее мгновение ты удивишься, как это египетским строителям удавалось поднимать каменные блоки на вершины пирамид, то снова появятся карандаш и конверт, и он с той же энергией и убежденностью начертит схему подъема. Эта его изобретательность сочеталась с исключительной живостью характера. Пока он порывисто расхаживал во время очередного прилива вдохновения, он брал патенты на свое изобретение, принимал тебя партнером в свое предприятие, открывал его во всех цивилизованных странах, намечал все возможные применения своему открытию, подсчитывал все вероятные прибыли, определял новые сферы, куда их можно вложить, и, наконец, уходил на покой с огромнейшим из когда-либо нажитых состояний. А ты, подхваченный потоком его слов, проходил вместе с ним каждый шаг и испытывал сильное потрясение, когда внезапно падал с небес снова на землю, опять становясь бедным студентом с «Физиологией» Кирка под мышкой и мелочью в кармане, которой едва ли хватит на обед.
Перечитал написанное и вижу, что не смог составить у тебя истинного представления о поистине демонической одаренности Каллингворта. Его взгляды на медицину были в высшей степени революционными, но позволю себе заметить, что если задуманное оправдает свои обещания, то я смогу много рассказать о них позже. С его блестящими и необычными талантами, его спортивными достижениями, его странной манерой одеваться (шляпа на затылке и голая шея), его громовым голосом, его гипнотически неприятным лицом он был самой яркой и незаурядной личностью, которую мне когда-либо доводилось встречать.
Ты, возможно, сочтешь, что я слишком уж распространяюсь об этом человеке, однако, как может показаться, если его жизнь переплелась с моей, то эта тема вызывает у меня живейший интерес, и я пишу все это с целью оживить свои несколько потускневшие впечатления, а также в надежде пробудить твой интерес и развлечь тебя. Поэтому я должен привести тебе пару случаев, которые смогут помочь тебе яснее представить его характер.
Было в нем что-то героическое. Однажды он попал в ситуацию, когда пришлось выбирать – или скомпрометировать даму, или выпрыгнуть из окна второго этажа. Ни секунды не колеблясь, он выскочил из окошка. К счастью, он упал сквозь пышный лавровый куст на мягкий после дождя газон, отделавшись легким испугом и царапинами. Если придется сказать о Каллингворте что-либо плохое, расцени этот инцидент со знаком минус.
Он любил грубые шутки и дурачества, но в них лучше было не участвовать, поскольку никогда нельзя было сказать, чем они закончатся. Характер у него был просто адский. Я видел, как однажды в анатомичке он на пару с сокурсником начал дурачиться, а через мгновение от веселости не осталось и следа, его маленькие глаза злобно засверкали, и оба они уже катались под столом, вцепившись друг в дружку, словно собаки. Каллингворта вытащили оттуда, задыхавшегося и лишившегося от злобы дара речи, со вставшими дыбом, как у бойцового терьера, курчавыми волосами.
Иногда воинственность его характера проявлялась во благо. Помню, как один видный лондонский ученый читал нам лекцию, то и дело перебиваемую ремарками сидевшего в первом ряду молодого человека, явно получавшего от этого удовольствие. Наконец, лектор обратился к аудитории.
– Господа, эти реплики невыносимы, – произнес он. – Кто-нибудь избавит меня от надоедливых комментариев?
– Придержите язык, вы, сэр в первом ряду! – протрубил Каллингворт своим бычьим рыком.
– Может, вы меня еще и заставите? – проговорил возмутитель спокойствия, с презрительным взглядом обернувшись к Каллингворту.
Тот закрыл тетрадь и, к великой радости трехсот зрителей, начал спускаться по ступенькам аудитории. Было отрадно видеть, как он аккуратно пробирался среди чернильниц. Когда он спрыгнул с последней ступеньки на пол, противник нанес ему жуткий удар в лицо. Однако Каллингворт вцепился в него бульдожьей хваткой и потащил прочь из аудитории. Не знаю, что он сделал с противником, но раздался такой грохот, словно наземь вывалили тонну угля, и вершитель закона вернулся со спокойным видом человека, выполнившего свой долг. Один глаз у него напоминал перезрелую сливу, но мы прокричали ему троекратное «ура», пока он возвращался на свое место. Затем все продолжили разбор опасности осложнений предлежания плаценты.
Пил он не очень много, но даже малая доза алкоголя действовала на него очень сильно. Именно тогда ему в голову приходили мысли одна фантастичнее и сумасброднее другой. А если он переходил черту разумного, то с ним приключались вещи поистине поразительные. Иногда его охватывала агрессивность, иногда страсть к проповедничеству, а временами его тянуло на шутовство. Случалось, что эти состояния сменяли друг друга, да так быстро, что сбивали с толку окружающих. Опьянение выявляло все его мелкие странности. Одной из них было то, что он мог идти или бежать совершенно прямо, однако всегда наступал момент, когда он бессознательно разворачивался и возвращался обратно. Иногда это производило странный эффект, как в случае, о котором я тебе расскажу.
С виду очень даже трезвый, но явно под влиянием винных паров, он однажды вечером отправился на вокзал. Подойдя к окошку кассы, Каллингворт самым вежливым тоном спросил, далеко ли до Лондона. Кассир было подался вперед, чтобы ответить, как тут Каллингворт пробил кулаком окошко и нанес тому сокрушительный удар по лицу. Клерк слетел с табуретки, на его полные боли и негодования вопли сбежались полицейские и железнодорожники. Они бросились вдогонку за Каллингвортом, но тот, быстрый и проворный, как борзая, оставил их позади и исчез во тьме, убежав по длинной и прямой улице. Преследователи остановились и сбились в кружок, обсуждая происшествие, но тут, подняв глаза, к своему изумлению увидели скрывшегося от них человека, который со всех ног бежал в их сторону. Понимаешь, проявилась одна из его странностей, и он бессознательно изменил направление бегства. Ему поставили подножку, навалились всем гуртом и после долгой и отчаянной борьбы притащили в полицейский участок. Наутро он предстал перед мировым судом, но произнес в свою защиту такую блистательную речь, что переманил судью на свою сторону и отделался пустяковым штрафом. После его приглашения свидетели и полицейские отправились вместе с ним в ближайшую таверну и «закрыли дело» обычными возлияниями виски с содовой.
Ну вот, если и после этих ярких примеров мне не удалось создать у тебя внятного представления об этом человеке – способном, притягательном, нещепетильном, интересном и многостороннем – то я должен отчаяться достигнуть этого впредь. Однако полагаю, что цели своей я добился, и продолжу рассказом, мой терпеливейший из слушателей, о своих личных отношениях с Каллингвортом.
Когда мы только с ним познакомились, он был холостяком. Однако в конце долгих каникул он повстречался мне на улице и громовым голосом со свойственным ему неистовым похлопыванием по плечам сообщил, что совсем недавно женился. Приняв его приглашение, я отправился к нему, чтобы познакомиться с его женой. По дороге он рассказал мне историю своей женитьбы, оказавшейся столь же необычной, как и все, что он делал. Я не стану ее тебе излагать, мой дорогой Берти, поскольку я чувствую, что уже и так слишком часто отклоняюсь от темы, но отмечу, что история эта была довольно шумной, где не последнюю роль сыграли запирание гувернантки в ее комнате и перекрашивание волос Каллингворта. Касательно последнего замечу, что ему так до конца и не удалось избавиться от следов покраски, и с тех пор к его особенностям добавилось еще и то, что его волосы начинали переливаться всеми цветами радуги, когда солнечный свет падал на них под определенным углом.
Так вот, я поднялся к нему в квартиру и был представлен миссис Каллингворт. Это была робкая невысокая сероглазая женщина с тихим голосом и мягкими манерами. Стоило лишь увидеть, как она смотрела на него, чтобы понять, что она полностью подчинена его влиянию: что бы он ни сделал, что бы он ни сказал – для нее это всегда было наилучшим. Она могла быть и упрямой, но тихо и ненавязчиво, и упрямство ее всегда подкрепляло слова или действия мужа. Однако об этом я узнал лишь немного позже, а во время моего первого к ним визита она произвела на меня впечатление самой милой и кроткой женщины из всех, кого мне доводилось знать.
Жили они довольно странно в квартире из четырех небольших комнат над бакалейной лавкой. Там была кухня, спальня, гостиная и четвертая комната, которую Каллингворт упорно считал очень нездоровой и рассадником болезней, однако я уверен, что это убеждение возникло у него из-за просачивавшегося снизу запаха сыра. В любом разе, он со свойственной ему энергией не только запер эту комнату на ключ, но и заклеил лакированной бумагой все щели в двери, чтобы не дать распространиться воображаемой инфекции. Мебели там был самый минимум. Помню, в гостиной стояло всего два стула, так что когда кто-то приходил в гости (думаю, что это был только я), Каллингворт усаживался в углу на высокую стопку ежегодников «Британского медицинского журнала». Я прямо вижу, как он подпрыгивает со своего низкого сиденья и расхаживает по комнате, ревя и размахивая руками, а его кроткая жена тихонько сидит в уголке и слушает, глядя на него любящим и обожающим взором. Заботило ли кого-то из нас, на чем мы сидим и как мы живем, когда в жилах бурлила юная кровь, а души пылали, окрыленные открывавшимися возможностями? Я до сих пор считаю эти богемные вечера в комнате с голыми стенами, пропахшей сыром, самыми счастливыми в своей жизни.
Я стал часто посещать Каллингвортов, поскольку получаемое мною удовольствие становилось еще сильнее от удовольствия, которое, как я надеялся, доставлял им своими визитами. Они ни с кем не общались и не хотели общаться, так что в плане социальном я, похоже, был единственным звеном, связывавшим их с внешним миром. Я даже попытался вмешаться в их семейную жизнь. В то время Каллингворт проникся уверенностью, что причиной всех болезней современной цивилизации является отказ от жизни предков на свежем воздухе, и вследствие этого держал окна открытыми день и ночь. Поскольку его жена явно обладала слабым здоровьем, но предпочла бы умереть, нежели выказать свое несогласие с ним, я решился высказать ему, что кашель, от которого она страдала, едва ли можно будет вылечить постоянным пребыванием на сквозняках. Он ужасно рассердился на это мое вмешательство, и я было решил, что мы поссоримся, но его злость выветрилась, и он стал более внимателен касательно проветривания комнат.
В ту пору наши вечерние занятия носили самый необычный характер. Знаешь, существует такая штука – амилоид – вещество, которое откладывается в тканях при некоторых болезнях. Патологоанатомы много спорили о том, что это за вещество и как оно образуется. Касательно этого предмета Каллингворт был твердо убежден, что амилоид на самом деле является тем же самым, что и вырабатываемый печенью гликоген. Но одно дело придерживаться какой-либо мысли, другое – быть способным ее доказать. Прежде всего нам было нужно некоторое количество амилоида, чтобы проделывать с ним опыты. Однако судьба благоволила нам самым волшебным образом. Профессор патологоанатомии стал обладателем превосходного образца амилоидной печени. Он с гордостью продемонстрировал орган сидящим в аудитории студентам, а потом велел ассистенту убрать его в холодильник, готовя его к работе под микроскопом на практических занятиях. Каллингворт увидел открывшуюся возможность и действовал мгновенно. Выскользнув из аудитории, он открыл холодильник, завернул в пальто жуткую блестящую массу, закрыл холодильник и незаметно ушел. Не сомневаюсь, что до сих пор исчезновение амилоидной печени остается самой непостижимой загадкой в ученой карьере нашего профессора.
В тот вечер, как и во многие последующие вечера, мы работали с тем образцом печени. Для наших опытов было необходимо подвергнуть ее сильному тепловому воздействию, чтобы отделить азотистую клеточную субстанцию от безазотной амилоидной. При нашем ограниченном инструментарии единственный способ, который мы смогли придумать, состоял в том, чтобы нарезать образец на тонкие куски и зажарить их на сковородке. Поэтому вечер за вечером можно было наблюдать любопытнейшее зрелище, в котором участвовали молодая красивая женщина и двое очень серьезных молодых людей, поглощенных приготовлением жуткого фрикасе. Из нашей работы ничего не вышло, и хотя Каллингворт считал, что неопровержимо доказал свое предположение, и написал несколько длинных статей в медицинские журналы, он никогда толком не умел излагать свои мысли на бумаге и, я уверен, создал у читателей весьма путаное представление о том, что пытался утверждать. И опять же, поскольку Каллингворт был всего лишь рядовым исследователем без научных публикаций, он почти не привлек к себе внимания, и я не слышал, что он обзавелся хоть одним сторонником.
В конце года мы оба сдали экзамены и стали дипломированными врачами. Каллингворты исчезли с моего горизонта, и больше я о них ничего не слышал, поскольку Джеймс гордился тем, что никогда и никому не писал писем. Его отец в свое время обладал большой и доходной практикой в Западной Шотландии, но умер несколько лет назад. Я смутно предполагал, основываясь на разрозненных замечаниях Каллингворта, что он отправился туда, чтобы разузнать, значит ли что-нибудь их фамилия в тех краях. Что же до меня, то, как ты помнишь из моего последнего письма, я начал практиковать как помощник отца. Однако тебе известно, что в самом лучшем случае такая практика приносит семьсот фунтов в год без всякой возможности расширения. Этого явно недостаточно, чтобы содержать двоих. Опять же, временами я замечаю, что мои религиозные воззрения раздражают моего дорогого старика. В целом у меня есть все причины, по которым, как кажется, мне лучше выйти из дела. Я обращался в несколько судоходных компаний и подавал заявления на по меньшей мере дюжину должностей семейного врача, но на это жалкое место с сотней фунтов в год царит такая конкуренция, словно на пост вице-короля Индии. Как правило, я просто получаю свои документы назад безо всяких комментариев. Это учит человека смирению. Конечно, очень приятно жить с матерью, а мой младший брат Пол – отличный парень. Я учу его боксу: ты бы видел, как он взмахивает маленькими кулачками и отбивает правой. Нынче вечером он дал мне в челюсть, и мне пришлось попросить на ужин яйца пашот.
Все это подводит меня к настоящему времени и последним новостям. Сегодня утром я получил телеграмму от Каллингворта – после девяти месяцев молчания. Отправлена она из Авонмута, города, где, как я и думал, обосновался Каллингворт. В ней говорилось просто: «Приезжай немедленно. Ты мне срочно нужен. Каллингворт». Разумеется, я поеду завтра первым же поездом. Телеграмма может означать что-то или вообще ничего. В глубине души я надеюсь и верю, что Каллингворт нашел для меня дело в качестве своего партнера или кого-то еще. Я всегда верил, что ему повезет, и он устроит и свою судьбу, и мою. Он знает, что если я не очень расторопен и талантлив, то уж точно уравновешенный и надежный. Вот к этому я и стремился, Берти, и завтра я отправлюсь к Каллингворту. Кажется, что мне наконец-то откроется дорога в жизни. Я описал тебе его и его привычки, так что ты можешь проявить интерес к развитию моей судьбы, чего тебе бы не удалось, если бы ты ничего не знал о человеке, протянувшем мне руку помощи.
Вчера был мой день рождения, и мне исполнилось двадцать два года. Двадцать два года я вращаюсь вокруг солнца. И со всей серьезностью, без тени легкомыслия и от всей души могу заверить тебя, что в настоящий момент я имею очень смутное представление о том, откуда я явился, куда иду и зачем я здесь. Все это не из любопытства или от равнодушия. Я изучил догмы нескольких религий. Все они потрясли меня тем, какому насилию я должен подвергнуть свой разум, чтобы принять догмы любого из верований. Их этика всегда великолепна. Столь же прекрасна этика английского общего права. Но план сотворения, на котором строится эта этика! Право слово, это самое поразительное из того, что я видел за время своих недолгих земных странствий – что так много способных людей, глубоких философов, дальновидных законодателей и светлых умов принимали подобное объяснение фактам жизни. Перед лицом их явного сходства во мнениях моему скромному мнению подобало бы затаиться в глубине моей души, если бы я не набрался смелости подумать, что столь же выдающиеся законодатели и философы Древнего Рима и Греции соглашались с тем, что Юпитер имел множество жен и любил выпить кубок доброго вина.
Заметь, мой дорогой Берти, что я не хочу принижать твое мнение о ком-либо из них. Мы, требующие терпимости, должны первыми распространить ее на других. Я лишь разъясняю свою позицию, как часто делал и раньше. И мне прекрасно известен твой ответ. Разве я не слышу твой мрачный голос: «Имей веру!» Твоя совесть тебе это позволяет. А вот моя – нет. Я очень ясно вижу, что вера есть не добродетель, а порок. Это коза, попавшая в стадо овец. Если человек намеренно закрывает глаза и отказывается пользоваться ими, ты, как и любой другой, тотчас скажешь, что это аморально и предает Природу. И вместе с тем ты станешь советовать человеку отказаться от куда более ценного дара, от разума, и отказаться от него при решении куда более сокровенного вопроса всей жизни.
«В этом деле разум не помощник», – ответишь ты. Я же возражу, что так говорить – все равно, что признать поражение, не начав битвы. Мой разум ОБЯЗАТЕЛЬНО мне поможет, а если не сможет, то обойдусь и без его помощи.
Уже поздно, Берти, огонь в камине погас, я дрожу от холода. А ты, я уверен, донельзя устал от моей болтовни и ересей. Поэтому до следующего письма.
Письмо второе
Дома, 10 апреля 1881 года
Ну вот, мой дорогой Берти, я снова в твоем почтовом ящике. Не прошло и двух недель с того дня, как я написал тебе длинное и пространное письмо, однако сам видишь, что у меня достаточно новостей для того, чтобы исписать очередную стопку бумаги. Говорят, что искусство писать письма утрачено, но, если количество может скомпенсировать недостаток качества, ты должен признаться, что (к своему греху) у тебя есть друг, сохранивший это искусство.
Когда я писал тебе в последний раз, я намеревался ехать в Авонмут к Каллингворту, надеясь, что он нашел для меня какое-то дело. Должен изложить тебе некоторые подробности этой поездки.
Часть пути я проехал с молодым Лесли Дунканом, которого ты, по-моему, знаешь. Он был весьма любезен и решил, что мое общество в вагоне третьего класса предпочтительнее одиночеству в первом классе. Тебе известно, что недавно он унаследовал состояние дяди и после первой безумной вспышки радости впал в глубокое и тяжелое уныние, вызванное тем, что у него есть все, чего только можно желать. Сколь абсурдны жизненные стремления, когда я думаю, что я, человек относительно счастливый и пытливый умом, должен бороться за то, что, как я вижу, не принесло Лесли ни выгоды, ни счастья! И все же, если я верно разумею свой характер, настоящей моей целью является не накопление денег, а возможность получить столько, чтобы не думать о повседневных заботах и быть способным к развитию. Мои вкусы настолько непритязательны, что я не могу представить себе никаких преимуществ, которые может дать богатство, – кроме, конечно, удовольствия от того, что помогаешь хорошему человеку или благому делу. Зачем людям требовать почестей за благотворительность, когда они должны знать, что иным образом не получат удовольствия от своих денег? На днях я отдал оказавшемуся на мели учителю свои часы, поскольку в карманах не оказалось мелочи, а мама не смогла определить, что же это было – проявление безумия или благородства. Я мог бы с полной уверенностью сказать ей, что это было ни то, ни другое, а скорее эпикурейское себялюбие с некоторой долей бахвальства. Могли ли мои часы доставить мне чувство полного удовлетворения, когда учитель принес мне квитанцию из ломбарда и сказал, что тридцать шиллингов пришлись очень кстати?
Лесли Дункан вышел в Карстейрсе, и я остался наедине с крепким седовласым пожилым католическим священником, который тихонько сидел в углу и читал молитвенник. У нас завязался доверительный разговор, продолжавшийся до самого Авонмута, столь интересный, что я едва не проехал свою станцию. Отец Логан (так его звали) показался мне образцом священнослужителя – чистым помыслами и готовым к самопожертвованию, со здоровой хитрецой и несколько наивным чувством юмора. Кроме добродетелей своего сословия он также обладал и недостатками, поскольку был крайне реакционен в своих взглядах. Мы страстно спорили о религии, и его богословские воззрения находились на уровне раннего плиоцена[1]. Он мог бы говорить об этом предмете со священником при дворе Карла Великого, и после каждого предложения они жали бы друг другу руки. Он это признавал и ставил себе в заслугу. В его глазах читалась уверенность и последовательность. Если бы наши астрономы, изобретатели и законодатели были столь же последовательны, где бы теперь находилась современная цивилизация? Неужели религия – единственная область приложения мысли, где отсутствует прогресс, где все время нужно соотноситься с нормами, установленными две тысячи лет назад? Разве богословы не видят, что человеческий мозг по мере своего развития должен обладать большей широтой взглядов? Несформировавшийся мозг порождает несформировавшегося Бога, и кто скажет, что наш мозг сформировался хотя бы наполовину? Воистину вдохновленный священнослужитель – это мужчина или женщина большого ума. Не тонзура[2] на макушке, а пара килограммов серого вещества, способного к избирательности.
Я прямо-таки вижу, Берти, как ты сейчас недовольно морщишь нос. Однако я сойду с тонкого льда, и теперь у тебя будут только факты. Боюсь, что рассказчик из меня так себе, поскольку первый малозначительный персонаж берет меня за руку и уводит в сторону, а рассказ мой становится путаным.
Так вот, до Авонмута мы добрались уже вечером, и когда я высунул голову из окна вагона, первое, что предстало моему взору, был старина Каллингворт, стоявший в круге света под газовым фонарем. Сюртук у него был нараспашку, жилет расстегнут вверху, шляпа (на этот раз цилиндр) сдвинута на затылок, спереди из-под нее выбивались жесткие волосы. Во всем, кроме разве что воротничка, передо мной был прежний Каллингворт. Увидев меня, он приветственно проревел, вытащил меня из вагона, схватил мой саквояж или, как ты его называешь, дорожный мешок, и через минуту мы уже шли по улицам.
Я, как можешь себе представить, дрожал от нетерпения узнать, что ему от меня нужно. Однако он об этом и словом не обмолвился, а я постеснялся спросить, и во время нашего долгого пути мы говорили об отвлеченных предметах. Помню, сначала о футболе, где у Ричмонда был шанс выиграть у Блэкхита, и о том, что в каждой новой игре закипают свежие страсти у ворот. Затем он заговорил об изобретениях и так разошелся, что ему пришлось сунуть мне в руки саквояж, чтобы он мог в подтверждение своих слов стучать кулаком по ладони. Я как сейчас вижу, как он умолк и наклонился ко мне, а его желтые зубы блеснули в свете фонаря.
– Дорогой мой Монро. – (Он так ко мне обратился.) – Почему перестали носить доспехи, а? А я тебе скажу, почему. Потому, что вес металла, защищавшего стоявшего в полный рост человека, стал больше, чем тот мог вынести. Но в наши дни воюют не стоящие во весь рост. Пехотинцы лежат на животе, и нужно очень мало, чтобы их защитить. А качество стали возросло, Монро! Появилась закаленная сталь! Бессемер, Бессемер и его конвертер! Очень хорошо. Сколько нужно металла, чтобы закрыть человека? Тридцать пять на тридцать сантиметров, пластины соединяются под углом, чтобы пуля срикошетила. С одной стороны – вырез для винтовки. И вот тебе, дружище, запатентованный портативный пуленепробиваемый щит Каллингворта! Сколько он весит? О, всего шесть с небольшим килограммов. Я все рассчитал. Каждая рота везет свои щиты на тележках, их раздают перед боем. Дай мне двадцать тысяч хороших стрелков, и я высажусь в Кале, а потом дойду до Пекина. Только подумай, дорогой мой, каков будет моральный эффект! Одна сторона попадает с каждого выстрела, а другая плющит пули о стальные пластины. Такого никакое войско не выдержит. Страна, которая первой заполучит такие щиты, подомнет под себя всю Европу. Все погонятся за этими щитами, все. Давай-ка посчитаем. Численность войск примерно восемь миллионов. Положим, щитами оснащена лишь половина. Я говорю «половина», потому что не хочу прослыть слишком кровожадным. Это четыре миллиона, и я возьму четыре шиллинга процентов при оптовой продаже. Как тебе такое, Монро? Примерно семьсот пятьдесят тысяч фунтов, а? Как тебе такое, дружище?
Право слово, именно так он и говорил, когда я об этом вспоминаю. Не хватает лишь странных пауз, внезапных переходов на доверительный шепот, торжествующих рыков, с которыми он отвечал на свои же вопросы, пожиманий плечами, хлопков и оживленной жестикуляции. Но за все время – ни слова о том, почему он послал мне срочную телеграмму, заставившую меня поехать в Авонмут.
Конечно, я терзался вопросом, добился он успеха или нет, хотя его веселый вид и оживленная речь говорили о том, что у него все хорошо. Однако я удивился, когда мы прошли по тихой широкой улице с огромными домами с участками по обе стороны, и он вдруг остановился и прошел в железную калитку, ведшую к одному из лучших особняков. Луна высветила остроконечную крышу и фронтоны на каждом углу. Когда он постучал, дверь открыл лакей в красных плюшевых бриджах. Я начал понимать, что мой друг наверняка добился колоссального успеха.
Когда мы спустились в столовую к ужину, там меня приветствовала миссис Каллингворт. Мне было очень жаль видеть, что она бледна и выглядит усталой. Однако мы поужинали довольно весело, как в старые добрые времена, и живость ее мужа отразилась на ее лице. Затем мы снова будто бы вернулись в небольшую комнатку, где медицинские журналы служили стулом, а не находились в огромном покое с обшитыми дубовыми панелями стенами, на которых красовались картины. Но так и не было сказано ни слова касательно цели моей поездки.
Когда ужин закончился, Каллингворт провел меня в небольшую гостиную, где мы оба закурили трубки, а миссис Каллингворт – сигарету. Он некоторое время сидел молча, затем вскочил, бросился к двери и распахнул ее настежь. Одной из его странностей была боязнь, что его подслушивают или строят против него козни, поскольку, несмотря на его показную открытость и откровенность, ему была свойственна странная подозрительность. Удостоверившись, что его никто не подслушивает и никто за ним не шпионит, он опустился в кресло.
– Монро, – проговорил он, тыча в мою сторону трубкой, – я хотел тебе сказать, что я полностью, безнадежно и непоправимо разорился.
Я покачивался на стуле, который стоял на задних ножках, и уверяю тебя, что в тот момент чуть не опрокинулся. Все мои мечты о грандиозных результатах моей поездки в Авонмут рухнули, словно карточный домик. Да, Берти, должен тебе признаться: мои первые мысли были о собственном разочаровании, и лишь последующие – о несчастье, постигшем моих друзей. Каллингворт обладал поистине дьявольской интуицией, или же мои мысли выразились на лице, поскольку он тотчас добавил:
– Прости, что разочаровал тебя, дружище. Вижу, ты совсем не это ожидал услышать.
– Ну, – невнятно пробормотал я, – это и вправду большой сюрприз, старина. Судя по дому, я подумал…
– Судя по дому, по лакею, по мебели, – продолжил он. – Ну, они-то меня и съели… всего, с потрохами… Мне конец, дружище, если только… – Тут я заметил в его глазах вопрос. – Если только не найдется друг, который позволит использовать его имя на листе гербовой бумаги.
– Я не могу этого сделать, Каллингворт, – ответил я. – Очень нехорошо отказывать другу, и будь у меня деньги…
– Обожди, пока тебя попросят, Монро, – оборвал он меня, состроив страшную гримасу. – К тому же, поскольку у тебя нет ничего и перспектив тоже, какая будет польза от твоей подписи на бумаге?
– Вот это мне и хотелось бы знать, – ответил я, все же чувствуя себя немного подавленным.
– Слушай, дружище, – продолжал он, – видишь стопку писем слева на столе?
– Да.
– Это требования кредиторов. А видишь документы там, справа? Так это повестки в суд графства. А теперь погляди сюда. – Он открыл конторскую книгу и показал мне три или четыре фамилии, написанные на первой странице.
– Это моя практика, – проревел он и принялся хохотать, пока на лбу у него не вздулись вены.
Его жена тоже от души рассмеялась, как могла бы и заплакать, если бы он того захотел.
– Вот такие дела, – сказал он, справившись с приступом. – Ты, наверное, слышал – я ведь и сам тебе об этом говорил, – что у моего отца была лучшая практика во всей Шотландии. Насколько я мог судить, способностями он не отличался, однако факт остается фактом – практика у него была.
Я кивнул и затянулся трубкой.
– Так вот, он умер семь лет назад, и практику его расхватали конкуренты. Однако, получив диплом, я подумал, что мне лучше всего будет вернуться в родные пенаты и посмотреть, смогу ли я снова восстановить практику отца. Имя должно чего-то стоить, считал я. Но не было смысла браться за дело с прохладцей. Совершенно никакого смысла. К нему обращались люди богатые, они должны были видеть зажиточный дом и лакея в ливрее. Каков был шанс привлечь их в дом с эркером за сорок фунтов в год и с чумазой служанкой у порога? Как ты думаешь, что я сделал? Дружище, я занял старый дом отца, который не сдавался внаем, тот самый дом, который он содержал за пять тысяч в год. Начал я роскошно и вложил последние гроши в мебель. Но все без толку, дружище. Долго я не продержусь. У меня два несчастных случая и эпилептик – двадцать два фунта, восемь шиллингов и шесть пенсов.
– И что же ты намерен делать дальше?
– Вот тут-то мне нужен твой совет. Поэтому-то я и вызвал тебя телеграммой. Я всегда уважал твое мнение, дружище, и подумал, что сейчас самое время его выслушать.
Меня поразило, что если бы он задал мне этот вопрос девять месяцев назад, то толку было бы больше. Что, черт подери, я мог сделать, если дела так запутались. Однако я был польщен, что такой независимый человек, как Каллингворт, обратился ко мне за советом.
– Ты и вправду думаешь, – спросил я, – что здесь держаться больше не за что?
Он вскочил со стула и принялся мерить комнату порывистыми шагами.
– Извлеки из этого урок, Монро, – сказал он. – Теперь придется начинать с нуля. Послушай моего совета и отправляйся туда, где тебя никто не знает. Люди довольно быстро поверят незнакомцу, но если они помнят тебя мальчишкой в коротких штанишках, которого лупили щеткой для волос за то, что он воровал сливы, то не доверят тебе свое здоровье и жизнь. Очень хорошо и приятно говорить о дружбе и семейных связях, но когда у человека болит живот, то ему нет до них никакого дела. Я бы вывел это золотыми буквами в каждой медицинской аудитории и высек бы на воротах университета. Если человеку нужны друзья, он должен идти к чужим людям. Здесь все провалено, Монро, и без толку советовать мне тут оставаться.
Я спросил его, сколько он должен. Всего набралось около семисот фунтов. Только за дом приходилось отдавать две сотни. Он уже занял деньги на мебель, и весь его капитал составлял менее десяти фунтов. Разумеется, посоветовать я мог ему только одно.
– Ты должен собрать вместе всех кредиторов, – сказал я. – Они воочию убедятся, что ты молод и полон сил, поэтому рано или поздно наверняка добьешься успеха. Если они загонят тебя в угол, то ничего не получат. Пусть они это поймут. Но если ты начнешь с нуля где-то в другом месте и добьешься успеха, то сможешь сполна с ними расплатиться. Иного выхода я не вижу.
– Я знал, что ты это скажешь, я и сам так подумал. Разве нет, Гетти? Ну что ж, тогда решено. Я очень признателен тебе за совет, так что на сегодня с этим делом все. Я выстрелил и промахнулся. В следующий раз попаду, и этого долго ждать не придется.
Неудача, похоже, не очень-то его тяготила, поскольку через несколько минут он рычал так же громогласно, как и раньше. Принесли виски с водой, чтобы мы могли выпить за успех его второй попытки.
Виски сослужило нам скверную службу. Выпивший пару бокалов Каллингворт дождался, пока жена вышла из гостиной, и завел разговор о том, как трудно теперь стало заниматься гимнастикой, когда целый день ждешь пациентов. Мы стали раздумывать, как можно заниматься гимнастикой в помещении, и перешли к боксу. Каллингворт достал из шкафа две пары перчаток и предложил побоксировать раунд-другой.
Не будь я дураком, Берти, я бы никогда не согласился. Это одна из моих многих слабостей: меня заводит любое упоминание о вызове, будь он со стороны мужчины или женщины. Но я хорошо знал характер Каллингворта, и в прошлом письме рассказал, какой у него темперамент. Тем не менее, мы отодвинули стол в сторону, повесили лампу повыше и встали друг напротив друга.
Как только я посмотрел ему в глаза, я сразу почуял неладное. Они сверкали злобой. Полагаю, он разозлился из-за моего отказа поставить подпись на гербовой бумаге. В любом разе, вид у него был злобный: нахмуренные брови, прижатые к бедрам кулаки (потому что его бокс, как и все остальное в нем, не был традиционным) и выдвинутая вперед, словно капкан, нижняя челюсть.
Я сделал шаг, и он принялся молотить меня обеими руками, хрюкая, как свинья, при каждом ударе. Я понял, что боксер из него никакой, он просто стойкий и упорный драчун. С полминуты я отбивался обеими руками, но потом меня чуть не сбили с ног и прижали к двери, так что я чуть не проломил ее затылком. На этом он не успокоился, хотя видел, что локтями я работать не могу, и нанес правой такой удар, который вынес бы меня в коридор, если бы я не увернулся и не выскочил на середину комнаты.
– Слушай, Каллингворт, – сказал я, – что-то бокса тут маловато.
– Да, я бью сильно, разве нет?
– Если ты снова на меня так набросишься, я тебе врежу, – ответил я. – Хочу драться несильно, если позволишь.
Не успел я закончить, как он бросился на меня. Я снова увернулся, но комната была маленькая, а он прыгал, как кошка, так что ускользнуть было невозможно. Он снова ринулся на меня, словно рвался к воротам, и чуть не сбил меня с ног. Не успел я опомниться, как левой он нанес точный удар, а правой заехал мне по уху. Я споткнулся о скамейку для ног и не успел встать прямо, как он снова попал мне по уху, и в голове у меня зазвенело. Он был очень доволен собой, выпятил грудь, хлопнув по ней ладонями, и занял позицию посередине комнаты.
– Скажешь, когда с тебя хватит, Монро.
Это было очень самонадеянно, если учесть, что я на пять сантиметров выше него и на десяток килограммов тяжелее, к тому же боксирую гораздо лучше. Его энергия и размеры комнаты были против меня, но я решил, что не ему одному наносить удары в следующем раунде.
Он снова бросился вперед, размахивая руками, как ветряная мельница. Но на этот раз я ждал. Я врезал ему левой в переносицу, а потом, увернувшись от его левой, дал ему боковым в челюсть, отчего он рухнул на коврик у камина. Когда Каллингворт снова вскочил на ноги, лицо у него было, как у безумца.
– Свинья! – крикнул он. – Скинь перчатки и дерись голыми руками!
Он начал стягивать свои перчатки.
– Давай-давай, тупой осел! – ответил я. – Из-за чего нам драться?
Он обезумел от злости и швырнул перчатки под стол.
– Ей-богу, Монро! – вскричал он. – Если ты не снимешь перчатки, я тебя достану, в перчатках ты или нет!
– Выпей содовой, – сказал я.
Он презрительно взглянул на меня.
– Ты меня боишься, Монро, – прорычал он. – Вот в чем все дело.
Дело стало заходить слишком далеко, Берти. Я понимал всю абсурдность ситуации. Я думал, что смогу одержать над ним верх, но в то же время знал, что наши силы примерно равны, и мы оба можем сильно поколотить друг дружку безо всякой пользы. И все-таки я снял перчатки, решив, что так благоразумнее всего. Если Каллингворт подумает, что у него есть надо мной преимущество, то потом я могу об этом пожалеть.
Но судьбе было угодно задавить нашу свару в самом зародыше. В ту секунду в комнату вошла миссис Каллингворт и взвизгнула, увидев мужа. У него из носа сочилась кровь и стекала на подбородок, так что я не удивился ее реакции.
– Джеймс! – вскрикнула она и повернулась ко мне. – Что все это значит, мистер Монро?
Ты бы видел, какой ненавистью пылали ее кроткие глаза. Я ощутил безумный порыв подхватить ее на руки и поцеловать.
– Мы всего лишь немного побоксировали, миссис Каллингворт, – ответил я. – Ваш муж жаловался, что ему не удается заняться физическими упражнениями.
– Все нормально, Гетти, – сказал он, снова надевая сюртук. – Не глупи. Слуги уже улеглись спать? Ну, тогда пронеси мне в тазике воды из кухни. Садись, Монро, и закуривай трубку. Мне надо об очень многом с тобой поговорить.
На этом все и кончилось, и остаток вечера прошел спокойно. Но все-таки его миниатюрная жена всегда будет видеть во мне негодяя и забияку. Что же до Каллингворта… Довольно трудно сказать, что он думает об этом деле.
Когда я проснулся на следующее утро, он оказался у меня в комнате и являл собою довольно забавное зрелище. Его халат лежал на стуле, а сам он голышом выжимал двадцатикилограммовую гирю. Природа не наградила его лицо ни симметрией, ни приятным выражением, но фигура у него была, как у греческой статуи. Я с улыбкой заметил, что оба его глаза украшают синяки. Настала его очередь улыбнуться, когда я сел на кровати и обнаружил, что мое ухо по форме и на ощупь напоминает мухомор. Однако в то утро Каллингворт вел себя чрезвычайно дружелюбно и болтал в самой добродушной манере.
В тот день мне надо было вернуться домой, к отцу, но до отъезда я провел пару часов с Каллингвортом у него в кабинете. Он пребывал в прекрасном настроении и выдавал сотни хитроумных способов, какими я мог бы ему помочь. Его главной целью было, чтобы его имя попало в газеты. По его мнению, это являлось залогом успеха. Мне казалось, что он путает причину со следствием, но с ним не спорил. Я до боли в боку смеялся над его замысловатыми предложениями, которыми он буквально фонтанировал. Я должен был лежать без чувств на обочине дороги, чтобы милосердная толпа отнесла меня к нему, после чего лакей бросится разносить заметку по газетам. Однако существовала вероятность, что меня отнесут к врачу-конкуренту на другой стороне улицы. В разных ипостасях я должен был симулировать припадки у двери Каллингворта, чтобы дать газетчикам очередной повод обмолвиться о нем. Потом я должен был умереть, испустить дух, а вся Шотландия должна была трубить о том, как доктор Каллингворт из Авонмута воскресил меня. Его изобретательный ум придумывал сотни вариаций на одну тему, а нависавшее над ним банкротство поблекло в его голове под натиском несерьезных и вздорных задумок.
Но его веселость тотчас улетучивалась, он начинал скрежетать зубами и быстро расхаживать по комнате, рассыпая ругательства, когда видел пациента, поднимавшегося по ступенькам к двери Скарсдейла, его соседа напротив. Скарсдейл имел довольно неплохую практику и принимал на дому с десяти до двенадцати утра, так что я почти привык к тому, как Каллингворт вскакивал со стула и с проклятиями бросался к окну. Он сразу же ставил диагнозы и прикидывал гонорары за лечение, пока не начинал заговариваться.
– Вот! – внезапно вскрикивал он. – Видишь хромающего мужчину? Он приходит каждое утро. Смещение мениска в коленном суставе, там на три месяца работы. Он приносит тридцать пять шиллингов в неделю. А вот еще! Пусть меня повесят, если это снова не женщина в инвалидной коляске с ревматическим артритом. Она прямо вся тюленья кожа и молочная кислота. Просто тошнит от вида того, как валят к этому врачу. А что за врач! Ты его не видел, и тем лучше для тебя. Не знаю, чему ты, черт подери, смеешься, Монро. Не вижу, с чего бы мне веселиться.
Та поездка в Авонмут продлилась недолго, но мне кажется, что я запомню ее на всю жизнь. Видит Бог, что этот предмет тебя изрядно утомил, но когда я начал такой подробный рассказ, меня так и подмывало продолжать. Все закончилось с моим возвращением тем же днем, Каллингворт заверял меня, что соберет вместе своих кредиторов, как я ему и советовал, и сообщит о результатах через несколько дней. Миссис Каллингворт едва удосужилась подать мне руку, когда я с ней прощался, но от этого она понравилась мне еще больше. В Каллингворте наверняка много достоинств, иначе он не смог бы полностью завоевать любовь и доверие этой женщины. Возможно, где-то на заднем плане таится совсем другой Каллингворт – более мягкий и нежный, который может любить и пробуждать любовь. Если так оно и есть, то я и близко с ним незнаком. Возможно, я лишь постукивал пальцами по скорлупе. Кто знает? Если уж на то пошло, весьма вероятно, что он никогда не сталкивался с настоящим Джонни Монро. Но ты-то меня знаешь, Берти, и мне кажется, что на этот раз он порядком тебе надоел, а своими снисходительными ответами ты лишь поощряешь его словесные излишества. Что ж, написал я ровно столько, сколько почтовое ведомство сможет отправить за пять пенсов, так что закончу лишь тем, что отмечу – прошло две недели, а новостей из Авонмута нет, что совсем меня не удивляет. Если я что-то и узнаю, что весьма сомнительно, можешь быть уверен, что я закончу эту долгую историю.
Письмо третье
Дома, 15 октября 1881 года
Безо всякой образности признаюсь, что мне становится очень стыдно, когда я думаю о тебе, Берти. Я посылаю тебе два невероятно длинных письма, отягощенных, насколько я помню, совершенно ненужными подробностями. Затем, несмотря на твои добрые ответы и участливость, которых я вряд ли заслуживаю, я полностью забываю о тебе больше чем на полгода. Клянусь этим пером, такое больше не повторится, и этим письмом я, возможно, заполню образовавшийся пробел и посвящу тебя в свои текущие дела, к которым лишь ты из всего человечества проявляешь интерес.
Начну с замечания, что хочу тебя заверить: все, что ты сказал в своем последнем письме касательно религии привлекло мое самое пристальное внимание. Жаль, что его у меня нет для сверки (я дал почитать его Чарли), но, по-моему, я помню его содержание. Общеизвестно, как ты говоришь, что неверующий может быть таким же фанатиком, как и глубоко верующий человек, и что человек может быть очень догматичен в своем ниспровержении догм. Подобные люди суть настоящие враги свободной мысли. И если что-то сможет убедить меня предать свои принципы, то это, например, будут дурацкие кощунственные картинки, публикуемые в агностических изданиях.
Но у каждого движения существует целая толпа последователей и подпевал, склонных к разброду и шатаниям. Мы напоминаем комету, яркую в голове и рассеивающуюся в облако газа в хвосте. Однако каждый человек может говорить за себя, и я не чувствую, что твое обвинение относится ко мне. Я фанатичен лишь в борьбе с фанатизмом, и мне это представляется столь же законным, как и насилие в борьбе с насилием. Когда принимаешь во внимание, какие последствия имели для мировой истории извращения религиозных чувств (жуткие войны христиан и мусульман, католиков и протестантов, казни, пытки, междоусобная вражда, мелочные склоки, при этом все верования в равной степени измазаны кровью), то остается лишь поражаться, как совокупный глас человечества не поместил фанатизм на первое место в списке смертных грехов. И, конечно же, банально заявлять, что ни оспа, ни чума не принесли человечеству столько горя и страданий.
Меня нельзя причислить к фанатикам, дорогой мой, потому как я от чистого сердца говорю, что уважаю каждого доброго католика и каждого доброго протестанта, и признаю, что каждое из этих вероисповеданий является мощным орудием в руках управляющего всем непостижимого Провидения. Как в ходе истории человек обнаруживает, что самые далеко идущие и выдающиеся последствия могут происходить из преступления, так и в религии, хотя вера может основываться на совершенно несуразной концепции Создателя и Его деяний, она тем не менее может оказаться наиболее подходящей для людей и времени, когда была принята. Но если она правильна для тех, кто интеллектуально удовольствуется ее принятием, это также приемлемо для тех, кто не довольствуется ее принятием, кто против нее протестует, пока в результате этого процесса все человечество постепенно подвергается брожению и продвигается чуть вперед по пути поступательного развития.
Католицизм более глубок и обстоятелен. Протестантизм более приземлен и рационален. Протестантизм приспосабливается к современной цивилизации, католицизм надеется, что цивилизация приспособится к нему. Люди перемещаются с одной большой ветви на другую и считают, что произвели огромную перемену, в то время как ствол под ними прогнил, и обе ветви в их теперешней форме рано или поздно будут вовлечены в общую погибель. Движение человеческой мысли, пусть и медленное, по-прежнему направлено в сторону правды, и различные религии (каждая прекрасна в свое время), от которых человек избавляется по мере продвижения вперед, служат своего рода буйками, сбрасываемыми с борта корабля, призванными указывать скорость и направление прогресса.
Но как мне узнать, что есть истина, спросишь ты? Никак. Но я довольно неплохо знаю, что не есть истина. И это, разумеется, немало. Неверно, что великий главный Ум, спланировавший все на свете, способен на зависть, месть, жестокость и несправедливость. Это человеческие качества, и книга, приписывающая их Бесконечности, наверняка является человеческим творением. Неверно, что законы природы были произвольно нарушены, что змеи разговаривали, что женщины превращались в соль, что скипетром добывалась вода из камней. Тебе нужно честно признать, что если бы подобные высказывания впервые преподносились нам взрослым, то мы бы улыбнулись. Неверно, что источник здравого смысла должен наказать народ за незначительный проступок, совершенный давно умершим человеком, а потом усугубить вопиющую несправедливость, обрушив возмездие на одного невинного козла отпущения. Разве ты не видишь, что такая концепция лишена справедливости и логики, не говоря уже о милосердии? Неужели не видишь, Берти? Как же можно ослепнуть до такой степени! Отвлекись на мгновение от подробностей и вглядись в ключевую идею господствующей веры. Разве ее общая концепция соответствует бесконечной мудрости и милосердию? Если нет, то что станется с догмами, символами, общей системой, построенной на песке? Мужайся, друг мой! В нужный момент все будет отброшено в сторону, как человек, чьи силы возрастают, откладывает костыль, который верно служил ему в дни болезни. Но на этом перемены не кончатся. Его хромота станет походкой, которая превратится в бег. Окончания переменам нет, его не может быть, поскольку вопрос относится к бесконечности. Все это, сегодня кажущееся тебе слишком заумным, через тысячу лет станет выглядеть реакционным и консервативным.
Поскольку я коснулся этой темы, можно сказать кое-что еще без боязни тебе наскучить? Ты говоришь, что критика вроде моей разрушительна, и мне нечего предложить взамен низвергнутого. Это не совсем верно. Мне думается, что нам доступны некие элементарные истины, не требующие веры для их принятия, и этих истин достаточно для предоставления нам практической религии, в которой достаточно рассудочности, чтобы привлечь к себе думающих людей, а не отвратить их.
Когда все мы вернемся к элементарным и доказуемым фактам, появится надежда прекратить мелкие дрязги между верованиями и включить всю человеческую семью в одну всеобъемлющую систему мысли.
Когда я впервые вышел из веры, в которой был воспитан, то, конечно, некоторое время чувствовал себя так, будто бы лишился опоры в жизни. Не будет преувеличением сказать, что я ощущал себя жалким и погруженным в полную духовную тьму. Для этого юность слишком полна всяких действий. Я осознавал какое-то смутное беспокойство, постоянное желание тишины, пустоту и одеревенелость, которых не замечал раньше. Я настолько отождествлял религию с Библией, что не мог их разделить. Когда фундамент оказался фальшивым, все сооружение с грохотом рухнуло. И тогда на помощь мне пришел добрый старый Карлейль[3], и при помощи его размышлений и своих раздумий я построил свой небольшой домик, в котором с тех пор нахожу покой и который даже послужил убежищем для парочки друзей.
Наипервейшее и главное, что следует хорошенько усвоить – это то, что существование Создателя и указания на его свойства никоим образом не зависят от еврейских пророков и поэтов, а также от бумаги и типографской краски. Напротив, все подобные попытки осознать Его лишь принижают Его, низводя Бесконечность до узких рамок человеческой мысли, причем в то время, когда мысль была в общем менее духовна, нежели теперь. Даже самый материалистичный из современных умов дрогнет при попытке описать Божество приказывающим проводить массовые казни и рубить властителей на части на алтарях.
Затем, подготовив свой ум к более высокой (пусть и, возможно, более расплывчатой) идее Божества, переходи к изучению Его в его делах, которые нельзя подделать или исказить. Природа – вот истинное откровение Божества человеку. Ближайшее зеленое поле есть вдохновенная страница, на которой можно прочитать все, что тебе нужно знать.
Признаюсь, что никогда не мог понять позицию атеиста. На самом деле я пришел к тому, что не верю в его существование и рассматриваю его слова лишь как форму теологического осуждения. Атеизм может представлять собой временное состояние, преходящую фазу умственного развития или дерзкую реакцию на антропоморфический идеал. Однако я не могу представить, что человек может продолжать наблюдать за природой и отрицать, что действуют законы, демонстрирующие интеллект и силу. Само существование мира несет в себе доказательство существования его создателя, как стол гарантирует существование плотника. В соответствии с этим человек может сформировать импонирующую ему концепцию Творца, но он не может быть атеистом.
Мудрость, мощь и направленные на достижение цели средства вписаны в структуру природы. Каких тогда доказательств мы хотим от книги? Если человек, наблюдающий мириады звезд и считающий, что они и их бесчисленные спутники размеренно движутся по небу, не пересекаясь орбитами, если, говорю я, человек, видит это и не может понять свойств Создателя без книги Иова, то его взгляд на мир находится за пределами моего понимания. И не только в больших явлениях мы видим вездесущую заботу некой разумной силы. Для нее нет ничего слишком малого. Мы видим, как крохотный хоботок насекомого аккуратно внедряется в чашечку цветка, как микроскопический волосок и желёзка исполняют свои определенные функции. Какая разница, плод они творения или результат эволюции? Нам на самом деле известно, что они суть результат эволюции, но это лишь определяет закон, но не объясняет его.
Но если эта сила позаботилась о пчеле, снабдив ее медовым желудочком и хоботками для сбора нектара, об обычном семени, снабдив его приспособлениями для попадания в плодородную почву, то возможно ли, что мы, венец творения, оказались обойденными? Такое невообразимо. Эта мысль не соотносится со структурой творения, как мы ее видим. Повторяю, что вера не нужна, чтобы обрести уверенность в существовании всевидящего Провидения.
И с подобной уверенностью у нас, конечно, есть все необходимое для элементарной религии. Что бы ни произошло после смерти, в этой жизни наши обязанности четко определены, и этики всех верований пока что сходятся в этом, так что вряд ли могут существовать какие-то расхождения во мнениях. Последняя реформация упростила католицизм. Грядущая реформация упростит протестантизм. А когда мир созреет, наступит еще одна реформация, которая его упростит. Постоянно совершенствующийся разум даст нам постоянно расширяющую свои границы веру. Разве не отрадно думать, что эволюция еще продолжает действовать, что если предок наш – человекообразная обезьяна, то потомками нашими могут быть архангелы?
Ну, вообще-то я не намеревался вываливать на тебя весь этот ворох информации. Думал, что смогу обрисовать свою позицию на страничке или около того. Но сам видишь, как одно влечет за собой другое. Даже теперь я многое оставляю невысказанным. Я с большой долей уверенности представляю, что именно ты скажешь. «Если ты выводишь существование благого Провидения из всего хорошего в природе, то как быть со всем плохим?» Вот что ты скажешь. Достаточно того, что я склонен отрицать существование зла. По этому поводу я больше не скажу ни слова, но если ты сам вернешься к этой теме, то думай и решай сам.
Ты помнишь, что в последнем письме я рассказывал, как только что вернулся из Авонмута от Каллингвортов, и что он обещал известить меня, какие шаги предпримет для умиротворения кредиторов. Как я и ожидал, я не получил от него ни словечка. Однако окольными путями я узнал кое-какие новости о случившемся. Из вторых рук с большой степенью преувеличения мне стало известно, что Каллингворт поступил именно так, как я ему советовал: созвал кредиторов и обратился к ним с пространным заявлением касательно своего положения. Эти добрые люди были столь тронуты нарисованной им картиной достойного человека, борющегося с превратностями судьбы, что некоторые из них заплакали, и все не только единогласно решили отсрочить уплату долга, но и даже заговорили о подписке, чтобы помочь Каллингворту поправить дела. Как я понимаю, он уехал из Авонмута, однако никто понятия не имеет, что с ним сталось. Общее мнение таково, что он отправился в Англию. Он странный человек, но я желаю ему удачи, где бы он ни был.
Когда я вернулся домой, то снова погрузился в рутину отцовской практики, помогая ему, пока что-нибудь не наклюнется. Мне пришлось ждать полгода – долгие и тягучие полгода. Понимаешь, я не могу просить у отца денег или, по крайней мере, не могу заставить себя взять лишний пенни из его накоплений, поскольку знаю, насколько ему трудно обеспечивать нам крышу над головой и платить за лошадь и рессорную двуколку, которая нужна ему для работы так же, как утюг портному. А сборщик налогов так и горазд выжать из нас пару гиней под предлогом того, что это роскошь! Мы продержимся, и я не сделаю его беднее хотя бы на фунт. Но ты сам понимаешь, Берти, что для мужчины моего возраста унизительно ходить с пустыми карманами. Это очень на меня давит. Бедняк может сделать мне доброе дело, а я покажусь ему скрягой. Могу захотеть подарить девушке цветы и должен буду выглядеть непочтительным. Не знаю, почему я должен этого стыдиться, поскольку в этом не моя вина, и надеюсь, что никому не покажу, что мне стыдно. Но тебе, дорогой мой Берти, охотно признаюсь, что это ужасно задевает мое чувство собственного достоинства.
Я часто удивляюсь, почему у писательской братии не доходят руки описать внутренний мир молодого человека от поры отрочества до времени его вставания на ноги. Мужчины очень любят анализировать чувства своих героинь, о которых им вряд ли что-нибудь известно, в то время как им почти нечего сказать о внутреннем мире их героев, через переживания которых они прошли сами. Я бы за это взялся, но понадобится фантазия, а у меня с воображением всегда было плохо. Но я ясно помню то, что пережил сам. В то время я думал (как и все остальные), что это был уникальный опыт, но после того, как я услышал признания пациентов отца, я убедился, что это общий удел. Ужасная сковывающая застенчивость, чередующаяся случайными абсурдными вспышками дерзости, являющимися реакцией на нее, тоска по крепкой дружбе, страдания по поводу воображаемых презрительных выпадов, необычные сексуальные переживания, смертельные страхи касательно несуществующих болезней, смутные чувства, вызываемые всеми женщинами, и пугливая дрожь в присутствии некоторых из них, агрессивность, вызванная боязнью перепугаться, внезапные наплывы меланхолии, глубокое недоверие к себе. Смею биться об заклад, Берти, что ты через все это прошел, как и я, и первый же восемнадцатилетний юноша, которого ты увидишь из окна, тоже страдает от всего этого.
Однако я отклоняюсь от того факта, что полгода сижу дома и порядком от этого устал. Я рад новому повороту событий, о котором придется тебе рассказать. Здешняя практика, хотя и не очень выгодная, полна вызовов по три шиллинга и шесть пенсов и наблюдением за состоянием заключенных с платой в одну гинею, так что у нас с отцом масса дел. Ты знаешь, как я им восхищаюсь, однако боюсь, что интеллектуальной общности у нас с ним очень мало. Он, похоже, думает, что мои взгляды на религию и политику, идущие из глубины души, зародились у меня в результате равнодушия или бравады. Поэтому я перестал говорить с ним об этих животрепещущих предметах, и хотя мы делаем вид, что этих тем не существует, мы оба знаем, что между нами существует некая преграда. Что же до моей матери… ах, она заслуживает отдельного пассажа.
Ты же знаком с нею, Берти! Ты должен помнить ее милое лицо, чувственный рот, ее пристально смотрящие близорукие глаза, ее вид маленькой пухленькой наседки, которая переживает за своих цыплят. Но тебе не понять, что она значит для меня и для нашей обыденной жизни. Эти проворные пальцы! Сочувственные мысли! Сколько я ее помню, она всегда представляла собой причудливую смесь домохозяйки и книгочея, основу которых составляет хорошо воспитанная и высокодуховная дама. Она всегда остается дамой – торгуется ли с мясником, отчитывает ли нерадивую служанку, помешивает ли овсянку. Я так и вижу ее с болтушкой в одной руке и «Альманахом двух миров» в другой в пяти сантиметрах от ее милого носика. Он всегда был ее любимым чтивом, и я не могу представить ее без томика в коричнево-желтой обложке.
Моя мама – очень начитанная женщина, она следит за новинками как французской, так и английской литературы, и часами может говорить о братьях Гонкурах, Флобере и Готье. Однако она всегда занята работой, и откуда она набирается знаний – для меня загадка. Она читает, когда вяжет, читает, когда делает уборку, она даже читает, когда кормит своих детей. У нас есть шутка на ее счет: на самом интересном месте она вылила ложку молока с хлопьями в ухо моей сестренке, когда та в критический момент повернула голову. Руки у нее заскорузли от работы, но где ты видел бездельницу, которая так много прочитала?
Еще есть ее семейная гордость. В жизни мамы она играет огромную роль. Ты знаешь, как мало я придаю значения подобным вещам. Если титул «эсквайр» раз и навсегда исчезнет из моей фамилии, мне от этого станет только легче. Но клянусь честью, используя ее любимое присловье, ей об этом говорить не следует. По линии Пакенгемов (она из них) семейство может похвастаться некими выдающимися личностями (это по прямой линии), но если пойти по ответвлениям, то нет на земле такого монарха, который не был бы связан с их огромным генеалогическим древом. Плантагенеты роднились с нами не однажды, не дважды, а трижды, герцоги Бретонские стремились к союзу с нами, а Перси Нортумберлендские переплетались с нами на протяжении всей нашей славной истории. В детстве мама просвещала меня по этому предмету с каминной щеткой в одной руке и горстью золы в другой, облеченной в перчатку, а я сидел, болтал ногами в коротких штанишках и раздувался от гордости, пока курточка на мне не натягивалась, как оболочка на сосиске, и созерцал пучину, отделявшую меня от других мальчишек, болтавших ногами сидя на столе. И по сей день если я сделаю что-то заслуживающее маминого одобрения, она радостно говорит лишь то, что я истинный Пакенгем, а если я схожу с пути истинного, она со вздохом говорит, что есть во мне черты, унаследованные от Монро.
У нее широкие взгляды, она чрезвычайно практична в повседневной жизни, хотя ее иногда одолевает романтизм. Помню, как она приехала на узловую станцию, через которую проезжал мой поезд, чтобы повидаться со мной после полугодовой разлуки. Мы поговорили пять минут, я высунул голову из окна вагона. «Носи фланелевое белье, мальчик мой дорогой, и не верь в вечное наказание» – таков был ее последний совет, прежде чем поезд тронулся. Чтобы довершить ее портрет, мне не надо тебе говорить, поскольку ты ее видел, что она выглядит молодо и очень миловидно для матери большого семейства. На днях она сидела в вагоне, а я стоял на платформе. «Вашему мужу лучше бы подняться, иначе мы уедем без него», – сказал кондуктор. Когда мы отъехали от станции, мама судорожно шарила по карманам, и я знал, что она искала шиллинг.
Ах, какой же я болтун! И все ради одного предложения, что я не пробыл бы дома полгода, если бы не общество и не сочувствие мамы.
Так вот, теперь я хочу рассказать тебе о переделке, в которую я угодил. Полагаю, мне бы следовало огорчиться, но хоть убей, я не могу не смеяться. Я рассказал тебе о себе почти все, а сейчас поведаю о том, что произошло буквально на прошлой неделе. Даже тебе мне нельзя называть имен из-за проклятия Эрнульфа, которое включает в себя сорок восемь малых напастей, которые падут на голову мужчины, поцеловавшего женщину и рассказавшего об этом.
Так вот, тебе надо знать, что в пределах нашего города живут две дамы, мать и дочь, которых я назову миссис и мисс Лора Эндрюс. Они обе пациентки отца и в известной степени сделались подругами нашего дома. Мать – валлийка очаровательной наружности и благородных манер, истовая англиканка. Дочь немного повыше матери, но в остальном они удивительно похожи. Матери тридцать шесть, дочери восемнадцать, обе они чрезвычайно очаровательны. Если бы мне пришлось выбирать, то, между нами говоря, мать привлекала меня больше, поскольку я полностью придерживаюсь мнения Бальзака о женщинах за тридцать. Однако судьба распорядилась совершенно иначе.
Впервые нас с Лорой сблизило возвращение с танцев. Ты знаешь, как легко и внезапно происходят подобные вещи, начинаясь как жеманное заигрывание и заканчиваясь чем-то большим, чем дружба. Ты пожимаешь тонкую руку, под которую ведешь, пытаешься стиснуть затянутую в перчатку ладонь и до глупости долго желаешь спокойной ночи у двери. Это невинно и очень интересно, когда любовь расправляет крылышки. Она продолжит свой долгий полет позже, когда наберется опыта. Между нами никогда не вставал вопрос о серьезных отношениях, и не было и намека на обиды. Она знала, что я бедняк без средств и перспектив, а я знал, что слово матери для нее закон, и ее жизненный путь уже предопределен. Однако мы обменивались признаниями, иногда назначали свидания и встречались, пытались сделать свою жизнь ярче, не омрачая чужой. Я вижу, как ты качаешь головой и рычишь, что подобает благополучному семьянину вроде тебя, заявляя, что такие отношения очень опасны. Они опасны, дорогой мой, но нам было все равно: ей по невинности, а мне – по легкомыслию, поскольку с самого начала вся вина лежала на мне.
Ну, вот как обстояли дела, когда однажды на прошлой неделе отцу принесли записку, что слуга миссис Эндрюс заболел, где просили его тотчас же прийти. У старика случился приступ подагры, так что я надел халат и отправился по вызову, думая, что, возможно, удастся совместить приятное с полезным и перемолвиться парой слов с Лорой. Конечно же, проходя по посыпанной гравием изгибавшейся дорожке, я заглянул в окно гостиной и увидел, как она рисует, повернувшись спиной к свету. Было ясно, что она меня не услышала. Дверь в коридор была приоткрыта, когда я ее распахнул, там никого не оказалось. Меня вдруг одолело озорство. Я очень медленно открыл дверь в гостиную, вошел на цыпочках, тихонько прокрался дальше, нагнулся и поцеловал художницу в шею. Она с криком обернулась, и это оказалась мать.
Не знаю, Берти, доводилось ли тебе попадать в столь скверные переделки. Я попал, как кур в ощип. Помню, как я улыбался, когда скользил по ковру навстречу жуткому позору. В тот вечер я больше ни разу не улыбнулся. Когда я об этом думаю, кровь бросается мне в лицо.
Так вот, я выставил себя самым распоследним дураком. Сначала добропорядочная дама, которая (похоже, я тебе говорил) держится с большим достоинством и очень сдержанно, глазам своим не поверила. Затем, когда она осознала всю гнусность моего поведения, дама пришла в ярость и подобралась, так что показалась мне самой высокой и холодной женщиной на свете. Это был разговор с морозильным шкафом. Она спросила, что я увидел в ее поведении такого, что поощрило меня нанести ей подобное оскорбление. Я, конечно, понял, что любые оправдания с моей стороны повернут ее мысли в нужном направлении и выдадут Лору, поэтому я стоял со взъерошенными волосами и цилиндром в руке, являя собой, я уверен, зрелище из ряда вон выходящее. Она сама выглядела довольно забавно с палитрой в одной руке и кистью в другой – с выражением полнейшего изумления на лице. Я пробормотал что-то насчет того, что надеялся, что она не возражала, но это рассердило ее еще больше. «Единственно возможным объяснением вашему поведению, сэр, является ваше пребывание в нетрезвом состоянии, – заявила она. – Нет необходимости говорить, что мы не нуждаемся в услугах врача, находящегося в подобном состоянии». Я не пытался ее разубедить, поскольку сам не видел более подходящего объяснения, и отступил в крайне деморализованном состоянии. Тем же вечером она написала об этом моему отцу, и старик страшно разозлился. Что же до мамы, то она сохранила стальную твердость и была готова доказать, что бедная миссис Эндрюс – очень коварная особа, которая устроила ловушку невинному Джонни. Так что разразился грандиозный скандал, и ни одна живая душа не имеет ни малейшего представления о том, что все это значит, разве что ты, читающий это письмо.
Можешь себе вообразить, что случившееся не добавило легкости в мою жизнь, поскольку отец не может заставить себя меня простить. Конечно, его злость меня не удивляет. Я и сам бы так себя повел. Это выглядит как возмутительное оскорбление профессиональной этики и печальное пренебрежение его интересами. Если бы он знал правду, то понял бы, что это была всего лишь глупая и неуместная мальчишеская выходка. Однако всей правды он никогда не узнает.
Теперь у меня появился шанс найти себе дело. Сегодня вечером пришло письмо от «Кристи и Хоудена», пишущих в журнал «Сайнет», в котором говорится, что они хотят провести со мной собеседование по поводу дальнейшего трудоустройства. Мы представить не можем, что бы это значило, но я исполнен надежды. Завтра утром отправлюсь к ним и извещу тебя о результатах.
До свидания, мой дорогой Берти! Твоя жизнь течет спокойным потоком, а моя – извилистым ручьем. Однако буду рад подробно узнать о происходящем с тобой.
Письмо четвертое
Дома, 1 декабря 1881 года
Возможно, я к тебе несправедлив, Берти, но мне показалось, что в твоем последнем письме проскользнули намеки, что свободное выражение моих религиозных взглядов тебе не по вкусу. Я готов к тому, что ты со мной не согласишься, но то, что ты возражаешь против свободной и честной дискуссии о предметах, касательно которых все должны быть предельно честными, признаюсь, меня раздосадовало. Положение свободно мыслящего человека в обычном обществе неудобно тем, что высказывание мнения, отличного от общепринятого, будет расценено как проявление дурного вкуса, и подобные оценки никоим образом не мешают тем, с кем он не соглашается. Было время, когда требовалась храбрость, чтобы быть христианином. Теперь храбрость нужна, чтобы христианином не быть. Но если мы должны ходить с кляпом во рту и скрывать свои мысли, когда доверительно пишем самым близким… Нет, не верю. Мы с тобой, Берти, поверяли друг другу слишком много мыслей и гнались за ними, куда бы те ни бежали, так что напиши мне по-дружески и скажи, что я осел. Пока у меня не будет спокойной уверенности, я введу карантин на все, что могло бы тебя оскорбить.
Берти, разве безумие не поражает тебя как нечто жуткое? Это болезнь души. Подумать только, что человек может обладать благородным умом и быть полон высоких стремлений, и по какой-то весомой физической причине, например, из-за крохотного осколка черепа на мозговой оболочке, может превратиться в омерзительного безумца! Что личность человека меняется самым кардинальным образом и что одна жизнь должна вмещать в себя две противоречащих натуры – разве это не поразительно?
Я спрашиваю себя, а где же человек, где его глубинная сущность? Погляди, как много можно у него отнять, не трогая ее. Эта сущность не в конечностях, которые служат ему инструментами, не в желудочно-кишечном тракте, с помощью которого он переваривает пищу, не в легких, которыми он вдыхает кислород. Это всего лишь вспомогательные органы, рабы заключенного внутри хозяина. А где же он сам? Он не в чертах лица, которые выражают эмоции, не в глазах и ушах, без которых обходятся слепые и глухие. Он не костный каркас, являющийся лишь вешалкой, на которую природа навешивает плоть. Суть человека кроется не в этом. Что же остается? Беловатая масса с изгибами, похожая на медуз, которые плавают в наших морях летом, весом полтора килограмма, от которой отходит множество нервных волокон. Но эти волокна служат только для передачи нервных импульсов к мышцам и органам, служащим второстепенным целям. Поэтому их можно не принимать в расчет. В своих исключениях мы здесь не остановимся. Эта масса нервных волокон может быть урезана со всех сторон, прежде чем мы доберемся до вместилища души. Самоубийцы отстреливали фронтальные доли мозга и всю оставшуюся жизнь раскаивались в этом. Хирурги их иссекали и удаляли осколки. Большая часть материи этой служит для передачи функции движения и для восприятия информации от органов чувств. Это можно исключить, когда мы ищем физическое обиталище того, что называем душой – духовную сущность человека. Что же тогда остается? Сгусток органических веществ, нервные волокна, несколько десятков грамм ткани, но там, где-то там кроется неосязаемое семя, для которого все остальное тело служит лишь оболочкой. Древние философы, помещавшие душу в шишковидную железу, были неправы, но, в конечном счете, были необычайно близки к цели.
Ты увидишь, Берти, что моя физиология даже хуже, чем теология. У меня манера все тебе рассказывать задом наперед, что вполне естественно с учетом того, что я всегда сажусь писать под влиянием последних впечатлений. Весь этот разговор о душе и мозге возник просто оттого, что последние несколько недель я провел рядом с безумцем. А как это произошло, я расскажу тебе как можно яснее.
Ты помнишь, что в последнем письме я говорил, что стал тяготиться пребыванием в родном доме, и как моя идиотская выходка рассердила отца и сделала жизнь здесь малоудобной. По-моему, я упомянул, что получил письмо из адвокатской конторы «Кристи и Хоуден». Так вот, я почистил выходную шляпу, а мама встала на стул и пару раз заехала мне по уху щеткой, воображая, что воротник моего пальто будет выглядеть приличнее. С добрыми напутствиями я вышел в свет, а мама стояла на крыльце, смотрела мне вслед и махала рукой на удачу.
Так вот, меня немного трясло, когда я прибыл в контору, поскольку я гораздо более нервный человек, чем считают мои друзья. Однако меня сразу проводили к мистеру Джеймсу Кристи, худощавому, суровому господину с тонкими губами, резковатыми манерами и той шотландской точностью в выражениях, которая создает впечатление ясности мыслей.
– Со слов профессора Максвелла я понял, что вы ищете место, мистер Монро, – сказал он.
Максвелл говорил, что поможет мне, если сможет, однако ты помнишь, что он славится тем, что очень легко дает подобные обещания. Я говорю о нем то, что знаю, и для меня он всегда был чудесным другом.
– Я был бы очень рад узнать, что есть вакансия.
– О вашей медицинской квалификации говорить надобности нет, – продолжал мистер Кристи, обводя меня пытливым взглядом. – Ваша степень бакалавра медицины говорит сама за себя. Однако профессор Максвелл счел, что вы особенно подходите на это место ввиду ваших физических данных. Позвольте спросить, сколько вы весите?
– Восемьдесят девять килограмм.
– А рост у вас, полагаю, около метра восьмидесяти?
– Именно так.
– И, как я понимаю, вы привычны к различного рода физическим упражнениям. Что ж, тогда не может быть ни малейшего сомнения в том, что вы подходите на это место, и я буду рад рекомендовать вас лорду Салтайру.
– Вы запамятовали, – заметил я, – что я еще не услышал, что это за место и какие условия вы мне предложите.
Мистер Кристи рассмеялся.
– С моей стороны это было немного опрометчиво, – сказал он, – однако не думаю, что мы будем спорить касательно места или условий. Вы, возможно, слышали о невзгодах, постигших нашего клиента лорда Салтайра? Нет? Коротко говоря, его сын, достопочтенный Джеймс Дервент, единственный сын и наследник состояния, в июле прошлого года получил солнечный удар, когда рыбачил с непокрытой головой. После удара рассудок его так и не пришел в норму, и с тех пор он пребывает в состоянии хронической подавленности, иногда перемежаемом буйными припадками. Отец не позволяет, чтобы молодого человека вывезли из имения Лохталли-касл, и желает, чтобы за его сыном постоянно наблюдал врач. Ваша физическая сила придется, конечно, очень кстати для купирования припадков, о которых я сказал. Ваше вознаграждение составит двенадцать фунтов в месяц, и от вас требуется завтра же приступить к своим обязанностям.
Я шел домой, дорогой мой Берти, с колотящимся сердцем, а земля подпрыгивала у меня под ногами. В карманах я нашел всего восемь пенсов и потратил их на превосходную сигару, чтобы отпраздновать успех. Старина Каллингворт всегда был высокого мнения о сумасшедших для начинающих врачей. «Бери сумасшедшего, старина! Бери сумасшедшего!» – говаривал он. Но там открывалось не только место, но и связанные с ним перспективы. Казалось, я ясно видел, как разовьются события. В семье кто-то заболеет – возможно, лорд Салтайр или его жена. За врачом посылать времени не будет. Обратятся ко мне. Я завоюю их доверие и стану семейным врачом. Они порекомендуют меня своим богатым друзьям. Это казалось очень возможным. Подходя к дому, я раздумывал, стоит ли отказываться от доходной практики в провинции ради профессорской должности, которую мне могут предложить.
Отец воспринял это известие достаточно философски, саркастически заметив, что мой пациент и я друг друга стоим и составим прекрасную компанию. Мама же пришла в бурный восторг, который сменился ужасом. У меня было всего три нижних рубашки, мое лучшее белье отправили в Белфаст для подшивки и починки, ночные рубашки были без меток – возникла дюжина бытовых затруднений, о которых мужчины и не задумываются. Жуткий образ леди Салтайр, осматривающей мои вещи и обнаружившей носок без пятки, преследовал маму. Мы с ней выбрались в город, и к вечеру душа ее успокоилась, а я заложил свою первую месячную зарплату. Когда мы шли домой, она восторгалась людьми, у которых мне предстояло служить.
– Собственно говоря, – сказала она, – они в каком-то смысле тебе родственники. Ты в очень близком родстве с Перси, а у Салтайров много крови Перси. Они всего лишь младшая линия, а ты относишься к старшей, но это не повод для нас отрицать родство.
Меня бросило в холодный пот, когда мама предложила облегчить мне жизнь и написать лорду Салтайру, объяснив наше положение. Вечером я несколько раз слышал, как она благодушно бормотала, что они всего лишь младшая линия.
Я не очень нудно рассказываю? Однако ты сам это поощряешь своим искренним интересом к подробностям. Теперь я начну излагать побыстрее. На следующее утро я отправился в Лохталли, который, как ты знаешь, располагается в северном Пертшире. Имение стоит в четырех с половиной километрах от станции. Это огромное серое здание с увенчанными шпилями башнями, которые возвышаются над хвойным лесом, словно торчащие из травы заячьи уши. Подъезжая к воротам, я чувствовал себя довольно печально, вовсе не так, как должно представителю старшей линии, когда тот снисходит до визита к младшей линии. Когда я вошел, в зале появился мрачный ученого вида мужчина, которому я по нервозности собрался было сердечно пожать руку. К счастью, он упредил надвигавшиеся объятия, сказав, что он дворецкий. Он проводил меня в небольшой кабинет, где сильно пахло мебельным лаком и выделанным сафьяном, чтобы там ждать великого человека. Когда лорд Салтайр вошел, то оказался не такой внушительной фигурой, как дворецкий, и как только он открыл рот, я сразу почувствовал облегчение. Передо мной был седовласый, краснолицый мужчина с острыми чертами лица, с пытливым, но добродушным взглядом, очень приземленный и слегка вульгарный. Однако его жена, которой меня представили чуть позже – в высшей степени унылая особа: бледная, холодная, с продолговатым лицом, припухшими веками и сильно выступающими синими жилками на висках. Она меня снова будто бы заморозила, когда я оттаял под влиянием личности ее мужа. Однако мне больше всего хотелось увидеть своего пациента, в чью комнату меня проводил лорд Салтайр после того, как мы выпили чаю.
Комната, большая и почти пустая, располагалась в конце длинного коридора. У двери сидел лакей, призванный заменить врача во время смены докторов, при моем появлении на лице его отразилось явное облегчение. У окна, снабженного деревянной решеткой, как в детской, сидел высокий светловолосый и светлоусый молодой человек, который поднял на меня изумленные голубые глаза, когда мы вошли. Он листал страницы переплетенного экземпляра «Лондонских иллюстрированных новостей».
– Джеймс, – сказал лорд Салтайр, – это доктор Старк Монро, который приехал ухаживать за тобой.
Мой пациент пробормотал себе в бороду что-то, показавшееся мне подозрительно похожим на «к черту доктора Старка Монро». Пэр явно подумал то же самое, поскольку взял меня под локоть и отвел в сторону.
– Не знаю, сказали ли вам, что Джеймс немного грубоват в общении. Характер у него сильно испортился после приключившегося с ним несчастья. Вам не следует обижаться на то, что он может сказать или сделать.
– Никоим образом, – ответил я.
– К этому недугу есть склонность среди родни моей жены, – прошептал лорд. – У ее дяди симптомы были точно такие же. Доктор Петерсон говорит, что солнечный удар был лишь внешним фактором. Предрасположенность уже существовала. Должен сказать, что слуга всегда будет находиться в соседней комнате, так что можете его позвать, если понадобится помощь.
Ну вот, лорд и лакей ушли, и я остался наедине с пациентом. Я решил, что надо сразу же установить с ним дружеские отношения, поэтому пододвинул стул к его дивану и задал ему несколько вопросов касательно его здоровья и привычек. В ответ я не получил ни слова. Он сидел надутый, как осел, с усмешкой на красивом лице, из которой я заключил, что он все слышал. Я пытался и так, и сяк, но не смог выжать из него ни звука. Наконец, я отвернулся от него и принялся листать лежавшие на столе иллюстрированные журналы. Похоже, он их не читал, а лишь рассматривал картинки. Так вот, я сидел вполоборота к нему, и вообрази мое удивление, когда почувствовал легкие прикосновения и увидел, как огромная загорелая рука пытается залезть ко мне в карман. Я схватил ее за запястье и быстро развернулся, но было уже поздно: платок был вытащен из кармана и исчез за спиной достопочтенного Джеймса Дервента, который сидел и скалил зубы, как шаловливая обезьянка.
– Слушайте, он может мне понадобиться, – сказал я, стараясь обратить все в шутку.
Мой пациент ответил в выражениях, которые следует высекать на камне. Я понял, что он не собирается отдавать мне платок, но решил не позволить ему взять надо мной верх. Я схватил платок, а он вцепился мне в ладонь обеими руками. Хватка у него была сильная, но мне удалось вцепиться ему в запястье и вывернуть его, пока он с воплем не выпустил платок из пальцев.
– Как смешно, – проговорил я, делая вид, что смеюсь. – Давайте еще разок. Возьмите платок, и посмотрим, смогу ли я снова его отнять.
Но эта игра его уже не интересовала. Однако настроение его вроде бы немного улучшилось, и я получил несколько коротких ответов на заданные мною вопросы.
И вот здесь произошло то, что побудило меня заговорить о безумии в начале письма. Вот это удивительно! Этот человек, насколько я смог его узнать, внезапно перешел из одной крайности в другую. Каждый из его плюсов моментально превратился в минус. Это оказался совершенно другой человек, находящийся в телесной оболочке первого. Мне говорят, что он (заметь, всего несколько месяцев назад) отличался разборчивостью в одежде и в речах. А теперь он грубиян и сквернослов! У него был тонкий литературный вкус. А теперь он непонимающе таращится на тебя, если ты заговоришь о Шекспире. Но самое странное заключается в том, что он был радикальным консерватором по своим убеждениям. Теперь же он придерживается самых что ни на есть демократических взглядов, причем высказывает их в очень агрессивной манере. Когда я, наконец, немного с ним сблизился, то обнаружил, что легче всего завести с ним разговор о политике. В сущности, должен сказать, что, по-моему, его новые взгляды куда разумнее старых, но безумие его заключается во внезапных беспричинных переменах поведения и резких словесных излияниях.
Однако прошло несколько недель, прежде чем я завоевал доверие Джеймса настолько, что смог завязать с ним внятный разговор. Он долгое время был мрачен и подозрителен, противясь моему постоянному наблюдению за ним. От наблюдения я отказаться не мог, поскольку он был горазд на самые глупые выходки. Однажды он завладел моим кисетом и засунул почти сто граммов табака в длинный ствол висевшего на стене охотничьего ружья. Он забил табак шомполом, и я так и не смог оттуда его достать. В другой раз он выбросил в окно глиняную плевательницу, за которой последовали бы часы, не останови я его. Каждый день я выводил его на двухчасовую прогулку, если не было дождя, а после мы добросовестно прохаживались по комнате. Да, тоскливая у меня была жизнь.
Я должен был неотлучно находиться с ним весь день, кроме двухчасового перерыва после обеда и вечера пятницы, когда у меня был выходной. Но что толку в этом выходном вечере, если рядом не было города, а у меня не было друзей, к которым я мог бы зайти? Я довольно много читал, поскольку лорд Салтайр разрешил пользоваться его библиотекой. Историк Гиббон подарил мне пару восхитительных недель. Ты сам знаешь, какое воздействие он производит. Ты вроде как спокойно плывешь на облаке, взирая на крохотные армии и флоты, а рядом с тобой все время мудрый наставник шепотом разъясняет тебе смысл величественной панорамы.
Молодой Дервент то и дело вносил игривое разнообразие в мою скучную жизнь. Однажды он внезапно схватил лежавшую на газоне лопату и кинулся в сторону безобидного подручного садовника. Тот с воплями бросился бежать, мой пациент с проклятиями ринулся вдогонку, а я за ним. Когда я, наконец, ухватил его за воротник, он бросил лопату и разразился визгливым смехом. Это была шалость, а не вспышка ярости, но когда подручный садовника после этого случая видел нас идущими в его сторону, то убегал с землисто-бледным лицом. По ночам на раскладушке в ногах кровати моего пациента спал слуга, а моя комната располагалась рядом, чтобы в случае необходимости меня позвали. Да, жизнь у меня была невеселая!
Когда не было гостей, мы садились за стол вместе с хозяевами, составляя довольно курьезный квартет: Джимми (он просил меня так его называть), хмурый и молчаливый, я, всегда краем глаза следящий за ним, леди Салтайр с припухшими веками и синими жилками на висках и добродушный лорд, шумный и жизнерадостный, но всегда довольно сдержанный в присутствии жены. Она выглядела так, словно ей не помешал бы бокал доброго вина, а он – словно воздержание пошло бы ему на пользу, поэтому согласно обычной несбалансированности жизни он пил в свое удовольствие, а она тянула лишь воду с соком лайма. Ты представить себе не можешь более невежественной, нетерпимой и ограниченной женщины. Если бы она молчала и этим скрывала свой недалекий умишко, то все бы ничего, но ее желчной и раздражительной болтовне не было конца. К чему она стремилась, кроме как передавать болезни из поколения в поколение? Со всех сторон ее окружало безумие. Я твердо решил избегать любых споров с ней, но она женским чутьем чувствовала, что мы совершенно разные, как два полюса, и получала удовольствие оттого, что размахивала передо мной красной тряпкой. Однажды она распиналась о преступлении священника епископальной церкви, который провел службу в пресвитерианской церкви. Похоже, ее отслужил местный священник, и если бы он был замечен в кабаке, она не говорила бы об этом с большим осуждением. Полагаю, что я управлял глазами хуже, чем языком, поскольку она вдруг обратилась ко мне со словами:
– Вижу, что вы со мной не согласны, доктор Монро.
Я тихо ответил, что не согласен, и попытался переменить тему, но ее было трудно сбить с толку.
– Почему же, позвольте спросить?
Я объяснил, что, по моему мнению, современная тенденция состоит в том, чтобы покончить с ненужными и смешными догматическими спорами, которые так долго ставили людей в тупик. Еще я добавил, что лелею надежду, что настанет время, когда все люди доброй воли выбросят эту чепуху за борт и возьмутся за руки.
Она привстала, почти онемев от негодования.
– Полагаю, – проговорила она, – что вы из тех, кто хочет отделить церковь от государства?
– Вне всякого сомнения, – ответил я.
Она выпрямилась, охваченная холодной яростью, и вылетела из комнаты. Джимми захихикал, а его отец стушевался.
– Прошу прощения, если мое мнение задевает леди Салтайр, – заметил я.
– Да-да, очень жаль, очень жаль, – сказал лорд. – Ну что ж, мы должны говорить, что думаем, однако очень жаль, что вы так думаете, очень…
Я после этого случая ожидал увольнения, и этот инцидент действительно косвенно стал его причиной. С того дня леди Салтайр сделалась со мной невероятно грубой и не упускала возможности подвергать нападкам мои предполагаемые взгляды. Я на это не обращал ни малейшего внимания, но в один ужасный день она прямиком ополчилась на меня, и ускользнуть не представлялось возможным. Это было в конце обеда, когда лакей вышел из комнаты. Она говорила о поездке лорда Салтайра в Лондон для голосования по какому-то вопросу в Палате лордов.
– Возможно, доктор Монро, – едко обратилась она ко мне, – этому институту также не посчастливилось заслужить ваше одобрение?
– Леди Салтайр, я предпочел бы не обсуждать этот вопрос, – ответил я.
– О, вы могли бы иметь мужество высказать свои убеждения, – заявила она. – Поскольку вы желаете разорить англиканскую церковь, вполне естественно, что вы также хотите ниспровергнуть законное государственное устройство. Я слышала, что любой атеист – всегда красный республиканец.
Лорд Салтайр поднялся, желая, вне всякого сомнения, прекратить этот разговор. Мы с Джимми тоже встали, и я вдруг увидел, что вместо того, чтобы направиться к двери, он пошел к матери. Зная его уловки, я взял его под руку и попытался увести. Однако она это заметила и вмешалась.
– Ты хотел поговорить со мной, Джеймс?
– Хочу кое-что сказать тебе на ухо, мама.
– Прошу вас, не волнуйтесь, сэр, – сказал я, пытаясь удержать его.
Леди Салтайр вскинула свои аристократические брови.
– Думаю, доктор Монро, что вы злоупотребляете своими полномочиями, вмешиваясь в отношения матери с сыном, – заявила она. – Что случилось, мой бедный мальчик?
Джимми нагнулся и что-то прошептал ей на ухо. Ее бледное лицо залилось краской, и она отпрянула от него, словно он ее ударил. Джимми захихикал.
– Это ваши штучки, доктор Монро! – в ярости вскричала она. – Вы развратили разум моего сына и подбили его на оскорбление родной матери.
– Дорогая, дорогая! – успокаивающе воскликнул ее муж, а я тихонько увел упирающегося Джимми наверх. Я спросил, что он такого сказал матери, но в ответ получил лишь смешки.
У меня было предчувствие, что на том история не закончится, и оно меня не обмануло. Вечером лорд Салтайр вызвал меня к себе в кабинет.
– Дело в том, доктор, – произнес он, – что леди Салтайр чрезвычайно раздосадована и огорчена происшедшим сегодня за обедом. Вы, конечно же, представляете, что подобное выражение, высказанное ей родным сыном, потрясло ее сильнее, чем я могу выразить.
– Уверяю вас, лорд Салтайр, – ответил я, – что я не имею ни малейшего понятия, что мой пациент сказал леди Салтайр.
– Ну, – проговорил лорд, – не вдаваясь в подробности, могу сказать, что он прошептал ей выраженное в самой грубой форме оскорбительное пожелание касательно будущего верхней палаты парламента, в которой я имею честь заседать.
– Очень сожалею, – сказал я, – и заверяю вас, что я никогда не поощрял в нем крайних политических взглядов, которые мне представляются симптомами его заболевания.
– Совершенно убежден в правоте ваших слов, – ответил лорд, – однако леди Салтайр, к несчастью, придерживается мнения, что это вы внушили ему подобные идеи. Вы знаете, как иногда бывает трудно урезонить женщину. Однако я не сомневаюсь, что инцидент можно загладить, если вы отправитесь к леди Салтайр и заверите ее, что она неверно истолковала ваши взгляды по этому вопросу, и что вы лично поддерживаете наследственность членства в Палате лордов.
Я оказался загнанным в угол, Берти, но тотчас же принял решение. С самых первых слов я прочел в его маленьких глазках решимость уволить меня.
– Боюсь, – ответил я, – что не готов зайти столь далеко. Полагаю, что поскольку вот уже несколько недель между мною и леди Салтайр существуют трения, то мне, возможно, будет лучше всего отказаться от выполнения обязанностей в вашем доме. Однако буду счастлив оставаться здесь, пока вы не найдете мне замену.
– Что ж, мне очень жаль, что до этого дошло, однако может быть, вы правы, – с облегчением проговорил он. – Что же до Джеймса, то тут трудностей не предвидится, поскольку доктор Паттерсон сможет прибыть завтра утром.
– Тогда я остаюсь до завтрашнего утра, – ответил я.
– Очень хорошо, доктор Монро, я распоряжусь, чтобы вы получили чек до отъезда.
На том и кончились мои сладкие мечты о практике среди аристократов и сияющих перспективах. Полагаю, что единственным человеком, сожалевшим о моем отъезде, был Джимми, который был потрясен этим известием. Однако горе не помешало ему наутро расчесать мой новенький цилиндр против ворса. Я не заметил этого, пока не доехал до станции, и при отъезде, наверное, выглядел просто убийственно.
Вот так закончилась история моего провала. Я, как ты знаешь, подвержен фатализму и не верю в существование такой вещи, как случай, поэтому склонен думать, что этот опыт был мне преподан с какой-то целью. Возможно, как преддверие большой гонки. Мама была раздосадована, но старалась этого не показывать. Отец воспринял все это дело с некоторым сарказмом. Боюсь, что непонимание между нами растет. Кстати, от Каллингворта пришла потрясающая открытка. «Я выбрал тебя, – пишет он. – Имей в виду, я должен тебя вызвать, когда будет нужно». На открытке не было ни даты, ни обратного адреса, но на штемпеле значится Брэдфилд, что на севере Англии. Это ничего не значит? Или значит все на свете? Поживем – увидим.
До свидания, старина. Столь же подробно пиши мне о своих делах. Как закончилась история с Рэттреем?
Письмо пятое
Мертон-он-Мурс, 5 марта 1882 года
Я был в полном восторге, дружище, получив твое заверение, что ровным счетом ничего из того, что я сказал или мог сказать о религии, тебя не задело. Трудно передать, какое удовольствие и облегчение доставило мне твое душевное письмо. Мне больше не с кем поговорить на эти темы. Я загнан внутрь себя, и мысль обедняется, когда позволяешь ей вот так застаиваться. Как же хорошо все высказать сочувственному слушателю, тем более, возможно, тогда, когда он придерживается другого мнения. Это успокаивает и отрезвляет.
Те, кого я больше всего люблю, меньше всего сочувствуют моим усилиям и трудностям. Они говорят о том, что надо иметь веру, словно этого можно достичь одним усилием воли. С тем же успехом они могли бы говорить мне, что я должен быть брюнетом, а не рыжим. Возможно, я мог бы создать видимость этого, отказавшись от обсуждения всех религиозных вопросов. Но я никогда не предам высшее благо, дарованное мне Богом. Я буду им пользоваться. Куда более морально пользоваться им и ошибаться, чем от него отказаться и быть правым. Это всего лишь складная линейка, а мне нужно измерить ею Эверест, но она все, что у меня есть, и я от этого никогда не откажусь, пока дышу.
При всем уважении к тебе скажу, что очень легко быть ортодоксом. Человек, жаждущий морального спокойствия и материальных благ, конечно же, выберет эту стезю. Как говорит Смайлз: «Мертвая рыба может плыть по течению, но надо быть человеком, чтобы плыть против него». Что может быть благороднее начала христианства и его основателя? Как прекрасно стремление вверх некой идеи, похожей на дивный цветок среди валунов и пепла! Что это мировоззрение превосходит рассудок! Что этот смиренный философ был высшим разумом, которого мы не можем представить личностью, не проявив при этом неуважения! Все это станет на одну доску с самыми нелепыми заблуждениями человечества. И потом – насколько окуталась тучами дивная заря христианства! Его представители вознеслись из стойла в дворцы, из рыбацкой лодки в Палату лордов. В не менее несуразном положении находится и властитель Ватикана с его сокровищницами искусств, гвардией и винными погребами. Все они добрые и талантливые люди, и среди умов, возможно, заслуживают того, что получают. Но как они могут выставлять себя представителями веры, которая, как они сами утверждают, основывается на покорности, бедности и самоотвержении? Все они с одобрением цитируют притчу о госте на брачном пиру. Но попытайся изменить положение хоть одного из них на приеме при дворе. Недавно это произошло с кардиналом, и его негодование разнеслось по всей Англии. Нужно быть слепцом, чтобы не видеть, как они станут стремиться к первому месту, если решительно начнут заявлять, что они последние в перечне своего властелина!
Что мы можем знать? Что такое мы все? Бедные и глупые недоумки, пялящиеся на бесконечность, с устремлениями ангелов и инстинктами зверей. Но с нами, конечно же, все будет хорошо. Если же нет, то Создатель наш есть зло, о чем и помыслить нельзя. Поэтому с нами, конечно же, все будет очень хорошо!
Мне стыдно, когда я все это перечитываю. Мой разум проникает во все цепочки мыслей, откуда в беспорядке торчат непонятные хвосты. Понимай это, как хочешь, Берти, и верь, что все это исходит из моего искреннего сердца. Меньше всего мне хочется стать ярым апологетом и смягчать правду, дабы поддержать общее дело. Пусть я буду держаться за ее повод, а она поведет меня туда, куда ей угодно, и пусть она время от времени ко мне поворачивается, чтобы я мог узнать ее в лицо.
Из адреса на конверте ты увидишь, Берти, что я уехал из Шотландии и сейчас нахожусь в Йоркшире. Я пробыл тут три месяца и теперь собираюсь уезжать при самых странных обстоятельствах и с самыми необычными перспективами. Старина Каллингворт добился успеха, во что я всегда верил. Однако я, как всегда, начинаю не с того конца, так что сейчас изложу тебе, что же происходит.
В последнем письме я рассказал тебе о своем приключении с безумцем и о позорном возвращении из Лохталли-касл. Когда я расплатился за фланелевые жилеты, которые так расточительно заказала мама, у меня от всего жалования осталось всего пять фунтов. На них, на первые заработанные мною деньги (вот так!) я купил ей золотой браслет, так что представь меня в моем привычном безденежном состоянии. Что ж, я хоть почувствовал, что по-настоящему заработал деньги, и это придало мне уверенности, что я снова смогу их заработать.
Я пробыл дома всего несколько дней, когда отец после завтрака позвал меня к себе в кабинет для серьезного разговора о нашем финансовом положении. Он начал с того, что расстегнул жилет и попросил меня прослушать его под пятым ребром в пяти сантиметрах от левой грудинной линии. Я прослушал и был поражен ярко выраженным посторонним шумом, указывающим на регуртигацию митрального клапана.
– Это старая история, – сказал он, – но совсем недавно я заметил отечность вокруг лодыжек и почечные симптомы, которые говорят, что состояние ухудшается.
Я попытался было выразить озабоченность и сочувствие, но он довольно грубо оборвал меня.
– Дело в том, – продолжал он, – что ни одна страховая компания не возьмется застраховать мою жизнь и что из-за конкуренции и возрастающих расходов я не смог ничего отложить. Если я скоро умру (что, между нами говоря, очень даже вероятно), то оставлю на тебя заботу о матери и детях. Моя практика в такой степени личная, что я не надеюсь тебе ее передать, дабы на доходы от нее можно было прожить.
Я вспомнил совет Каллингворта ехать туда, где тебя никто не знает.
– Думаю, – ответил я, – что у меня будет больше шансов где-нибудь далеко отсюда.
– Тогда тебе нельзя терять времени, чтобы обустроиться, – сказал отец. – На твои плечи ляжет огромная ответственность, случись что-нибудь со мной прямо сейчас. Я надеялся, что ты найдешь превосходное место у Салтайров, но боюсь, что тебе едва ли можно ожидать успехов в свете, мой мальчик, если ты станешь оскорблять религиозные чувства и политические взгляды работодателя у него же за столом.
Было не время спорить, так что я промолчал. Отец взял со стола журнал «Ланцет» и показал мне объявление, обведенное синим карандашом.
– Прочти, – велел он.
Когда я пишу эти строки, оно лежит передо мной. В нем написано: «Срочно нужен дипломированный ассистент для практики в провинциальном шахтерском городе. Обязательно глубокое знание акушерства и фармакологии. Работа разъездная. 70 фунтов в год. Обращаться к доктору Хортону, Мертон-он-Мурс, Йоркшир».
– Там тебе может повезти, – сказал отец. – Я знаю Хортона и убежден, что смогу договориться о месте для тебя. По крайней мере, ты получишь возможность осмотреться и увидеть, можно ли там будет устроиться. Как думаешь, подойдет тебе такой вариант?
Разумеется, я мог ответить лишь одно, что хочу взяться за любое дело. Но от этого разговора у меня осталось неприятное ощущение непреходящей подавленности, которая не исчезала, даже когда я и думать забыл о ее причине.
У меня было достаточно опыта, чтобы воспринять все серьезно, когда выходишь в мир без денег или интереса. Но подумать о том, что мама, сестренки и малыш Пол станут от меня зависеть, когда я сам на ногах не стоял – это кошмар. Может ли в жизни быть что-то ужаснее, чем видеть, что все, кого ты любишь, ждут от тебя помощи, а ты не можешь им помочь? Но, возможно, до этого не дойдет. Возможно, отец проработает еще несколько лет. Что бы ни случилось, я склонен думать, что все к лучшему, хотя когда хорошее далеко, а мы близоруки и не видим дальше собственного носа, нужна вера в общие постулаты, чтобы пройти сквозь испытания.
Все было решено, и я отправился в Йоркшир. Я выехал не в лучшем расположении духа, Берти, но по мере приближения к пункту назначения настроение мое сделалось еще хуже. Как люди могут жить в таких местах – за гранью моего понимания. Что жизнь может предложить как компенсацию за уродование лика Природы? Никаких лесов, почти нет травы, дымящие трубы, аспидного цвета ручьи, пологие холмы из коксового шлака и окалины, над которыми возвышаются огромные колеса и насосные станции. Усыпанные золой и пеплом дороги, потемневшие, будто запачканные усталыми шахтерами, работающими рядом с ними, и эти дороги ведут сквозь истощенные поля к рядам грязных от дыма домишек. Как молодой неженатый мужчина может согласиться на работу здесь, когда есть пустующий гамак в военном флоте или каюта на торговом корабле? Сколько шиллингов в неделю стоит океанский воздух? Мне кажется, что если бы я был бедняком… Нет, честное слово, это «если» звучит довольно смешно, когда я думаю, что обитатели этих закопченных домишек получают вдвое больше моего, а расходы их вдвое меньше моих.
Так вот, как я сказал, настроение мое становилось все хуже, пока не достигло низшей точки, когда я в сгущавшихся сумерках при свете фонарей прочел надпись «Мертон» на вывеске унылой и скучной станции. Я вышел и встал рядом с сундучком и шляпной коробкой в ожидании носильщика, когда ко мне с веселым видом подошел мужчина и спросил, не я ли доктор Старк Монро.
– Я Хортон, – добавил он, и мы обменялись крепким рукопожатием.
В этом унылом местечке его появление было для меня, как огонь морозной ночью. Он был довольно пестро одет: клетчатые брюки, белый жилет и цветок в петлице, но его внешность пришлась мне очень по душе. Это был краснощекий мужчина, темноглазый, с кряжистой фигурой и честной, открытой улыбкой. Когда мы пожали друг другу руки на окутанной туманом мрачной станции, я почувствовал, что встретил настоящего человека и друга.
Его коляска ждала неподалеку, и мы поехали к нему домой в Миртл, где я быстро познакомился с его семьей и увидел его практику. Семья была невелика, а вот практика – огромна. Жена его умерла, но теща, миссис Уайт, вела все домашнее хозяйство, у него были две маленькие дочери пяти и семи лет. Наличествовал также недипломированный помощник, молодой студент-ирландец, который вместе с тремя служанками, кучером и конюхом составляли всех домочадцев. Когда я говорю тебе, что мы выжимали из четверых лошадей все, на что те были способны, то можешь представить, какую территорию мы объезжали.
Дом, большое квадратное кирпичное здание с собственным участком, стоит на небольшом холме посреди оазиса из зеленых полей. Однако за его пределами над землей со всех сторон висят облака дыма, рассекаемые шахтными насосными станциями и трубами. Праздному человеку это место представится ужасным, но все так заняты, что нет времени задуматься, приятные здесь виды или нет.
Мы работаем день и ночь, однако эти три месяца выдались такими, что их приятно вспомнить.
Обрисую, как выглядит наш рабочий день. Завтракаем мы примерно в девять утра, после чего сразу же начинается утренний прием. Многие пациенты – люди очень бедные, состоят в шахтерских клубах. Принцип там такой: члены платят полпенса в неделю круглый год, здоровы они или больны, а взамен в случае нужды бесплатно получают медицинскую помощь и лекарства. «Невелика завлекаловка для врачей», – скажешь ты, однако поражает, какая конкуренция царит среди них ради этой практики. Видишь ли, она, во-первых, обеспечивает гарантированный доход, а во-вторых, косвенно влечет за собой другие преимущества. К тому же клубы постоянно расширяются. Не сомневаюсь, что Хортон имеет в год пятьсот или шестьсот фунтов только от этих клубов. С другой стороны, ты можешь себе представить, что клубные пациенты, поскольку они все равно платят, не запускают болячки, прежде чем оказываются в приемной у врача.
Так вот, в половине десятого мы работаем на полном ходу. Хортон принимает больных побогаче у себя в кабинете, я беседую с больными победнее в приемной, а ирландец Маккарти с максимально высокой скоростью выписывает рецепты. По клубным правилам больные должны приносить свои бутылочки и пробки.
Про бутылочки они, как правило, помнят, но всегда забывают про пробки. «Платите пенни или затыкайте пальцем», – говорит Маккарти. Больные верят, что лекарство теряет силу, если бутылочка открыта, так что уходят, заткнув горлышки пальцами. «Лекарство такое крепкое, что в нем прямо ложка стоит», – сказал один больной. Больше всего им нравится заполучить две бутылочки – одну с лимонной кислотой, другую с карбонатом натрия. Когда смесь начинает пениться, они понимают, что воочию видят медицину как науку.
Такая работа вместе с прививками, перевязками и небольшими операциями продолжается приблизительно до одиннадцати часов, когда мы собираемся в кабинете Хортона, чтобы составить список. Имена всех наблюдаемых больных пришпилены к большой доске. Мы садимся в кружок, раскрыв блокноты, и распределяем между собой вызовы. К половине двенадцатого все расписаны, и лошади готовы. Потом мы все буквально разлетаемся по вызовам: Хортон в повозке с парой лошадей к тем, кто побогаче, я в двуколке к тем, кто победнее, а Маккарти на своих двоих к хроникам, которым дипломированный врач не поможет, а не дипломированный – не навредит.
Так мы снова погружаемся в работу до двух часов, когда приезжаем пообедать. Мы можем как закончить, так и не закончить поход по вызовам. Если нет, то продолжаем ходить, если да, то Хортон диктует назначения, а потом, зажав во рту черную глиняную трубку, отправляется прилечь. Он самый заядлый курильщик из всех, кого мне доводилось встречать, собирающий по вечерам недокуренный табак и докуривающий его на следующее утро у конюшни перед завтраком. Когда доктор удаляется вздремнуть, мы с Маккарти занимаемся лекарствами. Нужно наполнить таблетками, мазями и прочим примерно пятьдесят бутылочек. После половины пятого мы расставляем их на полке с указанием имени пациента. Затем мы примерно час отдыхаем, курим, читаем или боксируем с кучером в комнате для упряжи. После чая начинается вечерний прием. С шести до девяти люди приходят за лекарствами, а новые больные – на консультацию. Управившись с ними, нам снова приходится идти по тяжелым больным, которые могут оказаться в списке. К десяти часам можно надеяться на возможность снова покурить и, быть может, поиграть в карты. Редко выдается ночь, когда не приходится отправляться на вызов, который может занять два часа, а иногда и десять. Как видишь, работаем мы много, но Хортон такой хороший человек и сам так усердно трудится, что мы не возражаем. Мы словно монастырская братия, всегда болтаем или смеемся, больные чувствуют себя, как дома, так что работа становится для всех нас удовольствием.
Да, Хортон очень хороший человек. У него доброе, отзывчивое и великодушное сердце. В нем нет ничего мелочного. Он любит видеть вокруг себя счастливые лица, и его плотная фигура и веселое красноватое лицо делает людей счастливыми. Это врачеватель от природы, он озаряет светом комнату больного, как озарил им станцию Мертон, когда я впервые его увидел. Однако из моего описания не стоит делать вывод, что он мягкотелый. Нет на земле человека, на кого он не смог бы обрушиться. По характеру он очень вспыльчивый и такой же отходчивый. Ошибка в рецептуре может взорвать его, он вихрем влетает в кабинет, красный, как рак, с распушенными бакенбардами и злыми глазами. Учетная книга грохает об стол, бутылочки звякают, затем он вылетает вон, хлопая дверьми. По этим хлопкам мы определяем, в плохом ли он настроении. Возможно, все оттого, что Маккарти пометил микстуру от кашля как раствор для промывания глаз или же послал пустую таблетницу с указанием принимать по одной пилюле каждые четыре часа. В любом случае буря налетает и проходит, и к обеду все успокаивается.
Я сказал, что больные чувствуют себя у нас, как дома. Любой получивший взбучку может прийти сюда, чтобы успокоиться. Признаюсь, я не сразу к этому привык. Когда во время одного из моих первых утренних приемов клубный больной с бутылочкой под мышкой спросил меня, не слуга ли я доктора, я отправил его к конюху на конюшню. Но потом постепенно начинаешь понимать юмор. Тебя не хотят обидеть, так зачем же дуться? Вокруг добрые и душевные люди, они в общем и целом не проявляют уважения к твоей профессии и ущемляют твое достоинство, но если ты сможешь завоевать их уважение, то они будут с тобой открыты и честны. Мне нравится пожатие их потемневших и заскорузлых рук.
Другая особенность этого района состоит в том, что многие из промышленников и владельцев шахт поднялись из простых рабочих и (по крайней мере, некоторые) сохранили прежние привычки и даже одежду. На днях у миссис Уайт, тещи Хортона, ужасно разболелась голова, а поскольку мы все очень любим эту добрую пожилую даму, то старались вести себя на первом этаже как можно тише. И вдруг раздался страшный стук дверной колотушки, через мгновение послышался жуткий грохот, словно привязанный осел пытался вышибить дверь. После всех наших стараний соблюдать тишину это очень раздражало. Я бросился к двери и увидел там потасканного субъекта, занесшего руку, чтобы обрушить на дверь очередную серию ударов.
– Да что случилось-то? – спросил я, возможно, немного обозленно.
– Челюсть болит, – ответил он.
– Не надо так шуметь, – заметил я. – Кроме вас и другие болеют.
– Если я плачу деньги, молодой человек, то шумлю, как хочу.
И он хладнокровно снова начал колотить в дверь. Он бы целое утро в нее дубасил, если бы я не провел его по дорожке и не выставил на улицу. Через час в кабинет влетел Хортон, хлопая за собою дверьми.
– Что там случилось с мистером Эшером, Монро? – спросил он. – Он заявляет, что вы обошлись с ним крайне грубо.
– Клубный пациент барабанил в дверь, – ответил я. – Я боялся, что он потревожит миссис Уайт, и заставил его уняться.
В глазах Хортона мелькнули веселые искорки.
– Мой мальчик, – произнес он, – этот клубный пациент, как вы его называете, самый богатый человек в Мертоне и приносит мне сто фунтов в год.
Не сомневаюсь, что он умилостивил посетителя какой-то историей о моем свинстве и деградации, но больше я об этом деле ничего не слышал.
Жизнь у меня тут неплохая, Берти. Она близко свела меня с рабочим классом и заставила осознать, какие они хорошие люди. Если один пьяница субботним вечером возвращается домой, горланя во все горло, мы склонны не обращать внимания на то, что девяносто девять человек чинно сидят у своих очагов. Больше такой ошибки я не допущу. Доброта бедняков друг к другу заставляет человека устыдиться. А их кроткое терпение! Будь уверен, если и происходит народное восстание, то вызвавшие его несправедливости должны быть чудовищны и непростительны. Думаю, эксцессы Французской революции ужасны сами по себе, но они становятся еще ужаснее, поскольку указывают на многие столетия нищеты, выражением безумного протеста против которой они явились. А мудрость бедняков! Забавно читать рассуждения бойкого газетчика о невежестве масс. Они не знают, когда была принята Великая хартия вольностей или на ком был женат Джон Гонт, но поставь перед ними практическую задачу, и увидишь, что они безошибочно примут верное решение. Разве не они провели билль о реформах, несмотря на противодействие большинства так называемых просвещенных классов? Разве не они поддерживали Север в борьбе с Югом, когда почти все наши лидеры ошибались? Когда третейский суд принял решение об ограничении торговли спиртным и сокращении его оборота, разве это произошло не под давлением простого люда? Они смотрят на жизнь более ясным и несебялюбивым взглядом. По-моему, это аксиома – если хочешь сделать народ мудрее, отбери у него побольше льгот.
Меня часто мучают сомнения, Берти, существует ли в природе зло? Если бы мы могли честно себя убедить, что его нет, это бы очень помогло нам в создании разумной религии. Но не надо скрипеть зубами даже ради такой цели, как эта. Должен признаться, что существуют некоторые формы порока, например, жестокость, которым трудно найти объяснение, кроме разве того, что это выродившийся пережиток воинствующей свирепости, которая когда-то помогала в защите общества. Нет, позволь мне быть откровенным и сказать, что я не могу втиснуть жестокость в свою схему. Но когда обнаруживаешь, что другие формы зла, на первый взгляд кажущиеся весьма темными, на самом деле служат на благо человечества, то можно надеяться, что те, которые продолжают ставить нас в тупик, могут, наконец, служить той же цели, но образом ныне необъяснимым.
Мне кажется, что изучение жизни врачом доказывает моральные принципы добра и зла. Но когда присмотришься, возникает вопрос, а не может ли то, что кажется злом нынешнему обществу, оказаться добром для наших потомков. Звучит это довольно туманно, но я проясню свою позицию, сказав, что считаю добро и зло орудиями, которыми владеют великие руки, вершащие судьбы вселенной, что оба этих орудия служат совершенствованию, но действие одного из них моментально, а другого – чуть замедленнее, но столь же уверенно. Наше собственное разграничение добра и зла слишком зависит от сиюминутных запросов общества и недостаточно уделяет внимания его отдаленному воздействию.
У меня собственные взгляды на методы природы, хотя я и чувствую, что они сродни мнению жука о Млечном Пути. Однако у них есть достоинство: они утешают. Если бы мы могли сознательно наблюдать, что грех послужил благой цели, то наша жизнь не представлялась бы такой мрачной. Мне кажется, что природа, продолжая эволюцию, укрепляет род человеческий двумя способами. Первый – совершенствуя тех, кто силен морально, что достигается ростом знаний и расширением религиозных взглядов. Другой, не менее важный – убивая и уничтожая морально слабых. Это достигается пьянством и аморальностью. Существуют лишь две важнейших силы, действующих во имя совершенствования рода человеческого. Я представляю их как две невидимых руки, нависающих над садом жизни и выпалывающих сорняки. Глядя на отдельного человека, можно видеть лишь, что они порождают нищету и вырождение. Но что происходит на исходе третьего поколения? Род пьяницы и дебошира, ослабевший как физически, так и морально, либо пресекся, либо близок к угасанию. Зоб, туберкулез, нервные болезни внесли свой вклад в отмирание гнилой ветви, и таким образом улучшается среднее состояние рода. На основании немногого, что я видел в жизни, я верю, что этот закон, действующий с поразительной быстротой, о том, что пьяницы вообще не рождают потомства, а если недуг наследственный, то род обычно пресекается после второго поколения.
Пойми меня правильно и не цитируй, говоря о том, что для народа хорошо, когда среди него много пьяниц. Ничего подобного. Я хочу сказать, что если в народе много морально слабых людей, то это хорошо, поскольку должны быть средства пресечения этих слабых ветвей. У природы свои средства для этого, и пьянство – одно из них. Если исчезают пьяницы и аморальные типы, это означает, что народ настолько продвинулся в своем развитии, что в подобных мерах больше не нуждается. Затем гениальный Инженер ускорит наше совершенствование каким-то другим способом.
В последнее время я много думал о применении зла и о том, каким мощным орудием оно является в руках Творца. Прошлым вечером все это внезапно воплотилось в стихах. Прошу тебя, пропусти их, если они тебе наскучат.
- Богоизбранные испытанье пройдут,
- А не избранные провалят.
- Но лучшие иль худшие перед Ним пройдут,
- Он всеми ими управляет.
- Ведь все есть доброе, если понять.
- (Ах, если бы мы понимали!)
- Добро и зло – орудия, чтобы на все влиять,
- Что держит Он обеими руками.
- Блудница и анахорет,
- Мученик и распутник —
- Он всех по чести облечет
- И по ролям расставит.
- Он мудрость направляет по крови,
- Туда, где распускаются цветы,
- И похоть, чтоб убить слабые ветви,
- И пьянство, чтоб дерево подстричь для красоты.
- И святость, чтобы древа ствол
- Остался нерушим,
- Чуму и лихорадку, чтоб подзол
- Менялся, оставаясь вечно недвижим.
- Бросает Он микробы в легкие,
- Бросает тромбы в мозг.
- Он испытаньем выбирает лучших,
- Потом испытывает снова, придавая лоск.
- Испытывает Он тело и рассудок,
- Мученьям подвергая вновь и вновь,
- А коль не выдержат они, то сокращает промежуток,
- Им снова испытанья приготовив.
- Он душит горло детское мокротой
- И высвобождает ферменты.
- Он собирает много слизи известковой,
- И закупоривает артерий ленты.
- Он позволяет в юную пору
- Мечтать и думать про любовь,
- Пока не поселит грибковую спору,
- Мечты стирая вновь и вновь.
- Он запасает молоко, что кормит младенца,
- Он притупляет в измученных нервах боль.
- Он дарит сотни радостей сердца
- Там, где остается лишь юдоль.
- Он также взращивает ветвь добра,
- Где дивные цветут цветы.
- В руках Его – секатор зла,
- Чтобы подрезать древо красоты.
- Читаю эти строки и пытаюсь
- Переписать их начисто опять,
- И чувствую, как чей-то палец
- Мое перо толкает вспять.
- И меркнет свет в моих глазах.
- И вижу я лишь темноту.
- Коль ошибаюсь я, ошибку Ты мне подсказал,
- Иль она канет в пустоту.
Мне очень стыдно говорить таким дидактическим тоном. Но отрадно думать, что грех может иметь цель и работать во благо. Отец говорит, что я, кажется, смотрю на вселенную, как на свою собственность, и не успокоюсь, пока не буду уверен, что с ней все хорошо. Что ж, я весь свечусь изнутри, когда, похоже, замечаю просвет в тучах.
А теперь к самой главной новости, которая изменит мою жизнь. Как ты думаешь, от кого я получил письмо в прошлый вторник? От Каллингворта, ни больше ни меньше. Оно без начала, без конца, адрес перепутан, и написано оно очень толстым гусиным пером на обороте рецепта. Удивительно, как оно вообще до меня дошло. Вот что он пишет:
«Начал работать здесь, в Брэдфилде, в июне прошлого года. Колоссальный успех. Мой пример революционизирует всю медицинскую практику. Быстро сколачиваю состояние. Сделал изобретение, которое стоит миллионы. Если наше Адмиралтейство его не примет, Бразилия станет ведущей морской державой. Приезжай следующим же поездом. У меня для тебя масса дел».
Вот и все необычное письмо. Без подписи, что вполне логично, поскольку написать его мог только он. Зная Каллингворта как облупленного, я отнесся к письму сдержанно и скептически. Как он мог достичь столь быстрого и полного успеха в городе, где его никто не знал? Невероятно. И все же в нем должна содержаться какая-то доля истины, иначе он не пригласил бы меня попробовать самому. В общем, я решил действовать очень осторожно, ведь своей теперешней жизнью я доволен и начал немного откладывать, что, надеюсь, станет фундаментом для моей будущей практики. Сейчас это пока несколько фунтов, но через год-другой капитал может вырасти. Поэтому я написал Каллингворту, поблагодарил за то, что помнит меня, и объяснил ему положение дел.
Сказал, что мне было очень трудно найти место, а сейчас, когда оно у меня есть, было бы нежелательно отказываться от него, разве что ради чего-нибудь надежного и постоянного.
Прошло десять дней, в течение которых Каллингворт молчал. Затем пришла огромная телеграмма.
«Письмо твое получил. Почему бы сразу не назвать меня лжецом? Говорю, что за год принял тридцать тысяч больных. Чистый доход составил более четырех тысяч фунтов. Все пациенты бегут ко мне. Можешь взять себе весь прием, всю хирургию и все акушерство. Делай с ними, что хочешь. В первый год гарантирую триста фунтов».
Ну, это уже походило на деловое предложение, особенно последняя фраза. Я отнес телеграмму Хортону и попросил у него совета. Он ответил, что я ничего не теряю, но приобрести могу очень много. Дело закончилось моей ответной телеграммой, что я принимаю предложение о сотрудничестве, если таковое имеется в виду, и завтра выезжаю в Брэдфилд с огромными надеждами и маленьким саквояжем. Я знаю, как тебя интересует личность Каллингворта, как и любого, кто его знает даже через третьих лиц. Можешь на меня рассчитывать: я предоставлю тебе полный и детальный отчет обо всех наших делах. Мне не терпится снова его увидеть, и я верю, что у нас с ним обойдется без скандалов.
До свидания, старина. Я на пороге обладания огромным богатством. Поздравь меня.
Письмо шестое
Брэдфилд, 7 марта 1882 года
Прошло всего два дня, как я тебе писал, старина, а у меня снова ворох новостей. Я приехал в Брэдфилд. Снова увидел Каллингворта и убедился, что все сказанное им – правда. Да, как бы невероятно это ни звучало, этот удивительный человек, похоже, и вправду меньше, чем за год приобрел огромную практику. При всей своей эксцентричности он просто замечательный человек, Берти. Кажется, у него нет шансов проявить свои истинные дарования в нашем закостенелом обществе. Ему мешают законы и обычаи. Он из тех, кто мог бы выдвинуться во времена Французской революции. Если поставить его руководителем какого-нибудь южноамериканского государства, то через десять лет он или сойдет в могилу или завоюет весь континент. Да, Каллингворт рожден для более высоких вершин, нежели медицинская практика, и для куда более обширной сцены, чем английский провинциальный город. Когда я читаю о вашем Аароне Бёрре[4], я всегда представляю его в облике Каллингворта.
Наше прощание с Хортоном было в высшей степени сердечным. Будь он моим братом, он не смог бы вести себя ласковее. Я и помыслить не мог, что смогу так привязаться к человеку за такой короткий срок. Он проявляет живейший интерес к моему новому начинанию, и я отправлю ему полный отчет. На прощание он подарил мне черную пенковую трубку, которую сам раскрашивал – высший знак уважения со стороны курильщика. Мне приятно ощущать, что если у меня не сложится в Брэдфилде, то всегда есть тихая гавань в Мертоне, куда я смогу вернуться. Однако, как бы приятна и полезна ни была здешняя жизнь, нельзя закрывать глаза на то, что понадобится ужасно много времени, чтобы накопить достаточно средств для выкупа доли в практике, возможно, гораздо дольше, чем сможет работать мой отец. Телеграмма Каллингворта, которая, как ты, наверное, помнишь, гарантировала мне триста фунтов за первый год, вселила в меня надежду на куда более быстрое развитие карьеры. Уверен, ты согласишься со мной в том, что я поступил умно, отправившись к нему.
По дороге в Брэдфилд со мной случилось небольшое приключение. Купе, где я ехал, занимали еще три пассажира, которых я окинул беглым взглядом, прежде чем углубиться в газету. Там была пожилая дама с веселым розовощеким лицом, в золотых очках и в шляпке, отделанной красным бархатом. С нею – двое молодых людей: спокойная, миловидная девушка лет двадцати в черном и невысокий коренастый юноша на пару лет старше. Женщины сидели рядышком в дальнем углу, а сын (как я думал) расположился напротив меня. Мы проехали примерно час, в течение которого я не обращал внимания на это семейство, разве что невольно слышал разговор двух женщин. Младшая по имени Винни обладала, как я заметил, мягким и спокойным голосом. Она называла старшую «мамой», что доказывало – они семья.
Я сидел и все так же читал газету, когда с удивлением почувствовал, как сидевший напротив юноша пнул меня по голени. Я пошевелил ногами, думая, что это случайность, но через мгновение получил еще один удар, на этот раз сильнее. Я заворчал и опустил газету, но когда посмотрел на юношу, то понял, в чем же дело. Нога у него судорожно подергивалась, руки были сцеплены и барабанили по груди, глаза закатились, так что видны были лишь края радужных оболочек. Я бросился к нему, ослабил ворот, расстегнул курточку и положил голову на сиденье. Одним каблуком он с грохотом заехал по окну, но я сумел прижать ему колени, одновременно сжимая запястья.
– Не пугайтесь! – вскричал я. – Это эпилепсия, припадок скоро пройдет.
Подняв глаза, я увидел, что побледневшая девушка тихонько сидит в углу. Мать достала из сумочки пузырек и спокойно протянула его мне.
– У него они часто бывают, – сказала она. – Это бром.
– Он приходит в себя, – ответил я. – Присмотрите за Винни.
У меня это вырвалось, потому что мне показалось, что голова у нее качалась, словно она вот-вот упадет в обморок, но в следующую секунду нам стала очевидна нелепость этих слов, мать рассмеялась, а следом и мы с дочерью. Сын открыл глаза и перестал дергаться.
– Прошу прощения великодушно, – сказал я, помогая ему сесть прямо. – Я услышал ваше имя и в спешке не подумал над тем, что сказал.
Они снова добродушно рассмеялись, и как только юноша пришел в себя, у нас завязался доверительный разговор. Удивительно, как вмешательство житейских происшествий отстраняет условности этикета. Через полчаса мы знали друг о друге все, ну, в любом разе, я знал о них все. Мать звали миссис Лафорс, она вдова с двумя детьми. Они перестали вести хозяйство и предпочитают жить в съемных квартирах, переезжая с одного места на другое. Их главная неприятность – нервная болезнь ее сына Фреда. Они направлялись в Берчспул, где, как они надеялись, тамошний целебный воздух пойдет ему на пользу. Я смог порекомендовать вегетарианство, о котором по опыту знал, что при нервных болезнях оно очень помогает. Мы очень живо разговаривали, и, по-моему, всем было очень жаль расставаться, когда мы доехали до узловой станции, где им нужно было делать пересадку. Мисс Лафорс дала мне свою карточку, и я пообещал, что загляну, если окажусь в Берчспуле.
Однако все это наверняка кажется тебе полнейшей глупостью. Теперь ты изучил мои привычки и едва ли ждешь, что я буду придерживаться основной линии повествования. Но я снова с ней и отвлекаться не стану.
Так вот, было почти шесть вечера, и начали сгущаться сумерки, когда мы прибыли в Брэдфилд. Первое, что я увидел, выглянув из окна вагона, была фигура Каллингворта. Он ничуть не изменился, нервно расхаживал вдоль платформы в расстегнутом сюртуке, задрав подбородок (немногие из моего окружения так делают) и оскалив крупные зубы, словно добродушная ищейка. Увидев меня, он заревел от восторга, схватил меня за руку и радостно хлопнул по плечу.
– Дорогой мой, – проговорил он, – мы зачистим этот город. Говорю тебе, Монро, мы не оставим тут ни одного врача. Сейчас они довольствуются хлебом с маслом, а когда мы возьмемся за дело, то станут есть его без масла. Послушай меня, дружище! В этом городе живет сто двадцать тысяч человек, и всем нужна помощь, а здесь нет ни одного врача, кто отличил бы пилюлю из ревеня от камня. Дружище, нам остается лишь собрать их под своим крылом. Я стою и беру деньги, пока рука не заболит.
– Но как получается, – спросил я, когда мы продирались сквозь толпу, – что здесь так мало врачей?
– Мало?! – взревел он. – Черт подери, да тут их тьма. Здесь нельзя вывалиться из окна и не упасть на врача. Но из всех… ну, впрочем, ты их сам увидишь. В Авонмуте ты ходил ко мне пешком, Монро. В Брэдфилде я не допущу, чтобы мои друзья передвигались пешком, а?
Изящный экипаж, запряженный двойкой ухоженных вороных лошадей, ждал у входа на станцию. Нарядно одетый кучер приподнял шляпу, когда Каллингворт открыл дверь.
– В какой из домов, сэр? – спросил он.
Каллингворт стрельнул на меня взглядом, чтобы увидеть, как я отреагирую на подобный вопрос. Если честно, я никоим образом не сомневался, что он велел кучеру так спросить. Он всегда любил театральные эффекты, но обыкновенно ошибался, недооценивая уровень развития окружающих.
– Ага! – проговорил он, поглаживая подбородок, словно в чем-то сомневался. – Ну, полагаю, ужин уже готов. Едем в городскую резиденцию.
– Господи боже, Каллингворт! – воскликнул я, когда мы отъехали. – Сколько у тебя домов? С твоих слов выходит, что ты весь город скупил.
– Так-так, – со смехом ответил он, – мы едем в дом, где я обычно живу. Там очень удобно, хотя я не все комнаты еще обставил. Прямо за городом у меня ферма в несколько десятков гектаров. Там хорошо на выходных, и мы посылаем няньку с ребенком…
– Дорогой мой, я не знал, что у тебя появился ребенок!
– Да, это чертовски неудобно, но факт остается фактом. Мы получаем оттуда масло и прочую провизию. И потом, конечно, у меня в центре города есть дом, где я веду дела.
– Приемная и кабинет, я полагаю?
Он взглянул на меня со смесью раздражения и веселости.
– Не понимаешь ты ситуацию, Монро, – сказал он. – В жизни не встречал человека с таким вялым воображением. Я бы доверил тебе описать что-то тобою увиденное, но не составлять об этом представления заранее.
– А теперь в чем дело? – спросил я.
– Ну, я и писал тебе о своей практике, и телеграмму давал, а ты сидишь и спрашиваешь, работаю ли я в двух комнатах. Прежде чем я закончу, мне придется арендовать рыночную площадь, да и там мне будет негде развернуться. Твое воображение может представить огромный дом, где люди ждут во всех комнатах, стиснутые, как сельди в бочке, а в подвале сидят в два яруса? Так вот, это мой деловой дом в обычный день. Люди стекаются со всей округи за семьдесят километров и перекусывают хлебом с патокой на пороге, чтобы попасть первыми, когда спустится экономка. Санитарный врач подал официальную жалобу касательно скученности у меня в приемных. Люди ждут на конюшне, сидят вдоль стойл и даже под лошадьми. Я перенаправлю их к тебе, мой дорогой, и тогда ты сам во все вникнешь.
Можешь себе представить, Берти, как я был ошарашен, поскольку, сделав скидку на склонность Каллингворта к преувеличениям, я понял, что за его словами что-то кроется. Я сказал себе, что нужно сохранять холодную голову и увидеть все собственными глазами, и тут экипаж остановился, после чего мы вылезли.
– Вот мое пристанище, – сказал Каллингворт.
Я увидел угловой дом на линии прекрасных зданий, который показался мне скорее похожим на хороший отель, нежели на жилой особняк. К входной двери вела широкая лестница, дом насчитывал пять или шесть этажей с башенками и флагштоком на крыше. Вообще-то я узнал, что до вселения туда Каллингворта с семьей в доме располагался фешенебельный клуб, но руководство решило съехать оттуда из-за чересчур высокой арендной платы. Дверь открыла нарядная горничная, и через минуту я уже пожимал руку миссис Каллингворт, которая была сама доброта и сердечность. По-моему, она забыла то досадное происшествие в Авонмуте, когда я повздорил с ее мужем.
Внутри дом был куда более просторным, чем казалось снаружи. Каллингворт сказал, помогая мне нести саквояж, что в нем более тридцати спален. Вестибюль и первый этаж были великолепно убраны и обставлены, но на лестничной площадке все это великолепие заканчивалось. В моей спальне стояла небольшая железная кровать и умывальник на упаковочном ящике. Каллингворт взял с каминной полки молоток и принялся забивать гвозди за дверью.
– Сюда можешь одежду повесить, – сказал он. – Не возражаешь, если ужмешься, пока мы тут все в порядок не приведем?
– Никоим образом.
– Понимаешь, – объяснил он, – без толку ставить в спальню сорокафунтовый гарнитур, чтобы потом выбросить его в окно и заменить на стофунтовый. Никакого смысла, Монро! Верно? Я обставлю дом так, как никто и никогда его не обставлял. Черт подери! Люди будут приезжать за полтораста километров, чтобы только взглянуть на него. Но делать это нужно постепенно. Идем вниз, посмотришь столовую. Ты, наверное, проголодался с дороги.
Столовая и вправду была превосходно обставлена – ничего яркого, все просто замечательно. Ковер был такой плотный, что, казалось, мои ноги утопали во мху. Суп уже подали, миссис Каллингворт садилась за стол, но хозяин потащил меня дальше, чтобы показать что-то еще.
– Начинай, Гетти, – бросил он через плечо. – Хочу Монро вот это показать. Так, вот эти простые стулья для столовой – как ты думаешь, сколько каждый стоит?
– Пять фунтов, – ответил я наугад.
– Именно что! – в восторге воскликнул он. – Тридцать фунтов за полдюжины. Слышишь, Гетти! Монро с первого раза угадал цену. Так, дружище, а что ты скажешь вот об этих шторах?
На окне висела великолепная пара штор из ярко-алого тисненого бархата на полуметровом золоченом карнизе. Я решил не подвергать опасности свою только что обретенную репутацию.
– Восемьдесят фунтов! – взревел он, хлопая меня по спине ладонью. – Восемьдесят фунтов, Монро! Как тебе это нравится? У меня в доме все самое лучшее. Взгляни на эту горничную. Ты видел опрятнее?
Он схватил девушку за руку и подтолкнул ко мне.
– Не глупи, Джимми, – мягко проговорила миссис Каллингворт, когда он разразился хохотом, обнажив из-под торчавших усов крупные зубы. Девушка прижалась к хозяйке, напуганная и злая.
– Все хорошо, Мэри, ничего страшного! – воскликнул он. – Садись, старина Монро. Принеси бутылку шампанского, Мэри, мы выпьем за успех.
Что ж, ужин прошел очень мило. Никогда не скучаешь, когда рядом Каллингворт. Он из тех, кто создает магнетическую атмосферу, и в его присутствии тоже становишься веселым и оживленным. Ум у него настолько проворный, а мысли столь необычны, что и ты начинаешь думать по-иному и сам удивляешься своей живости. И доволен своей изобретательностью и оригинальностью, когда ты всего лишь вьюрок, взлетающий с плеча орла. Ты помнишь, как старый Петерсон так же действовал на тебя, когда мы были в Линлитгоу.
В середине ужина он выбежал из столовой и вернулся с круглым кошельком размером с гранат.
– Что это, по-твоему, Монро?
– Понятия не имею.
– Это наша дневная выручка, да, Гетти?
Он развязал веревочку, и в тот же миг на скатерть высыпалась кучка золотых и серебряных монет, со звоном завертевшихся между тарелками. Одна из них скатилась со стола и была подобрана горничной в дальнем углу.
– Что это, Мэри? Полсоверена? Возьми себе. Сколько там всего, Гетти?
– Тридцать один фунт восемь шиллингов.
– Видишь, Монро! Выручка за один день. – Он сунул руку в карман брюк, вытащил оттуда горсть золотых и стал взвешивать их на ладони. – Вот погляди, дружище. Совсем не так, как в Авонмуте, а?
– Для кредиторов, наверное, это хорошая новость, – предположил я.
В тот же миг он нахмурился и свирепо посмотрел на меня. Нельзя и представить себе более жестокого создания, чем разозлившийся Каллингворт, когда он выйдет из себя. Его светло-голубые глаза горят адским огнем, а волосы встают дыбом, словно у готовящейся к броску кобры. Он и в хорошем настроении не красавец, а уж в рассерженном просто феноменален. При первых же признаках опасности его жена отослала горничную из столовой.
– Что ты за чушь несешь, Монро! – вскричал он. – Думаешь, я долгие годы намерен надрываться, чтобы долги отдать?
– Я так понял, что ты дал кредиторам слово, – ответил я. – Конечно, это по-прежнему не мое дело.
– Надеюсь, что не твое! – воскликнул он. – Коммерсант рискует приобрести или потерять. Он предусматривает пределы для больших долгов. Я бы все выплатил, если бы мог. Но не смог, и потому покончил со старыми обязательствами. Никто в здравом уме и не помыслит пустить все зарабатываемые в Брэдфилде деньги на уплату торговцам из Авонмута.
– А если они припрут тебя к стенке и потребуют уплаты долга?
– Ну, когда решатся, тогда и увидим. А пока что я гоню деньги на бочку за каждую появляющуюся у меня вещь. Мне здесь так доверяют, что я мог бы обставить весь дом от водостоков до флагштока, как дворец, вот только решил – буду идти комната за комнатой. Только здесь обстановки почти на четыреста фунтов.
Раздался стук в дверь, и вошел мальчик в ливрее.
– С вашего позволения, сэр, вас желает видеть мистер Дункан.
– Передай мистеру Дункану мои наилучшие пожелания и скажи, что он может убираться к черту!
– Джимми, дорогой! – вскричала миссис Каллингворт.
– Скажи ему, что я ужинаю, и если бы все короли Европы ждали в коридоре, держа короны в руках, я бы не вышел взглянуть на них.
Мальчик исчез, но через мгновение вернулся.
– Извольте видеть, сэр, он не уходит.
– Не уходит! Что это значит? – Каллингворт сидел с открытым ртом, выставив вперед вилку и нож. – Ты это о чем, негодник? Что ты несешь?
– Вот его счет, – проговорил напуганный мальчик.
Лицо Каллингворта потемнело, на лбу вздулись жилы.
– Счет, да? Гляди сюда. – Он вытащил часы и положил на стол. – Сейчас без двух восемь. Ровно в восемь я выйду и если его там увижу, то размажу по тротуару. Передай, что разбросаю его ошметки по всей округе. У него две минуты, чтобы сохранить себе жизнь, и одна из них почти истекла.
Мальчик вылетел из столовой, и через секунду мы услышали грохот входной двери и топот ног по лестнице. Каллингворт откинулся на спинку стула и захохотал, пока на глазах у него не выступили слезы, а жена его подрагивала от сочувственного смеха.
– Я его с ума сведу, – наконец прохрипел Каллингворт. – Это нервный и трусливый субъект, когда я на него смотрю, он сереет. Если прохожу мимо его магазина, то обычно захожу и гляжу на него. Ничего не говорю, просто смотрю. Это его парализует. Иногда в магазине полно людей, но воздействие то же.
– Так кто же он? – спросил я.
– Он бакалейщик. Я говорил, что плачу всем торговцам, но он – единственное исключение. Пару раз он меня доставал, так что я пытаюсь обходиться с ним так же. Кстати, Гетти, можешь завтра послать ему двадцать фунтов. Время очередного взноса.
Я, наверное, сплетник, Берти? Но когда я начинаю рассказ, память так ясно все возвращает, что я пишу почти бессознательно. К тому же в Каллингворте перемешано множество всяких качеств, и я не могу сам составить о нем представление, так что стараюсь просто повторить тебе его слова и передать его поступки, чтобы ты самостоятельно мог его себе представить. Я знаю, что он всегда тебя интересовал и интересует еще больше, поскольку судьба снова свела нас вместе.
После ужина мы прошли в заднюю комнату, представлявшую разительный контраст с парадной обстановкой, где стоял простой стол из сосновых досок и полдюжины кухонных стульев на крытом линолеумом полу. В одном конце располагалась электрическая батарея и магнит, на другом – ящик с лежавшими на нем пистолетами и беспорядочно рассыпанными патронами. К ящику была прислонена винтовка, а стены испещрены следами от пуль.
– И что это? – спросил я, оглядываясь по сторонам.
– Гетти, что это? – спросил он, зажав в руке трубку и склонив голову набок.
– Господство на море или контроль над Мировым океаном, – ответила она, как ребенок, повторяющий выученный урок.
– Именно! – крикнул Каллингворт, тыча в меня трубкой. – Господство на море или контроль над Мировым океаном. Все это у тебя перед носом. Говорю тебе, Монро, я мог бы поехать в Швейцарию и сказать им: «Слушайте, у вас нет выхода к морю и портов, но найдите мне корабль с вашим флагом, и я обеспечу вам господство над всеми океанами». Я прочешу все моря, пока на них не останется и спичечного коробка. Или же я мог бы передать изобретение в компанию с ограниченной ответственностью, а потом вступить в совет директоров после выделения ассигнований. Вот в этой пригоршне у меня вся соленая вода в мире.
Его жена положила руки Каллингворту на плечи и с обожанием поглядела на мужа. Я отвернулся, чтобы выбить трубку, и улыбнулся, глядя в камин.
– Давай, улыбайся, – сказал он. (Он чрезвычайно быстро замечал, что ты делаешь.) – Ты улыбнешься еще шире, когда увидишь получаемые дивиденды. Вот сколько стоит этот магнит?
– Фунт?
– Миллион фунтов и ни пенсом меньше. Задаром для страны, которая его купит. Я не стану настаивать на большем, хотя мог бы запросить вдесятеро дороже. Через недельку-другую я отвезу его Первому лорду Адмиралтейства, и если он достаточно здравомыслящий человек, то завяжу с ним дело. Не каждый день, Монро, к нему в кабинет заходит человек с Атлантическим океаном в одной руке и с Тихим в другой, а?
Я знал, что он разъярится, но откинулся на спинку стула и расхохотался до колик. Его жена укоризненно взглянула на меня, но Каллингворт, спустя секунду затмения, тоже рассмеялся и принялся топать по комнате, размахивая руками.
– Конечно, это кажется тебе нелепицей! – вскричал он. – Ну, должен сказать, что и я бы так решил, если бы это придумал кто-то другой. Но верь слову, тут все в порядке. Вот и Гетти подтвердит, верно?
– Тут все чудесно, дорогой.
– Сейчас я все тебе покажу, Монро. Какой же ты Фома неверующий, пытаешься изобразить интерес, а про себя хихикаешь! Во-первых, я открыл способ, которого тебе не открою, в сотни раз увеличивать силу притяжения магнита. Понимаешь?
– Да.
– Очень хорошо. Полагаю, тебе также известно, что современные снаряды делаются из стали или имеют стальные наконечники. Возможно, ты слышал, что магниты притягивают сталь. Позволь мне показать тебе небольшой опыт.
Он склонился над своим аппаратом, и я внезапно услышал треск электрического разряда.
– Вот это, – продолжал он, подойдя к ящику, – револьвер, который в следующем веке выставят в музее как оружие, возвестившее рождение новой эры. Я заряжаю его патроном, снабженным для опыта стальной пулей. Целюсь в упор в пятнышко сургуча на стене, расположенное на десять сантиметров выше магнита. Я бью без промаха. Стреляю. Теперь подойди и убедись, что пуля расплющилась о магнит, после чего ты извинишься передо мной за ухмылку.
Я поглядел, и все было в точности, как он сказал.
– Вот что я сделаю! – воскликнул он. – Я готов поместить магнит в шляпку Гетти, а ты выпустишь шесть пуль прямо ей в лицо. Как насчет такого опыта? Ты ведь не возражаешь, Гетти, а?
Думаю, она бы не возражала, но я поспешил отказаться от участия в подобном опыте.
– Конечно, ты убедишься, что все дело в масштабе. Мой военный корабль будущего несет на носу и на корме по магниту гораздо большего размера, причем во столько раз, во сколько снаряд больше этой пули. Или, возможно, мой аппарат разместится на приставном плоту. Корабль вступает в бой. И что потом, а, Монро? Каждый выпущенный по нему снаряд плющится о магнит. Внизу стоит емкость, куда они падают, когда размыкается цепь. После каждого боя их продают на аукционе как металлолом, а вырученные деньги делят на весь экипаж. Но только подумай, дружище! Говорю тебе, у снарядов нет никакой возможности попасть в корабль, оснащенный моим магнитом. Оцени дешевизну. Броня не нужна. Ничего не нужно. С магнитом любой корабль станет неуязвимым. Боевой корабль будущего будет стоить от семи фунтов десяти шиллингов. Вот ты снова ухмыляешься, но дай мне магнит и сухогруз с семифунтовым орудием, и я поражу лучший боевой корабль.
