История философии. Первый том. Философия до Канта бесплатное чтение
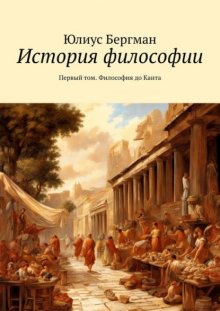
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
Иллюстратор Валерий Созданов в ИИ Kandinsky 3.0 Антонов
© Юлиус Бергман, 2024
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
© Валерий Созданов в ИИ Kandinsky 3.0 Антонов, иллюстрации, 2024
ISBN 978-5-0062-0219-1 (т. 1)
ISBN 978-5-0062-0220-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
I.
Как правило, изложение истории какой-либо науки позволяет рассматривать представление об этой науке как незыблемое. История философии является исключением из этого правила. Ведь даже при наличии широкого согласия в употреблении слова «философия» ни одна из попыток определить единый и четко очерченный круг научных задач, в соответствии с которым философия могла бы быть названа областью науки, не увенчалась успехом. Поэтому не покажется неуместным предварить этот отчет о развитии философии на сегодняшний день кратким изложением того представления о природе этой науки, каким она намерена руководствоваться. Для обоснования такого подхода можно сослаться на связь между философией и ее историей, которая также отличает ее от других наук. Философия еще не приобрела твердой формы, чтобы можно было сначала изучать ее исключительно в ее нынешнем состоянии и лишь затем обратиться к тому, как она развивалась. Скорее, как признают все специалисты, для успешного знакомства с ней необходимо изучение ее истории. И поэтому изложение этой истории, если только оно не адресовано только тем, кто уже приобрел более богатые знания в этой области, не должно предполагать, что все читатели уже имеют более или менее полное представление о области философии.
Следующее, что можно сказать и что обычно говорят для определения понятия философии, – это то, что она не ограничивается исследованием какой-либо одной части бытия в ее особенности, но имеет своим предметом все бытие. Это, очевидно, относится и к вопросу об изучении всех тех наук, которые, выражаясь словами Аристотеля, вычленяют часть из целого сущего. Философия, однако, смотрит на все сущее с иной точки зрения, чем другие науки в их деле обретения чистоты. Если последние стремятся описать форму, в которой мир предстает перед нами, чтобы удовлетворить жаждущий ясности и порядка интеллект, и определить законы, управляющие этой формой, то первые задаются вопросом, что такое бытие вообще и какую определенность наш разум должен приписать единому и целому бытию в той мере, в какой оно есть вообще и поскольку так обстоит дело.
Здесь нельзя доказать, что природа сущего, вселенной не является полностью случайной, но что, по крайней мере, нечто в ней определяется самим ее бытием. Однако для объяснения понятия философии это и не нужно. Ведь решение вопроса о том, действительно ли существует то, к чему эта наука якобы стремится, можно оставить на усмотрение. Если же далее возникнет сомнение, возможно ли, предполагая действительное бытие искомого, найти его нашим разумом, не имеет ли то, что мир есть, потому что он есть мир, т.е. то, что он обязательно есть, для человеческого разума в значении чего-то случайного и должно сохранять его, то можно и подождать, подтвердит ли неудача философского начинания это или опровергнет его успех. Это предприятие находит свое оправдание в том, что наш разум чувствует, что он не может допустить мысли о том, что все может быть совсем не так, как есть, что вместо этого мира может существовать другой, совершенно несхожий и несравнимый с ним. Кроме того, существует ряд понятий, в отношении которых мы не можем отказаться от убеждения, что то, что мыслится через них, должно было бы быть найдено в каждом мире, бытие которого было бы возможно, что их содержание составляет, таким образом, качество, которое причитается всему бытию уже тем, что оно вообще существует.
К ним относятся, например, понятия единства, множественности, времени, постоянства и изменения. Все, что есть, вместе образует единое бытие, и мы не можем представить себе это единое бытие иначе, как включающим в себя множество вещей. Предположим, однако, что все сущее состояло бы также из абсолютно простого существа, в котором не было бы вообще никаких различий, ни частей, ни качеств, ни действий, ни состояний, или что вместо целостного мира было бы возможно множество вещей, которые были бы настолько чужды друг другу, что можно было бы говорить только о бытии каждого, но не о сосуществовании их всех, мы не можем хотя бы случайно считать, что бытие – это то, что каким-то образом «делает возможным счет, как-то связано с понятием числа». Точно так же, как мы не можем отделить понятие бытия от понятия времени, мы не можем отделить его от понятия числа. Представляя себе нечто как бытие, мы представляем его как бытие во времени, и если мы попытаемся абстрагироваться от временности или длительности, чтобы постичь простое бытие, мы останемся ни с чем.
Поэтому, что бы ни выявило более глубокое изучение понятия «бытие», мы полагаем, что можем быть уверены: то, чья природа исключает временность, не может быть. Более того, мы полагаем, что в само бытие Единого Существа можно включить и тот факт, что оно, оставаясь всегда одним и тем же Существом, находится в состоянии непрерывного изменения своей обусловленности. Эти соображения, закрепляя идею науки о бытии, приводят одновременно к ряду более конкретных проблем, которые эта наука должна будет решать. Эта наука должна будет, например, как более детально следует понимать отношение единого бытия, остающегося тождественным самому себе, к многообразным вещам, содержащимся в нем, и к происходящим в нем изменениям, следует ли предполагать простые элементы, из которых состоят все составные вещи, или все вещи делимы до бесконечности, изменяются ли только отношения, в которых вещи и части вещей находятся друг к другу, или вещи могут изменяться и в том, что не является отношением или соотношением, как возникают и продолжаются изменения и т. д.
К числу понятий, о соотношении которых с бытием философия должна будет дать сведения, относятся также два общих свойства или конституции, которые лежат в основе всего воспринимаемого нами и которые могут дать нашему мышлению содержание для форм единства, множественности, тождества и изменения, – это понятия протяженности или пространственной реализации или телесности и сознания или воображения или мышления или духовности. Несколько замечаний о предположениях, касающихся отношения этих качеств к бытию, которые можно попытаться сделать вначале, могут послужить несколько более богатому содержанию концепции задачи учения о бытии. Прежде всего, можно предположить, что бытие и пространственная наполненность или телесность – это одно и то же. Тогда все вещи, которые действительно существуют или могли бы существовать, должны были бы быть телами, а все детерминанты тел, такие, как размер, форма, положение, состояние в отношении покоя и движения, может быть, и самые непроницаемые, должны были бы быть особыми способами или сторонами осуществления пространства, ибо, конечно, никакая вещь не может иметь свойств, кроме тех, которые составляют особую природу ее бытия. Все свойства, которые не могут быть поняты из общего наполнения пространства, например, цвета, звуки, запахи, определение температуры, должны быть объявлены лишь кажущимися, лишь содержанием ощущений, которые тела производят в нашем организме в силу принадлежащих им качеств и движений. Теперь эта точка зрения, помимо других трудностей, с которыми она сопряжена, терпит крах из-за того, что существует сознание. Ведь сознание не принадлежит к тому, что может возникнуть в теле в силу его протяженности определенным образом, поскольку чувственные ощущения и ощущения удовольствия и боли совершенно отличны от всех возможных модификаций бытия в пространстве, и, с другой стороны, не может возникнуть и сознание, как и те ощутимые качества, которые наше восприятие приписывает телам, тому, что является лишь содержанием нашего сознания, а потому не существует реально, а только подразумевается нами, ибо, очевидно, признается реальное бытие сознания, когда о чем-либо утверждается, что оно есть лишь содержание сознания, что оно не имеет реального бытия, а только кажется существующим сознающему существу. Не следует, однако, отказываться от мнения, что всякая душа обладает свойством заполнять пространство, т.е. что она телесна.
Ибо то же самое можно было бы, во-вторых, определить более точно: природа того, что заполняет пространство, т.е. бытия, не поглощается простым заполнением пространства, но ему принадлежит нечто внутреннее, что сначала действует в общем продукте заполнения пространства, веществе или массе, двигаясь, организуясь и формируясь, и, наконец, становится сознанием в определенных продуктах этой деятельности, животных телах. Можно также, в-третьих, предположить, что сознание есть нечто столь же изначальное, как и наполнение пространства, и только вместе с ним составляет все существо вещи, что, таким образом, Единое Существо, охватывающее все сущее, состоит из отдельных вещей, каждая из которых обладает как наполнением пространства, или телесностью, так и сознанием, или духовностью. В-четвертых, вместо сторон можно было бы рассматривать пространственную наполненность и сознание как виды бытия, из чего следовало бы, что существует два вида целостных вещей – тела и души или духи.
Еще дальше можно отойти от первой попытки, если, в-пятых, вместо осуществления пространства приравнять сознание к бытию. В этом случае пришлось бы сказать о телесном мире, что он вообще не имеет реального бытия, а, подобно образам сновидений, является лишь предметом нашего воображения, ибо как сознание не может принадлежать к определенным способам или сторонам осуществления пространства, так и оно не может принадлежать к способам или сторонам последнего. Излишне добавлять к уже указанным гипотезам другие, обсуждать трудности, с которыми сталкивается каждая из них. Но одно все же придется отметить, что с некоторыми из них можно связать идею высшего духовного существа, через которое существует все остальное, независимо от того, приписывают ли этому существу только духовное начало, приписывают ли ему одновременно физическую природу или природу, содержащую основание физического бытия, и считают ли все вещи его частями или модификациями, считают ли их продуктами его деятельности, которые являются внешними по отношению к нему, но остаются зависимыми от него.
Все бытие, которое, если оно вообще есть, заявлено как задача философии, составляет совокупный предмет нашего сознания, а совокупный предмет нашего сознания все время мыслится нами как все бытие, причем не так, что мы формируем выведенное представление о всем бытии или сохраняем ранее сформированное, а так, что во всем конкретном, что мы представляем себе, мы представляем себе также все бытие. Что бы мы ни представляли, мы представляем это как сущее, даже если знаем, что в действительности этого нет, и, представляя нечто как сущее, мы представляем его как содержащееся в мире, в целом, которое содержит все сущее. Если это принять во внимание, то задача, поставленная выше перед философией, переходит в другую – задачу точного определения и полного объяснения природы субъекта сознания, в той мере, в какой он вообще является субъектом сознания, или «Я», в той мере, в какой оно вообще является «Я», и решения возникающих при этом проблем.
Это, в свою очередь, требует продолжения. Ведь если предположить, что мы поняли природу, общую для всех сознательных существ, насколько это возможно с учетом ограниченности нашей познавательной способности, то мы захотим узнать далее, в чем состоит, как действует и что производит способность, отличающая человека от других сознательных существ и обозначаемая нами как разум. Среди предметов исследования, соответствующих этой задаче в данном расширении, можно назвать, например, следующие различие и связь между многообразными способами или сторонами, присущими сознанию разумных существ в соответствии с его общей природой, такими как восприятие себя и восприятие других вещей, представление и воспоминание, размышление о воспринятом и представляемом, ощущение удовольствия и боли, укладывание и желание, Формы мышления и правила их правильного применения, возможность познания и источники, способы и цели его, направленность желания и цели разумного воления и действия, происхождение и содержание нравственных требований и другие вопросы.
Все эти исследования сегодня также считаются философскими и всегда считались таковыми. Понятие философии, следовательно, должно быть расширено до того, чтобы оно имело своим предметом, с одной стороны, все бытие и содержащиеся в нем сознательные существа, а с другой – тех, кто ему противостоит, а именно: существующее бытие в отношении его бытия вообще, сознательные существа в отношении их сознания или представления или их Я-сущности вообще, и далее разумные существа в отношении особенности их сознания или Я-сущности, составляющей их бытие.
Однако из того, что учение, предметом которого является вся душа в отношении ее простого бытия, и учение, предметом которого являются сознательные существа, составляющие лишь часть души, и далее разумные существа в отношении общего для них особого способа бытия, имеют только что указанную более тесную связь, не следует, что они могут быть объединены в одну науку. Однако эта связь будет полностью оправдана, если внимательнее присмотреться к совокупному предмету сознания в той определенности, которую он имеет в той мере, в какой он является совокупным предметом сознания вообще. Ведь если выше было отмечено, что во всем нашем мышлении мы имеем представление о целом бытии или мире и что мы не можем представить себе вещь как сущую иначе, чем представляя ее как находящуюся в мире, то далее следует сказать, что мы не можем представить себе все бытие иначе, чем непосредственно схватывая его точку, и эта точка есть наше «я». Таким образом, мы не можем представить себе все сущее иначе, чем воспринимая свое Я, а другие вещи – иначе, чем поместив их в то целое сущего, к которому принадлежит наше Я, в тот мир, который является нашим, и таким образом связав их с нашим Я. Таково основное отношение нашего сознания: мы воспринимаем свое Я, расширяем это восприятие до концепции сущности, которая охватывает наше Я и все, что существует вне его, и представляем все вещи, которые мы воспринимаем или иным образом воображаем вне нашего Я, как содержащиеся в этой сущности, едином и целом бытия или мира, и тем самым связываем их с нашим Я. Соответственно, это сознательное существо или Я принадлежит к общему предмету сознания каждого «сознательного» существа или Я. И в общей идее того, из чего состоит общий предмет сознания, таким образом, содержатся два понятия – целое бытия и сознательное существо или Я, и они соотносятся друг с другом таким образом, что ни одно из них не может быть мыслимо без другого.
Теперь, безусловно, «прояснить и определить», сформулировать понятие о том, в чем состоит совокупный предмет сознания, – это уже вполне единая задача; этот характер должна носить и более комплексная задача разработки в дополнение к этому понятию менее общего понятия о том, в чем состоит совокупный предмет сознания разумных существ. Если поэтому назвать философией рассмотрение и решение последней, то в философии учение о бытии, общее учение о сознании и учение о разуме объединяются в единую науку.
Ничто не мешает придать философии еще более широкий смысл, обозначив ею все попытки прийти к более глубокому и богатому пониманию мироустройства и духовной жизни путем соединения результатов описанных исследований с результатами других наук или даже с простым опытом. Таким образом, можно выделить более узкий и более широкий смысл слова «философия». Однако здесь излагается лишь история философии в самом широком смысле этого слова. Такие исследования, которые можно назвать философскими в широком смысле, будут упомянуты лишь постольку, поскольку они покажутся полезными здесь и там по особым причинам, связанным с этим намерением.
II
Если бы казалось уместным предварить начатое нами в этой книге предприятие некоторыми замечаниями о задачах философии, то, с другой стороны, можно было бы воздержаться от вступительных замечаний о понятии описания вообще и истории философии в частности, о различных точках зрения, с которых можно рассматривать последнюю, и о различных способах ее представления, а также о том, что было сделано до сих пор в ее изучении, – замечаний, которые обычно делаются в таких случаях. Несомненно, эти вещи достойны научного рассмотрения, но даже те, кто, не занимаясь ими ранее, задается целью прочитать изложение истории философии, то, следовательно, не будет испытывать потребности в предварительном ознакомлении с ними. Все, что необходимо для подготовки к намеченной работе, – это обзор истории философии с целью определения основных разделов, на которые она будет разделена.
Как и название философии, сама философия имеет греческое происхождение и возникла в Ионе в конце седьмого – начале шестого века до н.э. из усвоения математических, физических и астрономических изысканий. В целом же восточные народы независимо от греков вырабатывали представления о Боге и богах, о происхождении и конце мира, о природе и жизни душ, о знании и добродетели, Потребность интеллекта отделиться от поэтического воображения и освободиться от влияния инстинктов и чувств, потребность в действительном постижении, в знании, обеспеченном доказательствами, играла слишком малую роль, чтобы можно было говорить о философии этих народов, ибо под философией надо было понимать не науку, а нечто иное. Дальнейшее развитие философии также оставалось делом греческого ума на протяжении всей античности. И хотя в Римской империи она достигла большого распространения и известности, ни римляне, ни покоренные ими народы не смогли продолжить ее развитие.
В истории древнегреческой философии, начинающейся с Фалеса, годом рождения которого считается 640 г. до н.э., период подъема сменяется периодом упадка. К последнему относятся школы послеаристотелевского периода, начавшегося в конце IV века, академическая школа, основанная Платоном, перипатетическая школа, поклонявшаяся своему учителю Аристотелю, школы стоиков, эпикурейцев, скептиков и неоплатоников. Лишь в незначительных моментах открытия предков то тут, то там получали в эту эпоху небольшое развитие. Глубокие истины иногда оставлялись без замены, иногда уплощались и искажались, а старые ложные пути пробовались заново. Что касается создания новых систем, то они основывались отчасти на соединении старых учений, взятых с разных сторон, в новое целое, отчасти на переосмыслении прежних мыслей, особенно платоновских, в мистически неясные и фантастические домыслы. В целом философы этой эпохи утверждали, что не ценят знание ради него самого. Философия должна была лишь указать им наилучший путь земной жизни или, в форме теософского мистицизма, стать средством удовлетворения восторженной жажды очищения и слияния с Божеством. Даже скептики считали, что их утверждение о невозможности действительного знания лучше всего оправдать, указав на непоколебимый душевный покой, который наступает для мудреца в результате отказа от всякого знания, или на пользу того, что они советовали поставить на место философии и науки в целом, а именно на накопление опыта, который можно использовать в практической жизни.
В восходящем ходе развития от Фалеса до Аристотеля наметился поворот в философских поисках, который заставляет разделить этот раздел на две части. Первые попытки, стимулированные созерцанием внешнего мира и, как уже отмечалось, подготовленные изучением математических и научных фрагментов, были направлены на постижение того единого, неизменного, что разум добавляет к множественности и изменчивости чувственно воспринимаемого, и отношения этого к множественности и изменчивости вещей, вопросы, возникающие в сознании в результате размышления о себе и своих действиях, вопросы о возможности, целях и путях познания, о детерминантах воли и принципах рациональной организации жизни, не привели поначалу к более углубленному их изучению, к постижению их в их своеобразии и контексте. В этом отношении к середине V века быстро произошел полный перелом. Философский интерес теперь полностью обратился к мыслящему и волящему субъекту, и лишь позднее попытки разработать учение о бытии были вновь исключены, но так, что они были поставлены в тесную связь с теми, которые касались самопознания мыслящего и волящего ума. Это изменение было осуществлено софистами. Конечно, эти люди не были заинтересованы в открытии новой области научного знания. Скорее, они хотели показать, что наука и вообще реальное знание, соответствующее существующему, невозможны, а если бы и были возможны, то не имели бы никакой ценности, и что поэтому разумно использовать свои интеллектуальные способности только для того, чтобы представить себе вещи, с которыми приходится иметь дело, в полезном для практической жизни виде. Только Сократ сделал познание и воление предметом размышлений с серьезным научным намерением. Но именно софисты придали философскому интересу новое направление, и даже если им не хватало правильного научного мышления и необходимости твердых научных убеждений, учения лидеров этого движения все же содержали ценные идеи, которые не остались без значительного благотворного влияния на дальнейшее развитие философии. Поэтому второй период в истории философии следует отсчитывать здесь не от Сократа, как это обычно делается, а от софистов и далее.
За периодом упадка греческой философии последовал длительный период, в течение которого всемирно-исторические события и условия не позволяли свободно развиваться философскому и научному творчеству в целом. Новая интеллектуальная жизнь, развивавшаяся среди христианских народов после падения греко-римской цивилизации, находилась не только под опекой, но и под властью церкви, которая стремилась подавить любое ее проявление, не вписывающееся в систему ее институтов, целей и учений, тем более подозрительно и ревностно, чем больше она стремилась к развитию этой системы. Для изучения философии подчинение ее авторитету церкви привело к тому, что она стала использовать для поддержки и дополнения богословия то, что было передано в античных системах или всплыло в течение времени, в той мере, в какой это казалось пригодным для этой цели или могло быть соответствующим образом изменено.
И философские достижения ученых Средневековья, схоластов, по сути, не пошли дальше этого, если не считать нескольких новых идей, к которым они пришли в процессе работы. Только в середине XV века наступила новая эра независимой науки. Сначала стремление к свободному интеллектуальному образованию находило свое удовлетворение в изучении античных трудов. Несколько позже началась работа в тех областях, из которых в античности инстинкт исследования впервые перешел в философию, – в области математики и естествознания, и вскоре она была вознаграждена самыми блестящими успехами. В тесной связи с этими движениями философия также переживала новый подъем. Однако только к середине XVII века возникла система, которая смогла вызвать широкое движение и оказать длительное влияние на дальнейший ход истории философии, – система Декарта.
Прежде чем перейти к схоластике, в четвертой части «Истории философии» будут рассмотрены те начинания христианских богословов первых веков, отцов Церкви, которые входят в ее рамки, т.е. еще раз рассмотрен период, когда завершился упадок греческой философии.
В то же время, с другой стороны, что же делать с периодом, когда упадок греческой философии был завершен. С другой стороны, то, что следует сказать о попытках создания новой философии, независимой от теологии, до Декарта, здесь также должно быть исключено, но это не означает, что не уместна и позиция тех, кто связывает эти попытки реформы с движением, начавшимся с Декарта.
Последним из крупных изменений в характере философских исследований, в соответствии с которым должно быть определено основное деление истории философии, является то, которое было осуществлено Кантом в предпоследнем десятилетии XVIII века. Кант выдвинул против существовавшей до сих пор философии обвинение в том, что она приняла свою цель не обдуманно и поэтому еще не вступила на уверенный путь науки; ее процедура была простым шатанием, она сама была полем битвы, на котором, казалось, действительно предполагалось осуществить свои силы в игре боя, и на котором ни один фехтовальщик никогда не мог бороться за самое маленькое место и прочно закрепить свою победу; Поэтому в ней должна произойти полная революция, как она произошла в древнейшие времена в математике и в начале нового века в естествознании, и «позволила разуму» выйти на королевскую дорогу науки в этих областях. Причины, «которые Кант считал своими для такого суждения, и мнение, которого он далее придерживался относительно правильной процедуры в философии, а также результаты, к которым он пришел, следуя этому мнению, не могут быть здесь рассмотрены. Достаточно сказать, что, по общему мнению, его учение действительно произвело полный переворот в образе мышления в философии, хотя докантовская философия вскоре вновь обрела свою честь и стала оказывать все большее влияние на дальнейшую работу, по крайней мере, наиболее интересные и исторически значимые из этих последних работ представляют собой попытки, будь то устранение недостатков кантовской системы, будь то ее более или менее глубокая переделка, будь то выход за ее пределы к подготовленной ею новой системе.
Таким образом, изложение истории философии будет состоять из шести разделов, первые три из которых можно объединить в рубрику «История философии античности», а последние три – в рубрику «История философии христианской эпохи».
Первый раздел
Дософистическая эпоха
I. Древнейшие космологи
Древнейшие учения греческой философии основываются на естественном понятии вещей, согласно которой все сущее телесно. С этим они связывали идею о существовании некоего бытия, которое охватывает все сущее, некоего первоначала, которое порождает из своего единства все конкретные существа и возвращает их в себя. Они поставили перед собой задачу раскрыть природу этого единства и неизменности, скрытую за множественностью и изменчивостью чувственно воспринимаемого, и объяснить эту множественность и изменения из нее.
Первым на этот путь исследований встал Фалес из Милета, родившийся, согласно древним летописям, в 640 году до н.э., человек выдающихся математических и астрономических знаний, а также политического ума и мудрости. Инициированный финикийцами и египтянами, он, как считается, познакомил греков с математическими и астрономическими науками. Основное содержание своего учения Аристотель излагает следующим образом: первое, из чего возникли все вещи, и последнее, в чем они растворились, – это вода. Далее Аристотель сообщает следующие положения: земля плавает на воде, магнит одушевлен, все полно богов. Все остальное, что говорится о его взглядах в античных сочинениях, совершенно недостоверно, по крайней мере, в той части, которая имеет более близкое отношение к философии. Надо полагать, что Фалес, объявляя воду первой и последней, думал о ней не просто как об абстрактной субстанции, а как о конкретном существе, а еще ближе – как о таком существе, которому вместе с душевными качествами причитается и душа-глина, так что его мнение можно было выразить словами: живое море породило из себя все вещи, и всем вещам суждено снова превратиться в морскую воду.
Ведь это естественный способ мышления, еще не учитывающий различие между чувственным восприятием и самосознанием и несопоставимость их объектов, – рассматривать душевную жизнь как принадлежность индивидуальной телесности, а когда разум поднимается до мысли о мире в целом, представлять его также как существо одновременно телесное и внутренне живое. Приписывать Фалесу именно такую, гилозоистическую, идею бытия тем более оправданно, что ее, по несомненным свидетельствам, придерживались и его преемники. В пользу интерпретации фалесовского предложения в гилозоистическом смысле говорит и цитируемое Аристотелем высказывание его автора о том, что все наполнено богами, и другое – что магнит одушевлен.
За Фалесом следует Анаксимандр, также милезиец. Считается, что он родился в 611 году до н.э. и умер около 547 года. Будучи, как и Фалес, выдающимся астрономом, он также преуспел в географических исследованиях. Из одного из его сочинений о природе сохранилась фраза, которую мы приводим ниже. Анаксимандр отличался от своего предшественника тем, что приписывал первосуществу, из которого все вещи выходят и вбирают их в себя и которое, как говорит Аристотель, охватывает и направляет все, αρχη, согласно его обозначению, не одну из особых природ, отличающих органы чувств, а ту, из которой путем разложения впервые возникли чувственные качества. Первоначало, можно сказать, в его понимании, есть живое целое материи в ее полном качестве, а все, что из него возникает, есть лишь часть его в качественном и количественном отношении. К этому понятию первовещества он добавил положения о том, что оно бесконечно, безначально и нетленно. Бесконечное, το απειρον, – так он его называл. Отделение вещей от первозданного существа он, по-видимому, рассматривал как долг этого существа, который должен быть искуплен их исчезновением. «Из чего, согласно сохранившемуся в его сочинении предложению, вещи имеют свое происхождение, в то они и должны по справедливости погибнуть, воздавая друг другу повинности и наказания в соответствии с порядком времени». Кроме того, он предполагал, что не только для каждой отдельной вещи, но и для всего целого, состоящего из отдельных вещей, время возникновения сменяется временем исчезновения, и что это чередование небытия и недолговечности является одним из важнейших условий существования.
и что это чередование между развертыванием бесконечного в мир конечных вещей и восстановлением первоначального состояния повторялось от вечности и будет повторяться во веки веков». Анаксимандр объединил учение о первооснове бытия, о возникновении и исчезновении вещей вообще с попытками объяснить конкретную форму, в которой мир предстает перед опытом. Он считал, что образование мира началось с разделения холодного и теплого. Холодное и теплое породили влажное. Из нее образовалась земля, затем воздух, а вокруг него – огненная область, к которой относятся звезды. Из воды, из которой возникла земля, произошли и животные; после отделения земли водные животные превратились в сухопутных; древнейшими предками человека также были рыбообразные существа.
Третьим представителем древнейшей школы греческой философии был Анаксимен, который, как и его предшественник Милезий, родился, по-видимому, на 20—25 лет позже Анаксимандра, учеником которого он, как считается, был, и умер примерно на столько же позже. Одно из его сочинений утрачено, за исключением одного предложения. Анаксимандр, как и Анаксимен, исходил из того, что первозданное бытие есть бесконечная фея и что чередование возникновения и исчезновения совокупности конечных вещей вечно повторяется. Однако он вновь приписал первосуществу чувственно определяемое качество, отождествив его с воздухом. Но поскольку оно есть удовольствие, то, по его словам, оно есть душа. «Как наша душа, которая есть воздух, держит нас вместе, говорится в дошедшей до нас фразе его сочинения, так и дыхание и удовольствие охватывают весь мир». Создание вещей он представлял себе как сгущение и разбавление вожделения. Облака, вода, земля, камни – это сгущенный воздух, огонь – разреженный воздух. Противопоставление холодного и теплого, которое его предшественник допустил непосредственно из первоматерии, он объяснял как архетип конденсации и разрежения: первое порождает то, что по природе своей холодно, второе – то, что по природе своей тепло. О физических и астрономических предположениях, которыми Анаксимен, следуя примеру Анаксимандра, дополнил свой общий взгляд на образование мира, здесь можно не упоминать.
Школа старших ионийцев (под этим названием обычно объединяют трех упомянутых ученых), или старших космологов, до конца первого периода греческой философии имела несколько отдельных представителей. Наиболее известным из них является Диоген Аполлонийский, который почти через столетие после смерти Анаксимена развил его учение о сотворении мира из воздуха путем разрежения, порождающего тепло, и и конденсации холода, что свидетельствует о влиянии его современника Анаксагора, и связал с ним ряд общенаучных гипотез. О влиянии Анаксагора, излагавшего учение о том, что разум образовал мир из мертвой материи, на Диогена говорит тот факт, что последний стремился показать, что «материя мира, воздух», должна в то же время мыслиться не просто как душевное живое существо, а «определенно», как целенаправленно формирующий разум.
От гилозоизма старших ионийцев история философии первоначально продолжилась в двух направлениях. Одно из них представлено учениями пифагорейцев и элеатов, другое, начавшееся несколько позже первого, – тремя людьми – Гераклитом, Эмпедоклом и Анаксагором, которых можно объединить под именем младших космологов. Первый из них более близок к Анаксимандру, второй – к Анаксимену. Как в учении Анаксимандра, так и в учении Анаксимена можно обнаружить намек на взгляды, выходящие за рамки гилозоизма. Приписывая первосуществу качество, которое является лишь скрытой основой того, что представляется органам чувств, Анаксимандр подчеркивал то, что требует от него разум, а именно: это существо, которое содержит в себе множественность вещей и остается тождественным с собой при смене вещей, За счет того, что доступно чувственному восприятию, словом, за счет разумного возникает его умопостигаемая сторона, но «разумная» сторона совпадает с материальностью, а умопостигаемая – с духовной жизненностью; Поэтому можно сказать, что Анаксимандр ослабил материальность первозданного бытия в пользу духовной жизненности и тем самым дал зародыш перехода от гилозоизма к спиритуализму, т.е. к учению о том, что Единое есть Единое. Т.е. учение о том, что Единое есть чисто умопостигаемое и духовное существо. Учение Анаксимена, напротив, предвещает переход от гилозоизма к дуализму, т.е. к учению о том, что Единое Существо есть чисто умопостигаемое и духовное существо. Учение Анаксимена, с другой стороны, знаменует собой переход от гилозоизма к дуализму, т.е. воззрению, согласно которому мир есть продукт двух сил – мертвой материи и движущего и формирующего ее духа, поскольку он объявил материю первоосновой бытия, в которой, в силу ее тонкости и подвижности и потому что из нее состоит дыхание, Чувственный образ мышления склонен видеть субстанцию души прежде всех других, и в той мере, в какой он затем поместил воздух, оставшийся нетронутым, предположительно вместе с огнем, произведенным разбавлением из себя, в отношение души к телу к грубой материи, произведенной конденсацией. Продвижение от гилозоизма к спиритуализму мы находим у пифагорейцев и элеатов, а к дуализму – у более молодых космологов. За развитием спиритуализма и дуализма в первый период истории философии последовало, наконец, развитие третьей точки зрения – материализма, который, как спиритуализм и дуализм, исключает из понятия материи свойство духовной жизненности и, как гилозоизм и спиритуализм, принимает только один вид бытия – мертвую материю; материализм появился в форме атомизма.
II Пифагорейцы и элеаты
Пифагор родился на острове Самос около 580 года до нашей эры. Считается, что он был учеником Анаксимандра. В возрасте около пятидесяти лет он поселился в Кротоне в Нижней Италии. Считается, что он много путешествовал. В частности, говорят, что он провел длительное время в Египте, где был посвящен в тайную мудрость жрецов. Считается, что его учение о переселении душ имеет египетское происхождение, хотя утверждается, что оно было чуждо самим египтянам, и его истоки, скорее всего, находятся в Индии. В Кротоне он основал объединение, окутавшее тайной свои учреждения и уставы и связавшее своих членов узами брака, которое сочетало политические и научные начинания с мистико-религиозным культом и культивированием чистой морали, выражавшейся в идиосинкразических формах и обычаях и предполагавшей определенный отказ от внешних проявлений, таких как жилище и одежда. Это объединение широко распространилось в Нижней Италии и Сицилии и достигло значительного политического влияния, но вскоре вызвало враждебность. Считается, что в результате этого Пифагор переселился из Кротона в Метапонт и умер здесь около 500 года до нашей эры. Спустя пять-семь десятилетий постоянные гонения привели к распаду Пифагорейской лиги. Некоторые из ее членов бежали в Грецию. – Наиболее известными пифагорейцами являются: Филолай, младший современник Анаксагора, автор сочинения, от которого сохранились фрагменты, «первого», кажется, в котором было опубликовано пифагорейское учение, Лисий, учитель Эпаминонда, Тимей, в честь которого Платон назвал один из своих диалогов, и Архит из Тарентума, выдающийся государственный деятель и математик, благодаря помощи которого Платон спасся от преследований младшего Дионисия и который, как считается, познакомил Платона с пифагорейским учением. Филолай и Лисий – одни из тех, кто бежал в Грецию после распада Лиги. – Кроме фрагментов, дошедших до нас из сочинений Филолая, к которым, по мнению первых знатоков, было добавлено лишь несколько неправд, мы имеем в качестве источника для ознакомления с пифагорейским учением лишь несколько немногочисленных подробных замечаний в трудах Аристотеля. Некоторые сведения можно найти в более поздних сочинениях, но они, очевидно, приписывают старой школе многое из того, что возникло только в результате попытки их времени обновить и упорядочить пифагорейство, и не дают оснований отделить от него то, что они могли почерпнуть из достоверной традиции. Даже фрагменты Филолая и изложение Аристотеля не делают различия между тем, чему учил сам Пифагор, чему учили его ближайшие ученики и чему учили Филолай и его ближайшие предшественники. Однако можно предположить, что основополагающие идеи учения, о которых повествуют эти источники, зародились у самого Пифагора, тем более что они носят такой характер, что их обнаружение у преемника Анаксимандра, особенно в сравнении с представителями следующей школы – элеатов, не может вызывать смущения.
Пифагорейцы разделяли со своими предшественниками идею происхождения всего сущего из одной и той же первоматерии, а также, возможно, предположение о вечно повторяющемся чередовании возникновения мира из первоматерии и его последующего распада. Принципиальная особенность их учения по сравнению с учением древних ионийцев состоит в том, что в качестве природы общей субстанции они указывали не то качество, которое, как у воды или воздуха, познается чувственным восприятием, или которое, как у анаксимандрического бесконечного, должно отличаться от познаваемого чувственным восприятием только как полное от неполного, а то, которое может быть постигнуто только умом. Ведь если учесть, что все вещи могут быть предметами счета и арифметики и должны соответствовать арифметическим истинам, что в вещах и событиях существуют определенные закономерности, которые можно проследить до определенных чисел и числовых отношений, и если рассматривать это отношение к числам как нечто не просто принадлежащее нашему представлению о вещах, но лежащее в самой вещи независимо от нашего представления о ней, то природа первоначала казалась им, состоит в том, что оно придает возникшим из него вещам числовую природу или числовую закономерность. Они выражали это мнение тем, что первоначало, из которого возникли все вещи и которое является сущностью всех вещей, есть число. Аристотель сообщает, что пифагорейцы, духовной пищей которых была математика, считали, что все вещи состоят из чисел, что весь мир – это число и гармония, или (как сказано в другом отрывке) что вещи создаются путем подражания числам. Это утверждение подтверждается размышлениями Филолая о значении чисел. По его словам, природа числа – это закон, направляющий и наставляющий во всем темном и неизвестном; ничто не было бы узнаваемо, если бы его не было в вещах; ему не свойственен обман; оно осуществляет свою власть не только в природе, но и в человеческих произведениях, в художественной деятельности, в музыке.
Смутное и неясное представление о том, что вещи имеют числовую природу или являются подражанием чисел и что они являются таковыми вследствие природы исходной или общей субстанции, из которой они произошли, привело пифагорейцев к самым чудесным рассуждениям об объективном значении чисел, совершенно лишенным научной установки. Возможно, Пифагор и его первые ученики ограничивались тем, что прослеживали закономерности, которые можно выразить числами в геометрических фигурах, связи и отношения между вещами и событиями, дополняли свои наблюдения гипотезами. Из таких попыток возникло, например, знание, о котором говорится во фрагменте письма Филолая, о том, что соотношения октавы, пятой и четвертой тональностей струн соответствуют соотношениям длины 1:2, 2:3, 3:4, а также предположение о простых соотношениях в расстояниях небесных тел от центрального огня, вокруг которого они должны двигаться.
Вскоре, однако, школа, по-видимому, поставила высшей задачей науки выяснение того, что Аристотель называет сходством вещей с числами, полагая, что сущность предмета можно выразить и понять, указав число, пригодное для его символизации, и, наоборот, тайную природу и силу числа, указав предмет, связанный с ним. Так, справедливость, поскольку она воздает по заслугам, определялась числом четыре как первым, полученным умножением подобного на подобное, брак – числом пять как первым сочетанием четного и нечетного чисел; определенное знание приравнивалось к единице, колеблющееся мнение – к двойке; геометрические и естественно-исторические понятия, такие как линия, поверхность, тело, растение, животное, человек, также восходили к числам.
Если природа первоначала утверждается в том, что возникающий из него мир – это мир, в котором все определено и упорядочено в соответствии с числами, то далее можно поставить вопрос о том, в чем оно состоит само по себе, помимо той конституции, которую оно придает миру. «Первоначало, – отвечает пифагорейское учение, – едино, причем так, что оно не является в то же время членом множества, а содержит в себе все сущее. Это единство присуще ему как реальное качество, и именно в этом заключается его сущность. «То, что едино, – поясняет Филолай, – есть начало всего (εν αρχα παντων [эн арха пантон])». Пифагорейцы, рассказывает Аристотель, говорили о числах, из которых якобы состоит весь мир, что они происходят от Единого (εχ του ενος [эх ту энос]), и что Единое не относится к ним не только как предикат к воде, огню, земле или любой другой субстанции, сущность которой состоит в иной природе, чем Единое, но даже как сущность того, о чем говорится. Это учение не следует понимать так, что первоначало не имеет природы или конституции, благодаря которой и в которой оно является единым, но полностью поглощено одной лишь формой бытия единым. Скорее, пифагорейцы имели в виду (хотя и не объясняя этого сами), что природа первоначала не «составляет случайного содержания для формы бытия-одного, но неотделима от бытия-одного, как последнее от него, так что тот, кто знает, что нужно считать числом один и включать в себя все остальное, что можно считать, знает тем самым и природу первоначала».
С этим толкованием согласуется и то, что далее они говорят о Едином Первосуществе, что в нем два элемента, бесконечное бытие и ограниченное бытие или предел, соединены узами гармонии, что, вероятно, может означать не что иное, как то, что оно бесконечно и в пределах своего бесконечного протяжения отграничивает вещи друг от друга. Этим определением они, очевидно, приписывали первосуществу природу, которая исходила не просто из того, что оно одно, а из того, что, обладая им, могло быть причислено к единому и само по себе, без нашего причисления, было единым. Их понятие первозданного бытия отличается от анаксимандровской тем, что они добавили к бесконечности создание ограниченности и, следовательно, множественности вещей, что они далее увидели в объединении этих двух обусловленности то, в чем состоит единство, составляющее предпосылку всякой множественности, и что, наконец, они утверждали, что в этом единстве, которое обусловлено им даже без нашего счета, природа первозданного бытия полностью поглощена.
В связи с утверждением о том, что бесконечность и конечность объединены в Единстве узами гармонии, следует также отметить, что, вероятно, только позднее основной задачей науки, как уже говорилось, стало нахождение сходства между вещами и числами, Противопоставление бесконечности и конечности было приравнено к противопоставлению четности и нечетности, лежащему в основе чисел, на том основании, что при получении четных чисел можно продолжать деление на два, а при получении нечетных чисел то же самое найдет предел. К двум парам противоположностей ограниченного и бесконечного, четного и нечетного, некоторые добавили, несомненно, ввиду исключительной важности, которую школа придавала числу десять, еще восемь пар в качестве основных форм бытия, а именно: один и много, правый и левый, мужской и женский, покоящийся и движущийся, прямой и кривой, свет и тьма, добро и зло, квадрат и неравносторонний прямоугольник.
Приписывая первосуществу бесконечную протяженность и позволяя ему порождать ограниченные вещи внутри себя и из себя, пифагорейцы, несомненно, представляли его не как простое или пустое пространство, а, как и их предшественники, как материю, заполняющую пространство. Совершенно невероятно, чтобы они считали чувственно воспринимаемые вещи, в реальном существовании которых они, согласно всем традициям, не сомневались, просто геометрическими телами, которые, очевидно, являются лишь продуктами абстрактного мышления, или их композициями, хотя Филолай относит различия субстанций только к геометрической форме их конечных составляющих. Таким образом, можно сказать, что пифагорейцев от более древних космологов отличает только их взгляд на качество, которым или которым материя должна заполнять пространство, а именно: она состоит не в том, чтобы быть водой, воздухом или любым другим качеством, мыслимым посредством чувственного восприятия, а в том, чтобы быть единым.
Более того, с наибольшей степенью вероятности можно утверждать, что пифагорейцы, как и более древние космологи, также приписывали первосуществу духовную природу, не отличая ее от физической. В пользу этого говорит не только то, что их объединяет с предшественниками, как было сказано выше, но и то, что отличает их от них. Ибо то, что первозданное бытие не просто едино для нас, представляющих его, но едино само по себе, что, следовательно, его бытие-одно есть реальное качество его, как Фалес имел в виду его бытие-воду, Анаксимен – его бытие-воздух, качество, в котором оно причисляется нами к единому, нельзя понять иначе, как представляя его как бытие, которое воображает себя и в этом воображении приписывает себе бытие-одно. Существо, природа которого состоит в том, чтобы воображать себя и, воображая себя, быть единым для себя, является, таким образом, истинно или внутренне единым, и никаким другим образом существо не может быть единым в себе, кроме как воображая и считая себя единым для себя. Традиция также делает весьма вероятным, что пифагорейцы представляли себе первосущество в гилозоистическом ключе. Позднейшее утверждение о том, что под Единым они понимали верховного Бога, может быть, конечно, лишено убедительности, и сомнения в подлинности некоторых изречений Филолая, подтверждающих это утверждение, могут быть достаточно обоснованными, но несомненно, что древнейшим общим убеждением пифагорейской школы было убеждение в существовании божества, господствующего над миром. Но они не могли поставить мировое божество выше или рядом с Единым Существом, которое есть начало всего, не могли причислить его к вещам, возникшим из него, и, с другой стороны, трудно поверить в то, что предполагает выдающийся исследователь, что они вообще не должны были связывать свою идею Бога со своим учением о происхождении вещей, что их теология должна была протекать независимо от их философии. Гилозоистический взгляд безошибочно прослеживается и в том, что известно о пифагорейском учении об особом устройстве Вселенной.
Поскольку пифагорейцы не отрицали протяженности и пространственной наполненности первозданного бытия, но уже не указывали, подобно старым космологам, на материальное качество как качество, которым оно заполняет пространство, а на единство, которое следует мыслить как духовность, их учение можно назвать промежуточной ступенью между гилозоизмом и космологическим спиритуализмом, объясняющим субстанцию смыслового мира как непространственное, духовное бытие.
Судя по всему, пифагорейцы не пытались установить более тесную связь между учением о том, что природа первовещества состоит в Единстве, объединяющем бесконечность и конечность, и тем, что сущность сотворенных из первовещества вещей заключается в их числовом сходстве. Учитывая двусмысленность того и другого, особенно последнего, они не смогли бы выдвинуть ничего вразумительного и по этому поводу.
Пифагорейцы, по крайней мере до Филолая, похоже, не пытались ответить на другой вопрос, непосредственно связанный с этим учением о том, как объяснить те свойства и состояния которые мы приписываем вещам на основе чувственного восприятия, цвета температурные определения, запахи, звуки и т.д., поскольку ничего подобного не предполагается в природе первоначала. Филолай ставил различие между субстанциями в зависимость от их мельчайших составных частей. Наименьшими составными частями тел, по его мнению, являются малые тела правильной формы, а поскольку существует пять видов правильных геометрических тел – куб, тетраэдр, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр, то и субстанций, состоящих из подобных составных частей, тоже пять, пять элементов, а именно: земля состоит из кубов, огонь – из тетраэдров, вожделение – из октаэдров, вода – из икосаэдров, а пятый элемент – из додекаэдров, который должен заключать в себе часть мира, образованную из остальных элементов. Отсюда можно сделать вывод, что все ощутимые свойства тел, не обусловленные геометрическим строением их конечных составных частей и характером их композиции (позиционными отношениями и движениями составных частей), он считал лишь содержанием нашего восприятия, которому не соответствует ничего подобного в вещах. Однако такое построение тел отнюдь не является частью первоначальной пифагорейской философии; по всей вероятности, ему предшествует учение Эмпедокла о четырех стихиях (земле, воде, воздухе и огне), а также, возможно, атомизм.
Что касается взглядов пифагорейцев на внешнее устройство Вселенной, то основные положения сводятся к следующему. Упорядоченный мир имеет форму шара, который окружен дышащей материей, простирающейся в бесконечность. Центр его и внешняя окружность образованы огнем. Из огня в центре началось формирование мира; он – страж и крепость Зевса, мать богов, Гестия вселенной, алтарь, контекст и мера природы. Десять небесных тел, или сфер, движутся вокруг него и своим вращением создают гармонию сфер, которую мы не слышим из-за привыкания, подобно тому, как обитатели кузницы перестают слышать стук молотов. Ближайшую к центру орбиты сферу образует совокупность неподвижных звезд, за ней следуют планеты Сатурн, Юпитер, Марс, Венера, Меркурий, затем Солнце, Луна, Земля и, наконец, мировое тело, которое пифагорейцы называли противоположной Землей. Последняя была придумана им для того, чтобы можно было достичь священного числа десять. Она ускользает от нашего восприятия, поскольку находится между землей и центральным огнем, а земля всегда повернута к центральному огню своей необитаемой стороной. Солнце и Луна являются стеклянными телами и отбрасывают лучи, которые они получают от центрального огня, в сторону Земли.
О взглядах пифагорейцев на природу души известно немного. В этом отношении только учение о переселении душ может быть отнесено к числу тех, которых их школа придерживалась с самого начала. Филолай утверждает, что душа входит в тело по числу и бессмертному и бесплотному соединению. Далее он заявляет о своем согласии со свидетельством древних богословов и провидцев о том, что душа как бы погребена в теле в наказание за прежние долги и после смерти тела становится причастной к высшей бесплотной жизни, но, с другой стороны, подчеркивает важность тела как органа, через который душа обретает восприятия. В «Федоне» Платон заставляет ученика Филолая высказать мнение, что душа есть гармония своего тела, из чего делает вывод, что она имеет не более самостоятельное существование, чем гармония тела, и поэтому погибает вместе с телом. Аристотель упоминает тот же взгляд на природу души, но не называя его сторонников. Однако, по крайней мере, этот вывод нельзя считать пифагорейским из-за его противоречия с верой в переселение душ.
Основатель элеатской школы, Ксенофан, родился около 570 года в Колофоне в Ионии и, следовательно, был современником Пифагора. После долгих путешествий по Греции в качестве рапсода, декламировавшего свои эпические и дидактические поэмы, он поселился в Элее, ионийской колонии в Нижней Италии, будучи уже пожилым человеком. Считается, что он дожил до 92 лет. Философские идеи Ксенофана были впервые развиты в учение с ярко выраженным индивидуальным характером его учеником Парменидом из Элеи, который, как говорят, родился около 540 года, по другим подсчетам – около 520. Единственные другие сведения о жизни этого человека – это то, что в юности он общался с пифагорейцами и что он дал законы своему родному городу. Третьим главой элеатской школы стал ученик Парененида Зенон, также родом из Элеи, на 25 лет моложе своего учителя. Еще одним последователем Парененида был государственный деятель и полководец Мелисс из Самоса, младший современник Зенона. О других представителях элеатской школы ничего не известно. – До нас дошли фрагменты дидактической поэмы Ксенофана и Парменида, а также сочинение Мелисса, в то время как от сочинения Зенона ничего не сохранилось.
Если исследования древних космологов и пифагорейцев основывались на представлении о том, что единая сущность «произвела» из себя множественность и разнообразие вещей, что она заключает в себе все вещи и, хотя в одних вещах преобразуется одним образом, а в других – другим, во всех вещах является одной и той же общей субстанцией, то элеаты придерживались представления о едином целом бытия, которое остается тождественным самому себе, Но, размышляя над ней и делая ее предметом своей мысли, они пришли к убеждению, что множественность вещей, отделенных друг от друга в пространстве, несовместима с единством бытия и что всякое превращение первоначальной природы несовместимо с ее тождеством, и отсюда заключили, что множественность и изменение – это только видимость, которой наши обманчивые чувства окружают то, что действительно есть. Наряду с множественностью они объявили телесность и пространственность лишь видимостью и приписали единому бытию только духовную природу. Бытие предполагается только в мышлении.
Следует, однако, добавить, что, определяя природу и сущность сущего в этом смысле, они не считали, что говорят о чем-то ином, чем мир, который является предметом чувственного восприятия. Они считали, что мир, который мы воспринимаем с помощью органов чувств, есть реальный мир и только не так устроен, как он представляется нам в восприятии, что органы чувств добавляют к тому, что есть, то, чего на самом деле нет, и что к этому добавлению, которое разум, ищущий то, что действительно есть, опять-таки исключает, относится бытие вещей отдельно друг от друга и изменение. Если, таким образом, под материей понимать субстанцию чувственного мира, что бы еще ни утверждалось и ни отрицалось в отношении нее, то элеаты соглашались с древними ионийцами и пифагорейцами» в том, что нет ничего, кроме материи, но в отличие от них они мыслили материю как непространственное бытие, исключающее всякую множественность и изменение, которое постигается только чувством. С другой стороны, оправдано и выражение, что они отрицали материальность Единого Существа и объявляли его просто духовным существом, переходя таким образом от гилозоизма к спиритуализму.
По крайней мере, Ксенофан, похоже, не утверждал четко и решительно несовместимость раздельности и изменчивости вещей с единством и неизменностью всего сущего. Вероятно, он лишь подчеркнул необходимость мысли о том, что, несмотря на пространственную разделенность, вещи внутренне едины и что, несмотря на все изменения в мире, Единое Целое остается тождественным самому себе. «Куда бы я ни обращал свой ум, говорит силлограф Тимон, все растворялось в одном и том же; все, всегда бывшее, стояло там, полностью сведенное в единую подобную природу». Ксенофан, первым объявивший все Единым, по словам Аристотеля, не сказал точно, имеется ли в виду Единство в смысле субстанции или понятийной сущности, но, глядя на Вселенную, он сказал, что Единое – это Бог. Если Ксенофану не хватало более точного определения отношения Единого к форме, в которой мир предстает перед органами чувств, то для него тем более важно было провозгласить убеждение, что Единое должно мыслиться как Бог и, наоборот, что Бог должен мыслиться как Единое, которые якобы рождаются, ходят в человеческом облике, исполнены человеческих страстей, подвержены человеческим занятиям и страдают от человеческих судеб, которым Гомер и Гесиод даже приписывают все, что постыдно и предосудительно для человека, – воровство, прелюбодеяние, обман.
«Люди, – говорит он в своей поэме, – думают, что боги похожи на них одеждой, голосом и формой, но даже волы или львы, если бы они умели рисовать или лепить, как люди, представляли бы богов по своему образу и подобию. Один – Бог, величайший из богов и людей, ни внешностью, ни мыслями не похожий на смертных. Ему подобает всегда оставаться на одном месте, не двигаться, поворачиваться то туда, то сюда. Он не распознает, подобно людям, одним способом одну часть, другим – другую, но видит полностью, слышит полностью, думает полностью. Без всяких усилий, волей духа он овладевает всем». Ксенофан также посвятил свои мысли научным фрагментам, но то немногое, что удалось обнаружить в них, не представляет ничего особенно примечательного.
Если уже Ксенофан объявил множественность и изменения, которые демонстрируют нам органы чувств, лишь явлением, то, во всяком случае, только Парменид попытался строго доказать это утверждение. Насколько можно судить по фрагментам его поэмы, он все время пользовался косвенным методом, а точнее, тем методом косвенного доказательства, который состоит в том, чтобы показать, что противоречие возникает из предположения, противоположного доказываемому, причем без помощи других предположений, кроме тех, противоположность которых также содержала бы противоречие, т.е. путем простой дедукции. Во главе своих замечаний он ставит во главу своих замечаний положение: «Бытие есть, а небытия нет (есть только бытие, а не небытие, только реальность или полнота, а не абсолютная пустота)». «Это путь уверенности, говорит он, путь, на котором истина является спутником, – думать, что бытие есть, а небытия нет, тогда как это путь, уводящий от всякой уверенности, – думать, что бытия нет, а небытие должно быть, ибо ты не хочешь ни признать, ни назвать небытие, поскольку бытие-мыслимое и бытие-может-быть – одно и то же». Из сказанного следует, как он думает, что сущее имгевордеу и ничто из него не будет только в будущем, ибо оно должно было бы стать или увеличиться либо из несуществующего, либо из существующего, но первого не может быть, так как несуществующее должно было бы быть, чтобы из него стало сущее, а второго нет, так как сущее не может стать чем-то помимо него. Аналогично этому следует, что и сущее нетленно, и ничто из него уже не перестало быть. То, что экзистенция не возникла, нетленна и не может ни увеличиваться, ни уменьшаться, следует также из того, что еще не существующая экзистенция и точно так же уже не существующая экзистенция были бы несуществующими экзистенциями.
Невозможность разделения бытия на множество вещей Парменид также сводит к невозможности небытия, обосновывая это тем, что не может быть ничего отличного от бытия, что позволило бы отделить части друг от друга, так что небытие привело бы к разделению и, следовательно, должно было бы быть. Если же к утверждению о неделимости сущего он добавит еще и другое, а именно, что оно неподвижно, оставаясь для себя в одном и том же состоянии, то он докажет это тем, что движение сущего может состоять только в изменении положения его частей по отношению друг к другу, т.е. будет иметь в качестве своей предпосылки разделение.
В большинстве изложений учения Парменида предполагается, что он приписывает бытию физичность и пространственную протяженность. Согласно приведенным выражениям, он действительно это делал. Отрицая разделение бытия на множество вещей и его движение, он описывает его как материю, которая заполняет пространство без пробелов, которая совершенно одинакова во всех местах и никогда не меняет занимаемое ею пространство на другое. Возникает, однако, вопрос, следует ли понимать эти выражения в собственном смысле слова, ибо можно с самого начала считать себя вправе сомневаться в этом, если учесть, что речь идет о произведении того времени, когда еще не был выработан язык для передачи исследований, отвлеченных от чувственно-яркого, и тем более о поэме, максимально использующей традиционный эпический способ изображения и, по всей вероятности, изначально предназначавшейся для публичного исполнения. Итак, если дошедшие до нас формулировки изречений Парменида не позволяют отказаться от предположения, что он, наряду с пространственным делением и движением бытия, считал и саму пространственность иллюзией чувств, то в пользу этого говорят следующие доводы. Во-первых, утверждение, что пространство и заполняющая его материя действительно существуют, а существование тел, отделенных друг от друга внутри заполняющей пространство материи какими-то различиями, является простой иллюзией, было бы слишком глупым для разумного человека, тем более такого выдающегося мыслителя, каким, несомненно, был Парменид, чтобы поверить, что он всерьез выдвинул его.
Эта причина еще более усиливается тем, что Парменид сравнивает сущее с округлой сферой, равномерно простирающейся от центра во все стороны; ведь если допустить, что он представлял сущее протяженным, то следует предположить, что он не просто намеревался сравнить его со сферой, а действительно приписывал ему сферическую форму. Таким образом, поскольку, по его мнению, пустое пространство существовать не может, он учил, что не существует ничего, кроме сферы определенного размера, совершенно неразличимой самой по себе, границы которой в то же время являются границами пространства, – учение, которое, хотя и отличалось бы по понятности от утверждения пифагорейцев, воспринятого буквально, что не существует ничего, кроме чисел и что все вещи состоят из чисел, вряд ли меньше, чем последнее, заставляло бы усомниться в здравом уме его автора. Во-вторых, даже в чувственно-описательном изложении поэмы Парменида безошибочно прослеживается мысль о том, что сущее не просто обладает единством, как предмет, к единству которого наблюдателя побуждает беспрепятственное соединение его частей, но что единство присуще ему как реальное качество и что это единство исключает составное существование непрерывно соединенных частей. Аристотель также предполагает, что Парменид имел в виду именно это внутреннее, реальное единство, когда говорит, что Парменид, по-видимому, имел в виду единство сущего, соответствующего понятию, тогда как Ксенофан не пояснил, имел ли он в виду сущее, единое по понятию или единое по сущности. В качестве более определенного доказательства того, что Парменид отрицал пространственность бытия, можно привести из фрагментов его поэмы слова, которые следуют за отрицанием делимости бытия: «Оком ума видеть далекое как настоящее» и сравнение сущего со сферой; ведь если сущее сравнимо со сферой, то само оно не является сферой, но, как уже отмечалось, Парменид должен был считать его таковым, если приписывал ему протяженность. В-третьих, ученик Парменида Зенон в трактате, который был призван лишь защитить учение мастера и утвердить его более прочно, выдвинул доказательство, которое будет приведено ниже, что сущее не находится в пространстве. Аналогичным образом Мелисс утверждает, что, поскольку сущее едино, оно не может быть телесным, а поскольку он, как и Парменид, утверждал, что пустое пространство было бы небытием, он должен был также отрицать пространственность сущего наряду с телесностью, хотя из того, что он приписывал сущему бесконечность, Аристотель делает вывод, что, в отличие от Парменида, он понимал единство сущего как единство субстанции.
Если же бытие не телесно и не пространственно, то возникает вопрос, в чем состоит конституция его бытия. На него Парменид, отличаясь от своего учителя в выражении, но соглашаясь с ним по существу, дает ответ: в мышлении, а точнее, поскольку объект мышления может составлять только бытие, в мышлении о самом себе. О том, что мышление принадлежит бытию, он должен был заключить из совершенства и отсутствия совершенства, которые он ему приписывает и которые он должен был приписать ему в соответствии с положением о том, что небытия нет, поскольку ему казалось само собой разумеющимся, что мышление есть нечто чисто положительное, нечто, природа чего ни полностью, ни частично не состоит в пустоте, в отсутствии другого. Но если, как он мог бы заключить далее, мышление принадлежит существующему, то мышление и бытие – одно и то же, ибо в противном случае существующее должно было бы состоять из мышления и чего-то иного по своей природе или поведению, а предположение об этом исключает его единство.
Утверждение, что не существует ничего, кроме неразвитого и нетленного, единого и неизменного мышления или сознания, которое никак не допускает множественности и изменения в себе и имеет себя в качестве объекта, очевидно, прямо противоречит фактам. Конечно, не факт, что множественность и изменение, воспринимаемые нашими органами чувств, имеют реальное существование, но тот, кто утверждает, что все, что мы воспринимаем вне себя, есть лишь видимость, должен признать, что это действительно воспринимается самим собой, что собственное «я» реально существует и является предметом множественности восприятий, находящихся в непрерывном изменении. Но Пармениду, конечно, не приходило в голову отрицать ни своего собственного бытия, ни множественности и сменяемости своих восприятий, ни даже бытие других воспринимающих существ. Очевидно, что в своих доказательствах он имеет в виду не множественность и изменения вообще, а только пространственное раздельное бытие вещей, движение и изменение воспринимаемых качеств. Однако, с другой стороны, не следует говорить, что он исключал множественность и изменения, которые мы встречаем в самих себе, и что он имел в виду единое самомыслящее существо, содержащее в себе множество непространственных существ, которым органы чувств отражают мир пространственных вещей. Его мысли были обращены исключительно к миру чувств; его занимал лишь вопрос о том, как в связи с этим следует понимать реально существующее; как и его предшественники, он еще не включал в круг своих рассуждений то, что мы воспринимаем в себе, и его отношение к существующему.
Убежденность в том, что форма, в которой бытие предстает перед органами чувств, не является истинной, не помешала Пармениду более тщательно исследовать ее в манере своих предшественников. Установив в первой части поэмы истинную природу бытия, как она познается разумом, во второй он показывает, как логически должен быть понят мир, если встать на точку зрения обманчивого мнения, смешивающего бытие и небытие. В основе его аргументации лежит мысль о том, что необходимо предположить две основные составляющие мира, представляющие собой противоположность бытия и небытия, которые божество, управляющее всем из центра, смешало через Эроса, первого из задуманных им богов: тонкий, бесплотный огонь и плотную, тяжелую ночь.
Преемники Парменида, Зенон и Мелисс, насколько можно судить по источникам, сохранили его учение о бытии в неизменном виде. Однако, судя по формулировкам, последний отличается от своего учителя в одном пункте. А именно, он доказывает, что бытие бесконечно или неограниченно (απειρον [апэйрон]), тогда как Парменид говорит о неподвижности бытия в узах предела. Однако этим выражением Парменид, вероятно, хотел сказать, что единое бытие крепко держится в самом себе, так что не может рассеяться на множество вещей, тогда как бесконечность, о которой говорит Мелисс, означает неисчерпаемую полноту бытия, не имеющую ни начала, ни конца, в которой оно соприкасается с небытием.
Следуя учению Парменида, Зенон и Мелисс ставят перед собой задачу более подробно и точно объяснить и защитить его. Мелисс, по-видимому, не выдвинул ничего особенно важного. Зенон же, напротив, прекрасно справился с задачей.
С другой стороны, Зенон прекрасно развил косвенный метод доказательства своего учителя и тем самым с большим мастерством раскрыл трудности, заложенные в понятиях пространства и движения. Наиболее замечательными доказательствами Зенона являются, в свободном воспроизведении, следующие. Во-первых, против предположения, что сущее много, он показывает, что вещь, состоящая из многих, должна быть понята, с одной стороны, как не имеющая величины, а с другой – как бесконечно великая, в зависимости от того, пытаются ли ее составить из элементов или разложить на элементы. Оно должно быть без величины, так как каждое из многих должно быть простым, следовательно, неделимым и, следовательно, без величины, а из такой вещи, которая сама не имеет величины, никакая величина не может быть составлена. Оно должно было бы быть бесконечно большим, так как, будучи составным, оно должно было бы иметь размер вообще, каждая часть должна была бы снова иметь размер и таким образом сама состоять из частей определенного размера и так далее до бесконечности; целое должно было бы, следовательно, состоять из бесконечного числа размеров и, следовательно, быть бесконечно большим. Очевидно, что это доказательство основано на предположении, что сущее, если бы оно было составным, должно было бы быть пространственным и что, наоборот, пространственное было бы составным; таким образом, одновременно с предположением, что существует многое, опровергается предположение, что оно пространственно. Второе доказательство прямо противоположно последнему. Если бы, говорит оно, сущее находилось в пространстве, то принадлежащее ему пространство также должно было бы находиться в пространстве, а также пространство пространства и т. д. Третье и четвертое доказательства имеют своим объектом невозможность движения. Согласно первому, быстроногий Ахиллес не может догнать медлительную черепаху, как это должно быть согласно понятию движения. Ведь пока Ахилл преодолевает расстояние, отделяющее его от черепахи в начале бега, черепаха тоже продвигается немного дальше; по той же причине, когда Ахилл достигает конца этого расстояния, он снова не достигает черепахи, и так далее. Другой показывает, что летящая стрела находится в покое, т.е. в каждый неделимый момент времени стрела не меняет своего положения, поэтому она находится в покое в каждый момент времени, следовательно, всегда.
III. Младшие космологи
Второе из двух направлений развития, возникших из догадок и предположений древних ионийцев о происхождении вещей, ведущее от гилозоизма к дуализму (см. выше, с. 15), начинается с современника Парменида, эфемерного Гераклита. Он принадлежал к знатному роду. О его характере мы узнаем, что он был горд и мрачен, яростный противник демократии, презирал суждения толпы и традиционные представления о богах. Он пренебрежительно относился к наиболее выдающимся поэтам и ученым, таким как Пифагор и Ксенофан, которых он приводил в пример того, что много знаний не дают мудрости, и к Гомеру, который, по его словам, заслуживал изгнания из числа «состязающихся». От написанной им книги сохранилось несколько небольших фрагментов, за написание которых он получил у древних прозвище Темный.
Учение Гераклита можно разделить на две части. Одна из них настолько тесно связана с гилозоизмом старших космологов, что, если бы мы только знали о ней, не было бы причин отделять ее автора от него. Другая, возвышаясь над чувственным восприятием, обращается к общему понятию бытия, чтобы определить его содержание, правда, не в манере Парененида и Зенона, путем простого мышления, а с помощью чувственного опыта. Именно в результате этого размышления над понятием бытия, как будет показано далее более подробно, Гераклит положил начало переходу от гилозоизма к дуализму.
Гилозоизм Гераклита связан с гилозоизмом Анаксимена. Если последний объявил воздух первоначальной формой вещества, из которого созданы все вещи, то Гераклит объявил сухим дыханием или паром тепло, представляемое как материя, которое он назвал огнем. «Мир, – говорил он, – никогда не был сотворен ни богами, ни людьми, но всегда был и будет живым огнем». «Все обменивается на огонь, а огонь – на все, подобно тому как товары обмениваются на золото, а золото – на товары». Вода создается из огня путем угасания, а земля – из воды, земля снова становится водой путем сгорания, а вода – огнем. Когда огонь превращается в воду, а вода в землю, происходит конденсация, а когда наоборот – иссушение. Однако холод и тепло не являются, как учил Анаксимандр, следствиями конденсации и разрежения, а имеют обратную зависимость. Превращение огня в воду и землю – это путь вниз, а другой путь – вверх. Оба пути превращения идут бок о бок без перерыва, один происходит в одном месте, другой – в другом, и каждая часть общей субстанции движется то вверх, то вниз, но так, что два великих мировых периода следуют друг за другом в непрерывном чередовании, один, в котором мир многих вещей возникает из чистого первородного огня, и другой, в котором мир в целом снова сливается с огнем.
Первозданный огонь – это Зевс, живое божество. Души животных и людей принадлежат ему как части или оттоки. Гераклит, как и более поздние стоики, вероятно, отделил часть первозданного огня от процесса превращения и приписал этой части значение божества, управляющего миром. О душах он, конечно, учил, что огонь сохранил в них свою первоначальную природу, хотя и не в совершенной чистоте, но так, что принял в одних больше, в других меньше природы воды. Сухая душа, по его словам, самая мудрая и лучшая. Пьяницу сбивает с пути безбородый мальчик, потому что у него душа влажная.
С таким взглядом на мир и вещи согласуется и то, что Гераклит, оставив в стороне вместе с элеатами те качества, которые можно представить себе только с помощью чувственного восприятия, и сосредоточившись на самом бытии, в противовес им учил, что в мире никогда и нигде нет ничего неизменного, что все находится в состоянии непрерывного изменения. Быть – значит изменяться, и поскольку единое бытие постоянно преобразуется, оно разворачивается во множественность форм, так что к бытию целого относится не только единое бытие, но и множественность. Невозможно, по его словам, дважды войти в один и тот же поток (ведь поток в каждый момент времени разный). Все течет, но ничто не фиксировано; все продолжается, ничто не остается. Органы чувств, которым многие вещи представляются неподвижными и устойчивыми, он считал недостаточными для поиска истины; одни только глаз и ухо – плохие вещи. Изменение, по Гераклиту, основано на соотношении противоположностей; война, объявлял он, – отец и царь всего сущего.
В его высказываниях по этому поводу, по-видимому, не хватает ясности, определенности и последовательности. Он описывает общий ход вещей как разделение противоположностей, возникновение чего-то нового из слияния противоположностей и переход одного члена противоположности в другой. Так, музыкальная гармония возникает из соединения высоких и низких тонов, мужчина и женщина должны соединиться, чтобы создать живое существо, сон становится бодрствованием, бодрствование – сном, голод и сытость, здоровье и болезнь сменяют друг друга, молодой становится старым, старый снова становится молодым, сухость сменяется влагой, влага – сухостью и т. д. и т. п. Таким образом, во всем происходит соединение противоположностей: живое и мертвое – молодое и старое. Если Гераклит, таким образом, прослеживает общее течение вещей до соотношения противоположностей, то, с другой стороны, он видит в нем развертывание совершенной гармонии. Во всем мире все сочетается. Только из различия и противоположности может возникнуть гармония. Отделяя себя от себя, Единое гармонично объединяется. Даже если войны и сражения кажутся людям страшными, для Бога они не страшны: они должны служить гармонизации целого. Люди различают праведное и неправедное, для Бога же все прекрасно и праведно.
К этим положениям об общем течении вещей добавляется, наконец, мысль о том, что все, что происходит, обязательно происходит по порядку и закону всеуправляющей божественной мудрости. К этому Гераклит присоединяет этические и религиозные соображения. Только в этом заключается мудрость, позволяющая распознать всеопределяющий разум; из этого всеобщего разума проистекает человеческий разум, который одинаков у всех людей, и ему надо следовать, но не жить, как живет толпа, когда каждый думает, что у него есть свое особое понимание. Все человеческие законы питаются единым Божественным законом. Нужно стремиться погасить мятежную самонадеянность сильнее, чем пожар. Из осознания того, что все, что есть и происходит, упорядочено мудростью божественного закона и что то, что происходит с людьми в соответствии с этим законом, лучше для них, чем если бы все происходило по их воле, проистекает довольство, без которого нет счастья.
Разработав и определив таким образом понятие бытия как непрерывно меняющегося, Гераклит, очевидно, приписал тому, что он иногда называл войной, иногда необходимостью, судьбой или законом, иногда божественной мудростью или разумом, значение силы, производящей и направляющей общий поток вещей. Однако он не считал нужным противопоставлять эту силу второй первоматерии как агенту непрерывных преобразований. Скорее, в самом первозданном огне он видел силу, образующую из него многообразный мир, и обоих называл именем Зевса. Но, даже если он этого не хотел и не осознавал, в действительности он разделил единую материально-духовную природу, которую гилозоизм приписывает первоогню, на две, и тем самым в его учении можно усмотреть переход к дуализму мертвой инертной материи и божественного духа, движущегося в материи и образующего из нее мир.
Последователи Гераклита, число которых было немалым и которые еще существовали во времена Сократа, по-видимому, не внесли сколько-нибудь существенного вклада в развитие его учения. Платон описывает их как людей, с которыми невозможно вести серьезный разговор, так как они никогда не придерживались сути дела и отвечали на вопросы только головоломными фразами нового словообразования, чтобы не дать возможности возникнуть в их речи и в их душах чему-либо твердому и стойкому. Аристотель рассказывает об одном из них, Кратиле, который был учителем Платона, что в конце концов он решил, что ему вообще нельзя ничего говорить, так как нет непоколебимой истины в отношении изменения, а только «шевелить пальцем», и упрекнул Гераклита за то, что тот сказал, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, так как нельзя сделать это однажды.
Эмпедокл, второй из группы младших космологов, родился в Агридженто1 между 495 и 490 годами, примерно в то же время, что и Зенон. Он был очень известным демократическим лидером, оратором, священником, врачом и естествоиспытателем. Ему приписывали дар пророчества, способность повелевать ветрами и погодой, исцелять болезни сверхъестественными средствами и даже воскрешать мертвых, он считал себя провидцем и чудотворцем. Он достиг 60-летнего возраста. То, что он был, по некоторым сведениям, учеником Парменида, не имеет достаточных подтверждений, но несомненно, что он знал учение Парменида и находился под его влиянием. Другое сообщение о том, что он вышел из круга пифагорейцев, маловероятно, но его учение о переселении душ и характер жреческой деятельности показывают, что он испытывал влияние и с этой стороны. Довольно значительные остатки сохранились от написанной им поэмы о природе и менее значительные – от второй поэмы, озаглавленной χαθαρμοι [хатхармой] (Искупления).
В центре взглядов Эмпедокла на происхождение и природу вещей находится подготовленное Гераклидом различие между субстанцией, из которой все вещи созданы и в которой происходят все изменения, и силой, которая является причиной этих изменений. Споря с Парменидом о невозможности превращения небытия в бытие или бытия в небытие, он утверждает о субстанции, что она ««возникла и нетленна, не может ни увеличиваться, ни уменьшаться, а также неизменна по качеству во всех своих частях. Соответственно, не может быть иного вида изменения, кроме движения. Там, где кажется, что нечто возникает из ничего или переходит в ничто, где кажется, что происходит изменение качества, в действительности происходит не что иное, как изменение положения частей субстанции.
Таким образом, деятельность силы, действующей на материю, заключается исключительно в движении. Далее Эмпедокл предполагает четыре вида материи, так сказать, корни всех вещей: огонь, воздух, воду и землю. И, как и вся материя, движущая сила также состоит из двух сил: одной, которая смешивает неизменные элементы вместе, и другой, которая отделяет их друг от друга. Первую он называет любовью, вторую – ненавистью. Поскольку смешение и разделение разнородных частей материи являются результатами движений, Эмпедокл говорит, что способ движения движущих сил определяется тем, что сначала возникает из движений, т.е. целью последних.
На основе этих общих определений Эмпедокл строит следующую теорию хода изменений, через которые проходит весь мир. Он состоит в периодическом чередовании движения к двум точкам, а именно: совершенному смешению четырех элементов в полное целое сферической формы – сфайрос и совершенному разложению – нельзя с уверенностью сказать, всего ли вещества, объединенного в сфайрос, или только его части – на элементы. Могут ли субстанции делиться на бесконечность и действительно ли они делятся на бесконечность в совершенном смешении в сфайросе, или же они состоят из тел, неделимых по природе, или же из тел, которые не являются неделимыми, но остаются неразделенными, не сказано. Не сказано и о форме, которую принимают четыре массы огня, воздуха, воды и земли в состоянии совершенного разделения, и о положении, которое они занимают по отношению друг к другу в этом состоянии. В Сфайросе царит исключительно любовь, смешивающая несхожее, а в мире, разделенном на четыре составные части, – исключительно ненависть. Движение от первой точки ко второй (путь Гераклита вниз) – дело растущей и побеждающей любовь ненависти, противоположное движение (путь Гераклита вверх) – дело вновь обретающей господство любви. В настоящее время мир находится в процессе возвращения к Сфайросу. Что касается хода обоих движений, то в поэме Эмпедвкла, по-видимому, рассматривается только та часть пути, которая уже пройдена, – возвращение на Сфайрос. Разобравшись с происхождением и, в связи с этим, природой небесной сферы, небесных тел и земли, а также с движением всего мира и отдельных его тел, 3* он, по примеру Анаксимандра, переходит к вопросу о происхождении и природе органических существ. Сначала, говорит он, появились растения. Они были одушевлены. Затем из земли появились отдельные конечности животных. Из них объединяющая любовь сначала образовала чудовищные существа, пока, наконец, не добилась создания нынешних видов, способных существовать и воспроизводиться путем деторождения. За физиологическими соображениями следуют психологические. Согласно им, все части света обладают психической жизнью. Человеческое восприятие и мышление – это организация организма, предпочтительно связанная с кровью как той частью тела, в которой элементы смешиваются наиболее идеально. Однако Эмпедокл связывал эту точку зрения с верой в переселение душ. Возможно, он предполагал, что душа, существующая сама по себе, которая, как и сфайрос, представляет собой смесь всех элементов, пронизывает тело и в общении с ним, особенно с кровью, порождает человеческое восприятие и мышление, предпосылкой которого является восприятие. Это подтверждается и утверждением Аристотеля о том, что, согласно Эмпедоклу, душа состоит из всех элементов. Эмпедокл объясняет восприятие встречей частиц, вытекающих из вещей и проникающих в поры органов чувств, с аналогичными частицами тела. В общем, говорит он, мы узнаем подобное с подобным, землю с землей, воду с водой, воздух с воздухом, огонь с огнем, любовь с любовью, ненависть с ненавистью.
Хотя Эмпедокл различал вещество мира и движущую его силу, порождающую из него многообразный мир и вновь его уничтожающую, и, кроме того, разделяя вещество и движущую силу, предполагал шестичастное первоначало бытия, нельзя отрицать, что он придерживался и идеи единства бытия. Сфайрос, очевидно, рассматривался им как единая сущность. Он, видимо, имел в виду то единство, которое субстанция имеет в многообразии своих первоначальных составляющих, даже если, не уточняя, придать ей форму сфайроса, содержащего элементы в совершенном смешении; с другой стороны, ее единство завершается только в сфайросе, так что можно сказать, что она является одновременно причиной и следствием смешения, как скрытая причина, как явленное следствие. Таким образом, субстанция и любовь – это не отдельные сущности, а различные формы одной и той же субстанции. Одно и то же существо является субстанцией в той мере, в какой оно наполняет пространство качествами огня, воздуха, воды и земли, и любовью в той мере, в какой оно является единым существом и смешивает свои составные части в силу своего единства. Аристотель согласен с этим, когда приписывает Эмпедоклу мнение о том, что Единое есть любовь. Наконец, как и любовь, ненависть также объединена с материальностью в одной сущности. Одно и то же существо, которое есть материя и любовь, есть ненависть в той мере, в какой его единство включает в себя и то, что оно непрерывно, полностью или частично, растворяет и восстанавливает форму, соответствующую его единству, форму, в которой проявляется его скрытое единство, подобно тому как Единое Гераклита должно отделиться от себя и воссоединиться с собой, чтобы быть действительно Единым.
К Гераклиту и Эмпедоклу присоединяется Анаксагор из Клазомен, который родился около 500 г. до н.э., за несколько лет до Эмпедокла, но чей трактат о природе, фрагменты которого дошли до нас, был написан, по-видимому, позже Эмпедокла и под влиянием последнего, человека, который также был выдающимся математиком и астрономом. Впоследствии Анаксагор жил в Атме. Прожив там тридцать лет, он был обвинен противниками Перикла, с которым был дружен, в отрицании богов и бежал в Лампсак, где вскоре умер в возрасте 72 лет.
«Возникновение и исчезновение, – говорится в сохранившемся у нас предложении Анаксагора, – эллины понимают неправильно, ибо ничто материальное не возникает и не исчезает, но смешивается с тем, что уже существует, и разлагается, и поэтому они правильно назвали бы «возникновение смешением, а исчезновение – разложением». Если Анаксагор, таким образом, разделяет первое из двух наиболее общих убеждений Эмпедокла, что все, что происходит в природе, состоит в движении частей материи неизменного качества, то он разделяет и второе, согласно которому движущую силу следует отличать от движущейся материи.
В этом он также согласен с последним, что «существует первоначальное большинство качественно различных веществ, заполняющих пространство без промежутков, и что до того, как движущая сила захватила их, они были полностью перемешаны». Однако в своих более детальных определениях количества и природы субстанций, природы движущей силы и хода всего события он сильно расходится с ним.
Прежде всего, в отношении материи он предполагает не четыре, а бесчисленное множество «простых» видов материи и не включает в их число эмпедоклеотические элементы, которые, как предполагается, состоят из множества различных составных частей. В качестве примера он приводит кости, плоть, кровь, золото, серебро. Эти простые вещества он называет семенами (σπερματα [спэрмата]). Позднее, после того как Аристотель придал им предикат ομοιομερη (состоящий из сходных частей), для них был придуман термин ομοιομερειαι – гомеомерия. В первоначальной смеси, из которой возникло все сущее, все основные вещества были разделены на частицы столь малые, что они не поддавались восприятию, и даже те составные вещества, которые кажутся нам простыми, такие как огонь, воздух, вода и земля, состоят из таких частиц. Основное вещество нигде не может быть совершенно несмешанным; напротив, каждая вещь содержит частицы всех видов, так что если плоть и кость являются основными веществами, то то, что мы называем плотью, никогда не является чистой плотью, а то, что мы называем золотом, никогда не является чистым золотом.
Тогда, согласно Анаксагору, движущая сила должна быть понята как дух (νοις [нойс]), а именно как дух, который сам по себе, ни с чем не смешивается, все имеет в своей власти, все познает, прошлое, настоящее и будущее, и все упорядочивает прекрасно и превосходно. О том, что «нус» телесен, во фрагментах сочинений Анаксагора, правда, прямо не говорится, но само его описание, даже если встречается выражение, что это самое прекрасное и чистое из всего сущего, не вызывает сомнений, что он так считал. Более того, только понимая его в этом смысле, можно объяснить, почему он считал необходимым полностью отрицать жизнь и деятельность у субстанций, проявляющихся в органах чувств, и противопоставлять им мыслящее существо, которое движет ими и собой, и что древние, начиная с Платона, также приписывали ему признание нетленности духа. Считал ли он, что материя имеет совершенно самостоятельное бытие по отношению к духу, равно как и дух по отношению к материи, и что нет ничего, что содержало бы в себе и то и другое, нет общего корня их бытия, или же он полагал, что с дуализмом духа и материи можно связать идею единого существа, являющегося первоначалом всего, – остается неясным. Взгляд Анаксагора на природу души индивидуального существа напрямую связан с различением материи и божественного духа, образующего из нее мир.
По его мнению, души отдельных существ, к которым он вместе с Эмпедоклом причислял и растения, находятся в том же отношении к Нусу, в каком, по мнению Анаксимена, Гераклита и Эмпедокла, они находятся к одновременно телесному и духовному первосуществу: они являются частями Нуса, подобно тому как тела являются частями вещества. «Во всем, – говорил он, – есть часть всего, кроме духа; в некоторых вещах (а именно в органическом бытии) есть и дух». Различия в степени духовной жизни существ он объяснял тем, что с телом одного существа связано больше божественного духа, чем с телом другого. Однако при этом он предполагал и развитие способностей душ, которое не сводится к увеличению количества духа, а также изначальные различия в способах деятельности душ, не зависящие от его количества. На это указывает и утверждение Аристотеля о том, что человек является самым разумным из всех живых существ, поскольку у него есть руки.
Наконец, в своих взглядах на происхождение мира и все изменения, через которые проходит мир, Анаксагор, как уже отмечалось, соглашается с Эмпедоклом в том, что первоначально все вещества были одинаково смешаны. Однако он не предполагает, что конечная цель движения состоит в полном отделении исходных веществ друг от друга. По его мнению, движением пока захвачена только часть вещества, а за пределами этой части вещество простирается в бесконечность, так что, как бы далеко ни продолжалось движение разделения, все равно останется бесконечное количество неразделимой материи. Это, казалось бы, также исключает предположение о движении к первозданному состоянию и о вечном изменении в возникновении и исчезновении космоса, но нет сведений, из которых можно было бы понять, как и высказывался ли вообще Анаксагор по этому вопросу. Еще одно различие между ним и Эмпедоклом в вопросе о формировании мира состоит в том, что последний считал первоначальное смешение первовеществ наиболее совершенным состоянием Вселенной, тогда как он рассматривал ставший мир, который природа организовала самым прекрасным и лучшим образом. Анаксагор, однако, придерживался идеи, что
Анаксагор, однако, не сформулировал идею о том, что движущая деятельность Нуса направлена на создание максимально совершенного мира, и не применил ее при рассмотрении конкретной организации мира. В его истории творения о деятельности природы не сказано ничего, кроме того, что в какой-то момент в первоначальной смеси произошло изменение, которое разделило различные вещества и затем продолжило свое распространение. Платон и Аристотель хвалили его за открытие телеологического взгляда на мир и в то же время критиковали за то, что он не продолжил это открытие. В «Федре» Платон заставляет Сократа сказать по поводу сочинения Анаксагора, что он обрадовался тому, что в качестве причины образования мира указан ум, и полагал, что теперь целесообразность и совершенство будут показаны как причина того, что все есть, но он обманулся в своих ожиданиях, поскольку Анаксагор приводит только слепо действующие причины.
Из специальной естественной теории Анаксагора можно отметить, что, в отличие от Эмпедокла, который говорил, что подобное познается подобным, он придерживался мнения, что нечто, чтобы быть воспринятым нами, должно встретить свою противоположность в органах чувств, что, например, тепло мы можем воспринять только через его собственные органы чувств. Например, мы распознаем что-то теплое только по его контрасту с холодным в той части тела, которая к нему прикасается, и точно так же холодное с теплым, сладкое с кислым, несоленое с соленым, светлое с темным и т. д.
IV. Атомисты
К позициям гилозоизма, спиритуализма и дуализма в первый период истории философии окончательно присоединяется четвертая – материализм, когда так называется учение о том, что все бытие состоит в простом заполнении пространства, а все события – в простом движении, что психические процессы, следовательно, есть не что иное, как определенные движения определенных частей материи (см. выше, с. 16).
Родоначальник этой школы Левкипп был современником Эмпедокла и Анаксагора. Больше о его жизни ничего не известно. О его сочинениях также нет никаких определенных сведений, и о его взглядах можно сказать лишь то, что он дал своему более известному и влиятельному ученику Демокриту общую материалистическую концепцию бытия и основные черты атомистической теории материи.
Демокрит родился около 460 г. до н.э., по не вполне достоверному подсчету, в Абдерах, где, по преданию, провел свою жизнь и умер в преклонном возрасте, за исключением пяти лет, которые он использовал для дальнейшего путешествия, движимый жаждой знаний. Своей славой он обязан главным образом обширности и разносторонности своих знаний. До наших дней дошли лишь фрагменты его многочисленных трудов, стиль изложения которых высоко оценивается древними.
Если Эмпедокл и Анаксагор учили, что реальные события в природе состоят только в движении, то Демокрит, возможно, под влиянием софиста Протагора, добавил утверждение, что не только все изменения ощутимых качеств тел являются лишь видимостью, причиной которой являются движения частей материи, действующие на наши органы чувств, но и сами эти качества. Ничто, объяснял он, не является действительно или по своей сути сладким, горьким, теплым, холодным, цветным. Вещи кажутся нам таковыми только благодаря тем состояниям, которые они вызывают в наших органах чувств. Сами по себе тела не обладают никакими другими свойствами, кроме тех, которые относятся к заполнению пространства и содержащимся в нем непроницаемости и тяжести (как предполагал Демокрит), т.е. определяют размер, форму, положение, состав и движение. Во-вторых, учение Демокрита о природе отличается от учений Анаксагора и Эмпедокла тем, что все составные тела состоят из простых и потому неделимых тел неизменного размера и формы, которые слишком малы, чтобы воспринимать их по отдельности, и между которыми нет никаких различий, кроме размеров, формы, положения и состояния движения. Предполагается, что эти последние составные части всех вещей, для обозначения которых Демокрит использовал различные термины, в том числе и атом, отделены друг от друга пустыми пространствами, и предполагается, что множество атомов таким образом простирается через все бесконечное пространство. Демокрит считал допущение пустых пространств необходимым главным образом потому, что без них невозможно было бы объяснить движение, сгущение и разрежение, а также разницу в весе тел одинаковой величины. Если Эмпедокл и Анаксагор считали, что пустые промежутки невозможны, поскольку они были бы бытием-небытием, то Демокрит признавал последнее, но противопоставлял парменидовскому положению, что только бытие есть, а небытия нет, другое, что бытие, то есть твердь, есть не что иное, как небытие, то есть пустота. Третья особенность демократического учения о природе по сравнению с эмпедоклеанским и анаксагоровским состоит в том, что оно не противопоставляет материю движущей силе. Причину движения он находит в самой материи; ею считается гравитация, которая, по его мнению, не добавляется к наполнению пространства как новое свойство, а просто придается атомам в силу того, что они являются материей. В результате действия гравитации масса атомов движется от вечности в направлении сверху вниз (не зависит от положения атомов и определяется природой пространства). Все движения в другом направлении возникли из падающего движения. Поскольку крупные атомы тяжелее мелких и поэтому (как считал Демокрит) падают с большей скоростью, то, если представить себе движение всех атомов в параллельных направлениях сверху вниз как исходное состояние, должны были произойти столкновения, а в результате столкновений возник вихрь, который и объясняет расположение атомов, образующее мир, каким мы его знаем, и многообразие движений, которые мы воспринимаем в этом мире. Этот процесс повторялся бесчисленное количество раз от вечности, бесчисленные волны создавались таким образом, одна за другой, только для того, чтобы снова погибнуть, и так будет вечно.
Согласно Демокриту, нет ничего, кроме атома и промежуточного, полного и пустого. Следовательно, атомы являются также носителями психических процессов, ощущений, чувства удовольствия и боли, желания и воления, мышления или того, что представляется нам ощущением, чувством, желанием, мышлением; а поскольку все события, носителями которых являются атомы, состоят в движении, то и психические процессы обретают движение. Таково было действительно мнение Демокрита. Он считал, что душа, связанная с телом животного или человека, представляет собой скопление определенного рода атомов, смешанных с ним, которые распределены по всему миру. Именно эти атомы, отличающиеся гладкостью, округлостью и тонкостью и потому особенно подвижные, образуют огонь (под которым Демокрит, вероятно, вместе с Гераклитом понимал тепло, представляемое в виде дыхания). Эта душевная субстанция по-разному действует в различных частях тела. Так, в органах чувств она порождает ощущения и восприятия, в мозгу – мысли, в сердце – гнев, в печени – желания. Вдыхание препятствует его выходу из тела и забирает из окружающего воздуха новые атомы взамен ушедших. Сон – это временное сильное уменьшение душевной субстанции, еще большее приводит к кажущейся смерти, а если из тела выходят все или почти все атомы души, наступает смерть. Восприятия возникают в душе в результате воздействия воспринимаемых вещей на тело, которое происходит аналогично тому, что предполагал Эмпедокл, а именно: истечения, исходящие от вещей, проникают в органы чувств и встречают там атомы того же рода. В частности, зрительное восприятие возникает благодаря тому, что образы, отделившиеся от вещей, производят в глазу впечатления посредством воздуха. Хотел ли Демокрит объяснить способы сознания, как «непосредственно известные нам ощущения, восприятия, мысли, чувства, желания и т.д., как сами движения, или же он хотел объяснить их как простые явления, какими нам представляются те или иные движения, т.е. как цвета, запахи, вкусы, звуки и т.д., – об этом фрагменты его сочинений и известия о его учении не дают никаких сведений. Вероятно, он не понимал разницы между этими двумя утверждениями (см. выше, с. 4), которые, кстати, одинаково противоречивы.
Ряд изречений Демокрита относится к жизненной мудрости. Согласно им, для человека лучше всего, чтобы в течение всей его жизни было как можно больше радости и как можно меньше страданий. Однако тот, кто стремится к этому, должен больше заботиться о душе, чем о теле, ибо если блага тела человеческие, то блага души – божественные. Только в себе самом человек может обрести истинное счастье, которое заключается не во внешних благах и чувственных удовольствиях, а в спокойствии и безмятежности духа, для обретения которых необходимо сдерживать свои желания, избегать несправедливости, стремиться к пониманию и правильному расположению духа.
Школа Демокрита сохранилась и в послеаристотелевскую эпоху. К ней принадлежал еще один учитель Эпикура. Все, что известно об их работах, – это то, что они, как правило, в той или иной степени приближались к скептицизму.
Второй раздел. От софистов до (включительно) Аристотеля
I. Софисты
Как уже подчеркивалось в обзоре общего хода истории философии (с. 9 выше), к середине V века произошло радикальное изменение характера философских изысканий. Если до этого научная мысль занималась исключительно или почти исключительно внешним миром, то теперь интерес переключился на вопросы, возникающие перед разумом, когда он обращает свой взор на собственные действия, на познание и воление. Первыми, кто сделал эти вопросы предметом научной дискуссии, хотя, как уже отмечалось, вовсе не с намерением проложить новый путь исследования, были софисты.
Софистами (σοφισται [софистай], слово, первоначально употреблявшееся в том же значении, что и σοφοι [софой]) называли группу людей, которые, вопреки прежнему обычаю, предлагали себя за плату во всем, что относилось к способностям знатного человека в частности, в образовании, необходимом для успешного участия в политической жизни, и в умении вести споры и выступать в суде и на народных собраниях, и были очень популярны во многих греческих городах, особенно в Афинах, ставших центром греческой культуры при Перикле. Их интересовали не более глубокие и основательные знания, а знания, теории и навыки, демонстрируя которые, они могли добиться славы, влияния и богатства, и, с другой стороны, те, кто искал их наставлений и общения, обычно стремились лишь к интеллектуальному оснащению, полезному для практической жизни, и к репутации просвещенного человека, стоящего выше предрассудков традиционной религии, морали и здравого смысла в целом.
Поэтому качествами, обеспечивающими славу софиста, были ораторский талант, свободное владение искусством риторики, необходимое для того, чтобы выигрывать судебные процессы и играть роль в общественной жизни, умение обманывать и хитрить, а также разносторонность таких знаний, которыми можно было блеснуть. Лишь двое из них имеют большое значение для истории философии: Протагор и Горгий. Протагор из Абдеры родился около 480 г. до н. э. После того как он с тридцати до семидесяти лет с большой известностью преподавал в различных греческих городах, он был вынужден покинуть этот главный центр своей деятельности из-за обвинения в атеизме, выдвинутого против него в Афинах за сочинение о богах, и умер по дороге на Сицилию. Его сочинения были утрачены, за исключением незначительных фрагментов. Горгий из Леонтини на Сицилии, по-видимому, был на несколько лет старше Протагора. Он прибыл в Афины в качестве посланника в 427 г. и с тех пор практиковал софистическое искусство там и в других греческих городах. Он достиг возраста более ста лет. От написанного им трактата о небытии ничего не сохранилось.
Важнейшим достижением софистов в области философии является выдвинутое Протагором учение о чувственном восприятии в его отношении к бытию вещей и к познанию. В его основе лежит утверждение, что воспринимаемые нами качества вещей существуют не сами по себе, а только для нас, что они не существуют независимо от того, что их воспринимают, и, неотделимы от этого, т.е. что, как объясняет Аристотель, ничто не является холодным, теплым или сладким или обладает каким-либо другим воспринимаемым качеством без того, чтобы его не воспринимали в этом качестве. Более конкретно, Протагор (вслед за «Теэтетом» Платона) рассматривал чувственное восприятие как взаимное отношение, в котором воспринимающий субъект и воспринимаемый объект связаны друг с другом таким образом, что ни восприятие какого-либо качества не может обойтись без объекта, в котором это качество воспринимается, ни это качество не может обойтись без воспринимающего его субъекта. Если, например, как объясняет Платон, глаз видит белую вещь, то он является таковым только по отношению к увиденной белой вещи, а она является белой вещью только по отношению к видящему глазу. Кроме того, взаимосвязь воспринимающего субъекта и воспринимаемого объекта, которая составляет восприятие и воспринимаемое, он представлял как совместное бытие двух движений, одно из которых идет от объекта к субъекту, а другое – от субъекта к объекту, и одно из которых есть действие, а другое – страдание, и соглашался с Гераклитом, который, однако, не мыслил движение в таком смысле, что нет неподвижного бытия, а есть только то, которое существует в движении. Протагор, таким образом, предполагает, что воспринимаемые вещи не есть нечто лишь подразумеваемое воспринимающим субъектом, но стоят напротив него как нечто столь же действительное и, воздействуя на него, вызывают его восприятие. Протагор, по-видимому, не учитывал различия между воспринимаемыми детерминантами (цветами, запахами, звуками и т.д.) и теми, которые сами по себе не воспринимаются, – способами бытия в пространстве (размер, форма, положение, движение). С одной стороны, он выразил свое утверждение достаточно общо, и это противоречило бы и учениям, которые он на нем основывает, если бы он признал, как это сделал Демокрит (вероятно, позже, но, возможно, после Ливкиппа), что чисто пространственные детерминанты имеют бытие независимо от их восприятия; с другой стороны, однако, он молчаливо предполагает не только то, что вещи вообще, но более конкретно, что пространственные вещи действуют на органы чувств, т.е. что они являются не только продуктами восприятия, как их воспринимаемые качества.
Далее Протагор утверждал, что кроме объектов чувственного восприятия, бытие которых является таковым только для воспринимающего их субъекта, нет ничего, нет иного бытия, кроме того, которое совпадает с бытием, воспринимаемым органами чувств, нет бытия-в-себе, а есть только бытие для чувственно воспринимающего субъекта. Очевидно, что это означает не что иное, как то, что вообще ничего нет, а есть только то, что кажется. Ведь когда мы говорим о предмете, что он реален, а не только кажущийся, мы имеем в виду, что он существует независимо от перцептивной деятельности другого существа. То, что мы противопоставляем бытие для субъекта, отличного от рассматриваемого объекта, бытию-в-себе или бытие в воспринимающем сознании существа, отличного от рассматриваемого объекта, бытию вне его, есть не что иное, как кажущееся бытие; реальное бытие есть только бытие-в-себе или бытие вне сознания другого существа. Легко видеть, однако, что это второе положение Протагора не только противоречит высказанному им (см. выше) молчаливому предположению о том, что восприятие возникает благодаря действию воспринимаемого объекта на воспринимающий субъект, но и отменяет само себя. Ведь предполагая, что нечто представляется или, что то же самое, чувственно воспринимается, он допускает, что нечто реально, а не просто представляется, а именно то, что представляется или то, что, рассматриваемое с одной стороны, воспринимается, а с другой – воспринимается.
Из этих положений Протагор сделал вывод, что всякое восприятие, поскольку оно истинно в той мере, в какой оно воспринимается через него, истинно и для воспринимающего, а значит, является знанием, так что обман и ошибка в восприятии невозможны. Если один и тот же предмет одному воспринимающему представляется одним образом, а другому – другим, то для одного воспринимающего он является одним, а для другого – другим; следовательно, оба восприятия согласны с бытием, т.е. являются познаниями истины. И точно так же, если один и тот же предмет представляется кому-то один раз одним образом, а другой раз – другим, то он прав в обоих случаях. Если, например, как объясняет Платон, одно и то же вино, которое здоровому Сократу кажется сладким, больному Сократу кажется горьким, то оба восприятия одинаково верны, т.е. в том, что вино сладкое, оно сладкое, а в том, что горькое, оно горькое, именно для дегустатора.
Наконец, выводом протагоровской теории является перенос утверждений о чувственном восприятии на познавательную деятельность в целом. Согласно этой теории, сущность всякого восприятия состоит в том, что нечто кажется определенным, а поведение, посредством которого нечто кажется таковым, всегда есть чувственное восприятие. Следовательно, любая мысль истинна именно для того, кто ее думает; ошибиться невозможно. Как всем кажется, так оно и есть, или, как выразился еще Протагор: «Мера всех вещей – человек, тех, что есть, – что они есть; тех, что нет, – что их нет». Поэтому Протагор не считал нужным отрицать, что существует разница в ценности между противоположными мнениями, например, между мнением, что определенная пища вкусна, и мнением, что она невкусна. Платон говорит ему в «Теэтете», что даже если то, что кажется хорошим одному человеку, и то, что кажется плохим другому, одинаково истинно, они не являются одинаково хорошими и полезными.> Поэтому из утверждения, что все мнения одинаково истинны, не следует, что нет мудрости и нет мудреца, ибо мудрец – это тот, кто знает, как изменить мнение того, кому зло кажется и есть, так, чтобы добро казалось и было ему, будь то, как это делает врач, с помощью медицины, будь то, как это делает софист, с помощью рассуждения.
Если Протагор стремился доказать невозможность заблуждения, то Горгий – невозможность знания. Если Протагор основывал свой скептицизм (ведь речь, очевидно, идет о теории, согласно которой все истинное есть мышление, в котором означаемое не реально, а представляется таковым лишь мыслящему) на том, что всякое бытие есть бытие для воспринимающего или, в более общем смысле, мыслящего субъекта и, следовательно, состоит в становлении-мысли, то Горгий исходил из того, что бытие скорее противостоит становлению-мысли. Ведь если бытие противопоставляется бытию-мысли, то ничто, что мыслится, не может быть и бытием, т.е. бытие не может быть мыслимым и, следовательно, не может быть познаваемым. Согласно единственному дошедшему до нас изложению доказательства Горгия, он должен был заключить, что если бытие познается и, следовательно, мыслится, то все мыслимое, включая, например, то, что бой колесниц происходит на море, будет таковым, и, следовательно, ошибка невозможна. Но эта традиция, скорее всего, неточна и неполна, так как заблуждение, которое она приписывает Горгию, слишком неуклюже. Невозможность познания была не единственной темой сочинения Горгия о несуществующем. Последний поставил перед собой задачу доказать три положения, из которых только одно имеет непосредственное отношение к познанию, а именно: 1. ничего нет; 2. если бы что-то было, то оно не было бы познаваемо; 3. если бы что-то было и было познаваемо, то оно не было бы сообщаемо. Однако третья пропозиция и ее обоснование не имеют никакого философского значения, и даже в отношении первой определенный интерес представляет только способ доказательства, и то в отрыве от исторического контекста. Ведь Горгий, с одной стороны, стремился показать по примеру Зенона и отчасти с помощью его аргументов, что сущее не может возникнуть и не может существовать во множественности, а с другой стороны, полагал, что аналогичным способом сможет показать, что сущее не может возникнуть и не может быть единым, и из этого делал вывод, что предположение, что оно есть нечто, содержит противоречие и поэтому должно быть отвергнуто.
Противопоставление похвальности и постыдности намерений и действий обсуждалось. Протагор, Горгий и в целом старшие софисты еще не занимались в столь же общем виде противопоставлением истинности и ложности мнений и предположений. Соображения, с которыми они вступили в этическую область, предполагали понятие добродетели как руководства к действию и недействию, действительного для всех, и, как кажется, в целом касались того, как в тех или иных обстоятельствах мудрый человек, знающий людей и вещи, делает жизнь приятной для себя, не теряя при этом уважения и почитания. Ученики и преемники этих людей, напротив, привнесли свою свободу и смелость и в этические вопросы.
Добродетель человека, утверждали они, состоит в том, что он, не признавая никаких божественных законов, соблюдая человеческие законы лишь постольку, поскольку не в силах их нарушить, не отказывая себе в удовольствиях по причине их мнимой постыдности, живет ради удовлетворения своих желаний.
II. Сократ и малые сократические школы
Сократ родился в 470 или 469 году. Его отец был скульптором, и он тоже, как говорят, учился и занимался этим искусством, но впоследствии, несмотря на бедность, полностью посвятил себя философским исследованиям и образованию молодежи. Получив в детстве обычное образование, он знакомился с наукой своего времени, особенно с математикой и астрономией, читая, посещая лекции и беседуя с учеными людьми. Вероятно, преподавательской деятельностью он занялся только в более зрелом возрасте; 424 год – первый, о котором можно с уверенностью сказать, что он инициировал и вел философские дискуссии в общественных местах. Он принимал участие в нескольких военных походах. К государственным делам он привлекался лишь в той мере, в какой этого требовал общегражданский долг, и полностью воздерживался от участия в партийных баталиях. Он никогда не путешествовал. В 399 г. он был привлечен к смертной казни за то, что не верил в богов, которым поклонялось государство, но устанавливал новые божества, а также за развращение молодежи. Большинством всего в несколько голосов он был признан виновным. Но когда он отказался от просьбы оценить причитающееся ему наказание, чтобы не признавать себя виновным таким образом, и высказался о значении своей деятельности, что было истолковано как высокомерие и пренебрежение, он был приговорен к смерти гораздо большим большинством голосов. Его обвинители и согласившиеся с ним судьи были, как правило, людьми, не знавшими, как отличить его начинания от деятельности софистов, и считавшими, что своим осуждением они способствуют все большему распаду старых обычаев и образа мышления, который, как они опасались, приведет к полному упадку государства; Отчасти, возможно, они были настроены к нему враждебно из-за его насмешливых и порицающих замечаний, которые нередко звучали в его философских беседах. Проведя в тюрьме еще тридцать дней, он попрощался с женой и детьми, затем с друзьями и учениками, и ему передали отравленную чашу. Он отказался от побега из тюрьмы, приготовленного для него другом; он не хотел, по его словам, уклоняться от законов государства, под благосклонной защитой которого он так долго находился, теперь, когда они требуют пожертвовать его жизнью.
Внешность Сократа описывается как необычная и непритязательная. Вздернутый нос, выпученные глаза, лысая голова и живот давали повод сравнивать его с Силенами и Сатирами. Да и во всем его облике было что-то поразительное. Обычно он ходил в бедной одежде и без обуви. Тем более привлекательным был его интеллектуальный характер. Превосходство его ума, простое величие нрава, сила и чистота характера, искусство возбуждать и поддерживать интерес собеседников к серьезным и глубоким вопросам, склонность и талант к добродушной насмешке и остроумной иронии, Его веселая общительность, не уклонявшаяся даже от пышного пира, вызывала восхищение и ласковое почитание всех, кто к нему приближался, о чем не уставал рассказывать Платон, даже не считая философского содержания его учения. В «Пире» Платона Алкивиад сравнивает его со скульптурами, изображающими Силенов с трубами и флейтами, но заключающими в себе колонны богов. И так божественны, и золоты, и необычайно прекрасны были образы богов, которые носил в себе Сократ, что, увидев их однажды, он (Алкивиад) считал, что должен был тут же сделать все, что хотел от него Сократ. Особенно он напоминал сатира Марсия в высокомерии и в искусстве игры на флейте, ибо как тот очаровывал людей силой своих уст с помощью этого инструмента, так и Сократ, и даже более того, одними словами. Сам он часто бывал так тронут этим Марсием, что считал, что не стоит жить, если он останется таким, какой он есть, и стыдился его – чего в нем не сыщешь. Речи его также были очень похожи на его слог. «Ибо если кто захочет послушать речи Сократа, то они сначала покажутся ему весьма нелепыми; внешне они облечены в такие слова и фразы, как в шкуру наглого сатира. Ведь он говорит о вьючных мулах, о кузнецах, сапожниках и кожевниках и, кажется, всегда говорит одно и то же, так что всякий неопытный и неразумный человек должен смеяться над его речами.
Но когда кто-нибудь увидит их открытыми и войдет внутрь, то прежде всего обнаружит, что только эти речи имеют внутри разум, а затем, что они совершенно божественны и содержат в себе прекраснейшие божественные образы добродетели и направлены на большую часть того, или, скорее, на все, что достойно исследования теми, кто хочет стать добрым и благородным». В том же панегирике рассказывается о том, что Сократ превосходил всех остальных в доблести на поле боя, а также о том, что он умел держать себя в руках, когда хотел выпить, так что никто никогда не видел его пьяным.
В своем преподавании Сократ отличался от софистов тем, что не брал за это плату, использовал не непрерывную речь, а разговорную форму, не появлялся в определенных местах и в определенные часы. Он бродил по городу и везде, где встречал пытливых мужчин или юношей – на рынке, в гимназиях, в мастерских или на праздниках, – без помех задавал философские вопросы. Особенность его манеры ведения научного диалога заключалась в том, что он предпочитал задавать вопросы и тем самым, не давая прямых указаний, побуждал собеседника к самостоятельному поиску истины или, по крайней мере, к осознанию ошибочности ранее принятого им решения. Продолжая задавать вопросы, после собственного сравнения он разубеждал собеседника в тех мнениях, которыми тот был беременен, а затем вместе с ним исследовал новорожденного на предмет его ценности. По его словам, он занимался тем же искусством, что и его мать, – акушерством (maeutics). Вторая особенность его метода, тесно связанная с этим, заключалась в иронии, с которой он делал вид, что совершенно не разбирается в обсуждаемом предмете и стремится получить знания о нем только в разговоре, но затем все больше и больше загонял собеседников в угол, после сравнения в» Меноне» Платона, он замирал, как боевой ратник, когда вступал с ним в разговор, и в конце концов заставлял их признаться, что в знаниях, которыми они думали, что обладают, ничего нет.
Сократ не писал трактатов. Он стремился не к прямой передаче определенных убеждений, а к тому, чтобы в процессе личного общения сформировать у своих друзей и учеников такое отношение и сознание, чтобы они сами зародили в себе убеждения, необходимые для нравственной добродетели, и вынуждены были бы вновь и вновь обновлять их. Для ознакомления с его учением мы опираемся на труды двух его учеников – Ксенофонта и Платона. Рассказ Ксенофонта в его «Воспоминаниях» претендует на историческую достоверность, но он был слишком слабым философом, чтобы ставить перед собой задачу воспроизведения более глубоких исследований, даже если бы он присутствовал в качестве слушателя. Кроме того, он писал в основном с апологетическими целями, и для них менее значительное содержание, воспроизведенное им из сократовских диалогов, было более полезно, чем более глубокие мысли, которые Сократ должен был высказать, по крайней мере, своим более одаренным и продвинутым ученикам, если не хотеть объявить платоновское изложение неисторическим во всех отношениях, в которых оно выходит за рамки ксенофонтовского. Если бы картина, которую рисует Ксенофонт о Сократе, была полной, то было бы совершенно непонятно то огромное влияние, которое оказывал Сократ, то восхищение, которое испытывали к нему люди самых разных характеров и направлений, и прежде всего то почитание, с которым относился к нему такой великий человек, как Платон. В отличие от «Меморабилий» Ксенофонта, диалоги Платона не представляют собой воспроизведения бесед, которые действительно вел Сократ; они задумывались не иначе как поэзия, которая одновременно воспитывает память о личности и манере преподавания мастера, о самом его учении и развивает собственные философские убеждения автора. Среди сочинений Платона есть только одно, которое, казалось бы, принципиально ограничивается воспроизведением идей, высказанных самим Сократом, – это «Апология» (защитительная речь Сократа). Однако ряд диалогов также безошибочно перемещается в круг мыслей Сократа. В других сочинениях, также, несомненно, содержащих свойственные ему взгляды, Платон не совсем упускает возможность намекнуть, что некоторые элементы их дошли до него от его учителя, но, с другой стороны, он неоднократно признает таковыми и свои собственные изыскания, лежащие вне сферы видения учителя. Таким образом, мы получаем возможность дополнить «ксенофонтовские» сообщения стихами Платона.
Предметом философских дискуссий Сократа всегда была правильность воли и действия, тот способ организации жизни, которого требует разум. И хотя он, конечно, не считал, что к знаниям следует стремиться только ради их применения, вопросы рационального ведения жизни настолько занимали его научный интерес, что все знания, не относящиеся к ним, казались ему малоценными. Он также считал, что изучение Вселенной превосходит возможности человеческого разума. «Он, – рассказывает Ленофонт, – не только не стал, как большинство других, в своих рассуждениях выяснять природу Вселенной, как возник так называемый софистами (философами) космос и по какой необходимости происходят те или иные явления на небе, но и показал, что те, кто размышляет над подобными вещами, поступают глупо. Прежде всего, он рассматривал вопрос о том, считали ли они, что достаточно понимают человеческие дела, когда начинали размышлять о них, или же они полагали, что поступают правильно, когда оставляли в стороне человеческие действия и исследовали божественные.
Но он удивлялся, что для них не очевидно, что это невозможно найти. Ведь даже высшие пилоты, когда говорят об этом, не сходятся во мнениях… Для одних конец кажется только одним, для других – бесконечным по количеству. И одним кажется, что все всегда находится в движении, другим – что ничто никогда не возникает и не исчезает». Затем он рассуждал о них и так: подобно тому, как те, кто научился человеческим делам, считают, что то, чему они научились, они также, если захотят, могут сделать… …способны творить, так и те, кто ищет божественного, верят, что, познав, по какой необходимости происходит каждая вещь, они способны творить… ветры, и воды, и времена года, и все остальное, что им нужно из подобных вещей, или же они не надеются ни на что подобное, а довольствуются лишь тем, что познают, каким образом происходит каждая такая вещь. Вот что он говорил о тех, кто стремится к этим вещам. Сам же он в своих рассуждениях всегда анализировал человечество: что благочестиво, что безбожно, что прекрасно, что постыдно, что справедливо, что несправедливо, что благоразумно, что яростно, что храбро, что трусливо, что есть государство, что есть государственный деятель».
Значение Сократа для истории философии, тем не менее, не отражено в том, чем этика обязана ему. Кроме того, что, несмотря на принципиальное неприятие рассуждений, направленных на связь вещей и устройство мироздания, он не мог не дополнить свои убеждения о рациональном поведении человека размышлениями о мире, в котором он живет, (Основав этику, он стал также основателем той науки, которая занимается изучением требований, которым должны удовлетворять результаты мышления, чтобы претендовать на звание подлинного знания, и тех форм опыта, с помощью которых человек выполняет эти требования. – Основатель логики. Ибо он был убежден, что действия каждого человека
Поскольку он был убежден, что поступки каждого человека определяются его мнениями о том, что хорошо и что плохо, что каждый заинтересован только в том, чтобы стать причастным к тому, что хорошо или ценно, и удержать от себя то, что плохо, ему казалось, что главное требование, более того, единственное требование для того, чтобы поступать и поступать правильно, – это подняться над неясными, неопределенными и колеблющимися мнениями, которые иногда попадают в истину, а иногда ошибаются, к ясному и определенному знанию. И, сделав своей особой задачей подчеркнуть это различие между простым мнением или мнением и знанием и выработать искусство мыслить по правилам, без которых можно прийти к правильным мнениям, но не к знанию, он открыл логическую область философии и открыл работу в ней, хотя, кажется, он не ставил в своих дискуссиях никаких логических вопросов и, возможно, совсем не думал о том, чтобы сделать разработанную им научную процедуру «объектом» выведенной теории.
Первым условием перехода от мнения к знанию, как представляется логическому искусству Сократа, является определение объекта, о котором хотят что-то узнать. Если человек хочет знать, какие свойства предмета подлежат утверждению или отрицанию, он должен прежде всего выяснить, что это за предмет, т.е. определить его особенность, отличающую его от всех других. Например, тот, кто (согласно платоновскому «Менону) не знает, что такое добродетель, не может ответить на вопрос, поддается ли добродетель обучению или нет, так же как тот, кто не знает, кто такой Мено, может сказать, красив ли он, богат, знатен или наоборот. Определения, на которых строятся сократовские дискуссии, однако, не всегда являются полными определениями. Там, где для решения поставленного вопроса достаточно определить понятие предмета только в одном направлении, они, как правило, оставляют это.
Для нахождения же понятия объекта Сократ использует два, но часто взаимосвязанных метода. Один из них – индуктивный (τους τ΄ επαχτιχους λογους χαι το οριζεσθαι [тус тʹ эпахтихус лёгус хай то оридзэстхай], говорит Аристотель, введенный Сократом), который исходит от высказываний об отдельных вещах или видах вещей, принадлежащих к определенному роду, к высказыванию об этом роде в целом. Другая, которую можно назвать гипотетико-критической, состоит в том, что более или менее неправильное представление об исследуемом объекте постепенно преобразуется в правильное. Сократ просит собеседника высказать свое мнение об особенностях того общего, понятие которого ищется, затем вместе с ним рассматривает это мнение, расчленяя его, сравнивая с вещами, в которых это общее встречается, и выявляя его последствия, затем просит собеседника исправить первое предложение в соответствии с результатами рассмотрения, рассматривает его заново и так далее, пока не будет получено удовлетворительное объяснение. Например, в дискуссии о различии справедливости и несправедливости, которую воспроизводит Ленофонт, в качестве дел несправедливых в первую очередь перечисляются ложь, обман, оскорбление и порабощение. Но поскольку Сократ напоминает, что полководец, поступающий так со своими врагами, действует справедливо, то приводимое объяснение корректируется в том смысле, что несправедливость заключается не во лжи, обмане и т. п. вообще, а только в отношении друзей. Но и в этом случае оно оказывается несправедливым.
Ведь, утверждает Сократ, не несправедливо, а справедливо, когда полководец обманывает свое удрученное войско, сообщая о приближении союзников, или когда отец обманом заставляет своих детей принимать горькое лекарство, или когда друга насильно лишают оружия, чтобы не дать ему покончить с собой. Таким образом, эти поступки следует считать несправедливостью только в том случае, если они совершены с намерением причинить вред своим друзьям. Диалоги, составленные Платоном с целью изложения сократовского метода, особенно те, в которых дается определение, часто обрываются, не дождавшись удовлетворительного ответа на поставленный вопрос: Сократ довольствуется тем, что доводит до сведения собеседника, который вначале думал, что понимает вопрос, свое незнание его. Так, в «Мено» попытка установить понятие добродетели не продолжается после того, как было показано, что если к первой попытке объяснения добавить, что добродетель – это способность приобретать блага, то приобретение благ должно происходить с помощью справедливости, или благочестия, или благоразумия, то это уже предполагает искомое, поскольку справедливость, благочестие и благоразумие – это добродетели.
Индуктивный метод, как и гипотетико-критическая процедура, используется в сократических дискуссиях не только там, где требуется определение понятия, но и там, где требуется знание, выходящее за рамки простого представления о его предмете. При этом индуктивный метод часто сочетается с дедуктивным, когда знание общего, полученное путем индукции, вновь связывается с конкретным, а именно с тем, которое не встречается в предшествующей индукции, например, обучаемость справедливости выводится из обучаемости добродетели вообще. Кстати, высказывания о частностях, из которых исходит индукция, имеют скорее значение назидательных примеров, ведущих на верный путь, чем оснований для доказательства. В качестве примера связи индукции и дедукции можно привести следующий вывод из «Горгия» Платона: «Кто научился плотницкому искусству, тот плотник, кто научился музыке, тот музыкант, кто научился врачебному искусству, тот врач, и так вообще, кто научился чему-либо, тот таков, ибо это знание делает всех таковыми, следовательно, кто научился справедливости, тот справедливый».
Исследования, в которых Сократ применял свое логическое искусство, касались, как уже отмечалось, почти исключительно правил рационального поведения. Такие правила, по его мнению, могут вытекать только из целей человеческого желания; они могут быть лишь указаниями, как следует себя вести, чтобы в течение всего своего существования достичь как можно больше того, чего человек желает и к чему стремится, и как можно больше удержаться от того, что ему отвратительно. Но каждый человек желает только хорошего и отвращается от плохого. Иначе говоря, каждый желает того, что хорошо или ценно во всем, чего он желает, хотя часто то, чего он желает, в действительности является чем-то злым, и каждый отвращается от того, что является злом во всем, чего он отвращается, хотя часто то, чего он отвращается, в действительности является чем-то хорошим; иными словами, никто никогда не желает ничего, кроме того, что кажется ему благом, и не отвращается ничего, кроме того, что кажется ему злом. Все правила, которые разум предписывает воле, вытекают, таким образом, из цели как можно больше приобщаться к добру и избегать зла. Это касается и тех правил, в соблюдении которых состоит нравственность.
Из этого фундаментального этического убеждения Сократ считал необходимым сделать вывод, что для того, чтобы жить правильно и рационально, нужно знать только то, что есть добро и что есть зло, а не только то, что кажется таковым. Тот, кто обладает этим знанием, обязательно поступает соответствующим образом. В частности, нравственная добродетель, добродетель – это знание того, что хорошо и что плохо; все пороки и нечестие – это незнание и заблуждение. Никто не бывает добровольно (намеренно) плохим, ибо тот, кто намеренно совершает зло, стремится к тому, что заведомо является злом. Однако Сократ не мог считать, что добродетель – дело только теоретической способности, интеллекта; невозможно представить себе, чтобы он закрывал глаза на повседневный опыт того, как инстинкты и желания могут увлечь человека против его лучших убеждений и как для победы над разумом нужны твердость и сила воли.
Воля нужна для того, чтобы дать разуму победу. Это видно и из того, что он объявил самообладание (εγχρατεια [энхратэйа]) фундаментом добродетели, ибо тот, кто приписывает самообладанию такое значение или даже признает, что существует самообладание и его противоположность, не может считать добродетель простым приспособлением рассудка. Когда Сократ учил, что воля и поступки человека совпадают без исключения с его представлениями о добре и зле, он, видимо, имел в виду то, что позже объяснил Платон, а именно, что представления о добре и зле в свою очередь обусловлены инстинктами и желаниями, в том смысле, что они часто вводят рассудок в заблуждение в свою пользу, часто затемняют ранее приобретенные знания, противоречащие им, и помогают противоположному мнению восторжествовать с помощью иллюзорных причин, которые они приводят, и что поэтому для того, чтобы прийти к познанию добра и удержать найденное знание, необходим самоконтроль.
Возможно, он был убежден в том, что знание совершенно безвредно и твердо обосновано, что оно не имеет ничего общего с простым мнением, что оно не подвержено риску быть вытесненным или фальсифицированным желаниями и, таким образом, не порождает никакой недобродетели; и, возможно, он хотел присвоить имя добродетели только той добродетели, которую дает обладание таким совершенным знанием. Только это высшее знание можно иметь в виду, когда Платон говорит в «Протогарах»: «Большинство людей думают о знании так, что оно не есть нечто сильное, руководящее и контролирующее, и даже не считают его таковым, но что часто, даже если в человеке есть знание, им управляет не оно, а нечто другое, иногда гнев, иногда похоть, иногда отвращение, иногда любовь, часто также страх, так что они, очевидно, считают знание жалким негодяем, который позволяет тащить себя всему остальному. Так ли вы думаете о нем, или, скорее, о том, что это нечто прекрасное, что управляет человеком? И когда человек познает добро и зло, не будет ли он больше принуждаться ничем иным, кроме того, что велит ему его знание, но что правильное знание достаточно сильно, чтобы помочь ему в этом?»
Сократовская этика связывает два дальнейших вывода с убеждением, что добродетель – это знание. Один из них заключается в том, что добродетели можно научить и научиться. Другой утверждает, что в сущности существует только одна добродетель, а не различные виды добродетелей. Если добродетель – это мудрость, то добродетели можно различать только внешне, по той области, по отношению к которой каждая из них является мудростью. Так, например, добродетель благочестия – это знание того, как вести себя по отношению к богам, добродетель справедливости – знание того, как хорошо вести себя по отношению к людям, храбрость – знание того, как правильно вести себя в опасности. Из-за различий в предметах, к которым относится мудрость, добродетели различаются в зависимости от возраста, положения в жизни и пола, например, добродетель юноши отличается от добродетели мужчины, последнего – от добродетели женщины, свободного – от добродетели раба. Добродетельным поступок делает всегда одно и то же: признание хорошего и плохого.
Итак, если правильное или рациональное поведение определяется знанием добра и зла, то задача этики – создать основу для этого знания, указав, в чем состоит добро вообще, то общее, что включает в себя все блага. Судя по всему, Сократ не стремился к полному решению этой задачи. Но некоторые положения, касающиеся общего понятия блага, он выделил.
Главным из них является то, что полезное также относится к благу. Когда Ксенофонт утверждает, что Сократ приравнивал благо к полезному как таковому, это, несомненно, неточное выражение, поскольку он, конечно, не имел в виду исключить из блага то, для чего полезное полезно и из чего оно черпает свою ценность.
Второе определение относится к тому же, к чему полезное относится как средство, к благу, которое имеет свою ценность само по себе. Оно состоит в том, что непосредственное благо совпадает с удовольствием или наслаждением (эти слова взяты в широком смысле, обозначающем не только удовольствия, возникающие от возбуждения чувств, но и удовольствия, возникающие от высшей духовной деятельности), или, точнее, что оно одно и то же с удовольствием в той мере, в какой последнее не влечет за собой большего неудовольствия или потери большего удовольствия; таким образом, все блага включаются в единое благо – счастье. Это утверждение можно определить двумя способами. Если отталкиваться от утверждения, что под благом следует понимать то, что способствует осуществлению конечной цели всех желаний и стремлений, от утверждения, заключающегося в том, что каждый человек желает блага, то это утверждение, которое следует рассматривать как основу всей социальной этики: Утверждение, что благо совпадает с приятным, способствующим счастью, можно понимать в том смысле, что то, что человек считает и желает благом, он сначала представляет себе как приятное, и только потому, что он представляет себе это как приятное, он желает этого и считает это благом.
Однако это утверждение может быть истолковано и так, что существует благо, которое рассматривается и желается как благо не потому, что оно приятно и представляется таковым, а, наоборот, представляется как приятная, блаженная вещь и является таковой потому, что оно является благом, желается и обладание им удовлетворяет желание. Согласно первому из этих двух взглядов, который обычно называют эвдемонизмом, благо должно заключаться в блаженстве, согласно другому – блаженство или, по крайней мере, его часть должно заключаться в обладании благом. Невозможно определить, какова была позиция Сократа в отношении антитезы этих двух позиций. Ксенофонтовская точка зрения скорее указывает на то, что он сводил понятие блага к понятию блаженства, платоновская – что он сводил понятие блаженства к понятию блага. Скорее всего, он довольствовался убеждением, что благо и блаженство совпадают. Однако весь его образ мышления однозначно больше соответствует платоновскому, чем мвфонтовскому взгляду.
Однако, каким бы ни было утверждение о том, что благо совпадает с блаженством: Как бы его ни понимать, оно не содержит удовлетворительного ответа на вопрос о том, в чем состоит благо. Оно лишь позволяет подменить этот вопрос другим: в чем состоит то, обладание чем давало бы счастье. Третье определение понятия блага, которое можно почерпнуть из «Сократовских бесед», дает ответ на этот новый вопрос, разумеется, опять-таки неполный. Оно отводит удовольствию, проистекающему из удовлетворения чувственных инстинктов, низшее место в ряду благ, составляющих счастье, а тому удовольствию, которое добродетель дает сама по себе, без всяких последствий, – высшее. По мнению Ксенофонта, блаженство заключается не в пышности и великолепии. Напротив, не нуждаться ни в чем – это божественно, а нуждаться как можно меньше – это ближе всего к божественному; но то, что ближе всего к божественному, – это и самое лучшее. Владение желаниями, владение собой над соблазнами удовольствий (εγχρατεια [энхратэйа]) – это первое, что человек должен утвердить в своей душе, первый камень в фундаменте добродетели. В противном случае он становится рабом своих желаний, которые являются самыми страшными тиранами, так как мешают совершать самые прекрасные поступки и заставляют совершать самые постыдные. Он вредит другим и еще больше себе, разрушая не только свой дом, но и тело, и душу. Самое ценное для человека – не ευτυχια [эўтюхиа], счастье, которое может прийти к нему и по желанию, а ευπραξια, заключающееся в том, что он старается поступать правильно и проницательно. Добродетельный человек радуется сознанию собственного совершенства. Наибольшее удовольствие доставляет видеть, как становишься лучше сам, и делать своих друзей более близкими, делая их лучше.
Неполнота этого утверждения о содержании блага или счастья очевидна, если учесть, что добродетель, как разумное стремление к благу, действительно может быть составной частью блага, но не всем благом, а предполагает иное благо, отличное от него, и что Сократ не мог иметь в виду, что это дополнительное благо будет поглощено удовлетворением чувственных желаний и потребностей, и что добродетель, таким образом, будет не чем иным, как мудрым расчетом того, что следует и чего не следует делать для достижения чувственного благополучия в максимально возможной степени. В традиционных взглядах Сократа нет дальнейшего определения понятия блага, которое могло бы заполнить этот пробел. Вместо того чтобы указать на благо, которое должно существовать помимо чувственного благополучия и добродетели, а значит, и на цель, к которой разум побуждает волю прежде всего, он, похоже, довольствуется указанием на законы государства и стоящие над ними божественные законы в качестве ориентира.
Проводя идею о существовании божественных законов для человеческой воли и действия, Сократ вступил в область, в которой почти исключительно подвизались его предшественники, – в область исследования Вселенной. Убежденность в божественном происхождении нравственных заповедей стала для него более понятной в том, что их автором является единый Бог, рядом с которым нет другого, даже если он не отрицает богов народной веры. Этот единый Бог – невидимый дух, узнаваемый только по его делам; он присутствует повсюду во вселенной, как душа человека в теле того же самого, и как душа управляет телом, так и он управляет миром, но душа человека разделяет с ним божественное. Если Сократ вслед за Анаксагором высказал эти мысли об отношении Бога к миру, то он критиковал его за то, что тот выразил общую мысль о том, что мирообразующая деятельность Бога направлена на то, чтобы сделать мир как можно прекраснее и совершеннее, а кроме того, представил как результат этого только первое вихревое движение, из которого все должно было возникнуть со слепой необходимостью. Он не ограничился одним лишь порицанием, а попытался в свою очередь объяснить в различных наблюдениях над особым устройством природы, как все устроено наилучшим образом. Однако целесообразность природного порядка он понимал точнее – как его пригодность для нужд человека. Его вера в божественную заботу выражалась и в том, что он часто молился.
Однако он предупреждал, что не следует просить о конкретных вещах, к которым есть желание, а только о благе в целом, так как боги лучше знают, что хорошо и полезно для того, кто обращается с просьбой. Он считал, что сам непосредственно пережил опыт высшего руководства. С юности, утверждал он, божественный голос (δαιμονιον) часто предостерегал его внутри себя от шагов, которые, кстати, были морально допустимы в любом рассматриваемом им вопросе. Нет никаких доказательств того, что его вера в божественное мировое правление в пользу человечества и в божественную заботу о человеке была связана и с верой в личное бессмертие, но нет и традиции, опровергающей внутреннюю вероятность такого предположения.
Из учеников Сократа только один, Платон, величайший из греческих мыслителей, действительно попытался продолжить и расширить начинания Сократа. Четверо других, которых следует упомянуть в первую очередь, – Евклид, Федон, Антисфен и Аристипп – также пытались создать более полный свод философских учений с помощью тех идей и стимулов, которые они почерпнули в общении с мастером, и их усилия были успешными в той мере, в какой им удалось основать свои собственные школы (Евклид, Федон, Антисфен и Аристипп), но их идеи и догадки далеко не соответствовали тому, что предлагал их учитель, и, как и их способность усваивать предлагаемое, их способность развивать незнакомое также была весьма ограниченной.
О взглядах Евклида, основавшего свою школу в родном городе Мегара, мы имеем лишь очень скудные и смутные сведения. Согласно им, он считал, что может объединить сократовские и элеатские доктрины. Говорят, что он утверждал, что благо едино, но имеет много имен: иногда его называют прозрением, иногда богом, иногда духом, иногда чем-то еще. Кроме этого единого блага, не существует ничего. – Преемники Евклида особенно старались продемонстрировать, подобно Зенону, противоречия в предположениях о множественности и движении. Некоторые из них прославились в античности, изобретая заблуждения, некоторые из которых нам кажутся довольно детскими. Наиболее известны такие заблуждения, как «Лжец», «Рогатый», «Сориты»2 и «Завуалированный». Первая предполагает случай, когда кто-то говорит, что он сейчас лжет, и показывает, что это утверждение, если оно истинно, ложно, а если ложно, то истинно. Ибо если верно, что я сейчас лгу, то, говоря, что я лгу, я на самом деле лгу, так что это утверждение неистинно; если же неверно, что я сейчас лгу, то, если это утверждение ложь, я на самом деле лгу, так что верно, что я лгу. Рогатый человек начал с вопроса: «Не потерял ли ты свои рога?», чтобы связать заключение: «Значит, у тебя были рога» с утвердительным, а другое: «Значит, у тебя еще есть рога» – с отрицательным. В качестве отправной точки спора Sorites взял вопрос о том, сколько зерен составляет кучу, чтобы показать, что это делает одно зерно, так как, если для образования кучи требуется определенное количество зерен, число, меньшее одного, становится кучей путем добавления одного, и это одно, следовательно, составляет кучу. И, наконец, человек в плаще утверждал, что если под плащом скрывается знакомый, то человек в плаще известен и не известен.
О Федоне и школе, основанной им в Элисе, а затем перенесенной в Эретрию, известно еще меньше, чем о Евклиде и его преемниках. По-видимому, между мегарцами и эретрийцами существовала определенная внешняя и внутренняя связь.
Об Антисфене, основателе кинической школы (названной так по месту ее расположения – афинской гимназии Киносирг, а заодно и по внешнему облику ее членов, соответствовавшему их учению), мы знаем лучше, чем о Евклиде и Фаэдоне, хотя до нас дошли лишь незначительные фрагменты его сочинений. Он считал, что постиг дух сократовского учения в его глубочайшей и чистейшей форме, утверждая, что добродетель – не только величайшая, но и единственная ценность или добро само по себе, а порочность – не только величайшее, но и единственное зло само по себе. Все, что не является ни добродетелью, ни пороком, ни благоприятствует, ни не благоприятствует добродетели, не является ни хорошим, ни плохим. Богатство и бедность, здоровье и болезнь, честь и бесчестие, свобода и рабство, жизнь и смерть – все это для мудрого человека безразлично. Добродетель, говорит он, вполне достаточна для счастья мудрого человека. Удовольствия, кроме тех, которые состоят в удовлетворении, доставляемом добродетелью, – это зло, ибо они отвлекают от добродетели. По его словам, лучше страдать от безумия, чем от похоти. На вопрос о том, какое поведение является добродетельным, эта доктрина логически не может дать иного ответа, кроме того, что мы не должны позволять себе определяться какими-либо потребностями и побуждениями, в соответствии с которыми что-то кажется нам хорошим или плохим, что не является ни добродетелью, ни пороком.
Ибо если бы какая-либо цель, отличная от добродетели, была названа той, в стремлении к которой состоит добродетель, то это означало бы признание блага вне добродетели. Поскольку невозможно понять, что еще можно сделать, чтобы стать или остаться причастным к добродетели, кроме как воздерживаться от всего, к чему призывают потребности и инстинкты, существующие помимо добродетели, из этого следует, что единственное поведение, соответствующее добродетели, состоит в том, чтобы вообще ничего не делать, и что всякое действие, поскольку действие может возникнуть только из идеи, что есть добро помимо добродетели, является недобродетельным. В кинической доктрине такого вывода, конечно, нет. Однако добродетель совпадает с тем, что она не определяется никакими потребностями, склонностями или инстинктами – добродетель полностью поглощена самообладанием, которое Сократ объявил лишь краеугольным камнем добродетели. Но это, по крайней мере, не должно мешать человеку жить в соответствии с определенными потребностями, а именно простыми, заложенными в нас непосредственно природой, если (так, видимо, считали они) человек не видит блага в их удовлетворении и зла в неудовлетворении, если, следовательно, живя в соответствии с ними, он не заинтересован в их удовлетворении.
Антисфен придерживался сократовского мнения о том, что добродетель – это то же самое, что знание добра и зла, а также вывода о том, что ей можно научиться и что существует только одна добродетель – мудрость. Однако, с другой стороны, он же утверждал, что добродетель – это всего лишь вопрос силы воли и упражнения; она не требует учености, достаточно силы Сократа. Под знанием, с которым тождественна добродетель, он, по-видимому, понимал лишь общую, определенную и непоколебимую, даже без обоснования, убежденность в том, что добродетель – единственное благо, а то, что мешает и противостоит ей, – единственное зло. Как бы то ни было, он не хотел признавать никакой ценности научного исследования, не касающегося вопросов добродетели и зла, особенно математического и научного.
Он причислял их, как и искусство, к тем вещам, к которым человек не имеет отношения в силу своей изначальной неиспорченной природы и в которых поэтому не могут принимать участие мудрые и добродетельные. Он также, по-видимому, отрицал возможность высшего знания, не зависящего от предпосылки, что ценность имеет только добродетель, – знания, принадлежащего только интеллекту. По крайней мере, он утверждал, что о каждом предмете можно сказать только одно качество, а именно то, благодаря которому он сам является этим особым предметом. И кроме этого тавтологического суждения о качестве, он хотел принять только утверждения, сравнивающие один предмет с другим (в качестве примера Аристотель приводит утверждение, что серебро похоже на олово) или указывающие на составные части какого-либо соединения. В этой теории, очень близкой к скептицизму, можно распознать влияние Горгия, учеником которого Антисфен был до того, как присоединился к Сократу.
Поздние киники, среди которых наиболее известен ученик Антисфена Диоген Синопский, чья ненужность и равнодушие ко всем благам счастья вызывали восхищение Александра Македонского, придавали научным исследованиям, в том числе этическим, еще меньшее значение, чем основатель школы. Они считали, что чем больше им удается подавить в себе стремление даже к самым невинным удовольствиям, отстраниться от требований и даров культуры, тем ближе они подходят к совершенной мудрости. При этом они настолько далеко зашли в своем противостоянии традиционному образу мышления, что не только боролись с традиционными религиозными представлениями и обычаями, но и объявили брак и государство институтами, противоречащими изначальной природе человека и потому являющимися порождением глупости и нечестия, а также нередко потворствовали отрицанию самых простых приличий, даже тех, которых требует чувство стыда. Примерно в середине III века киническая школа, по-видимому, исчезла; вероятно, она не смогла противостоять стоической школе. Она возродилась во II веке н.э., но не достигла значимости.
Наконец, Аристипп, основавший свою школу в родном городе Киринее, после смерти Сократа некоторое время странствовавший по примеру софистов и, в частности, неоднократно останавливавшийся в Сиракузах, где успешно добивался расположения старшего и младшего Дионисия, отошел от Сократа в сторону, противоположную Антисфену. Его учение (которое он, как говорят, изложил в нескольких сочинениях, из которых, однако, ничего не сохранилось) не признает за благо само по себе ничего другого, кроме удовольствия, и не признает никакого другого удовольствия, кроме чувственного, состоящего в возбуждениях такого рода, в которые душу вводят органы чувств.
Ни приятные, ни неприятные состояния души, по его мнению, являются отчасти состояниями покоя, отчасти слабыми движениями, причем чувства удовольствия более сильные и в то же время нежные, чувства неудовольствия – грубые и бурные движения. Имеет ли чувство удовольствия свою первопричину в телесном или, как, например, радость при виде цветущего отечества, в душевном процессе, в этом отношении безразлично; оно всегда является чувством удовольствия, поскольку состоит в мягком, не слишком слабом движении. Таким образом, при оценке ценности того или иного удовольствия все зависит только от того, насколько оно велико и какое влияние оно оказывает на будущее поведение в смысле удовольствия и неудовольствия. Чувственные же ощущения удовольствия, как правило, тем больше, чем они сильнее и, следовательно, сами по себе лучше. Аристипп лишь хотел, чтобы настоящее удовольствие более определенно рассматривалось как благо. Он, конечно, не хотел противопоставить ему какое-либо рассмотрение будущего, какого-либо рассмотрения последствий удовольствия, поскольку, помимо того, что это было бы слишком абсурдно, это явно противоречило бы тому, что будет сказано далее о его учении. Он лишь хотел сказать, что нельзя допускать, чтобы настоящее наслаждение портилось меланхоличными размышлениями о быстротечности прекрасного мгновения и скорбью об ушедшем, порывами желаний, цель которых лежит в будущем, страхами и тревогами, и, далее, возможно, что глупо искать удовольствия в воспоминаниях о прошлых удовольствиях или в надежде на будущие за счет тех, которые можно получить в настоящем.
С таким взглядом на добро и удовольствие, восходящим скорее к софистам, чем к Сократу, Аристипп соединил сократовское учение о том, что добродетель совпадает с познанием добра и зла и что, с другой стороны, она состоит главным образом в самоконтроле. Однако, по его мнению, добродетель имеет ценность не сама по себе, а только в связи со своими последствиями. Она нужна для того, чтобы получать как можно больше удовольствия и как можно меньше страдать от боли, а для этого необходимо уметь измерять ощущения удовольствия и боли, рассчитывать последствия своих действий и бездействия, владеть собой в наслаждении и в стремлении к удовольствию.
Поскольку научное знание не имеет отношения к практическим вопросам, Аристипп вместе с Антистемом считал его чем-то безразличным для мудрых. Как и Антистем, он также отрицал возможность знания такого рода, которое ищется в науках, не имеющих прямого практического значения. Если в этом отношении он был близок к Горгиасу, то в этом отношении он был близок к Протагору. Он утверждал, что мы не можем знать о вещах, отличных от нас самих, ничего, кроме тех состояний, в которые они вводят нас при воздействии на наши органы чувств. Наши восприятия не дают нам никакой информации о природе вещей самих по себе, и мы вообще ничего не можем о них определить.
Поздние киренаики, современники Эпикура, Феодор, Гегесий, Анникерий, внесли изменения в учение Аристиппа. Теодор, прозванный атеистом, не хотел отождествлять исконно хорошее с чувственным удовольствием, которое, как и чувственное наслаждение, состоит в состоянии возбуждения, но с радостным настроением ума, а исконно плохое – не с болью, которая противоположна этому удовольствию, а с бедой. Если же из учения о том, что оценка поступка с точки зрения его отношения к разуму и добродетели зависит только от того, приносит ли он радость или печаль его совершителю, он сделал вывод, что не существует постыдных по своей сути поступков и что даже кража и ограбление храма являются правильными, если они служат увеличению радости совершившего их человека, то, возможно, это не так уж плохо, как кажется. Возможно, он имел в виду, что гипотетический случай не может иметь места в реальности, поскольку человек, совершающий такие поступки, не может быть по-настоящему счастлив, несмотря на все внешнее счастье. По крайней мере, он заявил, что радостное расположение духа, которое само по себе является единственным благом, обусловлено пониманием и справедливостью, и назвал эти добродетели сами по себе благими. Еще больше, чем Феодор, Гегесий отошел от первоначального учения школы, придя к мнению, что жизнь, наполненная истинными удовольствиями, является недостижимой целью и поэтому разумно недостижима, что поэтому человек должен довольствоваться тем, что делает все возможное, чтобы защитить себя от бесчисленных страданий, которые угрожают человеку, и что это невозможно сделать иначе, чем поднявшись до безразличия ко всему, что может принести судьба, и ища опору только в самом себе. Его яркое и проникновенное описание незавидных для человека бед, которое, как говорят, подвигло многих слушателей на самоотречение, принесло ему прозвище πεισιθανατος [пэйситханатос]. Наконец, Anuiceris, поддерживая учение основателя школы в тех пунктах, в которых от него отклонились Феодор и Гегесий, подчеркивал счастье, которое приносят дружба, любовь к родителям и отечеству, благодарность и действия, соответствующие этим чувствам, в отличие от удовольствия, которое имел в виду один только Аристипп, и заявлял, что мудрый человек, чтобы достичь его, готов многое вытерпеть и отказаться от многих удовольствий.
III. Платон
Платон родился в 427 году до нашей эры. Его семья была одной из самых знатных в его родном городе. На двадцатом году жизни он присоединился к Сократу и, отказавшись от поэтических занятий, в которых, как он до сих пор считал, нашел свое призвание, полностью посвятил себя философии. Вероятно, до этого он получил общее представление об учениях ранних философов; во всяком случае, Гераклит был ему не чужд, поскольку среди его учителей был гераклитовец Кратил. Он оставался в близком общении с Сократом в течение восьми лет до самой его смерти. Между открытием его школы в Академии и смертью Сократа лежит период около тринадцати лет. Проведя некоторое время со своим другом и соучеником Евклидом в Мегаре, он отправился в Египет, Киринею, Сиракузы и другие греческие города за границей, а также в своем родном городе. Он провел долгое время в Сиракузах, надеясь склонить старшего Дионисия к своим этическим и политическим взглядам. Эти попытки закончились неудачно: Дионисий, озлобившись на него по непросвещенным причинам, приказал продать его в рабство. Своим освобождением из рабства он был обязан одному киренаику. Впоследствии он еще дважды ездил в Сиракузы в надежде, что пришедший к власти младший Дионисий поможет ему реализовать его идеи о создании и задачах государства – оба раза безуспешно. Во время его последнего пребывания в Сиракузах даже его жизни угрожала немилость тирана. Он умер в Атме в 347 году до н. э. в возрасте восьмидесяти лет. – Личность Платона предстает перед нами в самом благородном и великолепном виде из его сочинений и сообщений древних. Если Сократ, по словам Алкивиада (см. выше с. 50), походил на образы богов, скрытые в Силененстатуме, то внешний облик Платона, сила и красота его тела, достоинство и грация его движений, соответствовали благородству его нрава, твердости, мягкости и доброте его характера, богатому оснащению его ума. Глубина и острота философской мысли, не имеющая себе равных в истории, выдающийся математик, он был в то же время одним из величайших писателей всех времен, отличаясь богатством и силой воображения, способностью выражать в поэзии возвышенные мысли и чувства, и не в меньшей степени – даром юмористического остроумия и тонкого реалистического изображения характеров и ситуаций.
Все сочинения Платона сохранились. Однако среди тридцати пяти, дошедших до нас как принадлежащие ему, есть несколько, чья неаутентичность доказана, и ряд других, в отношении которых высказывались сомнения, более или менее заслуживающие внимания, и среди последних есть те, чье суждение важно для понимания важных моментов платоновского учения. Названия наиболее важных диалогов, приписываемых Платону, таковы: Протагор, Горгий, Менон, Теэтет, Парененид, Софист, Федр, Пир, Федот, Филеб, Республика, Тимей. Мено, Паренениды, Софисты и Филеб оспаривались, но, по мнению большинства платоноведов, несправедливо; в частности, Менон в настоящее время почти все оценивают как подлинный. Вопрос вызвал широкие дискуссии о том, в каком смысле совокупность платоновских сочинений можно рассматривать как единое целое, представляют ли они, как полагал Шлейермахер, за исключением некоторых, вызванных особыми случаями, систему философии по определенному плану, который, следовательно, должен был быть создан Платоном в начале его литературной деятельности, по крайней мере, в основных чертах, или же, как пытался доказать К. Ф. Герман, они представляют собой единое целое. Ф. Германн попытался доказать, что они являются выражением постепенного развития его убеждений под влиянием постепенного знакомства Платона с досократовской философией и его общения, или же, как полагает большинство людей в настоящее время, истина лежит где-то посередине между этими двумя мнениями. С этим вопросом тесно связан и порядок, в котором отдельные сочинения следуют друг за другом по времени создания. В этом отношении ученые пришли к согласию лишь по некоторым вопросам.
Так, несомненно, что ряд небольших диалогов, не упомянутых выше, был написан если не до смерти Сократа, то, по крайней мере, вскоре после нее; что «Филеб», «Республика» и «Тимей» – более позднего происхождения, чем остальные; что Протагора следует поместить раньше Горгия, последнего – раньше Филеба, последнего – раньше «Республики», а «Республику» – раньше «Тимея»; что трактат «О законах» относится к последним годам жизни философа.
Все произведения Платона, за исключением «Апологии» (защитительной речи Сократа в суде), представляют собой диалоги, так же как он использовал форму беседы в своем устном преподавании (сначала исключительно, а затем в дополнение к лекции). Почти во всех диалогах – за исключением «Парменида», «Софиста» и «Тимея» – Сократ является главным героем, который ведет беседу и устами которого Платон излагает свои собственные взгляды. И так ярко они представляют нам внешние особенности Сократа, его манеру преподавания, силу его личности, что можно подумать, будто общая цель большинства из них – воздвигнуть памятник Сократу. Причину этого мы должны видеть не только в ласковом и благодарном почитании, которое Платон оказывал своему учителю. Прежде всего, он хотел привлечь своих читателей к истинно философскому образу мышления, который должен пронизывать внутреннюю и внешнюю жизнь, и для этого он не мог выбрать более подходящего пути, чем сочетание развития учения с изображением идеализированного, но индивидуально яркого образа учителя, который предстал перед ним в центре образованного им круга как воплощение философии, не только занимающей ум, но и претендующей на всю личность.
Платоновские диалоги, хотя и достойны восхищения по форме и содержанию, лишь в очень малой степени удовлетворяют стремление почерпнуть из них все учение их автора в его внутреннем контексте. Теоретическая разработка учения часто отходит на второй план по сравнению с тем, что предлагает художник и поэт, более чем это желательно для исторического исследования. Она <разработка учения> также часто обрывается после того, как ряд попыток ответить на поставленный вопрос оказываются неудачными или недостаточными. Не хватает однозначной, неапологетических сведений именно по тем моментам, которые особенно важны для понимания всего платоновского учения. Место фактических объяснений часто занимают образы и мифы. Эта особенность платоновских сочинений объясняется отчасти инстинктом поэтического творчества, отчасти тем, что ему еще не удалось удовлетворительно разрешить трудности, связанные с фундаментальными идеями его исследования, и что в отношении занимавших его высших проблем он обладал лишь интуицией, а не знанием, и, наконец, тем, что он не выполнил задачи своих сочинений, что он ставил своей задачей не столько сообщить найденное им знание и его обоснование, сколько пробудить и воспитать в своих читателях философский образ мышления, приобщить их к искусству философского поиска, показать им проблемы, побудить их самим попробовать свои силы в их решении, помочь им в этом, напомнив им то, что они слышали из уст в уста, и склонить их к тому направлению, в котором он сам искал истину.
1. познание и идеи
При изложении учения Платона придется прежде всего рассмотреть, что он сделал для дальнейшего развития тех начал логического познания, которые были даны Сократом. Здесь необходимо подчеркнуть его определение соотношения между простым мнением (δοξα [докса]) и знанием (επιστημη [эпистэмэ]), в той мере, в какой последнее не учитывает различия между предметами. Но разница между простым мнением и знанием, по его мнению, состоит, во-первых, в том, что в мире могут быть как истинные, так и ложные мнения, но существует только истинное знание, а во-вторых, в том, что простому мнению не хватает того, чем обладает познающий, даже если его мнение верно. Познание предмета – это сочетание «правильного» мнения о нем со способностью дать отчет об этом мнении (λογος δουναι [лёгос дунай]) в соответствии с содержанием, контекстом и аргументацией; это δοξα αληθης [докса алетхэс] (или ορθη [ортхэ]) μετα λογου [мэта лёгу], тогда как простое мнение, даже если оно правильное, подобно незнанию αλογον πραγμα [алёгон прагма]. Те, кто руководствуется правильными мнениями без знания, как, например, судья, осуждающий виновного подсудимого, не имея доказательств его вины, подобны слепому, который идет по верному пути. Правильные мнения прекрасны до тех пор, пока они сохраняются; например Тот, кто, например, не имеет истинного знания о пути в Ларису, но имеет правильное мнение, будет хорошим проводником к ней; но они не склонны оставаться надолго, а уходят из души человека, если их не связать, вернув к их основанию (αιτιας λογισμφ [айтиас лёгисмф]), что особенно очевидно в сфере нравственного поведения, так как тот, кто имеет только правильные мнения о хорошем и плохом, легко может быть уведен от них страхом и желанием. Мнения, даже правильные, вырабатываются убеждением и могут быть изменены убеждением; знание же вырабатывается наставлением и не поддается убеждению.
Платон развил искусно примененные Сократом методы перехода от мнения к знанию и расширения знания, определения, индукции, дедукции и проверки предположений путем их расчленения, выявления их последствий и сопоставления с признанной истиной. Помимо определения, он возвел категоризацию понятий в ранг одной из составляющих искусства мышления, осуществляемого сознательно, диалектики, как он ее называл. В трудах Платона также содержится немало размышлений об этом искусстве и связанных с ним операциях. Но они касаются слишком немногих моментов, слишком мало развиты и слишком мало оторваны от исследований, по поводу которых они сделаны, чтобы история логики (это слово взято в более узком смысле теории мысли, всегда служащей цели познания) могла приписать им какое-либо значение, кроме предварительного этапа этой науки.
Если те положения, которые в трудах Платона касаются мышления и познания в той мере, в какой последнее рассматривается лишь как поведение ума, без проникновения в природу его объектов, являются по существу лишь развитием того, что дал ему Сократ, то, направив свою мысль дальше, на отношение познания к его предметам, к бытию, он пошел по пути, который вывел его далеко за пределы круга мыслей его учителя.
По его мнению, предметами истинного знания не могут быть ни вещи, которые мы воспринимаем и о которых на основании восприятия составляем мнения, ни даже качества, которые мы встречаем в вещах, но только идеи (ιδεαι, ειδη [идэай, эйдэ], т.е. понятийные содержания, которым соответствуют качества вещей. Понятийные содержания, которым соответствуют качества вещей, понятийные содержания, с которыми мы сравниваем вещи, оценивая их, или, что то же самое, качества или детерминанты или природы, не по их бытию в вещах, а по их понятию, например, красота по ее понятию, благоразумие, мудрость, совершенство, единство или единственность, двойственность, равенство, сходство, величие. Всякое истинное познание есть познание того, какую природу или сущность мы мыслим, когда имеем в сознании определенное понятие, и что истинно в этой мысли, поскольку она есть то, что мыслится через это понятие.
Теперь всякое понятийное содержание или всякая идея есть прежде всего то, в чем могут иметь долю многие вещи, общее. Поэтому всякое познание основано на общем. Например, не красивые звуки, цвета и формы, которые нравятся тем, кто любит их слышать и смотреть на них, являются объектом настоящего знания, а только то, что их объединяет, – красота. Кто рассматривает только эти частные примеры общего понятия красоты, тот мыслит не реалиями, а просто мнениями. Таково начало познания повсюду: множество отдельных вещей, похожих друг на друга, объединяются в группы, из них выделяется общее, что их объединяет, и только это общее является объектом познания. Диалектиком является только тот, кто выводит общее из частного и единичного (ο μεν γαρ συνοπτιχος διαλεχτιχος, ο δε μη ου [о мэн гар сюноптихос диалехтихос, о дэ мэ у]). Во-вторых, всякое понятийное содержание неизменно, изменчивы лишь те вещи, которые ему более или менее соответствуют. Например, вещь становится красивой и снова теряет свою красоту, но сама красота всегда остается тем, что она есть: красотой.
В-третьих, всякое понятийное содержание есть то, что оно есть, не просто в каком-то отношении, а абсолютно, и не в связи с чем-то другим или в сравнении с чем-то другим, а в себе и для себя, и поэтому никогда не является в одном отношении или связи тем, чем оно мыслится, а в другом – противоположным ему, тогда как воспринимаемая вещь обладает определенными свойствами, а также противоположными им, в зависимости от того, с какой стороны на нее смотреть и как ее ставить по отношению к той или иной другой вещи. Например. вещь может быть красивой в одном отношении, безобразной – в другом; человек может быть справедливым в одном отношении, несправедливым – в другом; то, что велико по сравнению с одним, мало по сравнению с другим; то, что похоже на одно, непохоже на другое; Поэтому сама красота (αυτο το χαλον, το χαλον αυτο χαθαυτο [аўто то халён, то халён аўто хатхаўто]) не есть также уродство, сама справедливость не есть также несправедливость, величие не есть также малость, сходство не есть также несходство. Наконец, каждое понятийное содержание есть то, что оно есть, в совершенном виде, тогда как вещи часто обладают качеством, соответствующим понятийному содержанию, лишь в несовершенном виде. Например, справедливость, как она понимается в своем понятии, есть совершенная справедливость, тогда как справедливость, которой реально обладает человек, есть лишь приближение к понятию справедливости; сходство само по себе ничего не лишено в том, чтобы быть сходством, тогда как вещь всегда более или менее отличается от того, на что она похожа, и поэтому несходна с ним не только в других отношениях, но и в том же самом отношении. Поэтому общее, являющееся объектом познания, есть, кроме того, неизменная, а также вечная и нетленная вещь, которая есть то, что она есть в себе и для себя и par excellence, так что она не терпит в себе никаких противоположных определений, и которая есть то, что она есть в совершенстве.
Однако не все понятия имеют содержание, которое может быть предметом истинного познания, если называть понятиями все идеи, с которыми можно сравнить вещь на предмет того, обладает ли она вообще и каким образом представленными в них качествами, а только те, которые находятся в особом отношении к мыслящему разуму, с одной стороны, и к вещам – с другой.
Что касается, прежде всего, отношения к мыслящему разуму тех понятий, содержание которых является предметом истинного познания, идей в строгом смысле этого слова, то мы получаем их не так, как общие понятия, содержание которых содержится в том, что мы воспринимаем органами чувств, т.е. не через то, что мы выводим их из чувственно воспринимаемого, что мы опускаем то, что отличает их от чувственно воспринимаемых определений сходных вещей, и сохраняем то общее, но добавляем их к нашему восприятию, пусть даже не в виде вычитанных понятий, которые мы уже осознали, для того чтобы сравнить с ними воспринимаемые вещи. Например, мы не абстрагируем понятие равенства от восприятия равных дерева или камня; скорее, мы должны были уже знать о равенстве, чтобы суметь распознать их стремление к равенству, когда мы впервые увидели примерно равные вещи. И как в случае с равенством, так и в случае с большим и меньшим, красотой, добром, правом, благочестием. Во всем, к чему относится истинное знание, понятия были заложены в наших душах еще до нашего рождения. Поэтому платоновские идеи (в более узком смысле слова) – это то, что в современной философии называется врожденными понятиями или понятиями a priori: Понятия, которыми разум не обязан органам чувств, а черпает их из самого себя. Чувственное восприятие лишь вызывает к жизни эти понятия, изначально скрытые в разуме. До соединения с телом, поясняет Платон в «Федре» в образном мифе, наша душа видела сами идеи, бесцветные, бесформенные, нематериальные существа, в полном их великолепии вместе с разумом в сверхчувственном месте; в земной жизни мы видим только их образы, лишенные великолепия, и они пробуждают в нас память о том, что мы когда-то видели.
Платон также описывает в» Федоне» реализацию идей как воспоминание о ранее виденном, а в» Меноне – прогресс знания с помощью интуиции, в частности, открытие математических истин. Однако в «Меноне он дает понять, что это объяснение не подразумевается в строгом смысле слова, поскольку Сократ представляет его как исходящее от жрецов, жриц и поэтов и заканчивает замечанием, что не хочет его защищать. А в «Федоне», где она служит основанием для доказательства бессмертия, ее следует рассматривать как иллюстрацию идеи о том, что из способности души черпать знание о вечном из самой себя можно сделать вывод о ее собственной вечности.
Во-вторых, отношение, в котором находятся Идеи к вещам, для суждения о которых они могут служить, Платон характеризует различными выражениями: как общность, как присутствие (παρουσια [парусиа]) Идеи в вещах, как подражание Идее со стороны вещей, как сходство, как участие вещей в Идее. Идеи, по его мнению, являются образцами (παραδειγματα [парадэйгмата]), вещи – послеобразами. Кроме того, он объясняет идею или участие вещей, названных именем определенной идеи, в этой идее как причину того, что эти вещи обладают качеством, соответствующим этой идее. Например, прекрасные вещи прекрасны потому, что они участвуют в идее красоты; именно в силу красоты все прекрасные вещи стали прекрасными, и точно так же в силу величия великие вещи велики, а в силу малости малые вещи малы.
Или истинной причиной того, что вещь состоит из двух частей, является не то, что кто-то соединил две части в целое или разделил целое, а участие вещи в идее двойственности, и так же причиной того, что вещь едина, является ее участие в идее единства; соединение или разделение – это только то, без чего двойственность не могла бы стать причиной. Из этих описаний видно, что идеи (если, упрощая выражение, называть так не только содержание определенных понятий, но и сами эти понятия) находятся в ином отношении к вещам, чем понятия, почерпнутые из опыта. С последними их объединяет то, что среди предметов опыта есть такие, которые им более или менее соответствуют, что по ним можно судить о предметах опыта, словом, что они действительны. Но в отличие от понятий, выводимых из опыта, они стоят по отношению к вещам не в том отношении, что они действительны потому, что существуют вещи с соответствующими им свойствами, а в обратном отношении, что существуют и могут существовать вещи с соответствующими им свойствами только потому, что они действительны. Если действительность понятий опыта является образцовой, то действительность идей является образцовой. Например, идея двойственности не обязана своей обоснованностью тому обстоятельству, что в мире происходят действия по соединению и разделению, но обоснованность этой идеи делает соединение и разделение вообще возможным, а обоснованность идеи справедливости не зависит от существования хотя бы приблизительно справедливых людей, но, наоборот, это существование зависит от этой обоснованности. Таким образом, действительность, приписываемая идеям, основывается на мировом законе или мировом порядке, который есть prius вещей, поскольку вещи управляются им, а не наоборот, поскольку вещи существуют так, как они существуют, изменяются и соотносятся друг с другом так, как они существуют на самом деле, – и действительно на рационально необходимом и потому вечном мировом порядке.
Если допустить, что такая трактовка учения об идеях верна, то в трудах Платона не остается сомнений в том, что он представлял себе вечный миропорядок как такой, который делает мир настолько совершенным, насколько это возможно, и который является таким, каков он есть, потому что делает мир настолько совершенным, насколько это возможно. В этом смысле следует понимать, когда он говорит об идее блага, совершенного или безупречного, что она превосходит все другие, кроме идеи бытия, по силе и достоинству, является причиной и началом всех других и всех вещей и управляет всем. Совершенство мира, однако, заключается в его соответствии цели, и Платон видит эту цель, как это видно из того, что среди идей он особенно выделяет такие, как проницательность, справедливость, благоразумие и нравственная красота, если не исключительно, то, по крайней мере, в высшей степени нравственная, т.е. разумная жизнь и совпадающее с ней блаженство человечества. Таким образом, вечный миропорядок, с существованием которого неразрывно связано действие этих идей, является телеолого-этическим.
Платон не пытался описать систему идей даже в общих чертах, по крайней мере, в своих трудах. Он также не дает никаких общих указаний на то, является ли то или иное понятие идеей в строгом смысле слова или нет. К числу понятий, которые он, несомненно, хотел считать таковыми, относятся понятия о таких дорогих для души вещах, как справедливость, благоразумие, проницательность, красота, совершенство, а также (согласно «Федру») здоровье и сила. Не менее часто основные понятия сравнительного мышления, особенно математические, такие как величина, малость, равенство, сходство, а также понятия числа, единства, двойственности, множественности, приводятся таким образом, чтобы было ясно, что они, с одной стороны, имеют происхождение в чистом разуме, а с другой – предполагают образцовую достоверность. Что касается других понятий, которые встречаются в сочинениях Платона с обозначением идеи или в связи с выражениями, представляющими это обозначение, или подчеркивающими то, что отличает содержание понятий от вещей вообще, то нельзя предположить, по крайней мере, в отношении наибольшего их числа, что Платон приписывал им те две особенности, которые он считал условием того, чтобы понятийное содержание было объектом истинного знания. Например, понятия несправедливости, зла, небытия, как и те, которым они противопоставляются, он, конечно, рассматривал как те, которые разум способен сформировать независимо от опыта, но столь же определенно не как те, которые являются моделями вещей или действительными для того, чтобы мир был как можно более совершенным. Холодное и теплое, легкое и тяжелое, огонь, вода, человек, бык, возможно, и те объекты, о которых Парменид в названном им диалоге предостерегает юного Сократа от пренебрежения мнениями людей, понятия волос, экскрементов, Он мог бы, наоборот, причислить их к тем, которые действительны согласно телеологическому порядку мира, признаваемому необходимым божественным разумом, но вряд ли к тем, которые человеческий разум находит в себе и добавляет к первым представлениям о вещах, им соответствующих. Наконец, понятиям кровати, стола, господина, раба и другим, содержание которых он иногда противопоставляет соответствующим им вещам, он, конечно, не приписывает значения идей в том узком смысле этого слова, о котором говорилось выше, ни с точки зрения их отношения к человеческому разуму, ни с точки зрения их отношения к вещам.
В вышесказанном даже не затрагивается важнейший момент платоновского учения об идеях, если бы наиболее известная и авторитетная точка зрения на него, подкрепленная авторитетом Аристотеля, была верна. Утверждается, что платоновские идеи – это гипофтазированные общие понятия, ставшие самостоятельными метафизическими реалиями, сущностями, имеющими материальное существование вне мира тел и душ. Предполагается, что как субстанциальные сущности они соотносятся друг с другом так же, как и с содержанием мысли. В соответствии с этим, например в сверхчувственном мире общая добродетель, существующая сама по себе, содержалась бы в благоразумии и одновременно в стойкости, причем так, что без них они не могли бы существовать; Кроме того, благоразумие, как и стойкость, и добродетель, были бы проникнуты единством, две из них – двуединством, а все вместе – трехединством, что было бы невозможно без участия пивности, пяти- и шестиединства, а поскольку благоразумие и стойкость в некоторых отношениях сходны и одновременно прекрасны и сильны, то сходство, красота и сила не могли бы отсутствовать в этом союзе. А Платон, как утверждают, приписывал Идеям не только материальное существование, но и (согласно приводимому ниже отрывку из «Софиста») способность к движению, одушевлению и разум. Сторонники этой точки зрения, однако, хотят понимать под Идеями все понятийные содержания, по крайней мере, те, которым соответствуют реальные вещи. По Платону, нет абсолютно ничего, что не имело бы своей идеи, и до тех пор, пока можно доказать единый характер нескольких явлений, простирается и царство идей; только там, где это прекращается и единство и устойчивость понятия распадается на безпонятийную множественность и абсолютную неугомонность становления, находится предел мира идей. Не только естественные предметы, но и искусственные продукты, не только существенные, но и простые понятия свойств и отношений, деятельности и образа жизни, математические фигуры и грамматические формы Платон прослеживал до их идей, он знал идеи волос и грязи, стола и кровати, идеи величия и малости и т.д., идею нарицательного слова, даже идеи несуществующего и того, что по своей сути есть лишь противоречие против идеи, дурности и порока. Соответственно, Платон считал бы движущимися, одушевленными, разумными обитателями потустороннего мира, например, нарицательное слово как таковое, обычную кровать, небытие, образ жизни пьяницы, а также не менее обычную для хромых лошадей конституцию или плащ с дырами как таковые.
То, что именно в этом состоит смысл платоновского учения об идеях, пожалуй, еще более невероятно, чем то, что пифагорейцы приписывали бытие только числам или что Парменид рассматривал все сущее как сферу, не допускающую ни множественности, ни происходящего внутри себя. Однако Платон не считал содержание всех возможных понятий, а идеи в более узком смысле слова, объекты истинного знания, чем-то просто мыслимым, но приписывал им существование, противоположное простому бытию-мысли, случайному и преходящему плаванию в сознании. Он даже учил, что истинным бытием обладают только идеи. Совершенное знание, говорится в «Республике», имеет своим объектом совершенное, всецело и полностью существующее (παντελως [пантэлёс] или ειλιχρινως ον [эйлихринос он]), и, наоборот, совершенно существующее есть совершенно познаваемое (παντελως γνωστον [пантэлёс гностон]), никак не существующее (μη ον [мэ он] и μηδαμη ον [мэдамэ он]) совершенно непознаваемо; между ними. Но между совершенным познанием и совершенным отсутствием познания стоит в качестве посредника мнение, более темное, чем первое, более светлое, чем второе, а его предмет (а именно воспринимаемые вещи) является посредником между совершенно существующим и несуществующим. Но все его объяснения, касающиеся Идей, как это, конечно, не может быть здесь подробно показано, делают по меньшей мере допустимым толкование, что под бытием Идей он понимал не вещное существование в потустороннем мире, а не что иное, как их образцовую действительность. То, что Платон, говоря о бытии Идей, имел в виду не что иное, как их действительность, – это мнение, которое уже было выдвинуто несколько лет назад и получило интеллектуальное обоснование и защиту. Но необходимо уточнить, что по Платону Идеи в более узком смысле слова, те, которые он называет «моделями» и причинами вещей, действительны особым образом, что их действительность совпадает с существованием миропорядка, который не мыслится нами сначала в дополнение к вещам на основе наблюдения за их реальными конституциями, отношениями и изменениями, а господствует над вещами, миропорядок, который является не postrius, а prius вещей.
Если существование Идей синонимично существованию вечного миропорядка, предшествующего вещам, то возникает вопрос, как Платон мог представить себе бытие такого миропорядка. Он не преминул дать однозначный ответ на этот вопрос. Согласно «Федоту», «Филебу», «Республике» и «Тимею», идеальный миропорядок существует не сам по себе, а благодаря царскому разуму и мудрости, которыми наделена царственная душа Зевса. Бог, создавший все – растения, животных, землю, небо, богов и самого себя, – создал также и идеи и, ориентируясь на них как на образец, вылепил мир. Поэтому лучшим способом распознавания причин будет тот, который предусмотрел Анаксагор, сказав, что Нус – это упорядочивающая сила и причина всего, и только для того, чтобы пощадить, так сказать, глаза, которые смотрят на образ Нуса в воде вместо солнца, позволительно остановиться на понятиях (Идеях) в исследовании причин. – Разумеется, Платон не мог иметь в виду, что Бог когда-то задумал Идеи и с тех пор держал их в своем уме, или что он не сделал этого, или что он мог задумать другие Идеи вместо тех, которые он действительно задумал. Несомненно, он считал, что божественный разум, будучи вообще божественным разумом, содержит в себе идеальный миропорядок, что его существование (а значит, и действительность идей) совпадает с существованием божественного разума. Не следует также думать об отношении божественного разума к мировому порядку так, как если бы существование последнего было лишь следствием существования первого; напротив, Платон, по крайней мере, как можно с уверенностью заключить из ряда отрывков его сочинений, видел не только в бытии и природе Бога условие для бытия мирового порядка, но и, наоборот, в бытии мирового порядка условие для бытия и природы Бога. Согласно ему, Бог – творец мирового порядка, но он создал не только растения, животных, землю, небеса и богов, но и самого себя, и, создавая себя, он также обращался к рационально необходимому мировому порядку. Здесь не место рассматривать вопрос о том, является ли противоречием одновременное рассмотрение божественного разума как первопричины мирового порядка и этой первопричины как первопричины Бога, но можно в двух словах указать, что если бы это было противоречием, то подобное противоречие можно было бы найти у всех мыслителей, которые были убеждены в существовании вечных и необходимых истин и считали, что они не могут мыслить это существование иначе, чем через беспредельный разум; Ибо если необходимые и вечные истины существуют благодаря беспредельному разуму, то и сам этот разум подвержен им.
Согласно изложенной точке зрения, на часто обсуждаемый вопрос о том, различает или отождествляет ли Платон Бога и высшую идею, идею блага, следует ответить в смысле первого из этих двух предположений. Бог тождественен не идее блага или совершенства, то есть благу или совершенству как понятийному содержанию, а тому, что само по себе есть благо или совершенство. Через него осуществляется идея блага, то есть существует телеолого-этический миропорядок, и в то же время о нем можно сказать, что его бытие благом есть участие, и притом совершенное участие, в идее блага или совершенное соответствие архетипу блага.
Придется согласиться с Платоном, что существование системы идей или вечного миропорядка, особенно телеолого-этического, не может быть представлено иначе, чем как содержащееся в божественном разуме. Однако, с другой стороны, можно утверждать, что предположение о бытии Бога не может быть согласовано с основой платоновской доктрины знания и idem. Ведь если реальным бытием обладает только то, что идеально познаваемо, и только idem идеально познаваема, то не может быть ничего, кроме Идей, бытие которых равнозначно существованию мирового порядка, а поскольку Бог не более Идея, чем любое другое конкретное существо, то Его бытие следует отрицать. Если нет ничего, кроме идей, то мировой порядок существует сам по себе; не может быть ни Бога, через которого он существовал бы, ни (как будет рассмотрено позже) мира, чьим порядком он был бы.
За учением Платона о высшем знании – диалектике – следует его теория математики, которую, однако, он изложил в своих трудах лишь намеками, не дающими ясного и определенного представления о соотношении математического и диалектического знания и их объектов, с одной стороны, фигур и чисел, с другой – идей. Он относит математическое знание к реальному знанию, которое следует отличать от простого мнения, но ставит его на более низкую позицию, чем диалектическое знание. При математических исследованиях душа вынуждена что-то предполагать, например, чет и нечет, фигуры, три вида углов и т.п., и делает она эти предположения не для того, чтобы прийти от них к началу без предпосылок, а для того, чтобы двигаться в обратном направлении, к концу. Кроме того, математики пользуются видимыми фигурами, тогда как речь идет не о них, а о том, на что они похожи и что можно увидеть только разумом, например, не о нарисованном четырехугольнике и его диагонали, а об общей природе четырехугольников.
Диалектика же исходит из предпосылок, но только для того, чтобы с их помощью подняться к началу целого без предпосылок, а оттуда, следуя связи, снова спуститься к тому, что является последним, и при этом придерживается только того, что понято, не прибегая к чувственным образам. Но как математическое знание стоит между диалектикой и простым мнением, так и его объекты стоят между идеями, с которыми имеет дело диалектика, и чувственными вещами, с которыми имеет дело простое мнение. Математика, продолжает Платон, ведет к диалектике, она воспитывает душу и укрепляет ее, чтобы она поднималась от чувственного к невидимому, она связана с диалектикой, как прелюдия с мелодией, как сновидение о существующем с познанием, которое имеет бодрствующий человек. Платон также приписывает астрономии и науке о звуковых отношениях значение предварительной ступени диалектики, поскольку последние, выходя за пределы конкретных чувственных явлений, с которыми они связаны, исследуют в целом законы двух видов движения – того, которое проявляется для глаза, и того, которое проявляется для уха. По-видимому, Платон рассматривал астрономию и теорию звука как среднее звено между математикой и мнением.
Общая трудность, присущая платоновской теории познания, на которую следует обратить внимание в заключение, связана с двуединым различием между знанием и мнением. С одной стороны, предполагается, что знание состоит в соединении правильного мнения со способностью его обосновать и дать о нем общее представление (см. выше, с. 70); с другой стороны, предполагается, что знание и мнение различаются по своим объектам, причем последнее относится к воспринимаемым вещам, а первое – к тем, которые могут быть постигнуты только разумом. Но если знание невозможно ни об одном объекте мнения, а мнение – ни об одном объекте знания, то и просто правильные мнения невозможно превратить в знание путем исследования причин, так как причина, добавляя к мысли свое основание, не изменяет объекта. Предположение о том, что Платон в интересах учения об идеях впоследствии заменил первое определение соотношения мнения и знания, унаследованное им от Сократа, на другое, опровергается тем, что в некоторых его диалогах, а именно в диалогах периода наивысшего развития его учения, встречаются оба определения. Тогда, чтобы снять противоречие, остается только пояснить, что в объяснениях, где различие мнения и знания восходит к различию вещей и идей, слово мнение берется в более узком смысле, чем в определении, согласно которому знание включает в себя правильное мнение, поскольку здесь мнениями называются все мысли, которые мыслитель не в состоянии достаточно обосновать, независимо от того, относятся ли они к чувственным или умопостигаемым вещам, а там – только те, которые по природе своих объектов не могут быть убедительно обоснованы. О чувственных вещах, таким образом, можно иметь только мнения, правильные и неправильные, ибо, что бы ни приводилось в обоснование правильного мнения о воспринимаемом, оно всегда неполно; то, что имеется в виду, остается для нашего разума случайной вещью, тем, что, с точки зрения нашего разума, может и отсутствовать в мире. С другой стороны, от правильных суждений об умопостигаемом, например, о природе благоразумия или справедливости, или о математических отношениях, мы можем перейти к пониманию того, что так все и должно быть.
2 Души и материальный мир
Бытие вечного миропорядка, придающего идее обоснованность, не может мыслиться иначе, как содержащееся в разуме Бога. Таким образом, учение об идеях нашло свое завершение в осознании бытия Бога. Следующее, что необходимо рассмотреть, – это взгляд Платона на общую природу вещей, не обретающих Бога, и их отношение к Богу.
Здесь в первую очередь рассматривается «Софист». В этом диалоге Платон стремится опровергнуть и тех, кто предполагает наличие нескольких первосуществ, чтобы вещи возникали из их сочетания, и элеатское учение о единстве бытия, исключающее всякую множественность, и показать, что бытие обязательно должно мыслиться как единое и многое, то есть как единое целое, включающее в себя множество частей. Точно так же он выступает против элеатского определения единого бытия, согласно которому оно, исключая всякое движение, остается совершенно инертным. Как в единстве должна быть множественность, так и в остальном само-бытии должна быть активность, и ближе к единому целому бытия (именно к нему, а не, как принято считать, ср. выше с. 76, к идее) должны быть уступлены жизнь, душа и разум. Однако Парменид был прав, утверждая, что множественность и движение невозможно представить без небытия, но включение этого небытия в бытие не является противоречием, поскольку то же самое – это не небытие, а то небытие, которое принадлежит бытию в той мере, в какой то же самое не есть то, что отлично от него. Между двумя рассуждениями о мире в целом (о том, что он есть единство, содержащее множество частей, и о том, что он должен мыслиться как живой разум) диалог обращается против материалистов (в качестве представителя которых он, по-видимому, имеет в виду Антисфена), которые хотят принимать за сущее только то, что можно потрогать и ощутить, и против других (вероятно, имеются в виду мегаряне), которые признают истинным бытием только некоторые умопостигаемые и бесплотные сущности (νοητα αττα χαι ασωματα ειδη [ноэта атта хай асомата эйдэ]), которым нельзя приписать способность действовать и страдать, а все остальное объявляют лишь становлением, и подчеркивают против тех и других реальное бытие бесплотных, живых душ. Таким образом, софисты описывают души как части, из которых состоит единое целое бытия – божественная причина.
Уже отмечалось (с. 79), что предположение о бытии Бога противоречит учению о том, что только то, что совершенно познаваемо, имеет бытие и что только идеи совершенно познаваемы. Это противоречие усиливается у софистов тем, что он дает такое определение сущности Бога, которое, согласно объяснениям относительно познания и его предметов, полностью исключается из истинно существующего, а именно изменчивость или становление; ибо какова бы ни была природа движения, которого каждый диалог требует от истинно существующего, оно не может быть представлено без изменения и становления, если только слово движение не следует принимать в неизвестном смысле, совершенно отличном от обычного. Утверждение о бытии Бога, очевидно, страдает от той же трудности, что и утверждение о бытии душ. Согласно учению об идеях, души должны быть причислены не к истинно существующим, а к тому, что стоит посередине между бытием и небытием (см. выше с. 77).
Правда, Платон, противопоставляя Идеи как всецело бытие вещам как посредникам между существующим и несуществующим, имеет в виду только чувственно воспринимаемые вещи, или αισθητον или ορατον γενος [айстхэтон или оратон гэнос]; о душах, которые он причисляет к νοητον γενος, он, кажется, совсем не думает; Но души, по его мнению, не более идеи, чем чувственно воспринимаемые вещи, и находятся в таком же отношении к идеям, как и последние, в том смысле, что они созданы по их образцу и участвуют в них несовершенным образом, а из этого следует, что и они лишены полного бытия. В «Федоне» и в десятой книге «Республики» Платон проводит различие между тем, чем является душа сама по себе, и тем, чем она является только в своей связи с телом, и приписывает ей истинное бытие только в той конституции, которую она имеет сама по себе. Сама по себе она невидима, является объектом внутренней мысли (a νοητον [a ноэтон]), божественна, единообразна, постоянна, нерасторжима, неразвита и нетленна, в отличие от тела, которое не может быть постигнуто мыслью (ανοητον [аноэтон]), многообразно, никогда не бывает постоянным и подвержено распаду. Но благодаря общению с телом оно обезображено и не выглядит тем, чем является на самом деле, подобно морскому богу Glaukos, чьи конечности раздавлены и сломаны волнами и на которых выросли ракушки и водоросли, так что он больше похож на чудовище, чем на то, чем он был раньше. Однако это различие лишь сокращает, а не устраняет дистанцию между Идемом как единственным истинно существующим существом и душами.
Однако это различие лишь сокращает дистанцию между идемом как единственным истинно существующим существом и душой, но не устраняет ее.
По убеждению Платона, истинное бытие души исключает возможность ее появления и исчезновения. Среди особых причин, с помощью которых он стремился закрепить веру в предсуществование и бессмертие, особенно в «„Федоне“», одна уже упоминалась выше (с. 73) – та, которая вытекает из концепции познания как воспоминания. Рассмотрим вкратце доказательство, завершающее многообразные рассуждения, которые «Федон» посвящает этой теме. Исходя из того, что душе свойственно оживлять тело, в котором она обитает, он полагает, что может показать, что противоречием является мысль о том, что сама душа может когда-либо принять противоположность жизни, т.е. смерть, не меньше, чем если бы кто-то считал возможным, что число три может когда-либо поменять четность на нечетность. Ряд образных мифических историй и описаний в трудах Платона касаются способа существования души до рождения и после смерти. В остальном они во многом отличаются друг от друга, но в целом сходятся на том, что душа нисходит из развоплощенной жизни, соответствующей ее божественной природе, в земное существование, и что те, кто сделал себя достойным его, устремившись к божественному и преодолев свои желания, возвращаются в свое первоначальное блаженное состояние, Остальные же после смертного приговора попадают под землю, где их ждет вечное наказание, а также воссоединение с человеческим или даже животным телом. Насколько Платон мог приписать этим идеям истинность или вероятность, остается только догадываться.
Платон не дает более подробных сведений об общей природе души. А то, что можно найти в его трудах о конкретном поведении души, относится к логическим и этическим учениям. В частности, его различие между частями души относится к этическим учениям, о котором мы поговорим только в следующем разделе. —
В «Софистах» Платон не дает прямого ответа на вопрос о том, как предметы чувственного восприятия, телесные вещи, соотносятся с противоположностями бытия и небытия. Но когда он здесь объявляет все сущее разумным духом, включающим в себя множество душ, разумно предположить, что он, как и Парменид до него, считал материальный мир просто иллюзорным, ибо он не мог предположить, что материальные вещи также являются частями божественного духа, и если они не содержатся во всем сущем, то остается только то, что они вовсе не являются, а только кажутся таковыми. Согласно этой точке зрения, положение Республики о том, что чувственные вещи являются посредником между полностью существующим и полностью несуществующим, означает, что их восприятие, в отличие от простого представления, порождается в нас чем-то реально существующем, а именно той же деятельностью и организацией божественного разума, которая охватывает все души, чьим порождением является идеальный миропорядок, – толкование, которое может ссылаться на то, что Платон в «Республике» ставит зеркальные изображения тел в аналогичное отношение к самим телам, как тела к всецело существующему, а также показывает в «Софисте», что в образах переплетаются бытие и небытие, что образ не есть истинная вещь, чьим изображением он является, но, тем не менее, действительно является образом. Правда, выдающиеся знатоки античности утверждали, что субъективный идеализм (т. е. учение о том, что материальный мир имеет лишь кажущееся бытие) чужд всей античности и должен быть чужд ей в силу всей занимаемой ею точки зрения, поскольку он предполагает такое осознание значения субъективности, которое в такой силе и односторонности проявилось лишь в более поздние времена. Но трудно понять, как можно согласовать это утверждение с фактами, которые сами эти ученые признают в своей историографии. Ибо хотя они примиряют элеатское учение о том, что тот, кто следует разуму, а не обманчивому мнению, не может признать ничего другого существующим, кроме божественного разума, который имеет сам себя в качестве предмета, со своей мыслью обо всей точке зрения античности, полагая, что Парененид считал божественный разум сферой, заполняющей свое пространство равномерно и без пробелов, однако они также говорят, что Протагор отрицал бытие воспринимаемого независимо от восприятия, что Горгий также отрицал возможность совпадения предмета, каковым является мир чувств, с бытием, и что Аристипп отрицал способность органов чувств учить нас о чем-либо, кроме наших собственных душевных состояний, и осознание важности субъективности, выраженной в этих учениях, достаточно для мысли, которую, по их мнению, Платон не вправе им приписывать.
Предположение о том, что Платон не приписывал чувственным вещам никакого реального бытия, не может быть основано на определенном, абсолютно однозначном объяснении Платона, но в его сочинениях нет недостатка в дальнейших объяснениях, которые могут служить его подтверждением. Так, в «Диалоге», за которым прямо следует «Софист», в «Теэтете», подробно опровергнув учение Протагора о том, что познание и чувственное восприятие – одно и то же, он прямо указывает на свое согласие с утверждением, что воспринимаемое не имеет иного бытия, кроме того, которое существует в том, что оно воспринимается. В седьмой книге «Республики» он сравнивает тех, кто думает, что может постичь реальное с помощью органов чувств, с узниками, которые заперты в темной пещере так, что видят только ее стену, а теперь считают реальными тени, отбрасываемые на эту стену вещами позади них, освещенными еще более далеким огнем, и в смене теней рассматривают то, что было раньше, как причину того, что следует потом. Описание материи в «Тимее», о котором мы сразу же упомянем, также весомо говорит в пользу того, что Платон не приписывал чувственному восприятию никакой истины.
Тимей», казалось бы, свидетельствует против рассматриваемого предположения, поскольку представляет мир как произведение, которое Бог, глядя на вечный архетип (Идеи), сформировал из материи, существующей независимо от него. Однако этот диалог не ставит своей целью изложение строгой истины; как он сам объясняет, он хочет лишь попробовать, чего можно достичь с помощью предположений, имеющих видимость истинности. Как и во второй части поэмы Парменида, он хочет показать, что если придерживаться предположения о реальном существовании чувственных вещей, то необходимо мыслить материальный мир так, чтобы как можно меньше отдаляться от истины. Кроме того, он смешивает научное и сказочное таким образом, что невозможно отделить одно от другого. Если, согласно «Тимею», допустить, что Платон противопоставлял вечного Бога и вечную материю, то придется допустить, что к этим двум принципам он добавил третий – мир идей, который, как признают самые разные интерпретации его учения, в действительности не мог быть его мнением. Пришлось бы также допустить, что он предполагал временное начало в существовании душ, что, в свою очередь, противоречило бы другим диалогам.
Действительно, если бы всем изложениям «Тимея», которые можно отделить от явно мифического характера диалога, придать научное значение, то они содержали бы прямо противоречивые учения, ибо в одном месте материя описывается как изначально невидимое и бесформенное нечто, лишенное всякой формы и определенности, а в другом – как хаос, лишенный порядка и находящийся в движении без правил. Если убедиться, что «Тимей» – это неразрывная ткань сказочной поэзии, представлений, соответствующих точке зрения чувственного опыта, и философской мысли, то придется даже увидеть в том, как он описывает первоматерию, свидетельство в пользу того, что Платон считал материальный мир иллюзорным. Он называет ее сложной и непонятной вещью – субстанцией, вбирающей в себя послеобразы сущего труднопроизносимым и чудесным образом, невидимой и бесформенной вещью, готовой поглотить все, непостижимым образом участвующей в умопостигаемом, вещью, которую трудно постичь, – той, которая, сама нетленная, дает место всему становящемуся и без него, как и запечатленные на ней образы бытия, чтобы быть доступной чувствам, не может быть постигнута законным, а только неким незаконным понятием, едва ли достоверным, которое заставляет нас, когда мы обращаем к нему свой взор, впадать в состояние мечтательности и говорить, что все существующее обязательно находится в одном месте и занимает одно пространство, а то, чего нет ни на земле, ни где-либо на небе, есть ничто. И стоило ли Платону приписывать реальное существование этому маловероятному, бессущностному нечто, о котором мы не знаем ни через органы чувств, ни через разум, которое мы добавляем к содержанию чувственного восприятия с помощью мысли, являющейся лишь ублюдком разума?
Выдающиеся ученые пытались доказать, что под принципом становления (εχμαγειον [эхмагэйон]) Платон понимал не материальный субстрат, который он противопоставляет Богу в «Тимее» как нечто изначальное, хотя, несомненно, называет таковым основу чувственного существования, а просто пространство, которое он приравнивает к несуществующему. Таким образом, «Тимей» согласуется с «Республикой», которая объявляет объекты разума, чувственные вещи, промежуточным звеном между абсолютно познаваемым бытием и абсолютно непознаваемым небытием. В любом случае эта точка зрения не может претендовать на большую внутреннюю достоверность. Если, как подчеркивается в нем самом, неправдоподобно, что Платон, в противоречии со своим объяснением, что приписывать следует только истинное бытие, поместил рядом с идеей вторую субстанцию, столь же вечную и неизменную в своей сущности при всех изменениях ее форм, то это в равной степени относится и к сопоставлению мира идей и простого пространства.
Но этот дуализм мира идей и пространства был бы просто абсурдным, если бы он поместил различие между двумя своими принципами, которые, конечно, должны быть, чтобы быть принципами, в то, что один из них является бытием, а другой – небытием, или в то, что один из них является бытием, а другой – небытием. Невероятно также, чтобы Платон считал, что физические тела, как и геометрические, образуются из простого пространства. Если, с другой стороны, утверждать, что в «Тимее» он прямо учит вместе с Филолаем (см. выше с. 22), что тела состоят из конечных составляющих чисто геометрической природы (плоть – из тетраэдров, воздух – из октаэдров, вода – из икосаэдров, земля – из гексаэдров), то это справедливо оспаривается; не сами конечные составляющие тел, а только их формы мирообразователь порождает путем геометрического построения; конечные составляющие тел возникают из изобразительного принципа, поскольку он вбирает формы в себя. И это тоже было бы по меньшей мере непонятно, как Платон, если бы он считал пространство чем-то недоступным ни разуму, ни чувственному восприятию, мог бы считать геометрию истинным знанием.
Наряду с «Тимеем», именно «Филеб», в частности, является тем местом, на которое, как полагают, может ссылаться мнение о том, что Платон сопоставил мир идей с другим началом, будь то наполненная пространством материя или просто пространство, но опять же ошибочно. Пытаясь включить в этот диалог основную идею пифагорейского учения, Платон, как и в «Тимее», выдвигает три начала: неограниченное или бесконечное, ограниченное и причину соединения этих двух начал. Но только два из них принадлежат к тем, о которых говорится в «Тимее», – ограниченное и причина, так как под последним он понимает идем, а под вторым – божественную причину. Неограниченное не совпадает с материей. Оно означает то, что имеет определенное количество или степень и может увеличиваться или уменьшаться сверх всякой определенной меры количества или степени, например, более теплое и более холодное, более сухое и более влажное, большее и меньшее, удовольствие и неудовольствие; и, по крайней мере, кажется, что этот принцип должен иметь место уже в умопостигаемом, а не только в чувственном мире. Однако если предположить, что Платон хотя бы включал материю в неограниченное, то вывод о том, что он приписывал ей реальное существование, будет необоснованным, так же как и другой вывод, что, забыв о том, что он уступил Протагору в «Театете» (см. выше, с. 85), он считал холод и тепло качествами, принадлежащими вещам самим по себе, поскольку он приводит холод и тепло в качестве примеров неограниченного. Ибо сначала нужно было бы показать, что в соответствующем отрывке «Филеба» он имел основания утверждать точку зрения философского учения о бытии в полном соответствии с ним.
Следует также отметить, что в «Филебе» и «Тимее» Платон представляет материальный мир как одушевленное существо. В «Филебе» он обосновывает эту идею тем, что как тела одушевленных существ являются частями общей материи, так и их души должны происходить из сущности, принадлежащей миру в целом, а также ссылкой на мудрость и разум, которые противостоят нам в построении мира и могут быть мыслимы только как мудрость и разум души. Ни это объяснение, ни другие высказывания «Филеба» не свидетельствуют о том, что Платон понимал мировую душу как существо, отличное от Бога. В «Тимее», напротив, проводится различие между ними. Поскольку, согласно этому диалогу, Бог хотел, чтобы все было хорошо, он считал, что целое, лишенное разума, будет менее прекрасным, чем то, которое обладает разумом, но разум не может быть дан существу, не имеющему души. Поэтому он поселил разум в душе, которую образовал путем смешения неделимого существа, которое всегда ведет себя одинаково, с делимым, телесным существом, и ввел эту душу в тело мира таким образом, что она пронизывала целое из центра и еще обволакивала его снаружи. Разделенная в соответствии с определенными числовыми пропорциями и разделенная по длине на кругообразно изогнутые полосы, составляющие каркас мира, душа перемещает себя и тело мира и приобретает правильные суждения о том, к чему прикасается, и, насколько позволяет природа того же самого, рациональное понимание. Само собой разумеется, что эту чувственно-фантастическую сказку, детали которой еще более сказочны, чем описанные общие черты, не следует воспринимать всерьез. Но даже в отношении рассказа «Филеба», если считать вероятным, что Платон не приписывал материальному миру никакого реального бытия, можно усомниться в том, что он действительно верил в существование души этого иллюзорного мира, т.е. предполагал, что весь материальный мир указывает, подобно телам животных и людей, на существование души, т.е. на существование души, для которой видимый нам мир представляется ее телом. В «Филебе» Платон тоже выступает с позиции веры в существование того, что воспринимается органами чувств; но было бы понятно, если бы в своих размышлениях о мироздании он считал необходимой с этой точки зрения идею, уже одобренную Сократом, о том, что Бог находится в мире, как душа в теле, и царствует, или что он соприкасается с миром посредством души, созданной им и представляющей его.
3. Добродетель и благо
Когда Платон снял барьеры, в которые, по мнению его учителя, была заключена философия, и в связи с исследованием познания возобновил прежние усилия, связанные с понятием бытия и целого, включающего в себя все существующее, это не привело к тому, что вопросы, которыми занимался исключительно Сократ и которые сначала занимали его, – вопросы, касающиеся образа жизни, требуемого разумом, и перспектив счастья человека, – впоследствии стали для него менее актуальными. Напротив, он возвращался к ним снова и снова; в ответах на них он видел не менее важную задачу философии, чем в познании и бытии. По его мнению, познание всего бытия и общей природы вещей требует в качестве своего дополнения того, что имеет своим предметом судьбу и участь человека, а это может быть надежно обосновано и доведено до конца только в связи с первым: учение о бытии завершается в этике, этика расширяется в учение о бытии. Он не отводил этике подчиненного места во всей философии, если бы считал ее ценность только в ее полезности, в том руководстве, которое она дает человеку; напротив, несомненно, что он считал ее столь же необходимой для удовлетворения инстинкта познания разума, как и другие части философии.
Впрочем, этические установки Платона во многом повторяют взгляды Сократа и являются результатом их дальнейшего развития и частичного переображения.
Прежде всего, он соглашается с Сократом в том, что разумной или, что то же самое, добродетельной волей и действием является та, в которой воля, направленная на приобретение блага или ценности и на избежание зла вообще, согласуется сама с собой. Искусство жить – это искусство измерения, искусство правильно взвешивать, что принесет нам то или иное решение с точки зрения добра и зла. Тот, кто живет неправильно, неразумно, безнравственно, следует тем или иным наклонностям и желаниям, удовлетворение которых приносит ему больше зла, чем добра, т.е. то, что противоречит общей цели его желаний и стремлений. В этом смысле в «Горгии» говорится об ораторах, которые в своих интересах сознательно ведут народ по ложному пути: они делают то, что им кажется лучшим, но не то, что они хотят; а в «Республике» – о душе, в которой существует тираническая конституция, т.е. в которой желания и аппетиты находятся в центре внимания. То есть о душе, в которой желания, которые следовало бы подавлять в интересах общей цели желания, возвысились до тиранов, говорится: она меньше всего делает то, что хотела бы, и поэтому всегда полна ужаса и раскаяния, всегда нуждается и не насыщается.
Платон также придерживается сократовского положения о том, что воля и действие определяются суждением о том, что есть добро и что есть зло, что все неправильные действия основаны на ошибке, что поэтому человек добровольно творит зло, и что добродетель совпадает с познанием того, что есть добро и что есть зло. Однако к этому положению он добавляет – вероятно, не вопреки мнению Сократа, а выражая его более полно и всесторонне (см. выше с. 56 и далее) – еще два развернутых положения, без которых оно не могло бы быть согласовано ни со свидетельством нравственного сознания, ни с фактами опыта. Во-первых, он признает, что не только знание в высшем смысле этого слова, но даже правильные мнения, которые человек приобретает не с помощью философии и разума, а обязан божественному провидению и которые он формирует и закрепляет практикой и привычкой, способны направить на правильный путь. Во-вторых, он неоднократно подчеркивает, что детерминация способности желания способностью познания – это только одна сторона взаимоотношений между этими двумя способностями, поскольку с другой стороны суждение о ценности и неценности вещи также находится под влиянием желания и страха. Решение воли, конечно, всегда следует за выражением теоретического факультета, но там, где осознание того, как нужно себя вести, чтобы оставаться в гармонии с самим собой, вступает в противоречие с вожделениями и желаниями, оно рискует быть изгнанным ими из души.
В этом случае человек любит убеждать себя в том, что то, чего он страстно желает, на самом деле добро, или что то, что вызывает у него страх, на самом деле зло, и после того, как он убедил себя в этом, его воля принимает решение в соответствии с подкупленным суждением. В этом и состоит преимущество знания в строгом смысле слова перед простым правильным мнением, что оно лучше противостоит таким атакам неразумного желания (ср. с. 70 выше), и поэтому философская добродетель, основанная на действительном знании, является более высокой, чем обычная, основанная на просто правильном мнении. А неразумное желание не только часто вытесняет правильное мнение, но и является препятствием на пути души к осознанию того, что есть истинное добро и что есть истинное зло. Прежде чем достичь знания, человек должен освободиться от власти похотей и желаний, враждебных разуму, ибо (как сказано в «Федоне») только чистый может прикасаться к чистому. При обучении философии, утверждает «Республика», речь идет не о том, чтобы вложить в душу знание, как свет в слепые глаза, а о том, чтобы постепенно приучить ее к свету знания, сняв с нее свинцовые грузы похотей. О материалистах в «Софисте» говорится, что их надо сначала сделать лучше, прежде чем убедить.
Это более точное и полное определение соотношения добродетели и знания «тесно связано» с теми идеями, на основе которых Платон развил сократовское учение о единстве добродетели. По его мнению, добродетель – это не род, состоящий из нескольких самостоятельных видов, не совокупность самостоятельных черт, которые можно было бы назвать добродетелями сами по себе, а некое неделимое единство. Но она предстает с нескольких сторон, или имеет несколько ветвей, ни одна из которых не может быть отделена от другой без потери того, что придает ей значение ветви добродетели. И только с одной из этих сторон или ветвей, а не со всей добродетелью в целом, тождественно познание истинно доброго и истинно злого – мудрость. От мудрости (σοφια, φρονησις), согласно сказанному об отношении знания к неразумному желанию, следует прежде всего отличать способность души сохранять и беречь правильные мнения о том, что страшно и что не страшно, в удовольствии и боли, желании и страхе. Эту добродетель Платон называет доблестью (ανδρια [андриа]). К мудрости и доблести он добавляет еще две кардинальные добродетели: благоразумие или нравственность (σωφροσυνη [софросюнэ]) и справедливость (διχαιοσυνη [дихайосюнэ]). Первая, поясняет он, заключается в сдерживании определенных похотей и желаний (εγχρατεια [энхратэйа]), это согласие и гармония «низшего по природе» и высшего в душе, когда оба единодушны в том, кто из них должен править. Поэтому можно сказать, что добродетелен тот человек, в котором все его склонности и инстинкты как чувственного существа так устроены, отчасти от природы, отчасти в результате постоянного упражнения в добродетели, что они как можно меньше препятствуют его продвижению в познании добра и позволяют ему удерживать полученные знания во всех жизненных ситуациях, так что у него как можно меньше причин для проявления добродетели. Справедливость Платон называет добродетелью, которая дает трем остальным силу развиваться и обеспечивает им защиту; ее деятельность не внешняя, а внутренняя, благодаря которой душа производит в себе должный порядок и гармонию. Поэтому справедливость – это добродетель, с помощью которой человек приводит себя к добродетели, добродетель самоопределения и самовоспитания к добродетели, сила совести, нравственность в более узком смысле этого слова. Если сравнить мудрость, стойкость и нравственность с ветвями добродетели, то справедливость следует рассматривать как ствол, из которого они растут.
Разделение добродетели на три ветви – мудрость, нравственность и стойкость – Платон связывает с различием трех сил или частей души: разумной (λογιστιχον, νους [лёгистихон, нус]), пылкой или гневной (θυμος, θυμοειδες, οργη [тхюмос, тхюмоэйдэс, оргэ]) и любостяжательной (επιθυμητιχον [эпитхюмэтихон]). Первая расположена (согласно Тимею) в голове, вторая – в груди, третья – под диафрагмой. Рациональная часть – это та часть, которая стремится к познанию и любит мудрость, и с ее помощью душа обдумывает, что делать и чего не делать. Поэтому именно она делает душу мудрой. Жаждущая или гневная часть – это та часть, благодаря которой человек не желает делать все сам и упрекает себя, если позволил себе увлечься желаниями вопреки здравому смыслу, защищается всеми силами, когда его обижают, желает властвовать, бороться и побеждать, любит честь и славу. Именно благодаря этой части душа овладевает добродетелью доблести. В алчущей части живут инстинкты, которые, как голод, жажда и половая любовь, присущи душе в силу ее связи с телом, а также стремление к деньгам и товарам как средствам чувственного благополучия. Нравственность заключается в готовности души повиноваться разуму. Две нижние части души напоминают упряжку лошадей, одна из которых прекрасна и благородна и может управляться одним лишь окриком, а другая страдает всеми недостатками формы, дика и упряма, трудно поддается укрощению и с трудом слушается кнута, а разумная часть повинуется вожаку упряжки. Или представьте себе бесформенное животное с множеством голов диких и прирученных животных, льва и человека, сросшихся в одно существо, причем многоголовое животное – это образ жадной части, лев – образ пылкой части, а человек представляет собой разум. Тот, кто объявляет неправильные поступки полезными, а правильные – бесполезными, советует не что иное, как взращивать и укреплять многоголового зверя и льва, и вместо того, чтобы приучать их друг к другу и делать друзьями, позволять им кусать и пожирать друг друга, а человека морить голодом и ослаблять, чтобы он позволял тащить себя туда, куда тянет тот или иной из них; С другой стороны, те, кто восхваляет справедливость, утверждают, что «из многоголового животного надо кормить и воспитывать только прирученное, а человека сделать как можно более сильным, чтобы он с помощью льва мог покорить дикость бесформенного животного».
Изложенное выше учение о добродетели и его ответвлениях оставляет еще совершенно неопределенным понятие о том, чего желает каждый человек и к чему следует стремиться, различая, что составляет сущность добродетели, понятие блага. Речь идет прежде всего о соотношении блага и счастья. Платону, как и его учителю, казалось естественным, что в той же мере, в какой человек овладевает благом, он овладевает и счастьем или, что то же самое, получает удовольствие, приятность в самом широком смысле этого слова в долгосрочной перспективе. Это положение, как уже отмечалось (с. 58 и далее), может быть определено двояко: ему можно придать тот смысл, что всякое благо есть благо, поскольку обладание им способствует счастью, и поэтому все, чего человек желает, он представляет себе приносящим удовольствие, а значит, желает и считает благом; но есть и другой смысл: существует благо, которое, наоборот, поскольку оно является благом, т.е. благо, соответствующее наиболее общему благу, не является благом. Иными словами, это можно понимать как сведение понятия блага к понятию счастья и, наоборот, как сведение понятия счастья к понятию блага. Если о Сократе уже можно было сказать, что весь его образ мышления лучше соответствует сведению понятия счастья к понятию блага, чем наоборот, то о Платоне это можно сказать еще больше. Он также прямо утверждает, что тот, кто обладает прекрасным и добрым, называется блаженным, а счастливые счастливы благодаря обретению блага.
Если мы теперь спросим, в чем же состоит благо, которое, таким образом, относится к счастью, то платоновская этика, опять же в согласии с сократовской, дает ответ, что к благу относится прежде всего добродетель, а зло – величайшее зло. Добродетель – это здоровье, порядок, красота и благополучие души, а порочность – болезнь, уродство и слабость. Конечно, добродетель хороша по своим последствиям, т.е. полезна, но еще больше она заслуживает того, чтобы ее любили ради нее самой. Самое прекрасное и самое справедливое – это и самое счастливое. Если представить себе совершенно несправедливого человека, умеющего прикрываться видом совершенной справедливости, достигшего власти и почестей и вообще власти и почестей и преуспевшего в этом.
И в противоположность ему совершенно праведного человека, который кажется таким же неправедным, как и праведным на самом деле, которого лишают всего, пытают и в конце концов вешают, то жизнь этого праведника гораздо предпочтительнее жизни неправедного человека. Совершать несправедливость хуже, чем страдать от несправедливости. А понести справедливое наказание лучше, чем остаться безнаказанным, ибо наказание освобождает душу от несправедливости, которая является величайшим злом, подобно тому, как искусство врачевания освобождает тело от повреждений. Как тот, кто избавляется от болезни с помощью искусства исцеления болью, менее несчастен, чем тот, кто сохраняет болезнь, так и тот, кто наказан за несправедливость, менее несчастен, чем тот, кто не наказан.
Нет необходимости понимать эти замечания так, что для праведника в каждый отдельный момент его существования или в каждый более или менее длительный период его жизни его праведность приносит счастье, которое перевешивает все страдания, которые он может испытывать, а для неправедного его неправедность приносит страдания, которые перевешивают все трудности, и что в каждый отдельный момент более праведные живут лучше, чем менее праведные. Напротив, по смыслу Платона, конечно, следовало бы сказать, что только в долгосрочной перспективе здоровье души, даже независимо от его последствий, оказывается высшим благом, а ее болезнь – высшим злом, и это убеждение может быть поддержано только при условии, что праведник берет здоровье и красоту, которыми он украсил свою душу, в настоящую жизнь, а неправедник берет с собой в будущую жизнь свою болезнь. Кроме того, Платон не мог не заметить, что если добродетель состоит в способности души обрести истинное благо, то должно существовать и отличное от нее самой благо, обладание которым необходимо нам для того, чтобы быть счастливыми. И если он поэтому без оговорок скажет о справедливом, что он также и самый счастливый, то он сделает это в убеждении, что со справедливостью обязательно связано обладание этим отличным от нее благом, о котором справедливый заботится в силу своей справедливости, а несправедливый обязательно его лишен. Наконец, можно даже усомниться в том, что Платон считал все счастье, не проистекающее непосредственно из добродетели и обладания благом, неотделимым от добродетели, а также все страдания, противостоящие этому счастью, слишком незначительными, чтобы вообще принимать их во внимание при оценке меры счастья, то ли, наоборот, он не считал нужным принимать во внимание внешнее счастье и внешние страдания, поскольку в силу божественного устройства мира считал необходимым, чтобы внешний жребий праведника был таков, чтобы он в течение всего своего существования был более счастлив, чем менее справедливый. Во всяком случае, Платон был убежден, что согласно божественному устройству мира праведники должны жить хорошо, а неправедники – плохо даже в тех вещах, в которых праведник в силу своей праведности уже не заинтересован ни в получении, ни в защите от них. Для того, кто дорог богам, утверждает он в «Республике», все, что исходит от богов, является для него наилучшим, ибо необходимое зло все равно должно прийти к нему от прежнего греха. Соответственно, надо полагать, что и бедность, и болезни, и любое другое зло обернется во благо праведнику и при жизни, и после смерти. Призы, награды и щедроты, которые праведник получает от богов и людей при жизни, не считая тех благ, которые дает ему справедливость, сами по себе ничтожны по количеству и величию по сравнению с тем, что ожидает его после смерти. Попасть в подземный мир, наполненный множеством гор (говорит Горгий), – худшее из всех зол. По закону богов, человек, который вел праведную и благочестивую жизнь, после смерти попадает на Острова Блаженных и живет там без зла в совершенном блаженстве, а неправедные и злые попадают в темницу Тартар, где их ждет кара и наказание.
Понятие справедливости или добродетели предполагает, как уже отмечалось, благо, отличное от добродетели, т.е. если добродетель – это то качество человека, благодаря которому он достигает знания добра и зла и побуждает себя стремиться к этому знанию, сохранять достигнутое и жить в соответствии с ним, то сама добродетель может быть составной частью блага, но не всем благом (ср. с. 60 выше). Действительно, можно ходить по кругу, если на вопрос, в чем состоит благо, понятие которого используется для объяснения добродетели, отвечать: в добродетели, подобно тому как, по замечанию Платона, те, кто сначала говорит, что благо состоит в прозрении, а затем, когда их спрашивают, в каком прозрении, не знают другого ответа, кроме как: в прозрении блага. Что же касается того блага, к которому относится понятие добродетели, то Платон говорит, что оно не является целью, к которой стремится ни жадная, ни алчная часть души, хотя вещи, в обладании которыми эти части души находят свое удовлетворение, в той мере, в какой они не преобладают, Хотя вещи, в обладании которыми эти части души находят свое удовлетворение, также являются чем-то хорошим, поскольку они не влекут за собой преобладающего зла и не препятствуют приобщению к чему-то более ценному, это скорее то, к чему стремится рациональная часть, а это – знание, и не просто знание о хорошем и плохом, а знание о существовании вообще. Каждая из трех частей души, поясняет «Республика», имеет свое желание и свое удовольствие. Жадная часть стремится к так называемому вожделению, которое достигает души через тело, и предпочтительно к деньгам как средству достижения этой цели; жаждущая часть стремится к борьбе и победе, к мести за причиненную несправедливость, к власти и славе; разумная часть стремится к обучению и знанию (см. выше, с. 92). Каждая часть превозносит свое удовольствие и игнорирует другие, но правда на стороне разумной части, так как только она имеет опыт всех трех видов удовольствия, поэтому может сравнивать их друг с другом, и только ее суждения основаны на проницательности и разуме. Его удовольствие – лучшее во всех отношениях, но удовольствие честолюбивой части лучше, чем удовольствие жадной части. Удовольствия двух низших частей души – лишь двойники и тени истинного удовольствия, которое знает только любящая мудрость. В «Филебе» Платон впервые перечисляет три составляющие совершенного блага: знание о божественном, знание и правильные представления о воспринимаемом, вместе с искусствами, в которых они применяются, и те удовольствия, которые могут существовать вместе со здоровьем тела и души, особенно те, которые, как и восприятия божественного, могут быть реализованы только с помощью органов чувств, те, которые, как и те, что следуют за восприятиями глаза и уха, по своей природе не смешиваются с неудовольствием желания или могут возникнуть только в связи с неудовольствием, а те, которые желаются с неистовым порывом, смущающим душу и создающим ей препятствия, должны быть исключены из числа благ. Где же он тогда, в соответствии с пифагорейским направлением диалога, акцидентально в схематичном и темном представлении? Над этими тремя составляющими он ставит ровное и прекрасное, совершенное и достаточное, а над ними, как высшее, – меру и то, что соответствует мере и своевременно, и все остальное, что, надо полагать, избрала вечная природа, Это следует понимать как связь души с мироустроительным божеством и вытекающую из этой связи упорядочивающую силу добродетели, благодаря которой она становится по возможности причастной к тому, что, согласно «Теэтету» и десятой книге «Республики», является самым ценным – к подобию Бога.
От общего учения о благе Платон перешел к обстоятельным рассуждениям о том, к какому устройству жизни должны разумно присоединиться люди, чтобы приобщиться к благу в той мере, в какой это позволяют их внутренние несовершенства и внешние условия их существования. Всеми общими усилиями, направленными на достижение этой цели, должно, согласно своему верховенству, заниматься одно государство. Государство должно организовать всякий доходный труд и обеспечить его продуктами, обеспечить воспитание и образование граждан с детства до зрелого возраста по точно определенному плану, взять под свою опеку и надзор научные исследования, определить допустимую степень занятия поэзией и изящными искусствами и даже регламентировать половые сношения граждан с целью производства способных детей. В государстве не должно быть семей, государство должно быть единой семьей. Человек не должен быть ничем для себя, он должен быть всем, чем он является как гражданин государства. Здесь нет возможности подробно останавливаться на тех государственных институтах, к которым Платон призывает в своем главном произведении и которые он также считает возможными, если только, чего, конечно, не следует ожидать, люди решатся искать в них спасения. Но основную идею его построения можно изложить кратко. Она заключается в том, что государство должно быть построено по образцу души и состоять из трех сословий, соответствующих трем частям души: сословия правителей, состоящего из философов, сословия стражей или воинов, более тесно с ним связанного, и сословия тех, кто отстранен от всех государственных должностей, и земледельцев и торговцев, которые не имеют никакого влияния на законодательство и управление, и что государство хорошо упорядочено, если между этими тремя классами существуют отношения, соответствующие отношениям трех частей справедливой и добродетельной души.
IV. Аристотель
Аристотель родился в 385 году в Стагире, колонии во Фракии. Его отец был личным врачом царя Аминта Македонского. В восемнадцать лет он стал учеником Платона. Он оставался в Афинах в течение двадцати лет после смерти Платона, всегда поддерживая тесную связь с Академией. О его личных отношениях с Платоном ничего определенного не известно. То, что сообщается о разрыве, совершенно не подтверждено. Представляется очевидным, что не только после смерти Платона он выбрал для себя путь, известный нам по его поздним сочинениям, который далеко отдалил его от учителя, или «выступил со своими инакомыслием и критикой, из чего вполне можно заключить, что ни сам он, ни Платон не проявляли к нему никакого интереса», То, как он воспроизводит и критикует платоновские учения в своих поздних работах, позволяет даже предположить, что он стремился к самообразованию скорее через частное чтение философских и вообще научных трудов, чем через их прослушивание в Академии. Кажется совершенно правильным, когда Шлейермахер в своей «Истории философии» говорит: «Многие свидетельства не оставляют сомнений в том, что Аристотель в течение нескольких лет был непосредственным учеником Платона. По его сочинениям этого не скажешь. Постоянные недоразумения с платоновскими учениями, которые можно объяснить непониманием сочинений, но нельзя понять, как живой ученик должен был их сохранить; все ссылки на наши сочинения, ни одного из них на устные наставления; порицание, нарочитое, отдельных выражений, такое, какое не могло бы быть у того, кто знал манеру Платона с жизни; все это говорит только за знание из сочинений. Из этого, по крайней мере, видно, насколько непрочной была связь и как мало можно винить Платона за то, что он не выбрал Аристотеля своим преемником». В 343 или 342 году Аристотель был назначен царем Филиппом Македонским воспитателем своего сына Александра, которому тогда шел четырнадцатый год. Когда Александр отправился в Азию, Аристотель вернулся в Атм и открыл свою собственную школу в Ликейоне. Она была названа Перипатетической школой из-за наличия арок (περιπατοι [пэрипатой]) в этой грамматической школе и из-за привычки Аристотеля преподавать пешком. Когда после смерти Александра афиняне начали восставать против македонского владычества, Аристотель почувствовал опасность и покинул Афины после двенадцати-тринадцати лет преподавания. В следующем, 322 году он умер в Халкисе на Эвбее.
Мы не располагаем достоверными сведениями о личности Аристотеля. Злонамеренные утверждения, которым подверглась память о нем, даже в большей степени, чем о Платоне и Сократе, лишены всякой достоверности, и тем более нельзя им доверять, поскольку они совершенно не вписываются в картину, которая вырисовывается из его сочинений. Что касается его отношения к науке, то основными чертами его индивидуальности были широкая эрудиция, проницательность, тонкость в отдельных замечаниях, разносторонний интерес, обращенный, однако, больше к отдельным сторонам бытия и его следствиям, чем к внутреннему контексту и корням, неустанное стремление развить науку в формальном отношении, а также вывести ее за прежние границы ее области во всех направлениях и прочно утвердить ее в новых областях, Однако потребность в действительно ясном и определенном понимании часто отходила на второй план перед потребностью в той, казалось бы, методической и систематической организации исследования, которая гарантирует полноту результатов и которая заключается в единообразном применении эластичных формул во всех отраслях знания, рассчитанных на многообразные повороты.
Сочинения Аристотеля – а их, по не очень достоверной традиции, насчитывается тысяча – постигла гораздо менее счастливая судьба, чем сочинения Платона. Изданные им сочинения, блестящий стиль которых вызывал восхищение древних, утрачены (за исключением недавно обнаруженной «Афинской политии»), за исключением ряда названий и нескольких незначительных фрагментов. Предполагается, что все они относятся ко времени, предшествовавшему созданию школы, и что если не все, то, по крайней мере, большая их часть представляла собой популярные изложения в форме диалогов. Дошедшие до нас сочинения представляют собой, по-видимому, записи, на которых Аристотель основывал свои лекции, некоторые из них он мог давать своим ученикам, а также, вероятно, черновики, которые он собирался переработать и дополнить для публикации. Но многие из этих записей также были утеряны, а те, которыми мы располагаем, безусловно, имеют форму, во многом отличающуюся от оригинала. Доказано, что, помимо мелких и крупных, нередко дословных повторов, они содержат, с одной стороны, некоторые пробелы, с другой – дополнения, часть которых восходит к памяти о лекциях Аристотеля и их копиям, а часть может отражать собственные мысли их авторов; во многих случаях элементы, контекст которых был утрачен, были неправильно собраны заново. Однако не стоит сильно сетовать на такое положение дел, поскольку сохранившаяся несомненная аутентичность позволяет с уверенностью определить основные черты философских взглядов Аристотеля.
К числу важных для истории философии сочинений, дошедших до нас под именем Аристотеля, относятся прежде всего логические труды, позднее объединенные под названием «Органон», а именно: 1. «Категории», 2. «Об истолковании» (περιι ερμηνειας [пэрии эрмэнэйас], de interpretatione), 3. «Первая аналитика» (αναλυτιχα προτερα [аналютиха протэра]), посвященная рассуждению, 4. Вторая аналитика (αναλυτιχα προτερα [аналютиха протэра]), в которой рассматривается процедура познания, служащая целям знания, особенно доказательства, 5. Топика, предметом которой является искусство рассуждения в области того, что хотя и не доказано строго, но может быть возведено к общему убеждению, и которая в своей последней книге (περι των σοφιστιχων ελεγχων [пэри тон софистихон эленхон]) рассматривает заблуждения, с помощью которых правильные мнения представляются содержащими противоречия. Трактат о категориях считается авторитетами подлинным только в основных своих частях, а трактат Об истолковании – полностью поддельным. – Далее аристотелевское учение о бытии содержится в сочинении, получившем впоследствии название «Метафизика» (τα μετα τα φυσιχα [та мэта та фюсиха]), поскольку в древнейшем дошедшем до нас собрании аристотелевских сочинений (составленном Андроником, современником Цицерона) ему отведено место после «Физики» и трех книг о душе. Метафизика» считается сборником трудов Аристотеля по первой философии (πρωτη φιλοσοφια [протэ филёсофиа]) или теологии, как он называл общее учение о бытии. Исследования о душе сам Аристотель относил к естественным наукам. – Кроме того, имя Аристотеля носят три сочинения по этике, из которых, однако, только одно – «Никомахова этика» (Ἠθικὰ Νικομάχεια [этхика́ никома́хэйа]) – признано его произведением. Философскую этику дополняет «Политика» (Πολιτικά [политика́]), в которой рассматривается природа государства и его различные формы. – Из научных работ общая физика (φυσιχη αχροαδις [фюсихэ ахроадис]) также содержит некоторые замечания, касающиеся философских проблем. В меньшей степени это относится к книгам о животных (περι τα ζφα ιστοριαι [пэри та дзфа историай]) и более мелким научным сочинениям и трактатам. Риторику и неоконченную Поэтику также следует отнести к числу сочинений, более далеких от философии.
1. познание
Самая несомненная заслуга, которую Аристотель приобрел для философии, – это создание основ логики. После того как Сократ и Платон разработали искусство рассуждать по правилам, а Платон, по крайней мере, дошел до ряда отдельных замечаний и наблюдений над этим искусством, Аристотель взялся за разработку целостной теории этого искусства. Прежде всего он рассматривает умозаключение, для изучения которого, как он сам отмечает, он не нашел никакой подготовительной работы; от него он переходит, с одной стороны, к рассмотрению суждений и понятий, с другой – к процессу доказательства и, следуя ему, к операциям определения и деления. Из учения о суждении следует отметить, что оно содержит два деления, которые впоследствии были обозначены как качественное и количественное (на утвердительное и отрицательное, общее и особенное), и третье, которое, как и так называемое деление по модальности, основано на различении возможного, действительного и необходимого, но понимает эти слова в другом смысле, а так называемое деление по отношению (на категорическое, гипотетическое и дизъюнктивное) полностью отсутствует. Деление суждений по качеству и по количеству связано с различением двух видов отношения между двумя суждениями, имеющими один и тот же субъект и один и тот же предикат, но противоположное качество, а именно с противоречивой оппозицией, в которой находятся два таких суждения, когда одно является общим, а другое – частным (например, Все люди – белые, некоторые – нет). Например, All men are white, Some men are not white), а также когда субъектом является единичная вещь, а противоположностью – члены которой оба являются общими (All men are white, No man is white).
Что касается учения об умозаключении, то следует отметить, что, кроме умозаключения через инверсию суждения (например, Всякое удовольствие есть нечто хорошее, следовательно, некоторое хорошее есть удовольствие), оно рассматривает только так называемые категорические умозаключения (т.е. такие, которые из логических отношений, в которые два понятия вступают с третьим, выделяют существующее между ними отношение, напр. из двух отношений, что понятие прямоугольника подчинено понятию четырехугольника, у которого сумма двух противоположных углов равна двум правам, а последнего – понятию фигуры, вписанной в окружность, вытекает третье отношение, что понятие прямоугольника подчинено понятию фигуры, вписанной в окружность, и поэтому все прямоугольники являются такими фигурами). Далее, касаясь учения Аристотеля об умозаключениях, следует подчеркнуть, что из него вытекает деление категорических умозаключений на три фигуры (четвертая фигура была добавлена позднее Галеном) и фигур на способы.
Из рассуждений о форме доказательства следует отметить различие между прямым и косвенным доказательством, как доказательством, с помощью которого показывается, что из допущения предложения, противоречащего утверждению, вытекает нечто невозможное; из учения об определении – то, что оно дает правило, которое с тех пор не утратило своей актуальности, – определять понятие, указывая ближайшее родовое понятие, к которому оно относится как видовое, и его отличие от соседних с ним видовых понятий (definitio fiat per genus proximum et differentiam specificam). Наконец, одним из выдающихся достижений Аристотеля в элементарной части логики является открытие (уже подготовленное Парменидом и затронутое Платоном) того, что все правила связи суждений с выводами и выводов с доказательствами, а значит, и несовместимости и возможности существования двух суждений вместе, можно проследить на основе одной посылки – принципа противоречия. «Невозможно, – утверждает он, – чтобы одно и то же было и не было истинным по отношению к одной и той же вещи в одном и том же отношении в одно и то же время». Это положение, добавляет он, является наиболее определенным из всех принципов и исключает всякую возможность ошибки, поскольку невозможно предположить, что одна и та же вещь есть и нет; это мнение, к которому в конечном счете приводят все доказательства. Из него же он делает вывод, известный под названием принципа исключенного третьего, а именно, что, по его выражению, между двумя противоречивыми суждениями, т.е. суждениями, прямо и непосредственно противоречащими друг другу, нет ничего общего. С помощью принципа противоречия он обобщает принцип исключенного третьего в том, что из двух противоречиво противоположных суждений, например, Сократ болен и Сократ не болен, одно должно быть истинным, а другое ложным.
Аристотель расширил свое исследование процесса доказательства (во второй «Аналитике») до исследования целей и методов научного исследования. Высшей целью он называет постижение всеобщего и, что совпадает с этим, необходимого; Или, поскольку признание чего-либо необходимым означает в той же мере признание причины, по которой оно таково и не может быть иным, то высшей целью познания можно считать и познание причин. По его мнению, как и по мнению Платона, в этом и состоит отличие знания от простого мнения, что первое имеет своим содержанием необходимость, не-бытие-иное, а второе – то, что может быть иным, чем оно есть, поэтому, как он говорит, оно есть нечто неопределенное. Но такое знание, например, что треугольники по своей природе, поскольку они треугольники, вообще и обязательно имеют сумму углов двух прав, не может быть получено из восприятий и совокупности восприятий в опыте, а только из рассмотрения понятия их предмета.
Только то, что признается исходящим из понятия как вещь, им понятая, признается таковым в той мере, в какой они являются только такими и никакими другими, т.е. как вообще и обязательно исходящие. Поэтому совершенное познание есть (как утверждал еще Платон) познание из понятий и имеет своим действительным непосредственным предметом не отдельные вещи, а понятия. То, что не относится к вещи в соответствии с ее понятием, случайно, и истинного знания о нем быть не может. Кроме того, каждое такое совершенное знание является либо прямым, т.е. не нуждающимся в доказательстве и также не способным к доказательству, либо косвенным, т.е. выводимым и доказываемым из других и, наконец, из прямых. Поскольку опыт вообще не может дать совершенного знания, непосредственное знание должно быть несомненным само по себе. Эти высшие истины, из которых должны быть выведены и доказаны все остальные вполне познаваемые истины, составляют предмет знания (Аристотель называет его νους [нус]), которое стоит выше знания, основанного на доказательстве (επιστημη [эпистэмэ]), как последнее стоит выше мнения. Но следует различать два вида этих принципов (αρχαι αποδειξεως [архай аподэйксэос]): одни (Аристотель предпочитает называть их аксиомами) лежат в основе всякого знания, другие принадлежат одной или нескольким конкретным наукам. Аристотель не дает описания ни принципов, ни даже самых общих аксиом, хотя и объявляет их объяснение задачей первой философии. Первая философия» обсудить их. В качестве эпизодических примеров можно привести теорему о противоречии и исключенном третьем, определение прямой линии, принцип, относящийся как к геометрии, так и к арифметике, согласно которому если отнять подобное от подобного, то останется подобное. В одном месте говорится, что недоказуемые принципы заключаются в определениях. Возможно, в смысле Аристотеля точнее было бы сказать: отчасти в определениях, отчасти в предложениях, которые (как, например, противоречие или математический принцип, что при отнятии одного и того же от другого остается одно и то же) сами по себе не являются предпосылками выводов, но, по выражению Канта, служат цепью метода, т.е. выражают правила рассуждения.
Трудно согласовать такое представление о совершенном знании с тем, что Аристотель, напротив, не менее решительно объявляет чувственное восприятие и опыт основой не только мнения, но и совершенного знания. Он противопоставляет тот путь познания, который идет от общего к частному, или, что то же самое, от причин к следствиям или эффектам, другому, который, наоборот, имеет своим исходным пунктом частное, а конечным – самое общее, составляющее содержание принципов, – индукцию, и считает необходимым, чтобы индукция предшествовала дедуктивному процессу доказательства. Следует различать то, что естественно, и то, что предшествует и познаваемо нами. προτερον и γνωριμωτερον τη φυσει [протэрон и гноримотэрон тэ фюсэй] – самое общее, προτερον προς ημας [протэрон прос эмас] – конкретное, с которым нас знакомит восприятие; доказательство исходит из первого, индукция – из второго; индукция более правдоподобна, доказательство – более убедительно. Аристотель не преминул признать, что опыт и индукция, опирающаяся только на факты опыта, не могут научить тому, что определенный предикат обязательно принадлежит вещам, подпадающим под определенное понятие в соответствии с их понятием, а значит, и всем возможным вещам этого рода, и что поэтому принципы доказательства, которые не могут быть доказаны из общих истин, не могут быть доказаны и таким способом, Тем не менее он, по-видимому, придавал опыту и индукции для дедуктивного познания большее значение, чем то, которое «заключалось» бы в том, что только с их помощью разум стимулируется и ставится в положение для размышления над наиболее общими понятиями и принципами, изначально лежащими в нем; Скорее, он предполагал, что даже после того, как принципы найдены, уверенность в них все равно каким-то образом обусловлена предшествующим опытом и его обработкой.
Если Аристотель, придавая большое значение чувственному восприятию и опыту, теоретически упреждает требования, вытекающие из его учения об истинном знании (что оно должно быть получено путем строгой дедукции из непосредственно определенных предложений, которые разум выводит из самого себя, а все, что не найдено таким путем, является лишь мнением), то в своей научной практике он их полностью избегает. Ибо его интерес обращен преимущественно к исследованию того, что, как он сам признает, является и должно оставаться случайным для разума, многообразия вещей, до которых дедуктивная процедура чистого разума, ограниченная сферой чистых понятий, не может опуститься, которые доступны только опыту и поэтому могут быть только предметом мнения, даже если в таких исследованиях он не упускает из виду умопостигаемое бытие, универсально необходимое и вечное. И там, где, как в метафизике, он обращается к области абсолютно познаваемого, он никогда не ставит перед собой задачу исследовать его так, как того требует его учение о познании, а именно: установить высшие принципы, непосредственно определяемые разумом, и исходить из них только путем дедуктивных рассуждений. Здесь он использует скорее метод, который он называет диалектикой и который он описывает в «Топике»: Различение различных сторон, с которых предстает рассматриваемый вопрос, обсуждение трудностей (апорий), попытка прийти к результату путем рассмотрения того, что является фактическим, с одной стороны, и того, что принимают все или большинство, или проницательные и мудрые, с другой стороны, использование индукции, аналогии и умозаключения, в которых разум может быть уверен. Не странно, что, учитывая интеллектуальную склонность Аристотеля, проявившуюся в этом, именно в той области, где метод продвижения от общих, непосредственно определенных предложений путем строгого умозаключения уже давно зарекомендовал себя, в математике, ему, разностороннему человеку, не приписывают более важных достижений, и даже кажется сомнительным, что он вообще написал строго математический трактат.
Из учения Аристотеля о познании можно вывести и его классификацию наук, или, как он использовал тот же термин, философии. Он выделяет три основные части: теоретическую, практическую и философскую. Теоретическая философия стремится к знанию, которое имеет ценность само по себе; она является продуктом чистого инстинкта познания. Две другие имеют цель вне себя, в применении своих результатов; они дают указания для деятельности человека; практическая философия, охватывающая этику и политику, рассматривает человеческую деятельность в той мере, в какой она имеет цель в своей собственной красоте и совершенстве, как действие, возникающее из воления, а поэтическая философия, к которой относится теория поэзии, имеет дело с творчеством, возникающим из мастерства, с техническим и эстетическим творчеством, цель которого лежит вне себя, в производимом произведении. Далее Аристотель разделяет теоретическую философию на первую философию или теологию, математику и физику (естественные науки вместе с наукой о душе). Первая философия (получившая впоследствии название метафизики (см. выше с. 100)) имеет своим предметом первые (или последние) принципы и причины всего сущего или сущего в той мере, в какой оно вообще существует (ον η ον [он э он]). Ибо как число, в той мере, в какой оно есть число, обладает особыми свойствами, например, быть четным или нечетным, иметь общую меру с другим, быть равным другому, большим или меньшим другого, и как одни свойства присущи движущимся телам, другие – покоящимся, или одни – легким, другие – тяжелым, так и бытию, в той мере, в какой оно есть бытие, присущи определенные вещи. Аристотель также называет физику второй философией (δευτερα φιλοσοφια [дэўтэра филёсофиа]). Иногда он противопоставляет первую философию, как философию всего существующего, остальным специальным наукам (επιστημαι εν μερει λεγομεναι [эпистэмай эн мэрэй легомэнай]). В его трудах нет никаких указаний на место логики (аналитики) в системе наук. Определял ли он ее, как позднее его школа, как органон всей науки, которая сама по себе не является ее частью, рассматривал ли он ее, с одной стороны, как пропедевтику, а с другой – как часть этики, которая, по его мнению, также должна иметь дело со способностью распознавать, – остается неясным. По мнению Аристотеля, только метафизика и математика способны на полную строгость и точность во всех разделах. Требовать того же от этики, в частности, он называет недостатком образования. Теоретические науки он объявляет более желательными, чем практические и поэтические, а среди них опять-таки наиболее желательной и достойной высокой похвалы является первая философия.
2. Бытие
Метафизика Аристотеля предполагает, что материальный мир существует сам по себе, вне восприятия. Даже содержание ощущений (цвет, звук, запах и т.д.) рассматривается как свойства вещей самих по себе. Он, правда, различает в отношении их акт восприятия и способность (χαι ενεργειαν χατα δυναμιν [хай энэргэйан хата дюнамин]), допуская в отношении первого, что для этого воспринимаемое существо, напр. например, чтобы быть черным или белым, необходимо быть видимым, но невозможно понять, что можно понимать под неактивированной способностью вещи обладать определенным качеством, известным нам через ощущение, кроме фактического обладания этим качеством в то время, когда оно никем не ощущается.
Аристотель различает в каждой материальной вещи материал, из которого она состоит, например, в доме – строительный материал, в статуе – руда, в ящике – дерево, в растении или животном – смесь четырех элементов (земли, воды, воздуха и огня), и природу или конституцию, по которой она является этим особым образцом своего вида и рода, то есть содержание понятия вида, ставшее в ней индивидуальной особенностью, ее индивидуальной сущностью. Последнее он обозначает словом ουσια [усиа], которое в латинском переводе можно перевести как essentia. В более широком смысле он называет ουσια [усиа] также сущность, общую для вещей вида, рода, класса, т.е. содержание каждого видового, родового или классового понятия, например, бытие-человек, бытие-живое-существо. Иногда он различает качества, составляющие отдельные сущности, например, то, что представляет собой Сократ как данный конкретный человек, и качества, составляющие содержание понятий вида, рода или класса, например, то, что является общим для человека как такового или для живого существа как такового, обозначая их πρωται и δευτεραι υλη [протай и дэўтэрай юле]. В той мере, в какой Аристотель противопоставляет индивидуальную сущность вещи ее субстанции (υλη [юле]), он обозначает ее словом ειδος [эйдос], которое Платон использовал как синоним ιδεα [идэа]; в немецком языке оно переводится как форма. О том, какое значение имеют, с одной стороны, субстанция и, с другой стороны, форма для состоящей из них вещи (συνολον [сюнолён]), или о том, что они, по отношению друг к другу, вносят в состоящую из них вещь, он определяет так, субстанция – это то, что есть по возможности, способности или склонности (δυναμει [дюнамэй], potentia), то, что вещь, как сочетание субстанции и формы, есть по актуальности или осуществлению (ενεργεια [энэргэйа] или εντελεχεια [энтэлехэйа], actu), (например, дерево, из которого сделано дерево). Например, дерево, из которого сделан ящик, уже было ящиком с точки зрения возможности), или субстанция вещи – это просто возможность быть именно этой вещью, форма – это актуальность.
Далее Аристотель различает в каждой вещи детерминанты ее и того, от чего они предицируются, при этом сама она не может служить предикатом суждения. Последнее он называет субстанцией (υποχειμενον [юпохэймэнон]). Субстанцию он объявляет либо тождественной самой вещи, поскольку она есть формованная субстанция или форма, выраженная в субстанции, либо форма. Кстати, к субстанции он применяет также термин υποχειμενον [юпохэймэнон]. Он делит предикативные детерминанты на десять классов: 1. субстанциальные или существенные (ουσια [усиа] или τι εστι [ти эсти]), например, человек, лошадь, 2. количественные (ποσον [посон]), например. два локтя, три локтя, 3. качественные (ποιον [пойон]), например, белый, языковой, 4. отношения значимости (προς τι [прос ти]), например, двойной, половинный, больший, 5. где (ποτε [потэ]), например, лицее, на рынке, 6. когда (εχειν [эхэйн]), например, вчера, в прошлом году, 7. значение лежания (χεισθαι [хэйстхай]), например, лежит, сидит, 8. значение наличия (εχειν [эхэйн]), например, обут, охраняется, 9. делающий значимое (ποιειν [пойэйн]), например, режет, жжет, 10. страдающий значимое (πασχειν [пасхэйн]), например, режет, жжет. Десять общих понятий детерминации, которым соответствуют эти классы, Аристотель называет категориями (ουσια ποσον [усиа посон]). Определения, относящиеся к первой категории, существенные или сущностные, – это те, которые содержатся в форе или субстанции вещи, о которой они говорится как об общем, то есть обозначают δευτερα ουσια, то есть сущность вида, рода или клада, к которому принадлежит данная вещь, или также составную часть такой сущности. Детерминанты, соответствующие другим категориям, – это те, которые не относятся к вещи, о которой они говорят, уже в силу того, что она принадлежит к определенному виду, то есть которые только случайны по отношению к вещам этого вида как таковым. Аристотель объединяет их под рубрикой случайностей (συμβεβηχοτα [сюмбэбэхота]), которую, однако, он иногда использует и для обозначения таких детерминант, содержащихся в форе вещи, то есть существенных детерминант, которые можно узнать только путем умозаключения из определения вида этой вещи, как, например, то, что каждый треугольник есть сумма углов двух прямых углов.
В метафизике Аристотеля вышеупомянутые определения вещей как объектов мысли связаны с предположением, что материи следует противопоставить второе первоначало, второй принцип: множественность фор, соединенных в целое. Аристотель не имеет в виду, что во всех вещах, в которых, соотнося их с понятием, мы должны различать субстанцию и форму, форма есть существо, обладающее той же самостоятельностью и оригинальностью, что и субстанция, или, что то же самое, что форма, которую мы приписываем вещи, более или менее определенно выделяя ее из окружающей среды и объединяя несколько ее детерминантов в содержание понятия как пример определенного рода, есть во всех случаях нечто существующее независимо от нашего мышления, например, что в каждой хромой лошади форма определенного рода существует независимо от нашего мышления. Например, что в каждой хромой лошади есть то, что мы мыслим в понятии хромой лошади, в каждом столе – природа стола, в каждом комке земли – природа комка земли как реального существа, но в отношении некоторых вещей он все же убежден, что содержание понятия вида, заостренное до индивидуальной особенности, обитает в них как реальная сила, господствующая над субстанцией и образующая из нее данную конкретную вещь. Это те вещи, которые, как он говорит, возникают по природе, то есть либо путем воспроизведения вещей своего рода, либо путем первобытного порождения, либо, что совпадает с этим, которые имеют в себе основание покоя и движения, люди, животные и растения. В тех же вещах, которые производятся искусством, например, в домах и утвари, форы имеют, по его словам, определенную независимость по отношению к субстанции, а именно, в той мере, в какой они перешли от духа создателя, в котором они находились прежде, к субстанции, но здесь они не имеют реального бытия в вещах. И уж тем более нельзя сказать о форе, сущности или субстанции вещей, созданных случайно.
Настоящие форы (так кратко обозначаются те, которые составляют реальные составные части вещей, форами которых они являются), по Аристотелю, сами по себе, т. е. в той мере, в какой они мыслимы безотносительно к субстанции, δευτεραι, сущности, общие для вещей, принадлежащих к одному виду; πραται ουσιαι, индивидуальными сущностями, они становятся только благодаря своей связи с субстанцией. Таким образом, многие вещи, принадлежащие к одному виду, имеют различные формы, но таким образом, что это все же одна и та же форма, которая завладела многими кусками материи, каждый из которых образует субстрат одной из этих многих вещей, чтобы выразить себя в них. Хотя, например, каждая лошадь имеет свою особую форму, однако все лошади имеют одну и ту же форму, а именно общую лошадиную природу; общая лошадиная природа, овладевая субстанцией во многих местах, чтобы превратить ее в лошадь, породила из себя множество индивидуальных сущностей, не переставая быть единым, неделимым, реальным существом.
С этим определением природы реальных форм связано еще и то, что, даже если они добавляются к субстанции как нечто первоначальное, они никогда не существуют отдельно от нее, но должны быть связаны с ней, чтобы существовать. Только индивидуальное существо, τοδε τι [тодэ ти], имеет действительно полное существование; существование общего есть существование в индивиде или множестве индивидов. Поэтому форма, общая для вещей одного рода, существует только в индивидуальных формах этих вещей. Последние, однако, возникают только в результате соединения общей формы с субстанцией. Следовательно, ни общая, ни индивидуальная формы не могут обойтись без соединения с субстанцией.
В этих двух определениях Аристотель видит существенную отличительную черту своего и платоновского учения об идеях, поскольку считает, что Платон, как и он сам, понимал под идеями сущности, составляющие содержание видовых и родовых понятий природных вещей, и предполагал, что они обладают бытием того же рода, что и вещи, Короче говоря, Платон, как и он, гипостазировал природные понятия видов и родов, но в отличие от него отделил содержание гипостазированных понятий от индивидов, сущностями которых они должны были быть, и от материи, перенеся их в потусторонний мир.
Легко заметить, что предположение о реальных форах основано на путанице. Поскольку Аристотель считал форы материальной вещи, то есть содержание его понятия вида, состоящее из чувственно воспринимаемых детерминант или, по крайней мере, имеющее их в качестве необходимых составляющих, сущностью самой по себе, связывающей себя с субстанцией, то вместо нее было подставлено нечто другое, а именно сила, не сопоставимая ни с чем чувственно воспринимаемым, которая производит в субстанции данные форы, представляющиеся органам чувств. То, что, например, согласно его представлению о вещах, производимых природой, соединяется с веществом желудя, чтобы сформировать из него дуб и те части вещества, которые окружающая среда предлагает для питания, – это не то, что мы представляем себе в понятии, которое мы получили из восприятия многих дубов путем абстракции, а неуловимый и вообще немыслимый принцип, формирующий дубы, который действует во всех дубах одновременно и таким образом, что он полностью обитает в каждом из них и все же отличается в каждом из них.
Нужно было заметить эту трансформацию понятия реальной формы, чтобы найти дальнейшее ее определение, о котором Аристотель не говорит прямо, что оно относится ко всем реальным формам, но о котором следует заключить из его объяснений, достаточно понятных. Это следует из его взгляда на душу. Душа, говорит он в «Метафизике», есть сущность, соответствующая понятию и форме одушевленного тела (ουσια του εμψυχου, η χατα τον λογον χαι το το τι ην ειναι τω τοιφδε σωματι [усиа ту эмпсюху, э хата тон лёгон хай то то ти эн эйнай то тойфдэ сомати]), точнее, προωτη ουσια [проотэ усиа], а тело – субстанция, но человек или животное – то, что состоит из обоих. Душа, как сказано в трактате о душе, относится к одушевленному существу так же, как то, что заложено в понятии топора (а именно, что это орудие, служащее для раскалывания и т. д.), относится к топору. Теперь, согласно Аристотелю, одушевлены не только люди и животные, но и растения, то есть все органические существа, а вместе с ними и те, которые возникают по природе. Поскольку, кроме того, форма предполагается как сила, противоположная субстанции, только в тех существах, которые возникают по природе, из этого следует, что вообще реальная форма вещи есть душа этой вещи, или, более определенно, что реальная форма, в индивидуальной интенсификации, которую она получила как форма отдельной вещи, есть, как προωτη ουσια отдельной вещи, ее душа. Фора или сущность, общая для вещей вида (их δευτερα ουσια [дэўтэра усиа]), становясь индивидуальной формой (πρωτη ουσια [протэ усиа]) через соединение с субстанцией, становится душой, например, общая человеческая природа (формирующая сила, присутствующая в своей полноте в каждом человеке и делающая его человеком), становясь особенной природой отдельного человека, становится его душой. Аристотель отличает душу, как можно здесь добавить, от беренегена высшего мышления, разума. По его словам, души растений обладают только одной способностью питаться (θρεπτιχον [тхрэптихон]), то есть способностью формировать тело и порождать из него новые существа того же вида. Кроме того, души животных и человека обладают способностью ощущать и воспринимать (αισθητιχον [айстхэтихон]), способностью желать и чувствовать удовольствие и неудовольствие (ορεχτιχον [орэхтихон]), и вообще способностью к локомоции (χινητιχον χατα τοπον [хинэтихон хата топон]). Мыслящий разум (διανοητιχον, νους [дианоэтихон, нус]), которым человек обладает раньше животных и который есть нечто божественное, привносится в души извне (θυραθεν [тхюратхэн]). От собственно разума, который есть чистая мыслительная деятельность (νους ποιητιχος [нус пойэтихос]), Аристотель отличает страдательный разум (νους παθητιχος [нус патхэтихос]), под которым он понимает, по-видимому, нечто возникающее из соединения первого с душой. Если душа человека возникает и исчезает вместе с телом, индивидуальной формой которого она является (из нее нетленен только принцип, образующий человека, содержащийся в каждой человеческой душе, как общее в индивидуальном), а вместе с ним и страдательная причина, то деятельная причина вечна. В трудах Аристотеля нет никаких подробностей о происхождении рационального ума, о том, какой способ существования он имеет до соединения с душой и после ее растворения, или о природе этого соединения, или о том, как познающий себя субъект сознания, эго, относится к душе, с одной стороны, и к разуму – с другой.
К вышеуказанным положениям о реальных формах добавляется еще и то, что каждая вещь, обладающая такой формой, а вместе с ней и индивидуальностью своей формы, возникает и исчезает, а ее субстанция и та часть ее формы, которую она имеет общей с вещами своего рода, вечны. Как неоднократно поясняет Аристотель, это относится и к вещам, созданным искусством и не имеющим реальной формы, – то, что в них возникает и исчезает, не есть ни их субстанция, ни их форма, но их соединение. Например, говорит он, тот, кто делает из руды шар, не делает ни руды, ни шарообразной формы, но придает эту форму данному веществу, и точно так же нематериальный дом, который становится материальным домом благодаря деятельности строителя, имеющего его в своем духе, сам по себе не возникает и не исчезает. Поскольку же вечная форма, общая для вещей вида, не имеет бытия отдельно от индивидуальных форм, которые она порождает, соединяясь с субстанцией, и, следовательно, не может существовать отдельно от субстанции, то утверждение о ее вечности равносильно утверждению о том, что всегда были и будут вещи данного вида. Так, согласно Аристотелю, все существующие виды растений и животных, а также человеческий род существовали от вечности и будут существовать вечно; ни один вид никогда не погибал и ни один не может быть добавлен к существующим. Появление новых особей следует рассматривать как захват новой части материи формой, уже воплощенной в особях того же вида. В этом процессе и состоит сущность деторождения. Однако Аристотель допускает возникновение низших организмов путем первобытного порождения, не объясняя, в какой мере уже существующее воплощение видовой формы является условием возможности появления новых особей.
Рассматривая вещь, состоящую из вещества и формы, как возникшую вещь, Аристотель добавляет к понятиям вещества и формы еще два основных понятия: назначение или цель, к которой вещь становится, или конечная причина (το ου ενεχα, το τελος [то у энэха, то тэлёс], causa finalis), и движущая причина, благодаря которой вещь возникает (οθεν η αρχη της χινησεως [отхэн э архэ тэс хинэсэос], causa efficiens). Субстанцию, форму, движущую причину и цель он объединяет под названием конечных причин или оснований (αρχαι, αιτια [архай, айтиа]). Однако движущаяся причина и цель не являются чем-то новым, что было бы добавлено к субстанции и форме. Напротив, через эти два понятия только субстанция и форма осмысляются с новой точки зрения, которую дает определение того, что всякая вещь, представляющая собой реальное единство, возникла. Конец, в который превращается вещь, прежде всего, тождественен форме; точнее, это форма в той мере, в какой она достигла полного существования в субстанции, в той мере, в какой, следовательно, субстанция полностью приняла соответствующую ей внешнюю конфигурацию; или, что, очевидно, то же самое, конец – это сама вещь, полностью сформированная в образец своего вида. Но форма – это еще и движущая причина, т.е. сила, которая, овладев субстанцией, придает ей соответствующую форму и расположение и тем самым способствует полному существованию, реализует себя. Например, видовая сущность растения, в которой состоит его форма, насколько она рассматривается сама по себе, уже содержится в семени как сила, которая вызывает увеличение этой субстанции через питание и, подобно прирожденному художнику, создает из нее и принятого ею питания законченное растение и тем самым завершает себя как индивидуальная сущность этого растения.
